Маршалл Мак-Люэн Понимание медиа Внешние расширения человека
ЧАСТЬ I
ВВЕДЕНИЕ
Джеймс Рестон писал в «Нью-Йорк Таймс» (7 июля 1957 г.):
«Руководитель отдела здравоохранения… сообщил на этой неделе, что маленькая мышка, видимо, насмотревшись телевизионных программ, напала на маленькую девочку и ее взрослую кошку… Мышь и кошка остались целы и невредимы, а мы приводим этот случай как напоминание о том, что, видимо, что-то в этом мире меняется».
После трех тысяч лет взрывного разброса, связанного с фрагментарными и механическими технологиями, западный мир взрывается вовнутрь. На протяжении механических эпох мы занимались расширением наших тел в пространстве. Сегодня, когда истекло более столетия с тех пор, как появилась электрическая технология, мы расширили до вселенских масштабов свою центральную нервную систему и упразднили пространство и время, по крайней мере в пределах нашей планеты. Мы быстро приближаемся к финальной стадии расширения человека вовне — стадии технологической симуляции сознания, когда творческий процесс познания будет коллективно и корпоративно расширен до масштабов всего человеческого общества примерно так же, как ранее благодаря различным средствам коммуникации были расширены вовне наши чувства и наши нервы. Будет ли расширение сознания, которого так долго добивались специалисты, занимающиеся рекламой различных продуктов, «полезным делом» — вопрос, допускающий множество ответов. Не рассмотрев всю совокупность расширений человека, мы вряд ли сумеем ответить на такого рода вопросы. Любое расширение, будь то кожи, руки или ноги, оказывает воздействие на весь психический и социальный комплекс. В этой книге исследуются некоторые основные расширения и некоторые вызываемые ими психические и социальные последствия. Насколько мало внимания таким вещам уделялось в прошлом, видно из пугливого оцепенения, вызванного этой книгой у одного из ее редакторов. Он в смятении заметил, что «материал в вашей книге нов на 75 процентов. Книга, рассчитанная на успех, не может осмеливаться более чем на 10 процентов новизны». В наше время, когда ставки необычайно выросли, а потребность в понимании следствий, вызванных расширениями человека, становится с каждым часом все более настоятельной, видимо, стоит пойти на такой риск. В механическую эпоху, теперь уходящую в прошлое, многие действия могли совершаться без особых мер предосторожности. Медленность движений гарантировала отсрочку ответного действия на немалый промежуток времени. Сегодня действие и ответное действие происходят почти одновременно. Мы на самом деле живем, так сказать, мифически и интегрально, однако продолжаем мыслить в соответствии со старыми, фрагментированными пространственными и временными образцами доэлектрической эпохи.
Из технологии письменности западный человек почерпнул способность действовать, ни на что не реагируя. Выгоды такого фрагментирования самого себя видны на примере хирурга, который был бы совершенно беспомощен, окажись он по-человечески вовлечен в проводимую операцию. Мы овладели искусством проводить с полной отрешенностью самые опасные социальные операции. Однако наша отрешенность была позицией безучастности. В эпоху электричества, когда наша центральная нервная система, технологически расширившись вовне, вовлекает нас в жизнь всего человечества и вживляет в нас весь человеческий род, мы вынуждены глубоко участвовать в последствиях каждого своего действия. Нет более возможности принимать отчужденную и диссоциированную роль письменного человека Запада.
Театр Абсурда драматизирует эту дилемму, вставшую в последнее время перед западным человеком — человеком действия, который оказывается не вовлеченным в само действие. Таковы истоки и глубинные подтексты клоунов Самюэла Беккета. После трех тысяч лет специалистского взрыва и нарастания специализма и отчуждения в технологических расширениях наших тел, наш мир благодаря драматическому процессу обращения начал сжиматься. Уплотненный силой электричества, земной шар теперь — не более чем деревня. Скорость электричества, собрав воедино во внезапной имплозии[1][2] все социальные и политические функции, беспрецедентно повысила осознание человеком своей ответственности. Именно этот имплозивный фактор меняет положение негра, тинэйджера и некоторых других групп. Они не могут и далее оставаться самодостаточными, в политическом смысле ограниченного общения. Теперь они вовлечены в наши жизни, как и мы в их жизни тоже, и все это благодаря электрическим средствам коммуникации. Это Эпоха Тревоги, вызванная электрическим сжатием, принуждающим к привязанности и участию невзирая ни на какие «точки зрения». Частный и специализированный характер точки зрения, сколь бы он ни был благородным, не будет иметь в электрическую эпоху ровным счетом никакого значения. На уровне информации такое же опрокидывание произошло с заменой обычной точки зрения инклюзивным[3] образом. Если девятнадцатый век был эпохой редакторского кресла, то наше столетие — век психиатрической кушетки.[4] Как расширение человека, кресло представляет собой специалистскую ампутацию ягодиц, своего рода отделительный абсолют заднего места, тогда как кушетка есть расширение всего существа. Психиатр использует кушетку, поскольку она отбивает соблазн к выражению частных точек зрения и устраняет потребность в рационализации событий.
Стремление нашего времени к цельности, эмпатии и глубине осознания — естественное дополнение к электрической технологии. Эпоха механической индустрии, которая нам предшествовала, считала естественным способом самовыражения страстное утверждение частного взгляда. У каждой культуры и каждой эпохи есть своя излюбленная модель восприятия и знания, которую они склонны предписывать всему и вся. Примета нашего времени — отвращение к насаждаемым образцам. Мы вдруг обнаруживаем в себе страстное желание, чтобы вещи и люди проявляли себя во всей полноте. В этой новой установке можно найти глубокую веру — веру в высшую гармонию всего бытия. Именно в этой вере написана эта книга. Она исследует очертания наших расширенных существ в наших технологиях и ищет в каждой из них принцип понятности. Будучи целиком уверенным в том, что можно достичь такого понимания этих форм, которое позволило бы придать их применению упорядоченный характер, я взглянул на них по-новому, приняв очень мало из того, что говорит о них конвенциональная мудрость. О средствах коммуникации можно сказать так же, как сказал Роберт Тиболд[5] об экономических депрессиях: «Есть еще один дополнительный фактор, помогавший держать депрессии под контролем, и этот фактор — лучшее понимание их развития». Прежде чем приступить к исследованию происхождения и развития отдельных расширений человека, следует бросить взгляд на некоторые общие аспекты средств коммуникации, или расширений человека, начав с того — так до сих пор и не объясненного — оцепенения, которое вызывается каждым новым расширением в индивиде и обществе.
ГЛАВА 1. СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ ЕСТЬ СООБЩЕНИЕ
В такой культуре, как наша, издавна привыкшей расщеплять и разделять вещи ради установления контроля над ними, люди иногда испытывают своего рода небольшой шок, когда им напоминают, что на самом деле как с операциональной, так и с практической точки зрения средство коммуникации есть сообщение. А это всего лишь означает, что личностные и социальные последствия любого средства коммуникации — то есть любого нашего расширения вовне — вытекают из нового масштаба, привносимого каждым таким расширением, или новой технологией, в наши дела. Так, например, новые образцы человеческих связей, возникающие вместе с автоматизацией, воистину несут с собой угрозу уничтожения рабочих мест. Это негативный результат. С позитивной же точки зрения, автоматизация создает для людей роли, или, иначе говоря, воссоздает ту глубину вовлечения их в свою работу и в связи с другими людьми, которая была разрушена нашей прежней механической технологией. Многие склонялись к тому, что значением, или сообщением, машины является не она сама, а то, что человек с нею делает. С точки зрения того, как машина изменяла наше отношение друг к другу и к самим себе, не имело ровным счетом никакого значения, что именно она выпускала, кукурузные хлопья или «кадиллаки». Форма переструктурирования человеческой работы и ассоциации определялась процессом фрагментации, составляющим самую суть машинной технологии. Сущность автоматической технологии противоположна. Она в такой же степени глубоко интегральна и децентралистична, в какой машина в конфигурировании ею человеческих взаимоотношений была фрагментарной, централистичной и поверхностной.
В этой связи может быть показателен пример электрического света. Электрический свет — это чистая информация. Он представляет собой, так сказать, средство коммуникации без сообщения, если только его не используют для оглашения какого-то словесного объявления или названия. Этот факт, характеризующий все средства коммуникации, означает, что «содержанием» любого средства коммуникации всегда является другое средство коммуникации. Содержанием письма является речь, точно так же, как письменное слово служит содержанием печати, а печать — содержанием телеграфа. Если спросят: «Что есть содержание речи?», — на это необходимо ответить: «Это действительный процесс мышления, который сам по себе невербален». Абстрактная живопись представляет собой прямое проявление творческих мыслительных процессов, как они могли бы проявиться в компьютерном проектировании. Что нас, однако, здесь интересует, так это психические и социальные последствия конфигураций, или паттернов, усложняющих или ускоряющих существующие процессы. Ибо «сообщением» любого средства коммуникации, или технологии, является то изменение масштаба, скорости или формы, которое привносится им в человеческие дела. Железная дорога не привнесла в человеческое общество ни движения, ни транспорта, ни колеса, ни дороги, но она ускорила прежние человеческие функции и укрупнила их масштабы, создав совершенно новые типы городов и новые виды труда и досуга. И это происходило независимо от того, функционировала ли железная дорога в тропической или северной среде, и совершенно независимо от перевозимого по ней груза, или содержания железнодорожного средства сообщения.[6] С другой стороны, самолет, повышая скорость транспортировки, приносит с собой тенденцию упразднения железнодорожной формы города, политики и человеческих связей, причем совершенно независимо от того, для каких целей самолет используется.
Вернемся к электрическому свету. Используется ли свет для операции на мозг или освещения вечернего бейсбольного матча — не имеет никакого значения. Можно было бы утверждать, что эти виды деятельности являются в некотором роде «содержанием» электрического света, поскольку без электрического света они не могли бы существовать. Этот факт всего лишь подчеркивает, что «средство коммуникации есть сообщение», так как именно средство коммуникации определяет и контролирует масштабы и форму человеческой ассоциации и человеческого действия. Содержания, или способы применения таких средств столь же разнообразны, сколь и неэффективны в определении формы связывания людей. На самом деле очень типично, что «содержание» всякого средства коммуникации скрывает от наших глаз характер этого средства. Только сегодня отрасли промышленности стали сознавать различные виды бизнеса, которыми они занимаются. Лишь когда фирма «Ай-Би-Эм» открыла, что ее делом является не изготовление офисного оснащения и канцелярской оргтехники, а обработка информации, она начала продвигаться вперед с ясным пониманием своего курса. Компания «Дженерал Электрик» извлекает значительную часть своих прибылей из изготовления электрических ламп и систем освещения. Она — как и «Американ Телефон энд Телеграф» — еще не открыла для себя, что ее делом является перемещение информации.
Электрический свет ускользает от внимания как средство коммуникации именно потому, что у него нет «содержания». И это делает его бесценным примером того, насколько люди не заботятся об изучении средств как таковых. Ибо до тех пор, пока электрический свет не начинают использовать для оглашения какой-нибудь торговой марки, он как средство коммуникации остается незамеченным. Но даже и тогда предметом внимания становится не сам свет, а его «содержание» (т. е. на самом деле другое средство). Сообщение электрического света, подобно сообщению электроэнергии в промышленности, является целиком и полностью основополагающим, всепроникающим и децентрализованным. Ибо электрический свет и электроэнергия отдельны от их применений, и, кроме того, они упраздняют временные и пространственные факторы человеческой ассоциации, создавая глубинное вовлечение точно так же, как это делают радио, телеграф, телефон и телевидение.
Полное и исчерпывающее руководство по изучению расширений человека можно было бы составить из фрагментов произведений Шекспира. Кто-то мог бы, поиграв словами, в шутку спросить, не о телевидении ли шла речь в следующих знаменитых строках из «Ромео и Джульетты»:
Но тише! Что за свет блеснул в окне?.. Оно заговорило. Нет, молчит.[7]В трагедии «Отелло», которая, как и «Король Лир», посвящена мукам людей, оказавшихся в плену иллюзий, есть следующие строки, свидетельствующие о том, что Шекспир предвосхитил своей интуицией преображающие возможности новых средств коммуникации:
Приходится поверить в колдовство, Которым совращают самых чистых. Тебе, Родриго, ни о чем таком Читать не приходилось?[8]В трагедии Шекспира «Троил и Крессида», которая почти целиком посвящена психологическому и социальному изучению коммуникации, Шекспир оставляет свидетельство понимания того, что подлинная социальная и политическая ориентация зависит от предвосхищения последствий нововведения:
Ведь зоркость государственных людей, Как Плутус, видит все крупинки злата, Спускается на дно глубоких бездн И в мысли проникает, словно боги, И рост их видит в темных колыбелях.[9]Растущее осознание того воздействия, которое средства коммуникации оказывают совершенно независимо от своего «содержания», или наполнения, проявилось в раздраженной анонимной строфе:
Согласно современной мысли (если уж не в самом деле), То, что не действует, — ничто. А посему считается за мудрость Описывать чесанье, а не зуд.Тот же тип тотального, конфигурационного осознания, открывающего нам, почему в социальном плане средство коммуникации является сообщением, проявился в новейших радикальных медицинских теориях. В книге «Жизненный стресс» Ганс Селье[10] рассказывает об испуге, охватившем его коллегу по исследованиям, когда тот выслушал теорию Селье:
«Когда он увидел меня, с увлечением погрузившегося в очередное упоительное описание того, что мне довелось наблюдать у животных, подвергаемых лечению теми или иными нечистыми, токсичными веществами, он взглянул на меня отчаянно грустными глазами и с очевидной безысходностью в голосе сказал: "Но, Селье, постарайтесь же наконец понять, что вы делаете, пока еще не слишком поздно! Вы только что решили потратить всю свою жизнь на изучение фармакологии грязи!"»
Ганс Селье, «Жизненный стресс»[11]Как Селье в своей «стрессовой» теории болезни обращается к целостной ситуации окружающей среды, так и новейший подход к изучению средств коммуникации принимает во внимание не только «содержание», но также само средство коммуникации как таковое и ту культурную матрицу, в которой это конкретное средство функционирует. Царившее до сих пор непонимание психических и социальных последствий, вызываемых средствами коммуникации, можно проиллюстрировать на примере почти любого из обывательских суждений.
Несколько лет назад генерал Давид Сарнофф,[12] принимая почетную степень от Нотр-Дамского университета, произнес такие слова: «Мы слишком предрасположены делать технологические инструменты козлами отпущения за грехи тех, кто ими орудует. Продукты современной науки сами по себе ни хороши, ни плохи; их ценность определяется тем, как они используются». Эго глас современного сомнамбулизма. Представьте, что мы сказали бы: «Яблочный пирог сам по себе не хорош и не плох; его ценность определяется тем, как его используют». Или: «Вирус оспы сам по себе не хорош и не плох; его ценность определяется тем, как его используют». Или, опять же: «Огнестрельное оружие само по себе не хорошее и не плохое; его ценность определяется тем, какое ему дают применение». Иначе говоря, если пули попадают в тех, в кого надо, огнестрельное оружие становится хорошим. Если телевизионный экран обстреливает нужными боеприпасами нужных людей, то он хорош. И тут я нисколько не передергиваю. Просто в утверждении Сарноффа нет ничего, что выдержало бы проверку, ибо оно игнорирует природу средств коммуникации — каждого по отдельности и всех вместе взятых — поистине на манер Нарцисса, зачарованного ампутацией и расширением собственного существа в новую техническую форму. Далее генерал Сарнофф разъяснил свое отношение к технологии печати, сказав, что печать действительно пустила в оборот немало макулатуры, но в то же время распространила Библию и мысли пророков и философов. Генералу Сарноффу даже не приходило в голову, что любая технология может делать что-то еще, кроме как добавлять себя к тому, что мы уже собой представляем. Такие экономисты, как Роберт Тиболд, У. У. Ростоу и Джон Кеннет Гэлбрейт, уже много лет занимаются объяснением того, почему «классическая политэкономия» не может объяснить изменение и рост. И парадокс механизации состоит в том, что хотя она сама по себе является причиной максимального роста и изменения, лежащий в ее основании принцип исключает саму возможность роста или понимания изменения. Ибо механизация осуществляется за счет фрагментации того или иного процесса и расположения его фрагментированных частей в последовательный ряд. Между тем, как еще в восемнадцатом веке показал Давид Юм, простая последовательность не содержит в себе никакого принципа причинности. То, что одна вещь следует за другой, ровным счетом ничего не объясняет. Из следования не следует ничего, кроме изменения. А потому величайшее из всех обращений[13] произошло с пришествием электричества, которое положило конец последовательности, сделав вещи мгновенно-одновременными. С мгновенной скоростью причины вещей вновь стали доходить до осознания, чего не было, когда вещи расставлялись в последовательный ряд и, соответственно, составляли цепочку. Вместо вопрошания о том, что появилось раньше, курица или яйцо, внезапно пришло на ум, что курица — это план яйца по преумножению яиц.
Непосредственно перед тем, как самолет преодолевает звуковой барьер, на его крыльях становятся видны звуковые волны. Неожиданная зримость звука, появляющаяся как раз тогда, когда звук заканчивается, — подходящий пример для иллюстрации той великой формы (pattern) бытия, которая обнажает новые и противоположные формы в тот самый момент, когда прежние формы достигают своего наивысшего осуществления. Никогда фрагментированность и последовательность, свойственные механизации, не выражались так отчетливо, как при рождении кино, т. е. в тот самый момент, который вывел нас за пределы механизма и погрузил в мир роста и органической взаимосвязи. За счет простого ускорения механического движения кино перенесло нас из мира последовательностей и звеньевых соединений в мир творческой конфигурации и структуры. Сообщение такого средства коммуникации, как кино, — это сообщение о переходе от линейных соединений к конфигурациям. Именно этим переходом вызвано нынешнее совершенно справедливое наблюдение: «Если что-то работает, значит оно уже устарело». Когда далее на смену механическим последовательностям кино приходит скорость электричества, силовые линии в структурах и средствах коммуникации становятся звучными и ясными. Мы возвращаемся к инклюзивной форме иконического образа.
Перед высокоразвитой письменной и механизированной культурой кино предстало как мир восторжествовавших иллюзий и грез, который можно купить за деньги. Именно в момент возникновения кино появился кубизм, и Э. X. Гомбрих (в книге «Искусство и иллюзия»[14]) назвал его «самой радикальной попыткой искоренить двусмысленность и насадить единственное прочтение картины — прочтение ее как рукотворной конструкции, раскрашенного холста». Ибо «точку зрения», или одну грань иллюзии перспективы, кубизм заменяет одновременным представлением всех граней объекта. Вместо создания на холсте специализированной иллюзии третьего измерения, кубизм предлагает взаимную игру плоскостей и противоречие (или драматический конфликт) форм, освещений, текстур, который «растолковывает сообщение» посредством вовлечения. Многие считают это упражнением в рисовании, а не в сотворении иллюзий.
Иначе говоря, представляя в двух измерениях внутреннюю и внешнюю стороны, вершину, основание, вид сзади, вид спереди и все остальное, кубизм отбрасывает иллюзию перспективы ради мгновенного чувственного восприятия целого. Ухватившись за мгновенное целостное осознание, кубизм неожиданно оповестил нас о том, что средство коммуникации есть сообщение. Разве не очевидно, что в тот самый момент, когда последовательность уступает место одновременности, человек оказывается в мире структуры и конфигурации? Разве не то же самое произошло в физике, живописи, поэзии и коммуникации? Специализированные сегменты внимания перенеслись на тотальное поле, и мы теперь совершенно естественно можем сказать: «Средство коммуникации есть сообщение». До появления электрической скорости и тотального поля то, что средство коммуникации есть сообщение, было не столь очевидно. Сообщением казалось «содержание», и люди имели привычку спрашивать, например, о чем эта картина. Между тем, им никогда не приходило в голову спрашивать, о чем эта мелодия, или о чем эти дом или одежда. В таких вопросах люди сохраняли некоторое ощущение целостного паттерна, т. е. формы и функции как единого целого. Однако в электрическую эпоху эта интегральная идея структуры и конфигурации возобладала настолько, что ее подхватила даже педагогическая теория. Вместо работы со специализированными арифметическими «задачами», структурный подход прослеживает теперь силовые линии в числовом поле и побуждает маленьких детей размышлять о теории чисел и «множествах».
Кардинал Ньюмен[15] как-то сказал о Наполеоне: «Он понял грамматику пороха». Наполеон уделял внимание и другим средствам коммуникации, особенно флажковому телеграфу, давшему ему огромное преимущество над врагами. Считается также, что именно он сказал: «Трех враждебно настроенных газет следует бояться больше, чем тысячи штыков».
Алексис де Токвиль был первым, кто овладел грамматикой печати и книгопечатания. Благодаря этому он сумел истолковать смысл грядущего изменения во Франции и Америке так, словно зачитывал вслух выдержку из врученного ему текста. Фактически, девятнадцатый век во Франции и Америке потому и стал для Токвиля такой открытой книгой, что он постиг грамматику печати. Кроме того, он знал, где эта грамматика неприменима. Его спрашивали, почему он не написал книгу об Англии, хотя хорошо ее знал и восхищался ею. На это он ответил:
«Нужно обладать незаурядной степенью философской глупости, чтобы считать себя способным за шесть месяцев составить суждение об Англии. Год всегда казался мне слишком коротким, чтобы правильно оценить Соединенные Штаты, а ведь приобрести ясное и точное представление об Американском Союзе гораздо легче, чем о Великобритании. В Америке все законы вытекают в некотором смысле из одной линии мышления. Все общество базируется, так сказать, на одном-единственном факте; все вытекает из одного-единственного принципа. Можно было бы сравнить Америку с лесом, через который проложено множество прямых дорог, сходящихся в одной точке. Нужно лишь найти центр, и все становится ясно с одного взгляда. В Англии же тропинки петляют и перекрещиваются, и только пройдя по каждой из них от начала до конца, можно выстроить картину целого».
В ранней работе о Французской революции Токвиль объяснял, что именно печатное слово, достигшее в восемнадцатом веке культурной насыщенности, гомогенизировало французскую нацию. Французы стали похожи друг на друга от севера до юга. Книгопечатный принцип единообразия, непрерывности и линейности переборол сложности древнего феодального и устного общества. Революция была совершена новыми литераторами и юристами.
В Англии же власть древних устных традиций обычного права, поддерживаемая средневековым институтом Парламента, была настолько огромна, что ни единообразие, ни непрерывность новой визуальной печатной культуры никак не могли окончательно в ней возобладать. В итоге в английской истории так и не произошло самого важного для нее события, а именно английской революции, подобной революции во Франции. Американской революции не нужно было отвергать или искоренять средневековые правовые институты, за исключением монархии. И, по мнению многих, американское президентство стало гораздо более личностным и монархичным, чем любая из существовавших европейских монархий.
Противопоставление Англии и Америки у Токвиля явно базируется на факте книгопечатания и печатной культуры, порождающих единообразие и непрерывность. Англия, говорит он, отвергла этот принцип и цепко держалась за динамичную, или устную традицию обычного права. Отсюда непостоянство и непредсказуемость английской культуры. Грамматика печати не может помочь в истолковании сообщения, которое несут в себе культура и институты устного и неписьменного характера. Мэтью Арнольд[16] справедливо определял английскую аристократию как варварскую, ибо ее власть и статус не имели ничего общего с начитанностью или культурными формами книгопечатания. Герцог Глостерский говорил Эдуарду Гиббону[17] по случаю выхода в свет его книги «История упадка и разрушения Римской империи»: «Еще одна чертова жирная книга, а, мистер Гиббон? Всё пописываем, пописываем, пописываем, а, мистер Гиббон?» Токвиль был высокообразованным аристократом, вполне способным отстраниться от ценностей и допущений книгопечатания. Поэтому только он один и понял грамматику книгопечатания. Только так, стоя в стороне от какой бы то ни было структуры или средства коммуникации, можно разглядеть присущие им принципы и силовые линии. Ибо каждое средство коммуникации обладает способностью навязывать излишне доверчивым свои допущения. Суть предсказания и контроля состоит в умении избежать этого под-порогового состояния нарциссического транса. И здесь величайшую помощь может оказать элементарное знание того, что при контакте, как и при первых тактах мелодии, может немедленно возникнуть зачарованность.
«Поездка в Индию» Э. М. Форстера[18] — драматичное исследование неспособности втиснуть устную и интуитивную восточную культуру в рациональные, визуальные европейские формы опыта. «Рациональное», разумеется, долгое время означало для Запада «единообразное, непрерывное и последовательное». Иными словами, мы перепутали разум с письменностью, а рационализм — с одной-единственной технологией. Поэтому обывательскому Западу в электрическую эпоху кажется, что человек становится иррациональным. В романе Форстера момент истины и освобождения от типографического транса Запада наступает в Марабарских пещерах. Рассудок Аделы Квестед не может справиться с тем тотальным всепоглощающим полем резонанса, каким является Индия. После посещения пещер: «Жизнь продолжалась как обычно, но в ней не было последствий: звуки не вызывали эха, а мысли не двигались. Казалось, все было отрезано от своих корней и, следовательно, заражено иллюзией».
«Поездка в Индию» (это выражение было позаимствовано у Уитмена,[19] видевшего Америку обращенной лицом к Востоку) — метафорический образ западного человека электрической эпохи, связанный лишь случайным образом с Европой или Востоком. Мы поражены радикальным конфликтом между видом и звуком, между письменными и устными формами восприятия и организации существования. Поскольку понимание, как подметил Ницше, приводит к остановке действия, мы можем смягчить мучительную остроту этого конфликта, если поймем те средства коммуникации, которые расширяют нас вовне и вызывают внутри и за пределами нас эти войны. Детрайбализация,[20] вызванная письменностью, и ее травматические последствия для племенного человека являются темой книги «Африканский разум в здоровы и болезни» психиатра Дж. К. Карозерса.[21] Значительная часть собранного им материала вошла в статью, опубликованную в ноябрьском номере журнала «Психиатрия» за 1959 год.[22] Опять-таки, именно скорость электричества обнажила те силовые линии, которые тянутся из западной технологии в самые отдаленные уголки буша, саванны и пустыни. Одним из примеров служит бедуин верхом на верблюде с притороченным к седлу батареечным радиоприемником. Затопление туземцев потоками понятий, к принятию которых их ничто не подготовило, — вот обычное воздействие всей нашей технологии. Однако с появлением электрических средств коммуникации западный человек и сам переживает такое же наводнение, как и далекий туземец. Мы в нашей письменной среде подготовлены к встрече с радио и телевидением не более, чем туземец в Гане готов справиться с письменностью, которая вырывает его из коллективного племенного мира и выбрасывает на мель индивидуальной изоляции. Мы в нашем новом электрическом мире испытываем такое же оцепенение, какое испытывает туземец при втягивании в нашу письменную и механическую культуру.
Электрическая скорость смешивает доисторические культуры с горстками индустриальных торговцев, бесписьменные культуры — с полуписьменными и послеписьменными. Самым обычным результатом отрыва от корней и обрушивания потоков новых сведений и бесконечных новых форм информации является душевный крах различной степени тяжести. Уиндхем Льюис[23] сделал это темой своей серии романов, озаглавленной «Век человеческий». Первый из них, «День избиения младенцев», как раз посвящен ускоряющемуся изменению, вызываемому средствами массовой информации, как своего рода массовому убийству невинных. В нашем мире по мере того, как мы все больше осознаем влияние технологии на формирование психики и психические проявления, мы утрачиваем всякую уверенность в своем праве кого бы то ни было в чем-то винить. Древние доисторические общества считают преступление, совершенное в состоянии ярости, достойным сожаления. К убийце относятся так, как мы относимся к жертве рака. «Как, должно быть, ужасно так себя чувствовать», — говорят они. Дж. М. Синг[24] очень эффектно воспользовался этой идеей в своем «Плейбое западного мира».[25]
Если преступник выглядит нонконформистом, неспособным соблюсти те требования технологии, которые соблюдаем мы, ведя себя единообразно и постоянно, то на Других людей, которые не могут приспособиться, письменный человек весьма склонен смотреть как на нечто жалкое. В мире визуальной и книгопечатной технологии жертвами несправедливости предстают прежде всего ребенок, инвалид, женщина и цветной. С другой стороны, в культуре, которая предписывает людям роли, а не рабочие места, карлик, косоглазый и ребенок создают свои собственные пространства. От них не ожидают, что они будут вписываться в какую-то единообразную и повторимую нишу, которая явно им не подходит. Взять хотя бы выражение «это мужской мир». Как количественное наблюдение, бесконечно извергающееся из недр гомогенизированной культуры, это выражение относится в этой культуре к тем людям, которые должны стать гомогенизированными Дагвудами,[26] чтобы вообще к ней принадлежать. Именно в наших тестах IQ[27] мы произвели величайший поток незаконнорожденных стандартов. Не сознавая своего книгопечатного культурного крена, наши разработчики тестов принимают допущение, что единообразные и постоянные привычки служат признаком интеллекта, и тем самым упраздняют человека слышащего и осязающего.
Ч. П. Сноу в рецензии на книгу А. Л. Роуза о политике умиротворения и поездке в Мюнхен[28] описывает высший уровень британских мозгов и опыта в 30-е годы. «Коэффициенты интеллекта у них были намного выше, чем обычно бывает у политических боссов. Как же они допустили такую катастрофу?» По мнению Роуза, с которым Сноу одобрительно соглашается, «они не стали бы слушать предостережений, ибо не желали ничего слышать». Их ненависть к красным не позволяла им истолковать суть Гитлера. Но их неудача ничто по сравнению с той, которая постигла нас сегодня. Американская ставка на письменность как технологию или единообразие, применяемые к каждому уровню образования, управления, промышленности и социальной жизни, во всей своей полноте поставлена под угрозу электрической технологией. Угроза со стороны Сталина или Гитлера была внешней. Электрическая же технология хозяйничает у нас дома, а мы немы, глухи, слепы и бесчувственны перед лицом ее столкновения с технологией Гутенберга, на основе и по принципу которой сформировался весь американский образ жизни. Однако не время предлагать стратегии, когда наличие этой Угрозы еще даже не разглядели. Я нахожусь в положении Луи Пастера, рассказывающего врачам, что величайший их враг совершенно невидим и совершенно им неизвестен. Наша обычная реакция на все средства коммуникации, состоящая в том, что якобы значение имеет только то, как они используются, — это оцепенелая позиция технологического идиота. Ибо «содержание» средства коммуникации подобно сочному куску мяса, который приносит с собою вор, чтобы усыпить бдительность сторожевого пса нашего разума. Воздействие средства коммуникации оказывается сильным и интенсивным именно благодаря тому, что ему дается в качестве «содержания» какое-то другое средство коммуникации. Содержанием кино является роман, пьеса или опера. Воздействие кинематографической формы никак не связано с тем содержанием, которое ее наполняет. «Содержанием» письма или печати служит речь, однако ни печать, ни речь читатель почти совсем не сознает.
Арнольд Тойнби пребывает в блаженном неведении относительно того, как средства коммуникации формировали историю, однако приводит великое множество примеров, которыми исследователь средств коммуникации может воспользоваться. В какой-то момент он может всерьез предположить, что просвещение взрослых — например, деятельность Ассоциации образования рабочих[29] в Великобритании — является полезным противовесом популярной прессе. Тойнби отмечает, что хотя все восточные общества приняли в наше время промышленную технологию и ее политические следствия, «в культурном плане нет соответствующей единообразной тенденции».[30] Это все равно что голос грамотного человека, который барахтается в море рекламных объявлений, но в то же время похваляется: «Лично я не обращаю на рекламу никакого внимания». Духовные и культурные резервации, которые восточные народы могут пытаться противопоставить нашей технологии, вообще ничего им не дадут. Воздействие технологии происходит не на уровне мнений или понятий; оно меняет чувственные пропорции, или образцы восприятия, последовательно и без сопротивления. Серьезный художник — единственный, кто способен без ущерба для себя встретиться с технологией лицом к лицу, и именно потому, что он является экспертом, сознающим изменения в чувственном восприятии.
Функционирование денежного посредника в Японии семнадцатого века вызвало последствия, в известной мере аналогичные тем, которые на Западе вызвало книгопечатание. Проникновение денежной экономики, как писал Дж. Б. Сэнсом, «вызвало медленную, но неудержимую революцию, достигшую своего пика в крушении феодального правления и возобновлении сношений с иноземными странами после более чем двухвековой изоляции».[31] Деньги реорганизовывали чувственную жизнь народов именно потому, что являются расширением нашей чувственной жизни. Это изменение нисколько не зависит от одобрения или осуждения его теми, кто живет в данном обществе.
Арнольд Тойнби наметил один из подходов к изучению преобразующей силы средств коммуникации в своем понятии «этерификации»,[32] которая, по его мнению, лежит в основе прогрессивного упрощения и роста эффективности любой организации или технологии. Как правило, он игнорирует воздействие столкновения с этими формами на реакции наших органов чувств. Он полагает, что для воздействия средств коммуникации или технологии на общество важна именно реакция наших мнений, т. е. «точка зрения», которая явно представляет собой результат книгопечатных чар. Ибо в письменном и гомогенизированном обществе человек перестает быть восприимчивым к разнообразной и прерывной жизни форм. Как часть своей нарциссической фиксации он приобретает иллюзию третьего измерения и «частную точку зрения», а тем самым начисто отрезается от присущего Блейку или Псалмопевцу[33] осознания того, что мы становимся тем, к чему прикован наш взор.
Сегодня, когда мы хотим обрести точку опоры в собственной культуре и нуждаемся в принятии отстраненной позиции по отношению к принуждению и давлению, которое оказывает на нас любая техническая форма человеческого самовыражения, нам нужно просто наведаться в общество, в котором эта конкретная форма никогда не ощущалась, или обратиться к какому-нибудь историческому периоду, когда она была неизвестна. Проф. Уилбур Шрамм[34] предпринял такой тактический ход в своем исследовании «Телевидение в жизни наших детей».[35] Он нашел такие места, куда телевидение вообще до сих пор не проникло, и провел там несколько тестов. Поскольку он не ставил перед собой задачи исследовать особую природу телевизионного образа, его тесты выявляли «содержательные» предпочтения, длительность просмотров и словарный запас. Словом, его подход к проблеме был книжно-письменным, пусть даже он этого не сознавал. Поэтому ему и нечего было сообщить. Будь его методы применены в 1500 году н. э. для выявления воздействия печатной книги на жизнь детей или взрослых, он и тогда бы не смог обнаружить ничего, что касалось бы тех изменений в человеческой и социальной психологии, которые были результатом книгопечатания. В шестнадцатом веке печать породила индивидуализм и национализм. Анализ программного наполнения, или «содержания», не дает никаких ключей к магическому воздействию этих средств коммуникации или к их подсознательному заряду.
Леонард Дуб в докладе «Коммуникация в Африке»[36] рассказывает об одном африканце, который изо всех сил старался прослушивать каждый вечер выпуски новостей Би-Би-Си, хотя ничего не мог в них понять. Для него было важно просто находиться ежедневно в 7 часов вечера в присутствии этих звуков. Его отношение к речи было сродни нашему отношению к мелодии; резонирующей интонации было для него вполне достаточно. В семнадцатом веке наши предки все еще разделяли это туземное отношение к формам средств коммуникации, что ясно видно на примере следующего чувства, выраженного французом Бернаром Ламом в книге «Ораторское искусство»:[37]
«Из Мудрости Бога, сотворившего Человека для счастья, вытекает, что все, что бы ни было полезно для его беседы (образа жизни), ему одновременно и приятственно… ибо всякая провизия, влекущая к насыщению, приятна на вкус, тогда как иные вещи, которые не могут быть нами усвоены и превращены в нашу субстанцию, безвкусны. Речь не может быть приятна для Слушателя, когда она с трудом дается Говорящему; да и ему самому нелегко ее произнести, когда не слушают его с наслаждением».
Здесь применительно к человеческому питанию и самовыражению изложена теория равновесия, которую мы даже сейчас, после столетий фрагментации и специализма, еще только стремимся разработать заново применительно к средствам коммуникации.
Папу Пия XII глубоко волновала необходимость серьезного изучения сегодняшних средств коммуникации. 17 февраля 1950 года он сказал:
«Не будет преувеличением сказать, что будущее современного общества и стабильность его внутренней жизни зависят в значительной степени от сохранения равновесия между мощью технических средств коммуникации и способностью человека к индивидуальной реакции».
На протяжении веков неумение поддерживать такое равновесие было типичным и всеобщим для всего человечества. Подсознательное и покорное принятие воздействия средств коммуникации превращало их в тюрьмы без стен для тех людей, которые ими пользовались. Как заметил Э. Дж. Либлинг в книге «Пресса»,[38] человек не свободен, если не может видеть, куда он идет, пусть даже у него есть ружье, которое поможет ему туда добраться. Ибо каждое средство коммуникации, помимо всего прочего, — это еще и мощное оружие нападения на другие средства коммуникации и другие группы. Как следствие, нынешняя эпоха стала эпохой многочисленных гражданских войн, которые отнюдь не ограничиваются миром искусства и развлечений. В книге «Война и человеческий прогресс» проф. Дж. У. Неф заявил: «Тотальные войны нашего времени были результатом ряда интеллектуальных ошибок…»[39]
Если формообразующей силой, заключенной в средствах коммуникации, являются сами эти средства, то отсюда вытекает огромное множество важных вопросов, которые могут быть здесь только упомянуты, хотя заслуживают целых томов. А именно: технологические средства коммуникации представляют собой сырьевые, или естественные ресурсы, точно такие же, как уголь, хлопок и нефть.
Каждый человек согласится, что общество, экономика которого зависит от одного или двух основных ресурсов — например, хлопка, зерна, леса, рыбы или скота, — скорее всего будет иметь в результате этого некоторые очевидные социальные формы организации. Упор на немногие основные ресурсы создает крайнюю нестабильность в экономике, но огромную сопротивляемость в населении. Энтузиазм и юмор американского Юга коренятся именно в такой экономике ограниченных ресурсов. Ибо общество, конфигурированное опорой на немногие основные товары, принимает их как социальное долговое обязательство, совершенно так же, как крупный город принимает в качестве такового прессу. Хлопок и нефть, подобно радио и телевидению, становятся «фиксированным налогом», взимаемым со всей психической жизни сообщества. И этот всепроникающий факт создает в каждом обществе его уникальную культурную атмосферу. Общество платит носом и всеми другими органами чувств за каждый ресурс, придающий форму его жизни.
То, что наши человеческие чувства, расширениями которых являются все без исключения средства коммуникации, тоже являются фиксированными налогами на наши личностные энергии и тоже конфигурируют сознание и опыт каждого из нас, можно воспринимать и в ином аспекте, на который обращает внимание психолог К. Г. Юнг:
«Каждый римлянин был окружен рабами. Раб и его психология наводнили древнюю Италию, и каждый римлянин внутренне — и, разумеется, непреднамеренно — становился рабом. Ибо он, постоянно живший в атмосфере рабов, заражался через бессознательное их психологией. Никто не в силах защитить себя от такого влияния».[40]
ГЛАВА 2. ГОРЯЧИЕ И ХОЛОДНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ
«Взлет популярности вальса, — объяснял Курт Закс[41] во «Всемирной истории танца»,[42] — был следствием того страстного стремления к истине, простоте, близости к природе и первозданности, которым были наполнены последние две трети восемнадцатого столетия». В век джаза мы обычно не замечаем, что вальс возник как горячий и взрывной способ человеческого самовыражения, прорвавшийся сквозь формальные феодальные барьеры изысканных и хоровых танцевальных стилей.
Есть основной принцип, отличающий такое горячее средство коммуникации, как радио, от такого холодного средства, как телефон, или такое горячее средство коммуникации, как кино, от такого холодного средства, как телевидение. Горячее средство — это такое средство, которое расширяет одно-единственное чувство до степени «высокой определенности». Высокая определенность — это состояние наполненности данными. Фотография, с визуальной точки зрения, обладает «высокой определенностью». Комикс же — «низкой определенностью», просто потому что он дает очень мало визуальной информации. Телефон является холодным средством коммуникации, или средством с низкой определенностью, так как ухо получает скудное количество информации. Речь тоже является холодным средством с низкой определенностью, поскольку слушателю передается очень мало, и очень многое ему приходится додумывать самому. С другой стороны, горячие средства коммуникации оставляют аудитории не очень много простора для заполнения или довершения. Горячие средства характеризуются, стало быть, низкой степенью участия аудитории, а холодные — высокой степенью ее участия, или достраивания ею недостающего. А потому естественно, что горячее средство коммуникации, например радио, оказывает на пользователя совершенно иное воздействие, нежели холодное средство, например телефон.
Такое холодное средство коммуникации, как иероглифическое или идеографическое письмо, очень отличается по своим воздействиям от такого горячего и взрывного посредника, как фонетический алфавит. Алфавит, доведенный до высокой степени абстрактной визуальной интенсивности, превратился в книгопечатание. Печатное слово с присущей ему специалистской интенсивностью разрывает путы средневековых корпоративных гильдий и монастырей, создавая крайние индивидуалистические образцы предпринимательства и монополии. Между тем, когда крайности монополии вернули корпорацию с ее безличным владычеством над многими жизнями, произошло типичное обращение. Разогревание такого средства коммуникации, как письмо, до состояния воспроизводимой интенсивности, свойственного печати, привело к возникновению национализма и религиозным войнам шестнадцатого столетия. Тяжелые и громоздкие средства коммуникации — такие, как камень — связывают времена. Когда их используют для письма, они поистине очень холодны и служат соединению эпох, тогда как бумага представляет собой горячее средство, служащее горизонтальному соединению пространств, и здесь неважно, идет ли речь о политической империи или об империях развлечений.
Любое горячее средство коммуникации допускает меньшую степень участия по сравнению с холодным. Например, лекция обеспечивает меньшее участие по сравнению с семинаром, а книга — по сравнению с диалогом. С появлением печати многие прежние формы были исключены из жизни и искусства, а многие приобрели странную новую интенсивность. Между тем, наше время прямо-таки изобилует примерами проявления того принципа, что горячая форма исключает, а холодная включает. Когда столетие назад балерины стали танцевать на носочках, присутствовало ощущение, что искусство балета приобрело новую «духовность». С появлением этой новой интенсивности из балета были исключены мужские персонажи. Роль женщин также стала фрагментироваться с рождением промышленного специализма и взрывом домашних функций, что привело к возникновению на периферии сообщества прачечных, булочных и больниц. Интенсивность, или высокая определенность, порождает как в жизни, так и в сфере развлечений специализм и фрагментацию, и это объясняет, почему интенсивное переживание, прежде чем оно может быть «усвоено», или ассимилировано, должно быть «забыто», «подвергнуто цензуре» и редуцировано до весьма холодного состояния. Фрейдовский «цензор» — не столько моральная функция, сколько необходимое условие научения. Если бы нам приходилось полностью и непосредственно принимать каждый удар, наносимый по различным структурам нашего сознания, то скоро мы превратились бы в нервные развалины, постоянно все пересматривающие и ежеминутно судорожно жмущие на кнопки паники. «Цензор» оберегает нашу центральную систему ценностей, равно как и нашу физическую нервную систему, путем простого охлаждения наплыва всевозможных переживаний. Во многих эта система охлаждения вызывает пожизненное состояние психического rigor mortis,[43] или сомнамбулизма, особенно заметное в периоды внедрения новой технологии.
Пример разрушительного воздействия горячей технологии, приходящей на смену холодной, приводит Роберт Тиболд в книге «Богатые и бедные».[44] Когда австралийские аборигены получили от миссионеров стальные топоры, их культура, базирующаяся на каменном топоре, потерпела катастрофу. Каменный топор был не просто редкостью; он всегда служил основным статусным символом, подчеркивающим значимость мужчины. Миссионеры привезли с собой кучу острых стальных топоров и раздали их женщинам и детям. Мужчинам приходилось даже брать их у женщин взаймы, и это вызвало катастрофическое падение мужского достоинства. Племенная и феодальная иерархия традиционного типа быстро разрушается при столкновении с любым горячим средством коммуникации механического, единообразного и повторимого типа. Такие средства, как деньги, колесо, письмо или любая другая форма специалистского ускорения обмена и движения информации, приводят к фрагментации племенной структуры. Аналогичным образом, гораздо большее ускорение — такое, какое приходит, например, вместе с электричеством — может способствовать восстановлению племенного образца интенсивного вовлечения, как это произошло в Европе с появлением радио и как это должно произойти сейчас в Америке вследствие распространения телевидения. Специалистские технологии детрайбализируют. Неспециалистская электрическая технология ретрайбализирует. Процесс разрушения порядка, являющийся результатом нового распределения навыков, сопровождается значительным культурным отставанием, при котором люди чувствуют себя вынужденными смотреть на новые ситуации так, как если бы они были старыми, и выступать в эпоху имплозивного сжатия с идеями «демографического взрыва». В эпоху часов Ньютон ухитрился представить весь мир в образе часового механизма. Однако такие поэты, как Блейк, пошли намного дальше Ньютона в своей реакции на вызов, брошенный часами. Блейк говорил о необходимости избавиться «от единого зренья и Ньютонова сна»,[45] прекрасно зная, что ответ Ньютона на вызов нового мехатнизма был сам по себе всего лишь механическим повторением этого вызова. В Ньютоне, Локке и других фигурах «Блейк видел загипнотизированный нарциссический тип, совершенно не способный достойно ответить на вызов механизма. Полную блейковскую версию Ньютона и Локка предложил У. Б. Йейтс в знаменитой эпиграмме:
В экстаз восторга погрузился Локк; А значит, саду умирать пора; Прядильную машину «Дженни» Бог Извлек из своего ребра.Локка, философа механического и линейного ассоцианизма, Йейтс представляет как человека, загипнотизированного собственным образом. «Саду», или единому сознанию, настал конец. Человек восемнадцатого века получил расширение самого себя в форме прядильной машины, которую Йейтс наделяет полноценной сексуальной значимостью.[46] Сама женщина видится, таким образом, как технологическое внешнее продолжение мужского существа.
Контрстратегия, которую предложил своей эпохе Блейк, состояла в противопоставлении механизму органического мифа. Сегодня, когда мы нырнули с головой в эпоху электричества, органический миф уже сам по себе является простым и автоматическим ответом, который можно облечь в математическую форму и представить в математическом выражении, обходясь без того образного восприятия, которое имел в отношении него Блейк. Столкнись Блейк лицом к лицу с электрической эпохой, он не стал бы встречать брошенный ею вызов простым повторением электрической формы. Ибо миф есть мгновенное целостное видение сложного процесса, который обычно растягивается на большой промежуток времени. Миф представляет собой сжатие, или имплозивное свертывание всякого процесса, и сегодня мгновенная скорость электричества сообщает мифическое измерение даже самому простому промышленному и социальному действию. Мы живем мифически, но продолжаем мыслить фрагментарно и однобоко.
Сегодня ученые остро сознают расхождение между их способами трактовки предметов и самим предметом. Исследователи писаний Ветхого и Нового Заветов часто говорят, что хотя их толкование должно быть линейным, само их содержание нелинейно. В этих книгах трактуются отношения между Богом и человеком, между Богом и миром, а также между человеком и его ближним; и все они существуют вместе, оказывая друг на друга одновременное взаимное воздействие. Способом, типичным для устных обществ вообще, еврейский и восточный образ мышления схватывает проблему и ее решение с самого начала. Затем это целостное сообщение с кажущейся избыточностью прослеживается снова и снова, пробегая вновь и вновь по виткам концентрической спирали. После нескольких предложений можно остановиться в любом месте и иметь все сообщение целиком, если только есть готовность до него «докопаться». Видимо, именно такого рода замыслом руководствовался Фрэнк Ллойд Райт,[47] создавая спиральный, концентрический проект Гуггенгеймовской картинной галереи. Эта избыточная форма становится неизбежной в электрическую эпоху, когда мгновенность электрической скорости насаждает заложенную в ее глубине концентрическую конфигурацию. Между тем, концентричность с ее бесконечным пересечением плоскостей необходима для озарения. Фактически, она и есть техника озарения, и как таковая она необходима для изучения средств коммуникации, поскольку ни одно из них не имеет своего обособленного значения или существования, но существует лишь в постоянном взаимодействии с другими средствами.
Новое электрическое структурирование и конфигурирование жизни все больше и больше сталкивается со старыми линейными и фрагментарными процедурами и инструментами анализа, пришедшими из механической эпохи. Мы все более переносим внимание с содержания сообщения на изучение тотального эффекта. Кеннет Боулдинг[48] так говорит об этом в своей книге «Образ»:[49] «Значение сообщения — это то изменение, которое оно производит в образе». Интерес к эффекту, а не к значению есть основное изменение, произошедшее в наше электрическое время, ведь эффект заключает в себе всю ситуацию целиком, а не просто какой-то один уровень движения информации. Странно, но этот приоритет эффекта над информацией признается в английском представлении о клевете: «Чем больше истины, тем больше клеветы».
Поначалу эффектом электрической технологии была тревога. Теперь она, похоже, рождает усталость. Мы прошли через три стадии — смятения, сопротивления и изнеможения, — которые присутствуют в каждой болезни и в каждом жизненном стрессе, будь то индивидуальном или коллективном. По крайней мере, упадок сил, постигший нас после первого столкновения с электричеством, предрасположил нас к ожиданию новых проблем. Между тем, отсталые страны, не испытавшие сколь-нибудь серьезного вторжения нашей механической и специалистской культуры, гораздо лучше приспособлены к встрече с электрической технологией и к ее пониманию. Отсталым и неиндустриальным культурам не только не приходится в их столкновении с электромагнетизмом преодолевать специалистские навыки, но они к тому же до сих пор сохранили свою традиционную устную культуру, обладающую таким же тотальным, единым характером «поля», что и наш новый электромагнетизм. Наши старые индустриализованные ареалы, автоматически порушив свои устные традиции, оказались в положении, когда им приходится открывать эти традиции заново, дабы справиться с эпохой электричества.
С точки зрения температуры средств коммуникации, отсталые страны являются холодными, а мы горячими. «Завзятый горожанин» горяч, а деревенский житель холоден. Однако с точки зрения обращения процедур и ценностей в электрическую эпоху, прошлые механические времена были горячими, а мы, живущие в эпоху телевидения, холодны. Вальс был горячим, быстрым механическим танцем, созвучным индустриальной эпохе своим настроением помпезности и торжественности. Твист, напротив, представляет собой холодную, увлеченную и непринужденную форму импровизированного жеста. Джаз времен таких новых горячих средств коммуникации, как кино и радио, был горячим джазом. Тем не менее сам по себе джаз тяготеет к небрежной диалогической форме танца, которая совершенно отсутствует в повторяющихся и механических формах вальса. Холодный джаз совершенно естественным образом появился тогда, когда люди переварили первый натиск радио и кино.
В специальном русском выпуске журнала «Лайф» (13 сентября 1963 г.) упоминается, что в русских ресторанах и вечерних клубах «при терпимом отношении к чарльстону твист, тем не менее, табуирован». Все это значит, что страна, переживающая процесс индустриализации, склонна считать горячий джаз согласующимся с ее программами развития. В свою очередь, холодная и увлекающая форма твиста поразила бы такую культуру одновременно как своей ретроградностью, так и несовместимостью с ее новым механическим акцентом. Чарльстон с его движениями механической куклы, приводимой в движение нитями, предстает в России как авангардная форма. Мы, со своей стороны, находим авангардное в холодном и примитивном, то есть в том, что обещает нам глубокое вовлечение и интегральное самовыражение.
«Навязчивая» торговля и «горячая» линия становятся в эпоху телевидения не более чем комедией, и смерть всех коммивояжеров[50] от одного-единственного удара телевизионного топора превратила горячую американскую культуру в холодную — культуру, которая сама себя не узнает. На самом деле, Америка, по-видимому, переживает процесс обращения, описанный Маргарет Мид в журнале «Тайм» (4 сентября 1954 г.): «Отовсюду доносятся жалобы, что обществу приходится двигаться слишком быстро, чтобы угнаться за машиной. У быстрого движения есть великое преимущество, если вы движетесь целиком, всем своим существом, если социальные, образовательные и рекреационные изменения идут в ногу друг с другом. Вы должны изменить весь паттерн сразу и всю группу скопом; и люди сами должны принять решение идти вперед».
Маргарет Мид мыслит здесь изменение как единообразное ускорение движения, или единообразное повышение температур в отсталых обществах. Мы явно вступаем в мыслимую область мира, автоматически контролируемую до такой степени, что мы могли бы сказать: «На следующей неделе Индонезию следует оставить на шесть часов без радио, иначе произойдет огромное падение внимания к литературе». Или так: «На следующей неделе мы можем дать дополнительную двадцатичасовую телевизионную программу для Южной Африки, дабы охладить племенную температуру, поднятую на прошлой неделе радио». Целые культуры можно было бы теперь программировать с целью поддержания в них стабильного эмоционального климата точно так же, как мы научились кое-что делать для сохранения равновесия в коммерческих экономиках мира.
В сфере сугубо личного и приватного нам часто напоминают о том, насколько необходимы в разное время суток и в разные времена года изменения в оттенках настроения и установках для того, чтобы справляться с возникающими ситуациями. Ради сохранения компанейской и дружеской атмосферы член британского клуба долгое время исключал из обсуждения в стенах великосветского присутственного клуба горячие темы религии и политики. Столь же тщетно, как писал У. X. Оден[51] (в предисловии к книге Джона Бетжемена[52] «Отшлифованный, но не выпрямленный»), «в это время года благонамеренный человек будет держать свои чувства при себе, а не выставлять их откровенно на всеобщее обозрение… Сегодня такой благородный мужественный стиль подходит разве что для Яго». В эпоху Возрождения, когда технология печати накалила до высокой степени социальную среду, джентльмен и придворный (на манер Гамлета—Меркуцио[53]), напротив, приняли небрежную и холодную беззаботность, преисполненную игривости и превосходства. Аллюзия к Яго[54] у Одена напоминает нам, что Яго был альтер эго и помощником чрезвычайно прямодушного и отнюдь не беззаботного генерала Отелло. Подражая искреннему и прямолинейному генералу, Яго разогревал свой собственный образ и не сдерживал своих чувств до тех пор, пока генерал Отелло не прочел его наконец громко и ясно как «честного Яго», человека с таким же, как и у него, беспощадно искренним сердцем.
Льюис Мэмфорд[55] на протяжении всей своей книги «Город в истории»[56] отдает предпочтение холодным, или непреднамеренно структурированным, городам над городами горячими и интенсивно наполняемыми. Период величия Афин был, по его мнению, таким периодом, на протяжении которого еще по большей части сохранялись демократические привычки деревенской жизни и деревенского увлеченного участия. Затем началось неудержимое развитие всего спектра человеческого самовыражения и любознательности, ставшее впоследствии невозможным в высокоразвитых городских центрах. Ибо ситуация высокой проработанности, по определению, дает мало возможностей для участия и строго требует специалистской фрагментации от тех, кто должен ее контролировать. Например, то, что пользуется сегодня известностью в сфере бизнеса и управления под именем «обогащения содержания работы», состоит в предоставлении работнику большей свободы самостоятельного выяснения и определения своей функции. Аналогичным образом, читая детективный роман, читатель участвует в нем в качестве соавтора хотя бы в силу того, что очень многое оставлено за границами повествования. В сетчатых шелковых чулках гораздо больше чувственности, чем в сплошных нейлоновых, и именно потому, что глаз, действуя на манер руки, должен наполнять и достраивать образ точно так же, как он это делает в отношении мозаики телевизионного образа.
Дуглас Кейтер в книге «Четвертая ветвь власти»[57] рассказывает о том, с каким наслаждением сотрудники Вашингтонского пресс-бюро заполняли, или достраивали, бланк личности Калвина Кулиджа.[58] Поскольку он был очень похож на обычную картинку из комикса, они испытывали настоятельную потребность достроить его образ за него и его публику. Поучительно, что пресса употребляла в отношении Кулиджа слово «холодный».[59] Калвину Кулиджу как холодному средству коммуникации в самом прямом смысле этого выражения настолько недоставало какой бы то ни было артикуляции данных в его публичном образе, что одно только это слово к нему и подходило. Он был по-настоящему холоден. В горячие двадцатые годы горячая пресса нашла Калвина чрезвычайно холодным и очень обрадовалась отсутствию у него ясного образа, поскольку это потребовало от нее участия в заполнении его образа для публики. Ф.Д.Р.,[60] напротив, был горячим для прессы; при этом сам он терпеть не мог такое средство массовой информации, как газета, и получал немалое удовольствие, когда победу над прессой одерживало такое конкурирующее с ней горячее средство коммуникации, как радио. В полном контрасте с этим находилось холодное шоу, которое вел на холодном телевидении Джек Паар, составивший конкуренцию патронам вечерних рекламных и информационных вставок и их союзникам в отделах светской хроники. Война Джека Паара с сотрудниками отделов светской хроники была причудливым примером стычки горячих и холодных средств коммуникации, какая, скажем, произошла в ходе «скандала вокруг фальсифицированных телевикторин». Соперничество за горячий рекламный доллар, разгоревшееся между, с одной стороны, такими горячими средствами коммуникации, как пресса и радио, и, с другой стороны, телевидением, послужило запутыванию и перегреву тех вопросов, по которым рассеянно плутало внимание Карла ван Дорена.[61]
В сообщении Ассошиэйтед Пресс из Санта-Моники, шт. Калифорния, от 9 августа 1962 г. говорилось:
«Около ста нарушителей правил уличного движения смотрели сегодня полицейский фильм о дорожных происшествиях во искупление допущенных ими нарушений. Двоим из-за тошноты и состояния шока понадобилась медицинская помощь…
Зрителям предложили уменьшить штраф на 5 долларов, если они согласятся посмотреть кинофильм "Сигнал 30", снятый полицией штата Огайо.
В нем демонстрировались покореженные обломки автомобилей и покалеченные тела, и все это сопровождалось записанными стонами жертв автокатастроф».
Охладит ли горячий фильм, использующий горячее содержание, горячих водителей — вопрос спорный. Но он имеет прямое отношение к пониманию средств коммуникации как таковых. Эффект обработки горячими средствами никогда не может включать в себя слишком много эмпатии или участия. В этом плане страховое рекламное объявление, изобразившее Папочку с аппаратом искусственного дыхания, окруженного радостными членами семьи, сделало для устрашения читателя больше, чем вся предостерегающая мудрость мира. Этот же вопрос возникает и в связи со смертной казнью. Является ли суровое наказание лучшим средством удержать человека от серьезного преступления? Или, если взять атомную бомбу и холодную войну, является ли угроза массового уничтожения самым эффективным средством сохранения мира? Разве не очевидно, что в любой человеческой ситуации, доведенной до точки наивысшего накала, появляется некоторая опрометчивость в действиях? Когда в организме или любой другой структуре оказываются приведены в движение все наличные ресурсы и энергии, происходит своего рода обращение паттерна. Спектакль жестокости,[62] используемый как средство отвадить от нее, может ожесточать. Жестокость, используемая в спортивных состязаниях, в принципе может гуманизировать, по крайней мере при определенных условиях. Но что касается бомбы и массового уничтожения как средства сдерживания, то в данном случае очевидно, что результатом любого затянувшегося страха всегда становится бесчувственное оцепенение; этот факт обнаружили, когда была оглашена программа защиты от радиоактивных осадков. Платой за вечную настороженность становится безразличие.
Тем не менее существует принципиальная разница между тем, используется ли горячее средство коммуникации в горячей или в холодной культуре. Когда такое горячее средство коммуникации, как радио, используется в холодных, или бесписьменных культурах, это приводит к разрушительным последствиям, совершенно отличным от тех, которые имеют место, скажем, в Англии или Америке, где радио воспринимается как развлечение. Холодная культура, или культура низкой грамотности, не может принять такие горячие средства коммуникации, как кино или радио, как развлечение. Для них они, по крайней мере, настолько же разрушительны, насколько разрушительным стало для нашего высокоразвитого письменного мира такое холодное средство, как телевидение.
И поскольку холодная война и горячая бомба нас пугают, культурной стратегией, в которой мы отчаянно нуждаемся, являются юмор и игра. Именно игра остужает горячие ситуации реальной жизни, пародируя их. Спортивные состязания между Россией и Западом вряд ли послужат этой задаче снятия напряжения. Такие спортивные состязания взрывоопасны, и это очевидно. То, что в наших средствах коммуникации мы считаем развлечением или забавой, неизбежно кажется холодной культуре агрессивной политической агитацией.
Один из способов увидеть основополагающее различие между горячим и холодным применением средств коммуникации — сравнить и противопоставить трансляцию исполнения симфонии и трансляцию симфонической репетиции. Двумя из великолепнейших зрелищ, когда-либо изданных компанией Си-Би-Си, были процесс записи фортепианных концертов Гленом Гульдом[63] и репетиция Игорем Стравинским[64] одного из своих новых сочинений с Торонтским симфоническим оркестром. Такое холодное средство коммуникации, как телевидение, когда оно используется по-настоящему, требует этого вовлечения в процесс. Изящная компактная упаковка подходит лишь для горячих средств, например, радио и граммофона. Фрэнсис Бэкон без устали противопоставлял горячую и холодную прозу. Письму «методичному», или ухоженному, он противопоставлял афористичное, построенное на единичных наблюдениях вроде такого: «Месть есть своего рода стихийное и дикое правосудие».[65] Если пассивный потребитель жаждет упаковок, то люди, питающие интерес к приобретению знания и поиску причин, будут, по его мнению, обращаться к афоризмам, и как раз потому, что они не завершены и требуют глубокого участия.
Принцип, отличающий горячие средства коммуникации от холодных, получил идеальное воплощение в народной мудрости: «До девок, коль на них очки, уже не падки мужички». Очки интенсифицируют внешнее зрение и с избытком заполняют женский образ; библиотечная крыса Мэрион не в счет. С другой стороны, темные очки создают загадочный и недоступный образ, приглашающий к заинтересованному участию и достраиванию.
Опять-таки, когда в визуальной и высокограмотной письменной культуре мы впервые встречаемся с каким-нибудь человеком, его внешний вид приглушает звучание его имени, так что мы в целях самозащиты добавляем: «Как, вы сказали, ваше имя?» В то же время в слуховой культуре звучание человеческого имени является всепоглощающим фактом, о чем знал Джойс, когда говорил в «Поминках по Финнегану»: «Кто дал тебе это немя?»[66] Ибо имя человека — это ошеломляющий удар судьбы, от которого ему так и не суждено оправиться.
Другой удобной отправной точкой для прояснения различия между горячими и холодными средствами коммуникации является «практическая шутка», или розыгрыш. Горячее письменное средство коммуникации исключает практический и участный аспект такой шутки настолько безоговорочно, что Констанс Рурк в своей книге «Американский юмор»[67] вообще не рассматривает розыгрыш как шутку. Для письменного народа розыгрыш с его тотальной физической вовлеченностью столь же неприятен, как и каламбур, сбрасывающий нас под откос с рельсов ровной и единообразной прогрессии книгопечатного порядка. И в самом деле, грамотному[68] человеку, совершенно не сознающему крайне абстрактную природу такого средства коммуникации, как книгопечатание, «горячими» кажутся более грубые и участные формы искусства, а «холодной» — его абстрактная, исключительно письменная форма. «Можете заметить, мадам, — говорил с бойцовской улыбкой доктор Джонсон, — что я хорошо воспитан вплоть до ненужной скрупулезности». И доктор Джонсон был прав, предполагая, что «хорошее воспитание» стало означать беловоротничковый акцент на одеянии, способном соперничать со строгостью печатной страницы. «Комфорт» заключается в устранении визуального упорядочения в пользу такого, которое допускает непроизвольное участие чувств, т. е. в утверждении такого состояния, которое исключается, когда какое-то одно чувство, в первую очередь зрение, разогревается до точки превращения в доминирующую ситуационную команду. С другой стороны, в экспериментах, в которых устраняются все поступающие извне ощущения, субъект начинает неистово заполнять и достраивать свои чувства чистыми галлюцинациями. Таким образом, разогревание одного чувства имеет тенденцию оказывать гипнотическое воздействие, а охлаждение всех чувств обычно вызывает галлюцинации.
ГЛАВА 3. ОБРАЩЕНИЕ ПЕРЕГРЕТОГО СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ В СВОЮ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ
21 июня 1963 г. газетный заголовок возвестил:
НА 60 ДНЕЙ ОТКРОЕТСЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «ВАШИНГТОН — МОСКВА»
Лондонская служба «Таймс», Женева:
Вчера Чарлз Стил со стороны Соединенных Штатов и Семен Царапкин со стороны Советского Союза подписали соглашение о создании линии экстренной связи между Вашингтоном и Москвой…
По сведениям, полученным из американских официальных источников, эта линия связи, известная как горячая линия, будет открыта в течение шестидесяти дней. В ней будут использованы арендованные коммерческие линии связи, один кабель, беспроволочная связь и телетайпное оборудование.
Решение использовать горячее печатное средство коммуникации вместо такого холодного и участного, как телефон, крайне неудачно. Принятию такого решения, несомненно, способствовала книжная склонность Запада к печатной форме, и основывалось оно на том, что печать безличнее телефона. В Москве печатной форме придается совершенно иное значение, чем в Вашингтоне. Равно как и телефону. Любовь русских к этому инструменту общения, столь созвучная их устным традициям, определяется тем богатым невизуальным вовлечением, которое он обеспечивает.
Русский пользуется телефоном для достижения такого рода эффектов, которые мы обычно связываем с энергичной манерой беседы любителя хватать собеседника за воротник, чье лицо находится от вас на расстоянии двенадцати дюймов.[69]
И телефон, и телетайп как конкретизации бессознательной культурной предрасположенности Москвы, с одной стороны, и Вашингтона, с другой, служат приглашением к чудовищному взаимному недопониманию. Русский прослушивает комнаты с помощью жучков и шпионит ухом, находя это вполне естественным. Вместе с тем, его выводит из себя наша визуальная разведка; ее он считает совершенно противоестественной.
Принцип, в соответствии с которым все вещи на каких-то этапах своего развития проявляются в формах, противоположных тем, которые в конечном счете они представляют, известен с древности. Интерес к способности вещей обращаться в процессе эволюции в свою противоположность очевидным образом присутствует во множестве наблюдений, как глубокомысленных, так и шутливых. Александр Поуп[70] писал:
Чудовищен порок на первый взгляд, И кажется, он источает яд, Но приглядишься, и пройдет боязнь, Останется сердечная приязнь.[71]Гусеница, пристально взирая на бабочку, будто бы сказала: «Ваал, тебе никогда не поймать меня в одной из тех негодных тварей».
На другом уровне мы в этом столетии стали свидетелями перехода от разоблачения традиционных мифов и легенд к благоговейному их изучению. Как только мы начинаем глубоко реагировать на социальную жизнь и проблемы нашей глобальной деревни, мы тут же становимся реакционерами. Вовлечение, приходящее с нашими стремительными технологиями, превращает наиболее «социально сознательных» людей в консерваторов. Когда на околоземную орбиту впервые вышел спутник, одна школьная учительница попросила своих второклашек написать на эту тему какое-нибудь стихотворение. Один ребенок написал:
Звезды такие большие. Земля такая маленькая. Оставайся таким, как есть.Знания человека и процесс приобретения знаний равновелики самому человеку. Наша способность постигать как галактики, так и субатомные структуры есть развитие заложенных в нас возможностей, которые и вмещают их в себя, и выходят за их пределы. Второклассник, написавший приведенные выше строки, живет в мире, намного превышающем тот, который может измерить своими инструментами и описать, пользуясь своими понятиями, современный ученый. Как писал об этом превращении У. Б. Йейтс, «видимый мир перестал быть реальностью, а невидимый мир — грезой».
С этим преобразованием реального мира в научный вымысел связано стремительно протекающее в настоящее время обращение, вследствие которого западный мир становится восточным, а восточный становится западным. Джойс зашифровал их взаимное превращение друг в друга в своей загадочной фразе:
The West shall shake the East awake While ye have the night for morn.[72]Название его романа «Поминки по Финнегану» (Finnegans Wake) представляет собой целый набор многоуровневых каламбуров на тему обращения, вследствие которого западный человек вновь вступает в племенной, или финский (Finn) цикл, следуя дорогой старика Финна, но на этот раз зорко бдит (wide awake), пока мы возвращаемся в племенную ночь.[73] Эго что-то вроде нашего современного осознания Бессознательного.
Нарастание скорости, переводящее ее из механической формы в мгновенную электрическую, останавливает процесс взрыва и переворачивает его, превращая в процесс имплозивного сжатия. В нынешнюю электрическую эпоху быстрое уплотнение, или сжатие, энергий нашего мира входит в столкновение со старыми экспансионистскими и традиционными образцами организации. До самого последнего времени наши социальные, политические и экономические институты и упорядочения укладывались в один общий односторонний образец. Мы до сих пор продолжаем считать его «взрывным», или экспансивным; и хотя теперь его уже нет, мы все еще продолжаем разглагольствовать о демографическом взрыве и взрыве в сфере образования. На самом деле, наша озабоченность проблемой народонаселения вызвана вовсе не ростом его численности в мире. Скорее, она проистекает из того факта, что каждому в мире приходится теперь жить в условиях предельной близости с другими, созданной нашим электрическим вовлечением в жизни друг друга. Так же и в сфере образования кризис порождается вовсе не возрастанием числа тех, кто жаждет учиться. Наша новая озабоченность проблемой образования вытекает из того радикального изменения, которое привело к утверждению взаимосвязи в сфере знания, где прежде отдельные предметы образовательной программы были обособлены друг от друга. В условиях электрической скорости суверенитет факультетов растаял так же быстро, как и национальные суверенитеты. Одержимость старыми формами механической, односторонней экспансии от центров к перифериям утратила свою значимость в нашем электрическом мире. Электричество не централизует; оно децентрализует. Тут разница примерно такая же, как между системой железнодорожного сообщения и системой циркуляции энергии в электросети. Первая нуждается в конечных пунктах и крупных городских центрах. Электрическая энергия же, одинаково доступная человеку как в фермерском домике, так и в номере-люкс для важных чиновников, позволяет любому месту быть центром и не требует крупных агрегаций. Этот образец обращения уже давно заявил о себе в электрических «трудосберегающих» приспособлениях, таких, как тостер, стиральная машина и пылесос. Вместо того, чтобы сберегать труд, эти средства позволяют каждому самостоятельно делать свою работу. Теперь то, что девятнадцатый век поручал прислуге и горничным, мы делаем для себя сами. В электрическую эпоху этот принцип применим in toto.[74] В области политики он позволяет существовать в качестве независимого ядра, или центра, Фиделю Кастро. И он же мог бы позволить Квебеку отделиться от Канадского союза, что при режиме железных дорог было совершенно немыслимо. Железные дороги требуют единообразного политического и экономического пространства. Самолет и радио, напротив, допускают крайнюю степень прерывности и разнородности в пространственной организации.
Сегодня великий принцип классической физики, экономики и политической науки — а именно, принцип делимости каждого процесса — обратился в свою противоположность. Простое расширение превратило его в теорию единого поля; а автоматизация в промышленности заменяет делимость процесса органическим переплетением всех функций в едином комплексе. На смену конвейерной линии приходит электрическая перфолента.
В новую электрическую Эпоху Информации и программной продукции сами товары приобретают во все большей степени характер информации, хотя эта тенденция проявляется главным образом в увеличении расходов на рекламу Примечательно, что бремя наибольших денежных вложений в средства коммуникации несут на себе, как правило, те потребительские товары, которые более всего используются в общении между людьми, а именно, сигареты, косметика и мыло (косметические средства для удаления грязи). По мере возрастания уровня циркуляции электрической информации едва ли не каждый тип сырья сможет обслуживать любую потребность или функцию, все более втягивая интеллектуала в такую роль, как социальное управление и обслуживание производства.
Прояснить эту новую ситуацию, когда власть в обществе внезапно оказалась в руках интеллектуала, нам помогла книга Жюльена Венда[75] «Предательство интеллекту алов».[76] Бенда увидел, что художники и интеллектуалы, долгое время отлученные от власти и еще со времен Вольтера находившиеся в оппозиции, теперь оказались призваны на службу в высшие эшелоны принятия решений. Их великая измена была в том, что они отдали без боя свою автономию и стали лакеями власти, как, например, атомный физик, оказавшийся в настоящее время в услужении у военных диктаторов.
Знал бы Бенда историю, он бы не был так рассержен и удивлен. Ведь роль интеллигенции всегда состояла в том, чтобы быть связующим звеном, или посредником, между старыми и новыми властными группами. Наиболее известной из таких групп были греческие рабы, которые долгое время служили воспитателями и ближайшими поверенными римской власти. И именно эту лакейскую роль поверенного при магнате — неважно, торговом, военном или политическом — воспитатель продолжал играть в западном мире вплоть до настоящего времени. В Англии группой таких интеллектуалов были «Сердитые»,[77] которые неожиданно выбрались из низших эшелонов на самый верх, воспользовавшись трамплинами образования. Поднявшись в высший мир власти, они обнаружили, что атмосфера там отнюдь не отличается свежестью и здоровьем. Однако свою энергичность они утратили даже еще быстрее, чем Бернард Шоу. Подобно Шоу, они быстро успокоились, погрузившись в пучину воображения и культивирования ценностей развлечения.
В «Постижении истории» Тойнби упоминает многочисленные факты обращения в форме и динамике. Например, в середине четвертого века нашей эры германцы, находившиеся на службе у римлян, внезапно начали гордиться своими племенными именами и сохранять их. Это ознаменовало их новую уверенность в себе, родившуюся из насыщения римскими ценностями, и это был тот самый момент, который отмечен комплементарным сдвигом римлян в сторону примитивных ценностей. (По мере того, как американцы насыщаются европейскими ценностями, особенно со времен появления телевидения, они начинают настойчиво утверждать в качестве культурных объектов американские каретные фонари, придорожные столбы и колониальную кухонную утварь.) В то время как варвары взбирались на вершины римской социальной лестницы, сами римляне были предрасположены перенимать одежду и манеры племенных людей, руководствуясь тем же духом легкомыслия и снобизма, из которого во времена Людовика XVI родилась привязанность французского королевского двора к миру пастухов и пастушек. Казалось, настал естественный момент для того, чтобы интеллектуалы перехватили власть у правящего класса, пока тот, так сказать, слонялся по Диснейленду. Должно быть, именно так казалось Марксу и его последователям. Однако они строили свои расчеты, не понимая динамики новых средств коммуникации. Маркс строил свой анализ, взяв в качестве непосредственной опоры и образца машину, но телеграф и другие имплозивные формы уже начали обращать механическую динамику в ее противоположность.
Эта глава призвана показать, что в любом средстве коммуникации или структуре есть то, что Кеннет Боулдинг называет «границей прорыва, когда система внезапно меняется и превращается в другую систему или проходит в своих динамических процессах через какую-то точку необратимого изменения». Некоторые такие «границы прорыва» будут рассмотрены далее, в том числе границы прорыва из стазиса в движение и из механического в органическое в мире изображений. Одним из эффектов статичного фото стало подавление показного потребления среди богатых, а эффектом ускорения фотографического изображения стало обеспечение бедных всего земного шара фантастическими сокровищами грез.
Дорога, пересекая сегодня свою границу прорыва, превращает города в высокоскоростные автомагистрали, а сама магистраль приобретает при этом непрерывный городской характер. Еще одно характерное обращение, которое происходит после прохождения дорогой ее границы прорыва, состоит в том, что сельская местность перестает быть центром всего труда, а город — центром праздности и досуга. Усовершенствование дорог и транспортных средств фактически перевернуло древнюю конфигурацию и сделало города центрами труда, а загородную местность — местом досуга и восстановления сил.
Ранее возрастание дорожного движения, пришедшее вместе с деньгами и дорогами, положило конец статичному племенному состоянию (как называет Тойнби кочевую культуру собирателей). Для такого обращения, происходящего на границах прорыва, типичен один парадокс: мобильный кочевой человек, промышляющий охотой и собирательством, социально статичен. С другой стороны, малоподвижный специалист динамичен, экспансивен, прогрессивен. Новый магнетический, или мировой, город будет статичным и иконическим, т. е. инклюзивным.
В древнем мире интуитивное осознание границ прорыва как точек, в которых происходит обращение и наступают необратимые изменения, было воплощено в греческой идее hubis, которую разъясняет Тойнби в главах «Постижения истории», озаглавленных «Немезис креативности» и «Смена ролей».[78] Греческие драматурги представляли себе творчество как сотворение, помимо прочего, особого рода слепоты, как это случилось с царем Эдипом, решившим загадку Сфинкса. Греки как будто чувствовали, что наказанием за тот или иной прорыв является общая блокировка осознания тотального поля. В китайском сочинении «Трактат о пути и потенции» приводится ряд примеров перегревания средства коммуникации, чрезмерного овнешнения человека или культуры и той перипетии, или обращения, которое неизбежно за этим следует:
На цыпочках не простоишь. Широко расставив ноги, не пойдешь… Гордясь собой, не будешь иметь заслуги. Превознося себя, не сможешь просуществовать долго.[79]Одной из типичнейших причин прорывов в любой системе является ее скрещивание с другой системой, как это произошло, например, с печатью и паровым прессом, а также с радио и кино, на пересечении которых родился звуковой фильм. Сегодня, с появлением микрофильма и микрокарт, не говоря уже об электрической памяти, печатное слово вновь принимает многие характерные черты рукописи. Однако уже само печатание со съемного набора стало важнейшей границей прорыва в истории фонетической письменности, точно так же, как фонетический алфавит стал границей разрыва между племенным и индивидуалистическим человеком.
Бесконечные обращения, или переходы границ прорыва, происходящие в процессе взаимодействия структур бюрократии и предпринимательства, включают такую точку, когда индивиды стали нести ответственность и вину за свои «частные действия». Это был момент коллапса племенной коллективной власти. Столетия спустя, когда дальнейшее распыление и экспансия исчерпали возможности частного действия, корпоративное предпринимательство изобрело идею Общественного Долга, возложив на индивида личную ответственность за групповое действие.
Поскольку девятнадцатое столетие раскалило до предела механическую и диссоциативную процедуру технической фрагментации, все внимание людей обратилось в сторону ассоциативного и корпоративного. В первую великую эпоху замены тяжелого человеческого труда машиной Карлейль[80] и прерафаэлиты[81] обнародовали доктрину Труда как мистической социальной общности, а такие миллионеры, как Рескин[82] и Моррис,[83] из эстетических соображений трудились как землекопы. Огромное впечатление эти доктрины произвели на Маркса. Наиболее странным из всех обращений, происшедших в великую викторианскую эпоху механизации и высокого морального подъема, стала контрстратегия Льюиса Кэрролла и Эдварда Лира,[84] чей абсурд оказался необычайно живуч. В то время как лорды Кардиганы принимали в Долине Смерти свои кровавые ванны, Джилберт и Салливан[85] возвещали о том, что граница прорыва уже пройдена.
ГЛАВА 4. ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТЕХНИКУ НАРЦИСС КАК НАРКОЗ
Греческий миф о Нарциссе имеет прямое отношение к некоему факту человеческого опыта, на что указывает само слово «Нарцисс». Оно происходит от греческого слова наркозис, или «оцепенение». Юный Нарцисс принял свое отражение в воде за другого человека. Это расширение его вовне, свершившееся с помощью зеркала, вызвало окаменение его восприятий, так что он стал, в конце концов, сервомеханизмом своего расширенного, или повторенного образа. Нимфа Эхо попыталась завоевать его любовь воспроизведением фрагментов его речи, но безуспешно. Он был глух и нем. Он приспособился к собственному расширению самого себя и превратился в закрытую систему.
Итак, основная идея этого мифа в том, что люди мгновенно оказываются зачарованы любым расширением самих себя в любом материале, кроме них самих. Были даже циники, которые настаивали, что глубже всего мужчины влюбляются в женщин, возвращающих им их собственный образ. Но будь это даже так, мудрость мифа о Нарциссе ничего не сообщает о том, будто Нарцисс влюбился в нечто такое, что он считал самим собой. Очевидно, у него возникли бы совершенно иные чувства в отношении увиденного им образа, когда бы он знал, что тот является расширением, или повторением, его самого. Наверное, это очень показательно для специфического крена нашей крайне технологической и, следовательно, наркотической культуры, что мы долгое время интерпретировали историю Нарцисса так, будто он влюбился в самого себя и будто он действительно понимал, что отражение — это он сам!
С физиологической точки зрения, существует бесконечно много причин для расширения нас вовне, погружающего нас в состояние оцепенения. Такие исследователи-медики, как Ганс Селье и Адольф Йонас, считают, что все наши расширения — будь то в болезненном или здоровом состоянии — представляют собой попытки сохранить равновесие. Они рассматривают любое расширение нас вовне как «самоампутацию» и полагают, что тело прибегает к способности (или стратегии) самоампутации тогда, когда перцептуальная способность не может локализовать источник раздражения или как-то его избежать. В нашем языке есть много выражений, указывающих на такую самоампутацию, навязываемую нам различными давлениями. Мы говорим, что «желаем выпрыгнуть вон из кожи», что что-то «выскочило из головы», что кто-то «из ума выжил» или «вышел из себя». И мы часто создаем такие искусственные ситуации, которые соперничают с раздражениями и стрессами реальной жизни, но проявляются в контролируемых условиях спорта и игры.
Хотя объяснение человеческих изобретений и технологии никак не входило в намерения Йонаса и Селье, они предложили нам теорию болезни (дискомфорта), достаточно далеко идущую и объясняющую, почему человек вынужден расширять различные части своего тела вовне посредством своего рода самоампутации. При физическом стрессе, возникающем вследствие любой гиперстимуляции, центральная нервная система, чтобы защитить саму себя, прибегает к стратегии ампутации, или отделения причиняющего страдание органа, чувства или функции. Таким образом, стимулом к новому изобретению становится стресс увеличения скорости и возрастания нагрузки. Если взять, к примеру, колесо как продолжение ноги, то здесь непосредственным поводом для вынесения этой функции вовне, или «отделения» ее от наших тел, стало давление новых грузов, проистекающее из того ускорения обмена, которое было вызвано письменными и денежными средствами коммуникации. Колесо как контрраздражитель, возникший в ответ на возросшую нагрузку, порождает, в свою очередь, новую интенсивность действия, усложняя отделенную, или изолированную функцию (круговое движение ног). Такое усложнение нервная система может вынести лишь посредством притупления, или блокировки воcприятия. Таков смысл мифа о Нарциссе. Образ юноши — это самоампутация, или вынесение вовне, вызванное раздражающими давлениями. Как контрраздражитель, образ производит общее оцепенение, или шоковое состояние, снижающее способность к узнаванию. Самоампутация блокирует узнавание самого себя.
Принцип самоампутации как немедленного избавления от напряжения, обрушившегося на центральную нервную систему, можно применить в готовом виде к вопросу о происхождении средств коммуникации, от речи до компьютера.
С физиологической точки зрения, центральная нервная система — эта электрическая сеть, координирующая работу всевозможных средств, которыми пользуются наши органы чувств, — играет главную роль. Все, что угрожает ее функционированию, должно быть обуздано, локализовано или отсечено, вплоть до полного удаления причиняющего страдание органа. Функция тела как группы органов, поддерживающих и оберегающих центральную нервную систему, состоит в том, чтобы служить буфером, защищающим ее от неожиданных изменений в стимуляции, поступающей из физической и социальной среды. Внезапная неудача в обществе или ощущение стыда — это шок, который некоторые люди могут «принимать близко к сердцу» и который может вызвать общее нарушение мышечного функционирования, сигнализируя человеку о необходимости выйти из угрожающей ему ситуации.
Терапия, будь то физическая или социальная, это контрраздражитель, помогающий сохранить то равновесие физических органов, которое оберегает центральную нервную систему. Если удовольствие служит контрраздражителем (например, спорт, развлечение или алкоголь), то комфорт представляет собой устранение раздражителей. И удовольствие, и комфорт суть стратегии поддержания равновесия в центральной нервной системе.
С появлением электрической технологии человек расширил, или вынес за пределы себя, живую модель самой центральной нервной системы. В той степени, в какой это действительно произошло, данное событие предполагает отчаянную и самоубийственную самоампутацию, словно центральная нервная система не могла более полагаться на физические органы как защитительный буфер, оберегающий ее от камней и стрел разбушевавшегося механизма. Вполне возможно, что последовательная механизация различных физических органов, происходившая со времен изобретения печати, сделала социальный опыт слишком агрессивным и чрезмерно раздражающим для того, чтобы центральная нервная система могла его вынести.
В связи с этой, всего лишь очень вероятной, причиной данного процесса мы можем вновь вернуться к теме Нарцисса. Ведь если Нарцисса ввергает в оцепенение его собственный самоампутированный образ, то тут есть все резоны впасть в оцепенение. Существует близкое сходство в формах реагирования на физическую и психическую травму, или шок. Человек, внезапно потерявший близких, и человек, внезапно упавший и подвернувший ногу, оба испытывают состояние шока. Потеря семьи и физическое падение — крайние случаи ампутаций самого себя. Шок вызывает общее оцепенение, или повышение порога для всех типов восприятия. Жертва кажется невосприимчивой к боли и каким бы то ни было чувствам.
Военный шок, вызываемый невыносимым шумом сражения, был адаптирован в стоматологии и получил применение в приспособлении, известном как аудиак. Пациент надевает наушники и поворачивает регулятор звука, увеличивая уровень шума до тех пор, пока не перестает чувствовать боль, создаваемую буром. Отбор единичного чувства для интенсивной стимуляции либо какого-то отдельно взятого спроецированного вовне, изолированного и «ампутированного» чувства в технологии отчасти и есть причина того отупляющего воздействия, которое оказывает технология как таковая на своих изготовителей и пользователей. Ведь в ответ на специализированное раздражение центральная нервная система выдает реакцию общего окаменения.
Человек, неожиданно падая, переживает невосприимчивость к боли и каким бы то ни было чувственным стимулам, поскольку центральная нервная система должна быть защищена от интенсивного чувственного удара. Лишь постепенно он вновь обретает нормальную восприимчивость к зрительным раздражителям и звукам, и в это время у него может случиться нервная дрожь, выступить испарина, и он может отреагировать так, как отреагировал бы, если бы центральная нервная система была заранее готова к произошедшему неожиданному падению.
В зависимости от того, какие чувство или способность технологически расширяются вовне, или «самоампутируются», «замыкание»[86] или поиск равновесия другими чувствами становятся вполне предсказуемы. С чувствами дело обстоит так же, как и с цветом. Восприятие всегда стопроцентно, как и цвет — всегда стопроцентный цвет. Однако соотношение компонентов в восприятии или цвете может сколь угодно различаться. Как бы там ни было, если интенсифицировать, например, звук, это сразу сказывается на осязании, вкусе и зрении. Воздействием радио на письменного, или визуального, человека было пробуждение его племенных воспоминаний, а следствием добавления звука в кинокартину стало уменьшение роли мимики, осязательности и кинестетики. Аналогичным образом, когда кочевой человек перешел к малоподвижным специалистским обычаям, специализировались также и его чувства. Развитие письма и визуальной организации жизни сделало возможным открытие индивидуализма, интроспекции и т. д.
Любое изобретение и любая технология представляют собой внешнюю проекцию, или самоампутацию, наших физических тел, и такое расширение вовне требует, помимо прочего, новых пропорций, или новых равновесий, между другими органами и расширениями тела. Например, нет такого способа, с помощью которого можно было бы отказаться подчиниться тем новым чувственным пропорциям или «замыканию» чувств, которых требует телевизионный образ. Однако следствия внедрения телевизионного образа будут разниться в разных культурах и зависеть от существующих в каждой культуре чувственных пропорций. Аудиотактильное европейское телевидение интенсифицировало визуальность, подтолкнув европейцев к американским стилям упаковки и одежды. В Америке, являющей собой крайний случай визуальной культуры, телевидение отворило двери аудиотактильного восприятия невизуальному миру разговорных языков, кулинарии и пластики.
Будучи расширением и ускорителем чувственной жизни, любое средство коммуникации воздействует одновременно на всю область чувств, о чем уже давно толковал в 113-м псалме Псалмопевец:
А их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; Есть у них уши, но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; Есть у них руки, но не осязают; есть у них ноги, но не ходят, и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им да будут делающие их и все, надеющиеся на них.[87]Понятие «идола» у иудейского Псалмопевца во многом совпадает с понятием Нарцисса у греческого мифотворца. И Псалмопевец настаивает, что уже само созерцание идолов, или использование технологий, делает людей похожими на них. «Подобны им да будут делающие их». Это обычный факт чувственного «замыкания». Поэт Блейк развил идеи Псалмопевца в целую теорию коммуникации и социального изменения. В своей большой поэме «Иерусалим»[88] он объясняет, почему люди стали тем, на что они смотрели. То, чем они обладают, — говорит Блейк, — это «спектр Способности Рассуждения в Человеке», который стал фрагментированным, «отделенным от Воображения и заключившим самого себя в оковы словно из стали». Одним словом, Блейк видит в человеке существо, фрагментированное своими технологиями. Вместе с тем он настаивает, что эти технологии суть самоампутации наших собственных органов. Каждый орган, будучи таким образом отсечен, становится замкнутой системой, которая, обладая огромной новой интенсивностью, ввергает человека в «мучения и войны». Более того, Блейк открыто заявляет, что тема его «Иерусалима» — органы восприятия:
Если Органы Восприятия меняются, то, видимо, меняются и Объекты Восприятия;
Если Органы Восприятия замыкаются, то, видимо, закрываются и их Объекты.
Созерцание, использование или восприятие любой нашей проекции в технологическую форму с необходимостью означает принятие его вовнутрь себя. Послушать радио или прочесть печатную страницу значит принять эти расширения нас самих в нашу личностную систему и претерпеть «замыкание», или автоматически вытекающее из этого искривление восприятия. Именно это непрерывное принятие внутрь себя нашей собственной технологии в ходе повседневного ее использования помещает нас в роль Нарцисса, состоящую в подсознательном восприятии этих образов нас самих и оцепенении перед ними. Непрерывно заключая технологии в свои объятья, мы привязываем себя к ним как сервомеханизмы. Именно поэтому мы, чтобы вообще пользоваться этими объектами, должны служить им — этим расширениям нас самих — как богам или в некотором роде святыням. Индеец служит сервомеханизмом для своего каноэ, ковбой — для своей лошади, а руководящий работник — для своих часов.
С физиологической точки зрения, человек в ходе обычного применения технологии (то есть своего всевозможными способами расширенного тела) постоянно модифицируется ею и, в свою очередь, находит все новые и новые способы ее дальнейшего совершенствования. Человек превращается, так сказать, в органы размножения машинного мира — подобно пчеле, выполняющей подобную роль в растительном мире, — позволяющие ему размножаться и постоянно развивать все новые и новые формы. Машинный мир отвечает на любовь человека взаимностью, быстро исполняя его потребности и желания и обеспечивая его богатствами. Одной из заслуг мотивационных исследований[89] было открытие сексуального отношения человека к автомобилю.
С социальной точки зрения, именно накопление групповых давлений и раздражений способствует появлению изобретений и нововведений как контрраздражителей. Войну и страх перед войной всегда считали основными стимулами, толкающими нас к технологическому расширению наших тел. В сущности, даже обнесенный стеною город, как пишет в книге «Город в истории» Льюис Мэмфорд, является таким же расширением нашего кожного покрова, как дом и одежда. Период после вторжения является в технологическом плане даже еще более плодотворным, чем подготовка к войне, ибо поверженная культура должна приспособить все свои чувственные пропорции к влиянию вторгшейся культуры. Именно из такого интенсивного гибридного обмена и состязания идей и форм высвобождаются величайшие социальные энергии, и именно из них рождаются величайшие технологии. По оценке Бакминстера Фуллера,[90] с 1910 года государства мира потратили на производство самолетов 3,5 триллиона долларов. Это в 62 раза превышает нынешний мировой запас золота.
Вместе с электрической, а равно и любой другой технологией вступает в действие принцип оцепенения. Когда наша центральная нервная система расширяется и ставится под удар, мы вынуждены вводить ее в оцепенение, иначе мы умрем. Таким образом, эпоха тревоги и электрических средств является также эпохой бессознательного и апатии. Но, что удивительно, это вдобавок еще и эпоха осознания бессознательного. Со стратегическим погружением нашей центральной нервной системы в состояние оцепенения задачи осознания и сознательного упорядочения переносятся в физическую жизнь человека, вследствие чего он впервые сознает технологию как расширение своего физического тела. Очевидно, этого не могло случиться раньше, чем электрическая эпоха дала нам средства мгновенного, тотального осознания поля. С появлением такого осознания подсознательная жизнь — как частная, так и социальная — была выведена в поле всеобщего обозрения, и в итоге мы приобрели то «общественное сознание», которое представляется нам причиной гнетущего нас чувства вины. Экзистенциализм предлагает философию структур, вместо категорий, и тотального социального вовлечения, вместо буржуазного духа индивидуальной разобщенности и индивидуальных точек зрения. В электрическую эпоху мы носим на себе как свою кожу все человечество.
ГЛАВА 5. ГИБРИДНАЯ ЭНЕРГИЯ LES LIAISONS DANGEREUSES[91]
«Почти все время, сколько мы живем, в мире искусств и развлечений свирепствовала гражданская война… Кинокартины, грамзаписи, радио, говорящие картинки…» Такова точка зрения Дональда Макуинни, аналитика радиовещания. Большая часть этой гражданской войны, помимо всего прочего, оказывает воздействие на самые глубины нашей психической жизни, поскольку силы, ведущие эту войну, суть расширения и удлинения нас самих. В сущности, взаимодействие между средствами коммуникации — всего лишь иное название этой «гражданской войны», бушующей в нашем обществе, а вместе с тем и в наших душах. В народе говорят: «Для слепого все неожиданно». Скрещивания, или гибридные соединения средств коммуникации, высвобождают великую новую силу и энергию, сопоставимую с той, какая высвобождается при расщеплении ядра или термоядерном синтезе. И раз уж мы заметили, что здесь есть что наблюдать, то не должно быть более никакой слепоты в этом вопросе.
Ранее мы уже объяснили, что средства коммуникации, или расширения человека, являются силами, действующими «внезапно», а не «продуманно». Гибридизация, или соединение, этих сил открывает особенно благоприятную возможность для обнаружения их структурных компонентов и свойств. «Как немой фильм требовал звука, так и звуковой фильм требовал цвета», — писал в «3аписках кинорежиссера» Сергей Эйзенштейн. Такого рода наблюдение можно систематически перенести на все средства коммуникации. «Как печатный пресс требовал национализма, так и радио потребовало трайбализма». Эти средства коммуникации, будучи расширениями нас самих, зависят от нас и в своем взаимодействии и эволюции. То, что они взаимодействуют и плодят новое потомство, извечно было источником удивления. Но это не должно нас более озадачивать, коли мы взяли на себя труд исследовать в мельчайших подробностях их функционирование. Мы можем, когда на то есть наша воля, сначала выдумывать вещи, а только потом их выпускать.
Платон, при всем своем стремлении вообразить идеальную школу, так и не заметил, что Афины были более великой школой по сравнению с любым университетом, какой только мог ему пригрезиться. Иначе говоря, величайшая школа была создана на пользу людям прежде, чем была придумана. Особенно это верно для наших средств коммуникации. Они производятся задолго до того, как придумываются. Фактически, их вынесение за пределы нас самих обычно исключает возможность их обдумывания вообще.
Каждый знает, какое влияние оказывают на распорядок повседневного существования уголь, сталь и автомобили. В наше время наука обратилась, наконец, к изучению самого языка как средства коммуникации, придающего упорядоченную форму обыденной жизни, так что общество начинает выглядеть как лингвистическое эхо, или повторение языковых норм; и этот факт очень глубоко смутил русскую Коммунистическую партию. При ее, так сказать, обручении с промышленной технологией девятнадцатого века как базисом классового освобождения, ничто не могло стать для марксистской диалектики более губительным, чем идея, что языковое средство коммуникации определяет форму социального развития не меньше, чем средства производства.
Из всех великих гибридных союзов, питающих бурное высвобождение энергии и изменения, нет фактически ничего, что могло бы соперничать со встречей письменной и устной культур. Дар фонетической письменности, давшей человеку глаз вместо уха, в социальном и политическом плане является, вероятно, самым радикальным взрывом, какой только может случиться в социальной структуре. Этот взрыв глаза, часто повторяемый в «отсталых регионах», мы называем вестернизацией. Сегодня, когда началась гибридизация книжностью культур китайцев, индийцев и африканцев, нас ждет такой выброс человеческой энергии и агрессивного насилия, который заставит померкнуть всю прежнюю историю технологии фонетического алфавита.
Но это только восточная сторона истории,[92] ибо в настоящее время электрическое сжатие несет письменному Западу устную и племенную культуру уха. Теперь визуальному, специалистскому и фрагментированному человеку Запада не просто приходится жить в теснейшем повседневном соседстве со всеми древними устными культурами мира, но и его собственная электрическая технология начинает обратный перевод визуального, или глазного, человека в племенную и устную конфигурацию с ее цельносплетенной паутиной родства и взаимозависимости.
Из собственного прошлого нам известно, какая энергия, сопоставимая с энергией расщепления ядра, высвобождается, когда письменность взрывает племенную, или семейную общность. Но что мы знаем о тех социальных и психических энергиях, которые высвобождаются при электрическом синтезе, или взрыве вовнутрь, когда письменных индивидов неожиданно сжимает электромагнитное поле, как это происходит, например, в Европе под новым давлением Общего Рынка? Не будет ошибкой сказать, что интеграция людей, познавших индивидуализм и национализм, есть нечто иное, нежели распад «отсталых» и устных культур, только что столкнувшихся с индивидуализмом и национализмом. Это различие между атомной бомбой и водородной. Последняя намного разрушительнее. Более того, продукты электрического синтеза чрезвычайно сложны, тогда как продукты распада просты. Письменность создает гораздо более простые типы людей по сравнению с теми, которые развиваются в сложной паутине обычных племенных и устных обществ. Ибо фрагментированный человек создает гомогенизированный западный мир, тогда как устные общества состоят из людей дифференцированных, но дифференцированных не специалистскими навыками или видимыми признаками, а уникальными эмоциональными смешениями. Внутренний мир устного человека представляет собой сплетение сложных эмоций и чувств, которые практичный человек Запада давным-давно внутри себя разрушил или подавил в интересах эффективности и практичности.
Ближайшей перспективой письменного, фрагментированного человека Запада, столкнувшегося в собственной культуре с электрическим сжатием, является его неуклонное и быстрое превращение в сложную и глубинно структурированную личность, эмоционально сознающую свою тотальную взаимосвязь со всем остальным человеческим обществом. Представители старого западного индивидуализма — плохо это или хорошо — даже сейчас рядятся в обличье генерала Американского Лося,[93] сотворенного Элом Каппом,[94] или членов Общества Джона Берча,[95] противостоящих с прямо-таки племенным упорством всему племенному. В электрически конфигурированном и взорвавшемся внутрь обществе фрагментированный, письменный и визуальный индивидуализм невозможен. Что же нам делать? Отважиться ли встретить эти факты с открытым забралом, на сознательном уровне, или лучше припрятать и подавить такие вопросы до тех пор, пока какой-нибудь взрыв насилия не освободит нас окончательно от этого бремени? Ибо западному человеку участь интеграции и взаимозависимости кажется более ужасной, чем племенному — участь взрыва и независимости. Возможно, это просто проявление моего темперамента, но я нахожу некоторое облегчение уже в самом понимании и прояснении проблем. С другой стороны, поскольку способность осознания и понимания является, видимо, привилегией человека, то, может быть, желательно распространить это толкование и на наши скрытые конфликты, как частные, так и социальные?
Настоящая книга, в которой предпринимается попытка понять многие средства коммуникации, конфликты, из которых они проистекают, и даже еще более масштабные конфликты, которые ими порождаются, дает обещание ослабить эти конфликты за счет возрастания человеческой автономии. Бросим же взгляд на некоторые из последствии, вызываемых коммуникационными гибридами, или взаимопроникновением средств коммуникации.
Жизнь Пентагона чрезвычайно усложнилась вследствие появления реактивной авиации. Каждые несколько минут звучит сигнал сбора, отрывающий многих специалистов от рабочих столов, дабы они выслушали доклад эксперта из какого-нибудь отдаленного района мира. Тем временем на каждом столе растет гора несделанной бумажной работы. Кроме того, каждый отдел ежедневно посылает своих сотрудников самолетом в дальние регионы для сбора новых данных и подготовки новых отчетов. И скорость этого процесса, возникшего на пересечении реактивной авиации, устного доклада и пишущей машинки, такова, что люди, отправляясь в разные концы земного шара, часто прибывают туда, будучи неспособными даже произнести название того места, куда их послали в качестве экспертов. Льюис Кэрролл отмечал, что чем более подробными и детализированными становились крупномасштабные карты, тем больше они затрудняли ведение сельского хозяйства и вызывали недовольство фермеров. Но почему бы тогда не использовать действительную поверхность земли как карту самой себя? Такого же момента в сборе данных мы достигли, когда каждый кусочек жевательной резинки, оказывающийся в нашей досягаемости, дотошно регистрируется каким-нибудь компьютером, переводящим даже самый незначительный наш жест в новую кривую вероятности или какой-нибудь параметр социальной науки. Наша частная и корпоративная жизнь превратилась в информационные процессы, и это произошло потому, что мы вынесли свою центральную нервную систему вовне, в электрическую технологию. Это дает ключ к тому замешательству, в котором оказался профессор Бурстин[96] в книге «Образ, или что случилось с американской мечтой?»[97]
Электрический свет положил конец распорядку ночи и дня, пребывания дома и вне дома. Но именно в тот момент, когда свет сталкивается с уже существующими образцами человеческой организации, высвобождается гибридная энергия. Автомобили могут всю ночь напролет колесить по дорогам, футболисты могут всю ночь играть, а от зданий можно оставить только окна. Одним словом, сообщением электрического света является тотальное изменение. Это чистая информация без всякого содержания, которое бы ограничивало его трансформирующую и информирующую силу.
Стоит исследователю средств коммуникации хотя бы элементарно задуматься над способностью этого средства, электрического света, трансформировать любую структуру времени, пространства, работы и общества, в которую он проникает или с которой он соприкасается, и в его руках появится ключ к заключенной во всех средствах коммуникации способности переупорядочивать каждую жизнь, к которой они прикасаются. За исключением света, все средства коммуникации существуют парами, когда одно выступает в качестве «содержания» другого, и это скрывает от наших глаз функционирование их обоих.
Специфической склонностью тех, кто оперирует средствами коммуникации вместо их владельцев, является озабоченность содержательным наполнением радио, прессы или фильма. Сами владельцы более озабочены средствами коммуникации как таковыми и не склонны выходить за рамки того, «чего хочет публика», или какой-то иной туманной формулы. Владельцы сознают средства коммуникации как власть и знают, что эта власть почти никак не связана с «содержанием» средств коммуникации, или с заключенными внутри них другими средствами коммуникации.
Когда пресса открыла клавиатуру «человеческого интереса» после того, как телеграф переструктурировал это средство коммуникации, газета погубила театр, и точно так же телевидение наносит сокрушительный удар по кино и ночным клубам. Джорджу Бернарду Шоу хватило смекалки и воображения, чтобы ответить ударом на удар. Он поместил прессу в театр, перенеся противоречия и мир человеческих интересов из прессы на театральную сцену, так же, как это сделал в отношении романа Диккенс. Кино вобрало в себя и роман, и газету, и сцену — все сразу. Потом в кино просочилось телевидение, возвратив публике круглый театр.[98] О чем здесь идет речь, так это о том, что средства коммуникации как расширения наших чувств, взаимодействуя друг с другом, устанавливают новые пропорции, причем не только между нашими частными чувствами, но и между собой. Радио изменило форму новостей настолько же значительно, как и экранный образ звукового кино. Телевидение вызвало радикальные перемены в содержании радиопрограмм и в форме вещного, или документального, романа.
Поэты и художники мгновенно реагируют на появление нового средства коммуникации, как, например, радио или телевидения. Радио, граммофон и магнитофон вернули нам голос поэта как важное измерение поэтического опыта. Слова стали своего рода рисованием светом. Телевидение же своей моделью глубокого участия внезапно побудило молодых поэтов читать свои стихи в кафе, общественных парках, да и вообще где угодно. После появления телевидения они неожиданно почувствовали потребность в личном контакте с аудиторией. (В ориентированном-на-печать Торонто чтение поэтических опусов в общественных парках является нарушением общественного порядка. Как в последнее время открыли для себя многие молодые поэты, здесь разрешены религия и политика, но не поэзия.)
В книжном обозрении газеты «Нью-Йорк Таймс» от 27 ноября 1955 г. романист Джон О'Хара[99] писал:
«Вы получаете от книги огромное удовольствие. Вы знаете, что ваш читатель попадает в плен этих страниц, но как романист вы должны представлять, какое удовлетворение получает от этого он. Так вот, в театре, куда я имел обыкновение заглядывать во время обеих постановок моего «Пэл Джоуи»,[100] я вижу, а не просто представляю в воображении, как люди наслаждаются спектаклем. И я охотно приступил бы к моему следующему роману — о небольшом городке — прямо сейчас, но мне нужно отвлечься пьесой».
В наше время люди искусства способны компоновать свой рацион средств коммуникации так же легко, как и рацион чтения. Такой поэт, как Йейтс, максимально использовал в создании своих литературных эффектов устную крестьянскую культуру. Элиот[101] уже давно произвел фурор точным использованием джазовой и кинематографической формы. «Песнь любви Дж. Альфреда Пруфрока»[102] черпает немалую часть своей художественной силы во взаимопроникновении кинематографической формы и джазовой идиомы. Однако наибольшей силы эта смесь достигла в «Бесплодной земле» и «Суини-агонисте».[103] В «Пруфроке» используется не только кинематографическая форма, но и кинематографическая тема Чарли Чаплина, которую использовал также Джеймс Джойс в «Улиссе». Джойсовский Блум[104] — намеренное заимствование у Чаплина («Чорни Чоплейна»,[105] как Джойс назвал его в «Поминках по Финнегану»). Чаплин, подобно Шопену, адаптировавшему к балетному стилю фортепиано, наткнулся на невиданную смесь таких средств коммуникации, как балет и фильм, разработав чередование экстаза и ходьбы вразвалочку а-ля Павлова. Он приспособил классические балетные па к кинематографической пантомиме, что весьма близко к той здоровой смеси лирики и иронии, которая обнаруживается в «Пруфроке» и «Улиссе». Художники, работающие в различных областях искусства, всегда становятся первыми в открытии того, как позволить тому или иному средству коммуникации воспользоваться силой другого или высвободить ее. В более простой форме эта техника используется Шарлем Буайе[106] в его своеобразной франко-английской смеси изысканного гортанного бреда.
Печатная книга побудила художников к максимально возможному сведению всех форм экспрессии в единственную описательно-нарративную плоскость печатного слова. Пришествие электрических средств мгновенно вызволило искусство из этой смирительной рубашки, создав мир Пауля Клее,[107] Пикассо, Брака,[108] Эйзенштейна, братьев Маркс[109] и Джеймса Джойса.
Заголовок в книжном обозрении «Нью-Йорк Таймс» (16 сентября 1962 г.) заливается жизнерадостной трелью: «Ничто не приводит Голливуд в такой восторг, как бестселлер». Разумеется, кинозвезд в наши дни может выманить с пляжей, из клубов любителей научной фантастики или с каких-нибудь курсов самосовершенствования только культурный соблазн получить роль в известной книге. Именно так взаимодействие средств коммуникации воздействует ныне на многих обитателей этой киноколонии. Свои проблемы, связанные со средствами коммуникации, они понимают не лучше, чем обитатели Медисон-авеню.[110] Однако с точки зрения владельцев кино и родственных средств коммуникации, бестселлер — это форма, гарантирующая, что в душе публики обособился какой-то массивный новый гештальт, или паттерн. Это та нефтяная скважина или золотая жила, на которую вполне может положиться осторожный и благоразумный кинопродюсер, когда нужно загрести приличную сумму денег. Иначе говоря, голливудские банкиры гораздо расторопнее литературных историков, ибо последние ни во что не ставят массовые вкусы, если только те не пропущены сквозь фильтр лекционного курса и не превращены в письменный учебник.
Лилиан Росс[111] в книге «Картина»[112] дала насквозь фальшивое описание съемки фильма «Алый знак доблести».[113] Она получила кучу легких наград за глупую книгу о великом фильме просто в силу предположения о превосходстве литературного средства коммуникации над таким средством, как кино. Ее книга привлекла много внимания именно как гибрид.
Агата Кристи намного превзошла саму себя в сборнике из двенадцати коротких рассказов об Эркюле Пуаро, названном «Труды Эркюля».[114] Приспособив классические сюжеты к нашему времени и проведя убедительные современные параллели, она сумела поднять детективную форму до уровня необычайной интенсивности.
Тем же методом воспользовался Джеймс Джойс в «Дублинцах» и «Улиссе», где точные классические параллели создали поистине гибридную энергию. Бодлер, как говорил мистер Элиот, «научил нас доводить обыденную образность до высшей интенсивности». И делается это не за счет какого-то непосредственного взрыва поэтической энергии, а путем простого соединения в гибридной форме ситуаций из одной культуры с ситуациями из другой. Именно так новое культурное смешение во время войн и миграций становится нормой обычной повседневной жизни. Системные исследования программируют гибридный принцип как метод творческого открытия.
Когда форма киносценария была применена к тематической статье, журнальный мир открыл для себя гибрид, положивший конец господству короткой статьи. Когда колеса были соединены в тандемную форму, колесный принцип в сочетании с линейным типографическим принципом создал аэродинамическое равновесие. Колесо, скрестившись с промышленной линейной формой, разродилось новой формой аэроплана.
Гибридное смешение, или встреча, двух средств коммуникации — момент истины и откровения, из которого рождается новая форма. Ибо проведение параллели между двумя средствами коммуникации удерживает нас на границах между формами, и это вырывает нас из объятий Нарцисса-наркоза. Момент встречи средств коммуникации — это момент свободы и вызволения из обыденного транса и оцепенения, которые были навязаны этими средствами нашим органам чувств.
ГЛАВА 6. ПОСРЕДНИКИ КАК ПЕРЕВОДЧИКИ[115]
Для психиатров была загадкой склонность детей-невротиков утрачивать невротические симптомы во время разговоров по телефону. Некоторые заики, переключаясь на иностранный язык, перестают заикаться. То, что технологии суть способы перевода одного рода знания в другой, выразил Лайман Брисон,[116] сказав, что «технология — это эксплицитность». Перевод представляет собой, стало быть, «эксплицирование» форм знания через их «выговаривание вовне». То, что мы называем «механизацией», есть перевод внешней природы и наших внутренних природ в детализированные и специализированные формы. Таким образом, язвительный пассаж из «Поминок по Финнегану»: «То, что вчера делала птица, на следующий год может сделать и человек», — является строго буквальным замечанием о маршрутах развития технологии. Было подмечено, что способность к созданию технологии, базирующейся на поочередном схватывании и отпускании с целью увеличения радиуса действия, присуща уже высокоразвитым древесным обезьянам и отличает их от обезьян, обитающих на земле. Элиас Канетти вполне уместно связал эту способность высших обезьян к схватыванию и отпусканию со стратегией биржевиков, спекулирующих на рынке ценных бумаг. Все это можно сжато выразить, переложив на популярный язык слова Роберта Браунинга:[117] «Зона досягаемости у человека должна простираться дальше того, что можно достать рукой, а что же это еще, как не метафора?» Все средства коммуникации, будучи способными переводить опыт в новые формы, являются действующими метафорами. Устное слово было первой технологией, благодаря которой человек смог выпустить из рук свою среду с тем, чтобы схватить ее по-новому. Слова — своего рода восстановление информации, которое протекает с высокой скоростью и может охватить собой всю среду и весь опыт. Слова — это сложные системы метафор и символов, переводящих опыт в наши выговариваемые, или выносимые вовне, чувства. Это технологии эксплицитности. Благодаря переводу непосредственного чувственного опыта в голосовые символы можно в любое мгновение пробудить и восстановить из памяти весь мир.
В нашу электрическую эпоху мы видим себя все более и более переводимыми в форму информации и идущими в сторону технологического расширения сознания. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что каждый день все больше и больше познаем человека. Мы имеем в виду, что можем переводить все большую и большую часть самих себя в иные формы выражения, превосходящие нас самих. Человек есть форма выражения, от которой по традиции ожидают, что она будет повторением самой себя и звуковым отражением восхваления своего Творца. «Молитва, — говорил Джордж Герберт,[118] — это гром, звучащий задом наперед». Человек наделен могуществом отразить Божественный гром с помощью вербального перевода.
Помещая с помощью электрических средств коммуникации свои физические тела в свои вынесенные наружу нервные системы, мы приводим в действие динамический процесс, в ходе которого все прежние технологии, являющиеся просто-напросто расширениями рук, ступней, зубов и механизмов поддержания температуры тела — все эти расширения наших тел, включая города, — будут переведены в информационные системы. Электромагнитная технология требует от человека полной покорности и созерцательного спокойствия, и это дает преимущества организму, носящему теперь свой мозг за пределами черепной коробки, а нервы — за пределами кожного покрова. Человек должен служить своей электрической технологии с такой же сервомеханической преданностью, с какой он прежде служил своей рыбачьей лодке, своему каноэ, своей типографии и всем прочим расширениям своих физических органов. Но есть и одно отличие, состоящее в том, что прежние технологии были частичными и фрагментарными, тогда как электрическая — тотальна и инклюзивна. Внешний консенсус (или совесть) становится теперь столь же необходимым, как и частное сознание. Между тем, с новыми средствами коммуникации открывается также возможность все сохранять и переводить; что касается скорости, то тут нет никакой проблемы. По эту сторону светового барьера никакое дальнейшее ускорение уже невозможно. Когда нарастают уровни информации в физике и химии, появляется возможность использовать все что угодно в качестве топлива, сырья или строительного материала; и точно так же с пришествием электрической технологии появляется возможность превращения всех материальных вещей в материальные товары с помощью информационных цепей, внедренных в те органические образцы, которые мы называем «автоматизацией» и информационным поиском. При электрической технологии задачи человека полностью сводятся к обучению и познанию. В рамках того, что мы все еще продолжаем именовать «экономикой» (данное греческое слово обозначало домашнее хозяйство), это означает, что все формы занятости превращаются в «оплачиваемое обучение», а все формы богатства создаются движением информации. Проблема нахождения родов занятий и профессий может оказаться настолько же сложной, насколько легко достается богатство. Долгую революцию, в ходе которой люди пытались перевести природу в искусство, мы с давних пор называли «прикладным познанием». «Прикладное» значит переведенное, или перенесенное из одной материальной формы в другую. Тем, кого интересует этот удивительный процесс прикладного познания в западной цивилизации, даст богатую пищу для размышлений комедия Шекспира «Как вам это понравится». Его Арденский лес и есть тот самый золотой мир переведенных благ и необремененности трудом, в который мы в настоящее время входим через ворота электрической автоматизации.
Может даже закрасться подозрение — но не более того, — что Шекспир понимал Арденский лес как предварительную модель эпохи автоматизации, когда все вещи становятся переводимы во что угодно, во что только пожелаешь:
Находит наша жизнь вдали от света В деревьях — речь, в ручье текущем — книгу И проповедь — в камнях, и всюду — благо. Я б не сменил ее. АМЬЕН: Вы, ваша светлость, Так счастливо переводить способны На кроткий, ясный лад судьбы суровость. Как вам это понравится, II, i. 15–21[119]Шекспир говорит о мире, где с помощью своего рода программирования можно воспроизводить материалы природного мира на самых различных уровнях и в самых разных степенях стилистической интенсивности. Мы близки к тому, чтобы осуществить это в самом широком масштабе, на этот раз с помощью электроники. Здесь кроется образ золотого века как века завершенной метаморфозы, или окончательного перевода природы в человеческое искусство, в который неуклонно ведет нас наша электрическая эпоха. Поэт Стефан Малларме думал, что «весь мир от начала и до конца существует в книге». Теперь мы в состоянии пойти еще дальше и перенести все это шоу в память компьютера. Ведь, как заметил Джулиан Хаксли,[120] человек, в отличие от чисто биологических тварей, обладает особым аппаратом передачи и трансформации, основанным на способности сохранять опыт. А его способность сохранять опыт, например в языке, является также и средством трансформации этого опыта:
«Те жемчужины, коими были его глаза».
Наша проблема может уподобиться проблеме слушателя, позвонившего по телефону на радиостанцию: «Это та самая станция, которая в два раза чаще передает погоду? Выключите ее немедленно. Я тону».
Либо мы можем вернуться в состояние племенного человека, для которого средствами «прикладного познания» служат магические ритуалы. Вместо переведения природы в искусство бесписьменный туземец пытается наполнить природу духовной энергией.
Ключ к некоторым из этих проблем содержится, возможно, в той идее Фрейда, что если нам не удается перевести какое-то естественное событие или переживание в сознательное искусство, мы его «вытесняем». Помимо прочего, именно этот механизм служит введению нас в оцепенение в присутствии тех расширений нас самих, коими являются изучаемые в этой книге средства коммуникации. Ибо средства коммуникации, как и метафора, трансформируют и передают опыт. Когда мы говорим: «Простите, приду как-нибудь в другой раз», — мы переводим приглашение в гости в форму спортивного события,[121] возвышающую принятое по такому случаю сожаление до емкого образа спонтанного огорчения: «Ваше приглашение вовсе не из тех случайных жестов, от которых я должен отмахнуться. Оно заставляет меня ощутить невыносимое разочарование, какое возникает при отмене футбольного матча». Как и во всех метафорах, здесь присутствуют сложные соотношения между четырьмя частями: «Ваше приглашение относится к обычным приглашениям так же, как футбольные матчи к обычной социальной жизни». Именно так, видя один набор отношений через призму другого, мы сохраняем и усложняем опыт в таких, например, формах, как деньги. Ибо деньги — это тоже метафора. И все средства коммуникации как расширения нас самих служат обеспечению новых преобразований зрения и осознания. «Но среди всех видов речи, — говорит Бэкон, — одна только Эхо оказывается вполне достойной быть супругой Пана, или мира. Ведь именно та философия является подлинной, которая самым тщательнейшим и верным образом передает его собственные слова…»[122]
Сегодня Mark И[123] только и ждет сигнала, чтобы приступить к переводу шедевров литературы с любого одного языка на любой другой, выдавая, к примеру, такие слова русского критика о Толстом: «War and World (peace… But nonetheless culture not stands) costs on place Something translate. Something print» [ «Война и Мир (мир… Но, тем не менее, культура не стоит) стоит на месте. Что-то переводить. Что-то печатать»].[124]
Само наше слово «grasp», или «apprehension» (схватывание, постижение, уразумение) указывает на процесс постижения одной вещи через другую, одновременного обращения со многими аспектами и одновременного их восприятия посредством нескольких чувств сразу. Становится очевидным, что «осязательный контакт» — не кожа, а взаимодействие чувств. «Ощупывание» или «нащупывание» — результат плодотворной встречи чувств: внешнего облика, переведенного в звук, звука, переведенного в движение, вкуса и запаха. «Здравый смысл» на протяжении многих столетий считали особой человеческой способностью переводить какое-то переживание из одного чувства во все другие и постоянно преподносить разуму результат в виде единого образа.[125]
Фактически, этот образ унифицированной пропорции между чувствами долгое время считался признаком нашей рациональности,[126] и в компьютерную эпоху он легко может стать таковым снова. Ибо теперь появилась возможность программировать такие пропорции между чувствами, которые приближаются к состоянию сознания. И все же такое состояние неизбежно будет расширением нашего собственного сознания в такой же степени, как колесо — расширением находящейся во вращательном движении ступни. Расширив, или переведя, нашу центральную нервную систему в электромагнитную технологию, оно будет всего лишь еще одной ступенью в переносе нашего сознания в компьютерный мир. Когда это случится, мы, по крайней мере, сможем программировать сознание с такой мудростью, чтобы его уже не могли привести в оцепенение или отвлечь Нарциссовы иллюзии мира развлечений, осаждающие со всех сторон человека, когда он сталкивается с самим собой, расширенным в собственные хитроумные штучки.
Если работа города состоит в переделке, или переводе, человека в более подходящую форму по сравнению с той, которой достигли его кочевые предки, то не может ли нынешний перевод всей нашей жизни в духовную форму информации превратить весь земной шар и весь род человеческий в единое сознание?
ГЛАВА 7. ВЫЗОВ И КОЛЛАПС НЕМЕЗИС КРЕАТИВНОСТИ[127]
Бертран Рассел оповестил, что великим открытием двадцатого века стала техника подвешенного суждения (suspended judgement). А. Н. Уайтхед, в свою очередь, пояснил, что великим открытием девятнадцатого века было открытие самого метода открытия.[128] Суть его состояла в следующем: сначала берется вещь, которую нужно изобрести, после чего она разрабатывается в обратном порядке, шаг за шагом — как на конвейерной линии, — вплоть до того момента, с которого необходимо начать, чтобы достичь желаемой цели. В искусствах это значило брать за исходную точку искомый эффект, а далее придумывать стихотворение, живописное полотно или здание, которое произвело бы именно этот эффект, и никакой другой.
«Техника подвешенного суждения» идет дальше. Она предвосхищает воздействие — скажем, несчастливого детства на взрослого человека, — и смягчает его, прежде чем оно произойдет. В психиатрии это техника тотального попустительства, нашедшая широкое применение как анестетическое средство для души на тот период, пока происходит систематическое устранение различных привязанностей и моральных следствий ложных суждений.
Это совершенно отличается от парализующего, или наркотического воздействия новой технологии, которая убаюкивает внимание, пока новая форма ломится в двери суждения и восприятия. Ведь для внедрения новой технологии в групповую душу нужна обширная социальная хирургия, и достигается это с помощью рассмотренного нами ранее встроенного аппарата оцепенения. Теперь «техника подвешенного суждения» дает возможность отказаться от наркотика и отложить операцию внедрения новой технологии в социальную душу на неопределенное будущее. Впереди же нас ждет новое равновесие.
Вернер Гейзенберг в работе «Физическое объяснение природы»[129] дает нам пример квантового физика нового склада, которого целостное осознание форм приводит к мысли, что лучше бы от большинства из них держаться подальше. Он отмечает, что техническое изменение преобразует не только жизненные привычки, но и образцы мышления и оценивания, одобрительно ссылаясь при этом на точку зрения, выраженную в китайской притче:
«Странствуя, Цзыгун дошел на юге до [царства] Чу и возвращался в Цзинь. Проходя севернее [реки] Хань, заметил Огородника, который копал канавки для грядок и поливал [их], лазая в колодец с большим глиняным кувшином. Хлопотал, расходуя много сил, а достигал малого. Цзыгун сказал:
— [Ведь] здесь есть машина, [которая] за один день поливает сотню грядок. Сил расходуется мало, а достигается многое. Не пожелает ли учитель [ее испытать]?
— Какая она? — подняв голову, спросил Огородник.
— Выдалбливают ее из деревянных досок, заднюю часть — потяжелее, переднюю — полегче. [Она] несет воду, [точно] накачивая, будто кипящий суп. Называется водочерпалкой. Огородник от гнева изменился в лице и, усмехнувшись, ответил:
— Я не применяю [ее] не оттого, что не знаю, [я] стыжусь [ее применять]. От своего учителя я слышал: "У того, кто применяет машину, дела идут механически, у того, чьи дела идут механически, сердце становится механическим. Тот, у кого в груди механическое сердце, утрачивает целостность чистой простоты. Кто утратил целостность чистой простоты, тот не утвердился в жизни разума. Того, кто не утвердился в жизни разума, не станет поддерживать путь"».[130]
Самое интересное в этом анекдоте, пожалуй, то, что он находит отклик у современного физика. Он не нашел бы отклика у Ньютона или Адама Смита, ведь они были великими знатоками и поборниками фрагментарных и специалистских подходов. Между тем, с позицией, выраженной в этой китайской притче, вполне согласуется работа Ганса Селье, разрабатывающего «стрессовую» теорию болезни. В 20-е годы его озадачило, почему врачи, по-видимому, всегда сосредоточивают внимание на выявлении отдельных болезней и конкретных средств лечения, предназначенных для таких изолированных случаев, не уделяя никакого внимания «синдрому недомогания как таковому». Те, кто занимается программным «содержанием» средств коммуникации, а не самим по себе средством коммуникации, оказываются в положении врачей, игнорирующих «синдром недомогания как таковой». Разработав целостный, интегральный подход к сфере недомогания, Ганс Селье положил начало тому, что нашло дальнейшее продолжение в книге Адольфа Йонаса «Раздражение и контрраздражение»,[131] а именно — поиску общей реакции на повреждение как таковое, на всякого рода новое воздействие. Сегодня мы располагаем обезболивающими средствами, позволяющими нам совершать друг над другом самые ужасные физические операции.
Новые средства и технологии, посредством которых мы расширяем и выносим себя вовне, составляют в совокупности колоссальную коллективную хирургическую операцию, проводимую на социальном теле при полном пренебрежении к антисептикам. Когда возникает потребность в той или иной операции, следует принимать во внимание неизбежность того, что во время операции заражается вся система. Ведь наибольшему воздействию при оперировании общества новой технологией подвергается отнюдь не надрезанная область. Область надреза и прямого воздействия нечувствительна. Изменению подвергается вся система. Воздействие радио является визуальным, воздействие фотографии — слуховым. Каждое новое давление вызывает сдвиги в пропорциях между всеми чувствами. Что мы ищем сегодня, так это средство контроля над этими сдвигами в чувственных пропорциях психического и социального мировосприятия либо средство избежания этих сдвигов вообще. Болеть без симптомов значит обладать иммунитетом. Еще ни одно общество не обладало достаточными знаниями о своих действиях, чтобы развить иммунитет к своим новым расширениям, или технологиям. Сегодня у нас возникло ощущение, что, может быть, такой иммунитет способно обеспечить искусство.
Во всей истории человеческой культуры не сыскать примера осознанного приспособления различных факторов личной и социальной жизни к новым расширениям, за исключением жалких и периферийных усилий художников. Художник улавливает смысл культурного и технологического прорыва за десятилетия до того, как реально проявляется его трансформирующее влияние. Он строит модели, или Ноевы ковчеги, для встречи грядущего изменения. «В войне 1870 года не было бы ни малейшей необходимости, если бы люди прочли мое "Сентиментальное воспитание"», — говорил Гюстав Флобер.
Именно этот аспект нового искусства Кеннет Гэлбрейт советует тщательно изучать бизнесменам, желающим удержаться на плаву. Ибо в электрическую эпоху нет более смысла в разговорах о том, что художник идет впереди своего времени. Наша технология тоже идет впереди своего времени, надо лишь суметь увидеть в ней именно то, чем она является. Теперь, чтобы не допустить чрезмерной катастрофы в обществе, художник склонен покинуть башню из слоновой кости, дабы переместиться в башню управления обществом. В точности как высшее образование в электрическую эпоху перестало быть предметом роскоши и декора и превратилось в суровую производственную и операциональную необходимость, так и в определении, анализе и понимании жизни форм и структур, созданных электрической технологией, теперь никак не обойтись без художника.
Потрясенные жертвы новой технологии неизменно бормотали расхожие клише о непрактичности художников и их склонности к фантазированию. Однако в последнее столетие появилось общее признание того, что, по словам Уиндхема Льюиса, «художник всегда занят написанием подробной истории будущего, ибо только он один сознает природу настоящего». Знание этого простого факта стало теперь необходимым условием человеческого выживания. Способность художника уклоняться во все времена от лобового удара новой технологии и с полным знанием дела парировать такого рода насилие — стара как мир. В равной степени стара как мир и неспособность потрясенных жертв, не умеющих увернуться от нового насилия, признать свою потребность в художнике. Вознаграждение и прославление художников может, со своей стороны, стать способом игнорирования их пророческой работы и недопущения ее своевременного использования для выживания. Художник — это человек, который в любой области, будь то научной или гуманистической, уже сейчас сознает последствия своих действий и нового знания. Это человек с интегральным сознанием.
Художник может скорректировать чувственные пропорции прежде, чем удар новой технологии парализует процедуры осознания. Он может поправить их прежде, чем начнутся оцепенение, подспудные метания и реакция. Но ежели это так, то как донести это до тех, кто в силу своего положения способен в связи с этим что-то предпринять? Если бы этот анализ хоть отдаленно был близок к истине, он гарантировал бы глобальное перемирие и период переоценки ценностей. Если художник и в самом деле владеет средствами, позволяющими предвосхитить последствия технологической травмы и избежать их, то как нам отнестись к миру «ценителей искусства» и его бюрократии? Не покажется ли, того гляди, преступным заговором, если мы сделаем художника ненужным украшением, бездельником или милтауном?[132] Если бы удалось убедить людей в том, что искусство является точным заблаговременным знанием того, как можно справиться с психическими и социальными последствиями очередной технологии, то разве не стали бы все как один художниками? Разве не приступили бы к кропотливому переводу новых художественных форм в социальные навигационные карты? Интересно знать, что произошло бы, если бы вдруг в искусстве увидели то, что оно есть на самом деле, а именно, точную информацию о том, как следует перестроить собственную душу, чтобы вовремя предупредить очередной удар со стороны наших собственных расширенных способностей. Перестанем ли мы наконец смотреть на произведения искусства так, как смотрит обычно путешественник на золото и самоцветы, используемые в качестве украшений простыми бесписьменными народами?
Как бы то ни было, в экспериментальном искусстве людям даются точные детализации того насилия, которое грядет в отношении их душ со стороны их собственных контрраздражителей, или технологий. Ибо те части нас самих, которые мы исторгаем из себя наружу в форме новых изобретений, представляют собой попытки уравновесить или нейтрализовать коллективные давления и раздражения. Однако обычно контрраздражитель оказывается для нас еще большим бедствием, чем исходный раздражитель, подобно тому, как это происходит при привыкании к наркотику. И именно здесь художник может показать нам, как «увернуться от удара» вместо того, чтобы «подставлять под него свою челюсть». Можно лишь еще разок повторить, что вся человеческая история — это летопись «подставления под удар своей челюсти».
Эмиль Дюркгейм уже давно высказал идею, что специализированная задача всегда ускользает от контроля социальной совести. В этом отношении, казалось бы, художник и есть социальная совесть, и к нему соответствующим образом надо относиться! «У нас нет искусства, — говорят балийцы. — Просто мы стараемся делать все как можно лучше».
Сегодня современный метрополис беспомощно расползается вширь под влиянием автомобиля. Пригород и город-сад как ответ на вызов железнодорожных скоростей появились очень поздно, но в тот самый момент, когда они должны были стать для автомобиля катастрофой. Ибо распределение функций, приспособленное к одному набору интенсивностей, становится невыносимым при иной интенсивности. И технологическое расширение наших тел, призванное смягчить физический стресс, может вызвать стресс психический, а это может быть для нас гораздо хуже. Западная специалистская технология, перенесенная в арабский мир в эпоху позднего Рима, привела к яростному выбросу племенной энергии.
Хитроумные средства диагностики, которые приходится применять, чтобы уловить актуальную форму и влияние нового средства коммуникации, не очень-то отличаются от тех, которые описываются в детективной прозе Питера Чейни. В книге «Перемен не удержать»[133] он писал:
«Для Каллагана это было всего лишь скопище людей, некоторые из которых — все — давали неправильную информацию или откровенно лгали, либо потому что обстоятельства принудили их к этому, либо потому что они случайно оказались вовлечены в этот процесс.
Но уже само то, что им приходилось говорить ложь, приходилось производить ложное впечатление, делало неизбежной переориентацию их личных точек зрения, да и всей их жизни. Рано или поздно они изматывались или теряли осторожность. И вот тогда, но никак не раньше, следователь мог нащупать тот единственный факт, который привел бы его к возможному логическому решению».
Интересно отметить, что успеха в поддержании привычной респектабельной наружности можно достичь лишь ценой неистовой схватки по ту сторону фасада. После преступления, после того, как обрушился удар судьбы, привычный фасад может быть сохранен лишь при помощи быстрого переупорядочения всех точек опоры. Точно так же обстоит дело в нашей общественной жизни, когда на нас обрушивается удар новой технологии, и в нашей частной жизни, когда в нее вторгается какой-нибудь интенсивный — а следовательно, трудно перевариваемый — опыт, и сразу же вступает в действие цензура, делающая нас нечувствительными к данному удару и способными ассимилировать вторгшееся инородное влияние. Наблюдения Питера Чейни насчет модели детективного романа — еще один пример популярной формы развлечения, функционирующей в качестве модели, имитирующей нечто вполне реальное.
Пожалуй, самым очевидным «замыканием», или психическим следствием, любой новой технологии является именно спрос на нее. Ни у кого не возникает потребности в автомобиле, пока автомобилей нет, и никого не интересует телевидение, пока не появятся телевизионные программы. Эта способность технологии создавать собственный мир спроса неотрывна от того, что технология есть прежде всего расширение наших тел и чувств. Когда мы лишаемся зрения, роль зрения берут на себя в некоторой степени другие чувства. Между тем, потребность в использовании чувств, которыми мы располагаем, столь же настоятельна, как и потребность дышать; и этот факт придает смысл настоятельной потребности более или менее постоянно иметь при себе радио и телевизор. Побуждение к постоянному пользованию никак не зависит от «содержания» общественных программ или частной чувственной жизни, и это свидетельство того, что технология — часть наших тел. Электрическая технология напрямую связана с нашими центральными нервными системами, а потому нелепы всякие разговоры о том, что «то, чего хочет публика» играет ей на нервах. Это все равно что спрашивать людей, какого рода виды и звуки они предпочли бы видеть и слышать вокруг себя в городской метрополии! Как только мы отдали свои чувства и нервные системы в плен частному манипулированию тех, кто должен пытаться извлечь выгоду из аренды наших глаз, ушей и нервов, у нас реально не остается больше никаких прав. Отдать в аренду коммерческим интересам свои глаза, уши и нервы — это почти то же самое, что передать в собственность какой-нибудь частной корпорации нашу общую речь или отдать в монопольное пользование какой-нибудь компании атмосферу земли. Нечто подобное уже произошло с открытым космосом, причем по тем же самым причинам, по которым мы сдали в аренду различным корпорациям свои центральные нервные системы. Пока мы продолжаем принимать Нарциссову установку, рассматривая расширения наших тел как нечто реально внешнее по отношению к нам и реально от нас не зависящее, мы будем встречать таким же поскальзыванием на банановой кожуре и коллапсами все технологические вызовы.
Архимед как-то сказал: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю». Сегодня он ткнул бы пальцем в наши электрические средства коммуникации и сказал: «Я обопрусь на ваши глаза, уши, нервы и мозг, и мир будет вертеться в любом ритме и на любой манер, как только я пожелаю». Эти «точки опоры» мы и сдали в аренду частным корпорациям.
Арнольд Тойнби посвятил немалую часть своего труда «Постижение истории» анализу вызовов, с которыми пришлось столкнуться на протяжении многих веков самым разным культурам. К западному человеку в высшей степени подходит предложенное Тойнби объяснение того, как в обществе активных воинов реагируют на свои увечья хромые и калеки. Они становятся специалистами, подобно Вулкану, бывшему кузнецом и оружейником. А как ведут себя целые сообщества, когда их завоевывают и порабощают? На службу им приходит та же стратегия, которой придерживается в обществе воинов хромой человек. Они начинают специализироваться на чем-то и становятся для своих господ незаменимыми. Вероятно, именно долгая человеческая история порабощения и впадения в специализм как контрраздражитель наложила на фигуру специалиста клеймо услужливости и малодушия — клеймо, которое он носит на себе до сих пор. Капитуляция западного человека перед собственной технологией с ее развившимися до наивысшей точки специализированными требованиями всегда казалась многим наблюдателям нашего мира своего рода порабощением. Однако, в отличие от сознательной стратегии специализации, принимаемой пленниками завоевателей, тут складывающаяся в итоге фрагментация была добровольной и исполненной воодушевления.
Ясно, что фрагментация, или специализм, как техника достижения безопасности в условиях всевозможного рода тирании и угнетения несет в себе опасность. Идеальное приспособление к любой среде достигается путем тотального перенаправления энергий и жизненных сил на то или иное статичное состояние существа. Даже малейшие изменения в среде застают очень хорошо приспособленных в таком состоянии, когда у них нет ресурсов для того, чтобы встретить новый вызов. В любом обществе в таком незавидном положении находятся глашатаи «конвенциональной мудрости». Их безопасность и статус опираются полностью на одну-единственную форму приобретенного знания, а потому нововведение означает для них не новшество, а уничтожение.
Родственной формой вызова, с которой всегда сталкивались культуры, является простой факт наличия границы или стены, по ту сторону которой существует другой тип общества. Само существование бок о бок двух форм организации порождает немалую напряженность. На этом, по сути, и строились символистские художественные структуры прошедшего столетия. Тойнби отмечает, что вызов цивилизации, располагающейся бок о бок с племенным обществом, снова и снова демонстрировал, что вся экономика в целом и все институты более простого общества оказываются «дезинтегрированы дождем психической энергии, порожденным цивилизацией» более сложной культуры. Когда рядом сосуществуют два общества, психический вызов более сложного из них воздействует на более простое в форме взрывного выброса энергии. Чтобы получить исчерпывающие данные по этому вопросу, не нужно далеко ходить. Достаточно взглянуть на повседневную жизнь тинэйджера, живущего в пучине сложного городского центра. Как варвара контакт с цивилизацией привел в неистовую подвижность, разразившуюся в массовую миграцию, так и тинэйджер, вынужденный участвовать в жизни города, неспособного принять его в качестве взрослого, впадает в «беспричинный бунт». Прежде подростку давалась надежда на будущее. Он был подготовлен к тому, чтобы ждать своего шанса. Но с тех пор, как появилось телевидение, порыв к участию положил конец отрочеству, и в каждом американском доме выросла своя Берлинская стена.
Тойнби щедро снабжает нас примерами самых разных форм вызова и коллапса и особенно склонен указывать на частое и тщетное бегство в футуризм или архаизм как стратегии встречи с радикальным изменением. Указывать на былые дни конских экипажей или грядущее пришествие антигравитационных средств передвижения не есть адекватная реакция на вызов, брошенный автомобилем. Между тем, этими двумя стандартными способами заглядывания назад и вперед привычным образом пользуются, чтобы избежать прерывностей настоящего опыта с их требованием восприимчивого ознакомления и оценивания. Видимо, только увлеченный своим делом художник способен к встрече с актуальностью настоящего.
Тойнби снова и снова настаивает на культурной стратегии подражания примеру великих людей. Это, разумеется, означает отдание культурной безопасности во власть воли вместо отдания ее во власть адекватного восприятия ситуаций. Каждый мог бы съязвить, что здесь дает о себе знать британская вера в характер, сопровождаемая недоверием к интеллекту. Принимая во внимание безграничную способность людей гипнотизировать самих себя в присутствии вызова вплоть до полного его неосознания, можно утверждать, что сила воли столь же полезна для выживания, сколь и интеллект. Сегодня, чтобы быть вполне осведомленными и сознательными, мы нуждаемся также и в воле.
Арнольд Тойнби приводит в качестве примера эффективную встречу технологии и творческую постановку ее под контроль в эпоху Возрождения, показывая, как возрождение децентрализованного средневекового парламента спасло английское общество от опутавшей континент монополии централизма. В книге «Город в истории» Льюис Мэмфорд рассказывает странную историю о том, как одному небольшому городку в Новой Англии удалось воплотить образец средневекового идеального города, отказавшись от стен и смешав город с сельской местностью. Когда технология эпохи могущественно подталкивает в одном направлении, мудрость вполне может потребовать уравновешивающего подталкивания в другом. В наш век интегрирующее давление электрической энергии уже нельзя встретить разбрасыванием или экспансией; она может быть встречена лишь децентрализацией и подвижностью многочисленных маленьких центров. Например, наплыв студентов в наши университеты — это не взрыв, а имплозия. И стратегией, в которой мы остро нуждаемся для того, чтобы справиться с этой силой, является не укрупнение университета, а создание многочисленных групп автономных колледжей взамен централизованного университетского комплекса, сложившегося у нас по образцу европейского государственного аппарата и индустрии девятнадцатого века.
Таким же образом и ярко выраженные осязательные воздействия телевизионного образа не могут быть встречены простыми изменениями в содержании телевизионных программ. Творческая стратегия, основанная на правильно поставленном диагнозе, предписала бы глубинный или структурный подход к существующему письменному и визуальному миру. Если мы так и будем упрямо придерживаться общепринятого подхода к этим процессам развития, то наша традиционная культура будет сметена с лица земли, подобно тому, как это произошло в шестнадцатом веке со схоластикой. Если бы схоласты с их сложной устной культурой поняли Гутенбергову технологию, они могли бы создать новый синтез письменного и устного образования вместо того, чтобы сойти со сцены истории и позволить захватить всю сферу образования простой визуальной странице. Устные схоласты не справились с новым визуальным вызовом печати, и разразившаяся в итоге экспансия (или взрывное распространение) Гутенберговой технологии обернулась во многих отношениях облучшением[134] культуры; так объясняют теперь произошедшее такие историки, как Мэмфорд. Арнольд Тойнби, рассматривая в «Постижении истории» «природу роста цивилизаций», не только отбрасывает понятие укрупнения как критерий реального роста общества, но и говорит: «Географическая экспансия чаще всего бывает спутницей фактического упадка и совпадает с "эпохой проблем" или эпохой универсального государства — обе представляют собой стадии упадка и дезинтеграции».
Тойнби выдвигает принцип, согласно которому эпохи проблем, или быстрого изменения, рождают милитаризм, а именно милитаризм производит империю и экспансию. Старый греческий миф, учивший, что милитаризм был. создан алфавитом («Царь Кадм посеял зубы дракона, и из них проросли вооруженные воины»), идет на самом деле гораздо глубже, чем история, рассказанная Тойнби. Понятие «милитаризм» представляет в действительности лишь невразумительное описание и вообще не содержит анализа причинности. Милитаризм — это тип визуальной организации социальных энергий, обладающий специалистским и взрывным характером, а потому было бы просто многословием говорить, как Тойнби, что он создает крупные империи и вызывает социальный упадок. Вместе с тем, милитаризм — это форма индустриализма, или концентрации больших запасов гомогенизированных энергий в немногочисленных видах продукции. Римский воин был человеком с сошником. Это был умелый работник и строитель, который перерабатывал и упаковывал ресурсы многих обществ и отправлял их домой. До появления машинного оборудования единственной массовой рабочей силой, которая могла быть задействована в переработке сырья, были солдаты и рабы. Как указывает греческий миф о Кадме, фонетический алфавит был величайшим механизмом переработки людей для гомогенизированной военной жизни, известным античности. Эпоха греческого общества, которая, по признанию Геродота, была «переполнена большим количеством проблем, чем в двадцати предыдущих поколениях вместе взятых», была временем, которое нашему письменному ретроспективному взгляду кажется одной из величайших эпох в истории человечества. Но, как заметил Маколей,[135] неприятно жить в те времена, о которых мы с таким упоением читаем. Последовавшая далее эпоха Александра Македонского увидела экспансию эллинизма в Азию и проторение путей для дальнейшей римской экспансии. Между тем, это были те самые столетия, когда греческая цивилизация стала очевидным образом рассыпаться на части.
Тойнби указывает на странную фальсификацию истории археологией, ведь сохранение многочисленных материальных объектов прошлого не является показателем качества обыденной жизни и опыта той или иной эпохи. На протяжении всего периода эллинского и римского упадка постоянно возникают технические усовершенствования в военном оснащении. Тойнби доказывает свою гипотезу на примере развития греческого земледелия. Когда предприимчивость Солона отучила греков от смешанного сельского хозяйства и переориентировала на программу специализированного производства продуктов для экспорта, это привело к счастливым последствиям и славному всплеску энергии в греческой жизни. Когда следующая фаза развития того же специалистского акцента привела в действие преимущественную опору на рабский труд, произошел заметный рост производства. Однако армии технологически специализированных рабов, обрабатывавших землю, отравили социальное существование независимым землевладельцам и скромным крестьянам и породили странный мир римских городов, переполненных оторвавшимися от корней паразитами.
Специализм механизированной промышленности и рыночной организации в гораздо большей степени, чем римское рабство, поставил западного человека перед вызовом моно-фракционного[136] мануфактурного производства, или энергичного схватывания всех вещей и операций «по одной за раз». Этот вызов сказался на всех сторонах нашей жизни и позволил нам совершить триумфальную экспансию во всех направлениях и во всех областях.
ЧАСТЬ II
ГЛАВА 8. УСТНОЕ СЛОВО ЦВЕТОК ЗЛА?[137]
Вот как выглядят в напечатанном виде несколько секунд звучания популярного музыкального шоу:
«Это была Патти Бэйби, девушка ножки которой танцуют сами собой, а вот и Фредди Кэннон явился вечерком на шоу Дэвида Микки оба-на шуба-дуба ну и как вам все это нравится ууу! Следующим номером у нас "Качаясь на звезде", уууууух, скользим в лучах лунного света. Уаааааа ну и как вам… один из лучших парней с вами сейчас… всеобщий любимец очаровашка вечером в дециметровом диапазоне! сейчас на часах 22 минуты десятого, алллл-райт! у нас продолжается хит-парад, все, что вам нужно, это позвонить по телефону 5-11-51, повторяю еще, 5-11-51, где можно назвать номер, который вы бы хотели услышать в нашем хит-параде».
Дейв Микки попеременно воспаряет ввысь, стонет, раскачивается, поет, солирует, говорит речитативом и носится туда-сюда, все время реагируя на собственные действия. Он движется целиком и полностью в устной, а не письменной сфере опыта. Именно так создается участие аудитории. Устное слово драматически захватывает все человеческие чувства, тогда как высокограмотные письменные люди склонны говорить как можно более связно и буднично. Чувственное вовлечение, естественное для культур, в которых письменность не является преобладающей формой опыта, проскальзывает иногда в туристических путеводителях, например, в следующем отрывке из путеводителя по Греции:
«Вы заметите, что многие греки проводят, по-видимому, массу времени, перебирая бусинки, связанные в своего рода янтарные четки. Никакого религиозного значения им не придается. Это комболойа, или "четки для нервных", доставшиеся в наследство от турок; греки пощелкивают ими, находясь на земле, в небесах и на море, дабы отогнать невыносимое молчание, опасность воцарения которого нависает над ними всякий раз, как только возникает заминка в беседе. Это делают пастухи и полицейские, этим занимаются портовые грузчики и торговцы в своих магазинах. И если вы проявите любопытство и поинтересуетесь, почему лишь очень немногие из гречанок носят бусы, то узнаете, что это оттого, что их мужья присвоили их себе ради простого удовольствия пощелкивания. Будучи более эстетичной, чем обычное валяние дурака, и не столь дорогостоящей, как курение, эта навязчивая привычка говорит о тактильной чувствительности, характерной для народа, создавшего величайшую в западном мире скульптуру…»
Там, где в культуре отсутствует тяжелый визуальный стресс, создаваемый письменностью, проявляется иная форма чувственного вовлечения и культурного оценивания, и в нашем путеводителе по Греции ей дается причудливое объяснение:
«…не удивляйтесь тому, как часто в Греции вас поглаживают, обнимают и ощупывают. В конце концов, вы можете почувствовать себя домашней собакой… в любящей семье. Это пристрастие к поглаживанию кажется нам тактильным продолжением уже упомянутой ранее ненасытной греческой любознательности. Ваши хозяева словно пытаются выяснить, из чего же вы сделаны».
Крайне отличающиеся друг от друга свойства устной и письменной речи легко изучать сегодня там, где мы оказываемся в максимально тесном соприкосновении с бесписьменными обществами. Один туземец, единственный грамотный человек в своей группе, рассказывал, что выступает для других в роли читателя, когда те получают письма. Он говорил, что чувствует настойчивое побуждение заткнуть пальцами свои уши, когда читает вслух, дабы не нарушать приватную атмосферу этих писем. Это интересное свидетельство о ценностях приватности, взращиваемых визуальным стрессом фонетического письма. Без влияния фонетического письма такое разведение чувств и отделение индивида от группы вряд ли возможны. Устное слово не дает того расширения и разрастания визуальной способности, которое необходимо для формирования привычек индивидуализма и приватности.
Это помогает оценить природу устного слова, в противоположность слову письменному. Хотя фонетическое письмо обособляет и расширяет визуальную власть слов, его отличают относительное несовершенство и медлительность. В то время как способов написания слова «ночью» крайне мало, Станиславский обычно обращался к своим молодым актерам с просьбой произнести и проинтонировать его пятьюдесятью разными способами, а аудитория записывала различные выражаемые таким образом оттенки чувства и смысла. Многие страницы прозаической и повествовательной литературы были посвящены попыткам выразить то, что должно было предстать в итоге как всхлипывание, стон, смех или пронзительный крик. Письменное слово последовательно выговаривает вовне то, что в устном слове выражается быстро и имплицитно.
Кроме того, в речи мы склонны реагировать на каждую возникающую ситуацию, отзываясь тоном и жестом даже на собственный акт говорения. Письмо же стремится быть своего рода обособленным, или специалистским действием, в котором содержится мало возможностей или призывов для реагирования. Грамотный человек и письменное общество[138] развивают в себе ужасающую способность вести себя во всех делах с поразительной отстраненностью от тех чувств и того эмоционального вовлечения, которые непременно испытывали бы неграмотный человек и бесписьменное общество.
Французский философ Анри Бергсон жил и писал в той традиции мышления, в которой считалось и считается до сих пор, что язык — это человеческая технология, ослабившая и подточившая ценности коллективного бессознательного. Именно расширение человека в речь позволяет интеллекту отстраниться от несоизмеримо более широкой реальности. Без языка, полагает Бергсон, человеческий интеллект остался бы целиком и полностью вовлечен в объекты своего внимания. Язык делает для интеллекта то же, что для ступней и тела колесо. Оно позволяет им перемещаться от предмета к предмету с большей легкостью и скоростью, но со все меньшей и меньшей вовлеченностью. Язык расширяет и усложняет человека, но вместе с тем и разделяет его способности. Коллективное сознание, или интуиция человека сужается под воздействием этого технического расширения сознания, коим является речь.
Бергсон утверждает в «Творческой эволюции»,[139] что даже сознание — это расширение человека, окутывающее пеленой тумана блаженство единения в коллективном бессознательном. Своим воздействием речь отделяет человека от человека, а человечество от космического бессознательного. Как расширение, или выговаривание (вынесение вовне) всех наших чувств сразу, язык всегда считался богатейшей из свойственных человеку форм искусства — той самой формой, которая отличает человека от животного.
Если человеческое ухо можно сопоставить с радиоприемником, способным расшифровывать электромагнитные волны и перешифровывать их в звук, то человеческий голос можно сравнить с радиопередатчиком, способным переводить звук в электромагнитные волны. Способности голоса переводить воздух и пространство в вербальные формы вполне могла предшествовать менее специализированная экспрессия, заключенная в криках, кряхтениях, жестах и повелениях песни и танца. Конфигурации чувств, находящие свое продолжение в различных человеческих языках, столь же многообразны, как стили одежды и искусства. Каждый материнский язык учит своих пользователей совершенно уникальному способу видеть мир, чувствовать его и действовать в этом мире.
Наша новая электрическая технология, расширяющая наши чувства и нервы до глобальных масштабов, будет иметь огромные последствия для языка. Электрическая технология нуждается в словах не больше, чем цифровая вычислительная машина в числах. Электричество прокладывает путь к расширению в мировом масштабе самого процесса сознания, причем без всякой его вербализации. Возможно, такое состояние коллективного сознания было довербальным состоянием человека. Язык как технология расширения человека вовне, чью власть разделять и отделять мы очень хорошо знаем, возможно, и был той самой «Вавилонской башней», с помощью которой люди пытались добраться до высших небесных сфер. Сегодня компьютеры обещают дать нам средства мгновенного перевода любого кода или языка в любой другой код или язык. Короче говоря, компьютер обещает нам достичь с помощью технологии того состояния всеобщего понимания и единения, которое восторжествовало на Пятидесятницу.[140] Следующим логическим шагом должен был, видимо, стать уже не перевод, а отход от языков к общему космического сознанию, во многом похожему, быть может, на то коллективное бессознательное, о котором мечтал Бергсон. Можно провести параллель между состоянием «невесомости», сулящим нам, по уверениям биологов, физическое бессмертие, и состоянием безмолвия, которое могло бы даровать нам вечную коллективную гармонию и мир.
ГЛАВА 9. ПИСЬМЕННОЕ СЛОВО ОКО ЗА УХО[141]
Принц Модупе писал о том, как впервые столкнулся с письменным словом в дни своего пребывания в Западной Африке:[142]
«Одним из загроможденных мест в доме отца Перри были книжные полки. Постепенно я начал понимать, что значки на страницах — это пойманные в капканы слова. Каждый мог научиться расшифровывать эти символы и, освобождая пойманные слова из капканов, снова превращать их в речь. Типографские чернила залавливали мысли в ловушки; теперь те могли вырваться на свободу не более, чем думбу из западни. Когда на меня нахлынуло полное осознание того, что это означает, я пережил такое же волнение и изумление, как тогда, когда моему взору впервые предстали яркие огни Конакри. Я содрогнулся от непреодолимого желания самому научиться делать эти дивные вещи».
В разительном контрасте со страстной решимостью этого туземца находятся сегодняшние тревоги цивилизованного человека, связанные с письменным словом. Для некоторых жителей Запада письменное или печатное слово стало вещью очень осязаемой. И в самом деле, сегодня пишут, печатают и читают гораздо больше, чем когда-либо раньше. Но вместе с тем существует и новая электрическая технология, несущая угрозу этой древней технологии письменности, построенной на фонетическом алфавите. Оказывая содействие расширению нашей центральной нервной системы, электрическая технология, по-видимому, отдает предпочтение инклюзивному и участному устному слову в противовес специалистскому письменному. Наши западные ценности, строящиеся на письменном слове, уже подверглись ощутимому воздействию со стороны таких электрических средств коммуникации, как телефон, радио и телевидение. Наверное, именно поэтому многим высокообразованным людям в наше время оказывается довольно трудно анализировать этот вопрос, не впадая в моральную панику. Впридачу к тому есть еще одно обстоятельство, состоящее в том, что за всю более чем двухтысячелетнюю историю существования своей письменности западный человек так и не потрудился как следует изучить или понять роль фонетического алфавита в сотворении многих основополагающих образцов своей культуры. А потому может показаться, что теперь уже слишком поздно приступать к изучению этого вопроса.
Представьте себе, что вместо того, чтобы вывешивать звездно-полосатый флаг, нам приходилось бы писать слова «американский флаг» поперек куска ткани и вывешивать его. Хотя эти символы передавали бы одно и то же значение, производимый ими эффект был бы совершенно разным. Перевести богатую визуальную мозаику звездно-полосатого флага в письменную форму значило бы лишить его большинства качеств целостного образа и корпоративного опыта, хотя абстрактная буквальная привязка оставалась бы при этом во многом той же. Возможно, эта иллюстрация поможет нам наглядно представить, какого рода изменение переживает племенной человек, овладевая письменной грамотой. Из его взаимоотношений с социальной группой почти полностью изымается эмоциональное и корпоративное семейное чувство. Он обретает эмоциональную свободу, позволяющую ему обособиться от племени и стать цивилизованным индивидом, человеком визуальной организации, обладающим единообразными установками, привычками и правами наряду со всеми другими цивилизованными индивидами.
Греческий миф об алфавите гласил, что Кадм — царь, которому будто бы принадлежала заслуга введения в Греции фонетического алфавита, — посеял зубы дракона, и когда они взошли, из них вышли вооруженные воины. Как и любой другой, этот миф емко резюмирует продолжительный процесс в мгновенной вспышке озарения. Алфавит означал власть, авторитет и контроль военных структур, способных действовать на расстоянии. Сочетавшись браком с папирусом, алфавит возвестил о конце стационарных храмовых бюрократий и жреческих монополий на знание и власть. В отличие от доалфавитного письма, которым, со всеми его бесчисленными знаками, трудно было овладеть, алфавит можно было освоить за считанные часы. Приобретение столь экстенсивного знания и столь сложного умения, какие представляло доалфавитное письмо — применяемое к тому же к таким тяжеловесным материалам, как глина и камень, — гарантировало касте писцов монополию на жреческую власть. Более легкий для освоения алфавит и легкий, дешевый, транспортабельный папирус сообща привели к переходу власти от жреческого класса к военному. Все это предполагается в мифе о Кадме и зубах дракона, включая упадок городов-государств и рост империй и военных бюрократий.
С точки зрения расширений человека, в мифе о Кадме крайне важна тема драконьих зубов. Элиас Канетти в книге «Масса и власть» напоминает нам, что у человека и в особенности у многих животных зубы являются очевидным инструментом власти.[143] Разные языки богаты свидетельствами силы и меткости зубов в схватывании и пожирании. А потому естественно и уместно, что власть букв как агентов агрессивного порядка и меткости была выражена как расширение зубов дракона. Зубы в своем линейном порядке подчеркнуто визуальны. Буквы не только зрительно похожи на зубы, но и их способность вовлекать зубы в дело строительства империи отчетливо видна в нашей западной истории.
Фонетический алфавит — технология уникальная. Существовало много типов письма, пиктографического и силлабического, но только в фонетическом алфавите семантически бессмысленные буквы используются для передачи семантически бессмысленных звуков. Это полнейшее разделение и разведение зрительного и слухового мира было, с точки зрения культуры, жестоким и безжалостным. Фонетически записанное слово приносит в жертву миры смысла и восприятия, оберегаемые такими формами, как иероглиф и китайская идеограмма. Эти культурно более богатые формы письма не предлагали, однако, человеку никаких средств для внезапного перехода из магически прерывного и традиционного мира племенного слова в холодный и единообразный мир визуального средства коммуникации. Многовековое применение идеограммы не ставило под угрозу цельносплетенную паутину семейных и племенных тонкостей китайского общества. С другой стороны, в сегодняшней Африке — как две тысячи лет тому назад для галлов, — одного поколения обученных алфавитной грамоте достаточно, чтобы по крайней мере инициировать высвобождение индивида из племенной паутины. И этот факт никак не связан с содержанием алфабетизированных слов; он есть результат внезапного разрыва между слуховым и визуальным опытом человека. Только фонетический алфавит производит такой резкий раскол в опыте, даруя своему пользователю око вместо уха и высвобождая его из племенного транса резонирующей словесной магии и паутины родственных отношений.
Следовательно, можно утверждать, что фонетический алфавит (и уже он один) является технологией, ставшей средством создания «цивилизованного человека», то есть обособленных друг от друга индивидов, равных перед письменным правовым кодексом. Обособленность индивида, непрерывность пространства и времени и единообразие кодов — вот главные признаки письменных и цивилизованных обществ. Племенные культуры вроде индийской или китайской могут быть несравненно выше западных культур в плане широты и утонченности восприятий и способов самовыражения. Однако нас интересуют здесь не ценностные вопросы, а конфигурации обществ. Племенные культуры не могут допустить даже возможности существования индивидуального, или обособленного, гражданина. Пространство и время в их представлении не являются непрерывными и однородными, а могут растягиваться и уплотняться в своей интенсивности. Именно в способности алфавита переносить на всё, что есть вокруг, образцы визуального единообразия и непрерывности ощущается культурами то «сообщение», которое он им передает.
Будучи интенсификацией и расширением зрительной функции, фонетический алфавит уменьшает в любой письменной культуре роль других чувств: слуха, осязания и вкуса. То, что этого не происходит в таких, например, культурах, как китайская, где применяется нефонетические письмо, позволяет этим культурам сохранять в глубинах своего опыта тот богатый запас образного восприятия, который в цивилизованных культурах, пользующихся фонетическим алфавитом, обычно подвержен эрозии. Ибо идеограмма — это емкий гештальт, в отличие от аналитической диссоциации чувств и функций, каковой является фонетическое письмо.
Достижения западного мира — и это очевидно — свидетельствуют о колоссальной ценности письменности. Но в то же время многие склонны возражать, что наша структура специалистской технологии и специалистских ценностей обошлась нам слишком дорого. Линейное структурирование рациональной жизни фонетической письменностью, безусловно, вовлекло нас в некий взаимосвязанный набор согласованностей, достаточно поразительный, чтобы сделать оправданным гораздо более широкое его исследование, нежели предпринятое в этой главе. Возможно, есть лучшие подходы, построенные на совершенно других принципах: например, рассматривать сознание как отличительный признак рационального существа. Вместе с тем в любой момент существования сознания целостное поле осознания не содержит в себе ничего линейного или последовательного. Сознание — не вербальный процесс. И все же на протяжении многих столетий существования фонетической письменности мы отдавали предпочтение цепи умозаключения как признаку логики и разума. Китайское письмо, напротив, вкладывает в каждую идеограмму целостную интуицию бытия и разума, что оставляет лишь крайне скромную роль визуальной последовательности как признаку умственного усилия и разумной организации. В письменном обществе Запада до сих пор считается благовидным и приемлемым говорить, что что-то из чего-то «следует», как если бы действовала какая-то причина, создающая такого рода последовательность. Еще в восемнадцатом веке Давид Юм доказал, что ни одна последовательность, природная или логическая, не говорит ни о какой причинности. Последующее просто добавляется к предыдущему, а не причинно им порождается. «Аргумент Юма, — говорил Иммануил Кант, — пробудил меня от догматического сна». Ни Юм, ни Кант, однако, не выявили скрытой причины нашего западного пристрастия к последовательности как «логике», а искать ее следует во всепроникающей технологии алфавита. Сегодня, в электрическую эпоху, мы чувствуем себя столь же свободными изобретать нелинейные логики, как мы уже изобретаем неевклидовы геометрии. Даже конвейерная линия как метод аналитической последовательности, предназначенный для механизации всякого рода изготовления и производства, отступает в наши дни под натиском новых форм.
Только алфавитные культуры овладели связными линейными последовательностями как всепроникающими формами психической и социальной организации. Секрет западной власти над человеком и природой состоял в разбиении любого рода опыта на единообразные элементы с целью убыстрения действия и изменения формы (то есть в прикладном познании). Именно поэтому западные индустриальные программы совершенно помимо нашей воли становились такими воинственными, а наши военные программы — такими индустриальными. И те и другие сформированы алфавитом, создавшим общий для них метод трансформации и контроля посредством превращения всех ситуаций в единообразные и непрерывные. Эта процедура, открыто проявившая себя уже на греко-римской стадии, приобрела еще большую интенсивность с рождением единообразия и повторяемости Гутенбергова изобретения.
Цивилизация строится на основе письменности, ибо письменность есть единообразная обработка культуры зрительным чувством, расширенным в пространстве и во времени с помощью алфавита. В племенных культурах упорядочение опыта достигается за счет доминирования слуховой чувственной жизни, подавляющей визуальные ценности. Слух, в отличие от холодного и нейтрального глаза, является сверхчувствительным, тонким и всевключающим. В устных культурах действие и реакция одновременны. Фонетическая же культура наделяет людей средствами подавления их чувств и эмоций при включении в действие. Действовать, ни на что не реагируя и не вовлекаясь, — специфическое достижение западного письменного человека.[144]
История, рассказанная в «Гадком американце», описывает нескончаемую вереницу грубых ошибок, совершенных визуальными и цивилизованными американцами при столкновении с племенными и слуховыми культурами Востока. Недавно в качестве эксперимента цивилизованное ЮНЕСКО установило в некоторых индийских деревнях водопровод с его линейной организацией труб. Вскоре жители этих деревень попросили убрать трубы, поскольку им казалось, что вся общественная жизнь деревни пришла в упадок, как только у них исчезла необходимость ходить к общинному колодцу. Для нас труба — это удобство. Мы не воспринимаем ее как культуру или как продукт письменности, равно как не сознаем того, что письменность изменяет все наши привычки, эмоции и восприятия. Для бесписьменного же народа совершенно очевидно, что самые банальные удобства репрезентируют тотальные изменения в культуре.
У русских, не испытавших такого всепроникающего влияния образцов письменной культуры, как американцы, возникает гораздо меньше трудностей с восприятием и усвоением азиатских установок. Западу же письменность долгое время была явлена в виде труб, водопроводных кранов, улиц, конвейерных линий и описей. Быть может, самым могущественным из всех выражений письменности является наша система единообразного ценообразования, проникающая на отдаленные рынки и ускоряющая оборот товаров. Даже наша идея причины и следствия долгое время существовала на письменном Западе в форме расположения вещей в последовательности и ряды; эта идея шокирует любую племенную или слуховую культуру как совершенно смехотворная и уже утратила свое царственное место в нашей новой физике и биологии.
Все алфавиты, используемые в западном мире — от русского до баскского, от португальского до перуанского, — производны от греко-римского. Свойственное им уникальное отделение внешнего вида и звучания от семантического и вербального содержания сделало их самой радикальной технологией перевода и гомогенизации культур. Все другие формы письма обслуживали только одну культуру и служили отделению этой культуры от всех остальных. Только фонетические буквы можно было использовать для перевода (пусть даже очень приблизительного) звуков какого угодно языка в один и тот же визуальный код. Сегодняшняя попытка китайцев использовать наши фонетические буквы для перевода своего языка столкнулась с массой специфических проблем, связанных с широкими тональными вариациями и разными значениями похожих друг на друга звуков. Это привело к практике фрагментирования китайских односложных слов и превращения их в многосложные с целью устранения тональной двусмысленности. Ныне западный фонетический алфавит работает над преобразованием основных слуховых особенностей китайского языка и культуры, дабы Китай тоже смог развить линейные и визуальные формы, в первую очередь придающие единство и мощь единообразного агрегата западному труду и западной организации. По мере того как мы выходим из Гутенберговой эпохи нашей культуры, нам все легче разглядеть первостепенные для нее качества гомогенности, единообразия и непрерывности. Именно эти характерные качества помогли грекам и римлянам легко установить господство над бесписьменными варварами. Варвар, или племенной человек, в те времена, как и сейчас, был скован культурным плюрализмом, уникальностью и прерывностью.
Подводя итог, можно сказать, что пиктографическое и иероглифическое письмо, используемое в вавилонской, майянской и китайской культурах, представляет собой расширение визуального чувства с целью сохранения и ускорения доступа к человеческому опыту. Все эти формы выражают устные значения в виде рисунков. Как таковые, они близки к мультипликационному фильму и крайне громоздки, требуя наличия множества знаков для бесчисленного множества фактов и операций социального действия. В противовес этому, фонетический алфавит смог вобрать в себя все языки с помощью относительно небольшого набора букв. Такое достижение, однако, предполагало отделение знаков и звучании от их семантических и драматических значений. Ни одна другая система письма не совершила этого подвига.
Разделение внешнего вида, звучания и значения, специфически присущее фонетическому алфавиту, распространяется также на его социальные и психологические последствия. Как уже давно заявил Руссо (а после него поэты и философы-романтики), у грамотного человека происходит колоссальное расщепление образной, эмоциональной и чувственной жизни. Сегодня достаточно просто упомянуть имя Д. Г. Лоуренса, и оно сразу напомнит нам о предпринятых в двадцатом веке попытках преодолеть письменного человека и восстановить человеческую «цельность». Когда в письменном человеке Запада происходит серьезная диссоциация, отделяющая его внутреннюю чувственную жизнь от использования алфавита, он обретает также и личную свободу, позволяющую ему диссоциироваться от клана и семьи. В древнем мире эта свобода определять свою индивидуальную карьеру проявила себя в военной жизни. В республиканском Риме, почти как в наполеоновской Франции, одаренным людям открылась дорога к карьере, причем по тем же причинам. Новая письменность создала гомогенную и податливую среду, в которой мобильность вооруженных групп и амбициозных индивидов была в такой же степени новшеством, в каком и проявлением практичности.
ГЛАВА 10. ДОРОГИ И МАРШРУТЫ ДВИЖЕНИЯ БУМАГ
Пока не появился телеграф, сообщения не могли путешествовать быстрее посыльного. Прежде дороги и письменное слово были тесно взаимосвязаны. Только с пришествием телеграфа информация отделилась от таких твердых носителей, как камень и папирус, во многом так же, как раньше деньги отделились от кожи, драгоценного слитка и металлов, став, в конце концов, бумажными. Термин «коммуникация»[145] в широком смысле употребляли в связи с дорогами и мостами, морскими маршрутами, реками и каналами еще до того, как он стал в электрическую эпоху означать «движение информации». Нет, наверное, лучшего способа определить характер электрической эпохи, нежели изучить сначала, как сформировалось представление о транспортировке как коммуникации, а затем — как транспортировка грузов уступила место в этом представлении перемещению информации с помощью электричества. Слово «метафора» образовано от греческих слов мета и ферейн, что значит «переносить через», или «перемещать». В этой книге нас интересуют все формы транспортировки грузов и информации — и в смысле метафоры, и в смысле обмена. Каждая форма транспорта не только переносит, но также переводит и трансформирует отправителя, получателя и сообщение. Использование любого средства коммуникации, или расширения человека, меняет не только пропорции между нашими органами чувств, но и формы (patterns) взаимозависимости между людьми.
Сквозной темой этой книги является то, что все технологии суть расширения наших физических и нервных систем, нацеленные на увеличение энергии (power) и повышение скорости. В сущности, если бы не происходило такого возрастания энергии и скорости, новые внешние расширения нас либо вовсе не появлялись бы, либо отбрасывались. Ибо в какой угодно группировке каких угодно компонентов повышение энергии или скорости уже само по себе есть распад, вызывающий изменение в способе организации. С повышением скорости движения информации вследствие внедрения бумажных сообщений и дорожного транспорта происходит изменение в социальных группировках и образование новых сообществ. Такое ускорение означает колоссальное возрастание контроля и распространение его на всё большие расстояния. Исторически это отразилось в образовании Римской империи и разрушении прежних городов-государств греческого мира. До тех пор, пока применение папируса и алфавита не дало толчок строительству скоростных дорог с твердым покрытием, огражденный стеною город и город-государство были вполне жизнеспособными естественными формами.
Деревня и город-государство в сущности своей являются формами, заключающими в себе все человеческие потребности и функции. С увеличением скоростей и, следовательно, возрастанием военного контроля на расстоянии город-государство потерпел катастрофу. Некогда все в себе заключавшие и самодостаточные, его потребности и функции обрели свое расширение в специалистских видах деятельности империи. Ускорение ведет к разделению функций — как коммерческих, так и политических, — но как только акселерация выходит за некоторый предел, она для любой системы становится разрушительной и катастрофической. Так, Арнольд Тойнби, обращаясь в книге «Постижение истории» к массивной документации о «надломах цивилизаций», начинает со слов: «Один из наиболее очевидных признаков дезинтеграции, как мы уже заметили, состоит в том… что распадающаяся цивилизация покупает отсрочку исполнения смертного приговора, подчиняясь насильственному политическому объединению в универсальном государстве». Дезинтеграция и отсрочка конца — следствие все более быстрого перемещения информации курьерами на превосходных дорогах.
Ускорение создает структуру, которую некоторые экономисты называют структурой «центр— периферия». Когда она становится слишком громоздкой для создающего и контролирующего ее центра, от нее начинают отщепляться фрагменты, устанавливающие новые системы «центр— периферия», уже свои собственные. Самый известный пример дает история американских колоний Великобритании. Когда тринадцать колоний начали развивать собственную социальную и экономическую жизнь, они почувствовали потребность стать самостоятельными центрами со своими собственными перифериями. Это время, когда первоначальный центр может предпринять жесткую попытку удержать централизованный контроль над перифериями, как и в самом деле поступила Великобритания. Медлительность морских путешествий оказалась совершенно неадекватна для сохранения столь огромной империи на базе примитивного принципа «центр—периферия». Сухопутным державам легче сохранять унифицированный образец «центр—периферия», нежели морским. Именно относительная медлительность морских путешествий заставляет морские державы поощрять развитие множественных центров посредством своего рода почкования. Таким образом, морские державы тяготеют к созданию центров без периферий, а сухопутные империи отдают предпочтение структуре «центр—периферия». Электрические скорости создают центры повсюду. Периферии на нашей планете исчезают.
Отсутствие гомогенности в скорости движения информации создает разнообразие форм организации. Но тогда вполне предсказуемо, что любое новое средство перемещения информации будет менять любую властную структуру, какая бы она ни была. Пока новое средство одновременно присутствует повсюду, сохраняется возможность, что структура будет изменена без разрушения. Там, где есть большие расхождения в скоростях движения — например, между воздушным и сухопутным путешествием или между телефоном и пишущей машинкой, — в организациях возникают серьезные конфликты. Метрополис нашего времени стал образцовым примером таких расхождений. Если бы гомогенность скоростей была тотальной, не было бы никаких бунтов и катастроф. Впервые политическое объединение на началах гомогенности стало возможно с появлением печати. В древнем Риме, однако, лишь легкая бумажная рукопись пробивала непроницаемость племенных деревень и уменьшала их обособленность, а когда прекратились поставки бумаги, дороги стали такими же пустынными, какими они были в наши дни после введения нормированной продажи бензина. Таким образом, возвратился старый город-государство, а место республиканства занял феодализм.
Кажется достаточно очевидным, что технические средства ускорения должны были покончить с независимостью деревень и городов-государств. Когда бы ни происходило ускорение, новая централистская власть неизменно предпринимает попытки гомогенизировать как можно больше периферийных районов. Процесс, приведенный в действие Римом посредством фонетического алфавита, прилаженного к его бумажным маршрутам, на протяжении прошлого века происходил в России. На примере сегодняшней Африки мы, опять-таки, можем заметить, сколь основательная визуальная обработка человеческой души алфавитными средствами требуется для того, чтобы сделать возможной сколь-нибудь ощутимую степень гомогенности социальной организации. В древнем мире, например в Ассирии, значительная часть этой визуальной обработки была проделана неписьменными технологиями. Однако ничто не может соперничать с фонетическим алфавитом как инструментом перевода человека из закрытой племенной эхо-камеры в нейтральный визуальный мир линейной организации.
Сегодня ситуация в Африке усложняется внедрением новой электронной технологии. Западный человек и сам девестернизируется новым ускорением не меньше, чем африканцев детрайбализирует наша старая технология печати и промышленности. Если бы мы понимали наши старые и новые средства коммуникации, эти неразберихи и надломы можно было бы предусматривать заранее и синхронизировать. Однако сам успех, которым мы наслаждаемся, специализируя и разделяя свои функции ради достижения большей скорости, служит одновременно причиной нашего невнимания к ситуации и полного ее неосознания. Так было всегда, по крайней мере в западном мире. Понимание предпосылок и границ собственной культуры на уровне самосознания кажется угрожающим структуре эго, а потому всячески избегается. Ницше говорил, что понимание останавливает действие, и люди действия как будто интуитивно это знают, держась в стороне от опасностей постижения.
Суть ускорения, достигаемого посредством колеса, дороги и бумаги, состоит в разрастании власти вширь во все более гомогенном и единообразном пространстве. Так, невозможно было даже представить реальный потенциал римской технологии до тех пор, пока печать не придала дороге и колесу гораздо большую скорость по сравнению со скоростью римских колесниц. Между тем, для письменного и линейного западного человека ускорение, принесенное электронной эпохой, столь же разрушительно, сколь разрушительными для жителей племенных деревень были римские бумажные маршруты. Наше сегодняшнее ускорение — не медленный взрыв вовне, от центра к перифериям, а мгновенный взрыв вовнутрь, стремительное слияние пространства и функций. Наша специалистская и фрагментированная цивилизация, структурированная на основе принципа «центр—периферия», внезапно для себе переживает быструю перекомпоновку всех своих механизированных частей в единое органическое целое. Эго новый мир глобальной деревни. Деревня, поясняет Мэмфорд в книге «Город в истории», достигла социального и институционального расширения всех человеческих способностей. Ускорение и городские агрегаты служили лишь отделению их друг от друга и облечению в более специалистские формы. Электронная эпоха не может поддержать крайне слабое сцепление структуры «центр—периферия», которую мы неразрывно связываем с последними двумя тысячелетиями существования западного мира. И проблема здесь вовсе не в ценностях. Если бы мы понимали наши прежние средства коммуникации, такие, как дороги и печатное слово, и достаточно высоко ценили их последствия для человека, мы могли бы сократить роль электронного фактора или даже вовсе вычеркнуть его из нашей жизни. Но разве существовала когда-то хоть одна культура, которая, поняв технологию, поддерживающую ее структуру, была бы готова оберегать ее таким образом? Если бы даже такая и была, дело было бы в ценностях, или продуманных предпочтениях. Но ценности, или предпочтения, возникающие из простого автоматического функционирования той или иной технологии в нашей социальной жизни, не могут быть увековечены.
В главе о колесе будет показано, что до появления колеса большую роль играла бесколесная транспортировка, в частности с помощью полозьев, приспособленных к передвижению по снегу и болотам. Для их перемещения часто использовали вьючных животных; первым вьючным животным была женщина. Однако наибольшая доля бесколесной транспортировки в прошлом осуществлялась по реке и по морю; сегодня этот факт так же красноречиво, как и прежде, выражен в местоположении и форме великих городов мира. Некоторые авторы подметили, что древнейшим вьючным животным для мужчины была женщина, поскольку мужчина должен был быть свободен для пресечения внешних посягательств на нее, будучи, так сказать, носителем ответственности. Но эта фаза принадлежала к доколесной стадии развития транспорта, когда была лишь бездорожная пустыня, по которой бродили охотники и собиратели пищи. Сегодня, когда львиная доля в транспортировке приходится на перемещение информации, колесо и дорога переживают упадок и устаревают; однако прежде, в условиях давления, требовавшего колес, а также исходившего от самих колес, необходимы были дороги, чтобы их обслужить. Появление постоянных поселений дало толчок развитию обмена и росту движения сырья и продуктов из сельской местности в обрабатывающие центры, где существовало разделение труда и специалистских ремесленных навыков. Совершенствование колеса и дороги все больше подтягивало город к деревне в процессе их чуткого взаимного подлаживания. Этот процесс мы наблюдали в наш век на примере автомобиля. Крупные усовершенствования в дорогах все более и более подтягивали город к деревне. К тому времени, когда люди начали говорить о «загородных автомобильных прогулках», дорога заменила собой сельскую местность. С появлением сверхскоростных магистралей дорога стала стеной, отгородившей человека от сельской местности. Затем наступила стадия скоростной магистрали как города — города, раскинувшегося на весь континент, — которая растворила все прежние города в расползающихся агрегатах, опустошающих сегодня их популяции.
С появлением воздушного транспорта продолжается дальнейшее разрушение старого комплекса «город—деревня», возникшего с появлением колеса и дороги. С изобретением самолета города начинают иметь столь же незначительную связь с человеческими нуждами, как и музеи. Они становятся музейными экспозициями, коридоры которых являются отзвуком уходящих в прошлое форм промышленных сборочных линий. Дорога, таким образом, используется все меньше и меньше для перемещений и все больше и больше для отдыха. Теперь путешественник переключается на воздушные линии, а тем самым перестает переживать сам акт путешествия. Как нередко говорят, что океанский лайнер вполне способен сойти за отель в большом городе, так и воздушный путешественник, независимо от того, пролетает он над Нью-Йорком или над Токио, в плане переживания самой дороги мог бы с таким же успехом находиться в коктейльном зале. Он начинает путешествовать только после того, как приземлится.
Тем временем сельская местность, сориентированная и сформированная самолетом, скоростной магистралью и электрическим сбором информации, стремится вновь превратиться в ту номадическую бездорожную территорию, которая предшествовала появлению колеса. Битники собираются на песках, дабы помедитировать над хайку.[146]
Важнейшие факторы воздействия средств коммуникации на существующие социальные формы — это акселерация и разрушение. Сегодня акселерация грозит стать тотальной и тем самым кладет конец пространству как основному фактору социальных упорядочений. Тойнби рассматривает акселерацию как фактор, переводящий физические проблемы в моральные, указывая в связи с этим на то, что древняя дорога, наводненная догкартами, повозками и рикшами, полна мелких неприятностей, но при этом не таит в себе серьезных опасностей. Далее, когда накапливают могущество силы, требующие дорожного движения, проблема транспортировки и переноски грузов как таковая исчезает, но эта физическая проблема переводится в психологическую, ведь аннигиляция пространства позволяет так же легко аннигилировать и путешественников. Этот принцип применим при изучении всех средств коммуникации. Под влиянием акселерации все средства взаимообмена и взаимосвязи между людьми тяготеют к совершенствованию. Скорость, в свою очередь, выносит на передний план проблемы формы и структуры. Прежние упорядочения создавались без учета таких скоростей, и люди начинают чувствовать размывание жизненных ценностей, пытаясь приспособить старые физические формы к новому, ускорившемуся движению. Эти проблемы, однако, не новые. Первым актом Юлия Цезаря после прихода к власти было введение ограничения на ночное движение колесных средств в городе Риме, дабы они не мешали людям спать. В эпоху Возрождения усовершенствованный транспорт превратил обнесенные крепостными стенами средневековые города в трущобы.
До того как благодаря алфавиту и папирусу произошла значительная диффузия власти, даже попытки царей пространственно расширить свое правление натыкались на внутреннее сопротивление жреческих бюрократий. Их сложные и неприподъемные каменные средства письменной коммуникации делали обширные империи очень опасными для таких статичных монополий. То тут, то там в разное время разгоралась борьба между теми, кто обладал властью над человеческими сердцами, и теми, кто пытался держать под контролем физические ресурсы народов. Именно о такого рода борьбе сообщается в ветхозаветной Книге Самуила (I, viii), где дети Израиля обратились к Самуилу с просьбой назначить им царя. Самуил объяснил им природу царского правления, в отличие от жреческого:
«И сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет, и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его;
И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его.
И дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанья и пекли хлебы.
И поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим.
И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть, и отдаст евнухам своим и слугам своим».[147]
Парадоксально, но воздействием, оказанным колесом и бумагой на организацию новых властных структур, была вовсе не децентрализация, а централизация. Ускорение в коммуникациях всегда позволяет центральной власти распространять свое влияние на более отдаленные окраины. Введение алфавита и папируса означало необходимость подготовки гораздо большего числа писцов и администраторов. Однако вытекавшее отсюда расширение гомогенизации и единообразного обучения так и не проявилось в сколь-нибудь значительной степени в древнем и средневековом мире. Прочно объединенная и централизованная власть стала реально возможна лишь с механизацией письма в эпоху Возрождения. Поскольку этот процесс продолжается до сих пор, нам должно быть легко понять, что благодаря единообразному технологическому образованию в армиях Египта и Рима произошла своего рода демократизация. Перед одаренными людьми, обученными грамоте, открылись перспективы карьеры. В главе о письменном слове мы увидели, как фонетическое письмо переводит племенного человека в визуальный мир и приглашает к принятию визуальной организации пространства. Жреческие группы в храмах были более озабочены документами прошлого и контролем над внутренним пространством незримого, нежели внешними завоеваниями. Поэтому и происходили стычки между жреческими монополи-заторами знания и теми, кто желал дать ему внешнее применение в виде новых завоеваний и новой власти. (Точно такое же столкновение происходит в наши дни между университетским и деловым миром.) Именно это соперничество подвигло Птолемея II основать в Александрии как центре имперской власти великую библиотеку. Огромный штат служителей и писцов, назначенных выполнять многочисленные специализированные задачи, стал силой, служившей противовесом египетскому жречеству и уравновешивающей его влияние. Библиотека могла служить политической организации империи таким способом, который жрецов вообще не интересовал. Аналогичное по сути соперничество разворачивается сегодня между учеными-атомщиками и теми, кого главным образом интересует власть.
Если осознать, что город как центр первоначально был скоплением находившихся под угрозой деревенских жителей, нам будет легче понять, каким образом такие встревоженные компании беженцев могли разрастись в империю. Город-государство как форма отнюдь не был реакцией на мирное развитие торговли; это было соединение людей с целью обретения безопасности посреди анархии и разложения. Таким образом, греческий город-государство был племенной формой инклюзивного и интегрального сообщества, совершенно не похожей на те специалистские города, которые вырастали как детища римской военной экспансии. Греческие города-государства под обычным воздействием специалистской торговли и разделения функций постепенно распались; картину распада описывает Мэмфорд в книге «Город в истории». Римские города зародились таким образом — как специалистские операции центральной власти. Греческие города таким образом пришли к своему концу.
Как только город начинает торговлю с селом, он сразу устанавливает с соответствующей сельской местностью взаимосвязь «центр—периферия». Эта взаимосвязь предполагает приобретение городом у села сельскохозяйственных продуктов и сырья в обмен на специалистскую продукцию ремесленников. С другой стороны, если тот же город пытается заняться заморской торговлей, более естественно для него будет «вырастить» еще один городской центр, как это делали греки, нежели взаимодействовать с заморской территорией как со специализированной периферией или сырьевым источником.
Краткий обзор структурных изменений в организации пространства, произошедших вследствие появления колеса, дороги и папируса, можно подытожить следующим образом: сначала была деревня, в которой не было всех этих групповых расширений частного физического тела. Вместе с тем, деревня как форма сообщества уже отличалась от сообщества собиравших пищу охотников и рыболовов, ибо жители деревни имели возможность закрепиться на земле и приступить к разделению труда и функций. Само их соединение становится формой ускорения человеческих деятельностей, дающей импульс дальнейшему разделению и специализации действия. В таких условиях возникает расширение ноги-как-колеса для ускорения производства и обмена. Но, кроме того, эти же условия интенсифицируют конфликты и разлады в сообществе, что заставляет людей собираться во все большие агрегаты для оказания сопротивления акселерированным деятельностям других сообществ. Деревни вливаются в город-государство с целью противостояния опасности и ради обретения безопасности и защиты.
Деревня институционализировала все человеческие функции в формах, обладающих низкой интенсивностью. В этой мягкой форме каждый мог играть много ролей. Степень участия была высокой, а степень организации — низкой. Такова формула стабильности для любого типа организации. Тем не менее разрастание деревенских форм в город-государство требовало большей интенсивности и неизбежного разделения функций для того, чтобы можно было справиться с этой интенсивностью и конкуренцией. Жители деревень все до единого участвовали в сезонных ритуалах, которые в городе превратились в специализированную греческую драму. Мэмфорд считает, что «вплоть до четвертого века в развитии греческих городов преобладал деревенский стандарт» («Город в истории»). Именно это расширение, или перевод, человеческих органов в модель деревни без утраты единства тела применяется Мэмфордом как критерий совершенства городских форм, независимо от времени и места. Сегодня, в электрическую эпоху, опять идут поиски такого биологического подхода к рукотворной среде. Как странно, что на протяжении всех механических столетий, казалось, совершенно не находила отклика идея «человеческого масштаба»!
Естественной тенденцией разросшегося городского сообщества является рост интенсивности и ускорение всякого рода функций, будь то речи, ремесел, денег или обмена. Это, в свою очередь, предполагает неизбежное вынесение этих действий вовне путем дальнейшего их разделения, или, что то же самое, нового изобретения. Так что если даже город и формировался как своего рода защитное укрытие или щит для человека, этот защитный слой покупался ценой максимизации борьбы в его стенах. Между гражданами начинались военные игры, описываемые, например, Геродотом и представлявшие собой ритуальные кровавые бани. Ростра,[148] судебный двор и рыночная площадь отлились в емкий образ состязания и раздора, в отношении которого в наши дни используют выражение «крысиные бега».[149] Тем не менее, именно в окружении таких раздражителей человек создавал в качестве контрраздражителей величайшие свои изобретения. Эти изобретения были расширениями его самого, рождавшимися в сосредоточенном тяжелом труде, с помощью которого он надеялся нейтрализовать дистресс. Именно греческое слово понос, или «труд»,[150] использовал отец медицины Гиппократ для описания борьбы тела с болезнью. Сегодня эта идея фигурирует под именем гомеостазиса, или равновесия, понимаемого как стратегия сохранения телесных сил. Все организации, но в особенности биологические, борются за сохранение постоянства в своем внутреннем состоянии посреди многообразных факторов внешнего шока и изменения. Рукотворная социальная среда как расширение физического тела человека — не исключение. Город как форма политического тела[151] отвечает на новые давления и раздражители плодотворными новыми расширениями, и это всегда происходит в виде попыток сохранить выносливость, постоянство, равновесие и гомеостазис.
Город, созданный ради защиты, неожиданно вызволил из ускоренного взаимодействия функций и знаний неистовые интенсивности и новые гибридные энергии. Он весь выплеснулся в агрессию. Тревожность деревни, сменившись сопротивлением города, переросла в истощение и инертность империи. Эти три стадии болезни и синдрома раздражения воспринимались теми, кто переживал их в своей жизни, как нормальные физические выражения контрраздражительного исцеления от болезни.
Третья стадия борьбы за равновесие между силами, заключенными внутри города, приобрела форму империи, или универсального государства, породившего расширение человеческих чувств в колесо, дорогу и алфавит. Мы можем с симпатией относиться к тем, кто впервые увидел в этих инструментах ниспосланные самой судьбой средства привнесения порядка в отдаленные области турбулентности и анархии. Эти инструменты должны были казаться величественной формой «помощи извне», разносившей благодеяния центра в варварские окраины. В настоящий момент, например, мы пребываем в совершенном неведении относительно политических последствий «Телстара».[152] Запуск этих спутников в космос, вынесший их вовне как расширения нашей нервной системы, вызвал автоматическую реакцию во всех органах политического тела человечества. Такая новая интенсивность близости, навязанная «Телстаром», требует радикальной переаранжировки всех органов ради удержания выносливости и равновесия. Рано или поздно — скорее рано — она скажется на процессе преподавания и обучения, затрагивающем каждого ребенка. Примет новые формы фактор времени, заключенный в любом решении в сфере бизнеса и финансов. Среди народов мира нежданно появятся странные новые водовороты власти.
Расцвет города совпадает по времени с развитием письма, особенно письма фонетического, т. е. той специалистской его формы, которая проводит разграничение между зрительным образом и звучанием. Именно с помощью этого инструмента Риму удалось привести в определенный визуальный порядок племенные территории. Последствия внедрения фонетической письменности не зависят от того, какими средствами достигается их принятие, принуждением или умасливанием. Эта технология перевода резонирующего племенного мира в евклидову линейность и визуаль-ность срабатывает автоматически. Римские дороги и улицы были единообразными и повторимыми везде, где бы они ни появлялись. Не было никакой адаптации ни к контурам местного холма, ни к обычаям. Как только прекратились поставки папируса, остановилось и колесное движение на этих дорогах. Лишение папируса, ставшее следствием потери Римом Египта, означало упадок бюрократии, а также военной организации. Таким образом, средневековый мир складывался без единообразных дорог, городов и бюрократий, и он боролся с колесом так же, как городские формы боролись позднее с железными дорогами, а мы сегодня боремся с автомобилем. Ибо новая скорость и новая власть никогда не бывают совместимы с уже существующими пространственными и социальными упорядочениями.
Мэмфорд, говоря о новых прямых авеню городов семнадцатого века, отмечает фактор, который присутствовал и в римском городе с его колесным уличным движением, а именно — потребность в широких прямых проспектах для ускорения военных передвижений и выражения помпезности и величия власти. В романском мире армия была рабочей силой, задействованной в механизированном процессе производства богатства. Пользуясь солдатами как единообразными и заменимыми частями, римская военная машина изготавливала и выпускала товары во многом так же, как это делала на ранних стадиях индустриальной революции промышленность. Вслед за легионами шла торговля. Более того, сами легионы были индустриальной машиной, а многие новые города были похожи на новые фабрики, укомплектованные единообразно обученным армейским персоналом. С распространением грамотности, которое последовало за появлением печати, связь между унифицированным солдатом и производящей блага фабричной рукой стала менее зримой. Вполне очевидной она была в наполеоновских армиях. Наполеон со своими гражданскими армиями был самой индустриальной революцией, достигшей областей, долгое время бывших от нее защищенными.
Как мобильная индустриальная производительная сила, римская армия вдобавок к тому родила в римских городах широкую потребительскую публику. Разделение труда всегда создает отделение производителя от потребителя и даже имеет тенденцию обособлять место работы от жизненного пространства. До появления римской письменной бюрократии в мире не видывали ничего, что могло бы сравниться с римскими специалистами-потребителями. Сей факт был институционализирован в индивидуальном типе, известном как «паразит», и в социальном институте гладиаторских игр. (Рапет et circenses.[153]) Частный паразит и коллективный паразит, жадно тянущиеся к своему рациону острых ощущений, приобрели ужасающую отчетливость и ясность, бывшую целиком под стать грубой власти хищнической армейской машины.
С прекращением поставок папируса магометанами Средиземное море, долгое время бывшее Римским, стало Мусульманским, а римский центр потерпел катастрофу. Места, бывшие ранее окраинами в структуре «центр—периферия», превратились в независимые центры, существовавшие на новой, феодальной структурной основе. Римский центр рухнул к пятому веку н. э., когда, выродившись в призрачную парадигму прежней власти, пришли в упадок колесо, дорога и бумага.
Папирус так больше и не вернулся. Византия, как и средневековые центры, полагалась главным образом на пергамент, но он был слишком дорогостоящим и редким материалом, чтобы придать ускорение торговле или даже образованию. Именно бумага из Китая, постепенно прокладывая себе путь через Ближний Восток в Европу, стала, начиная с одиннадцатого века, придавать устойчивое ускорение образованию и торговле и заложила основу «Ренессанса двенадцатого века», популяризовав гравюры и сделав, в конце концов, к пятнадцатому веку возможным книгопечатание.
С началом движения информации в печатной форме вновь, после тысячелетнего бездействия, вступили в игру колесо и дорога. В Англии печатание с печатного пресса вызвало в восемнадцатом веке появление дорог с твердым покрытием со всем вытекавшим отсюда переупорядочением населения и промышленности. Книгопечатание, или механизированное письмо, вызвало разделение и расширение человеческих функций, немыслимое даже во времена Рима. А потому совершенно естественно, что колоссально возросшие скорости колес — как на дороге, так и на фабрике — должны были быть связаны с алфавитом, который однажды уже выполнил аналогичную работу по ускорению и специализации в древнем мире. Скорость, по крайней мере на низших уровнях механического порядка, всегда вызывает разделение, расширение и усложнение функций тела. Даже специализированное обучение в сфере высшего образования достигается за счет игнорирования взаимосвязей, ведь комплексное осознание замедляет достижение экспертной подготовки.
Почтовые дороги в Англии оплачивались в основном газетами. Быстрый рост дорожного движения вызвал появление железной дороги, которая, в отличие от обычной дороги, дала применение более специализированной форме колеса. История современной Америки, которая, как метко заметил один остряк, началась с открытия индейцами белого человека, быстро перешла от разведки земель на каноэ к развитию железнодорожного сообщения. На протяжении трех столетий Европа вкладывала в Америку деньги ради ее рыбы и пушнины. Дороге и почтовому тракту как характерным приметам североамериканской пространственной организации предшествовали рыболовная шхуна и каноэ. Европейские инвесторы, вкладывая деньги в торговлю мехами, естественно, не хотели иметь здесь опасных железнодорожных путей, переполненных Томами Сойерами и Гекльберри Финнами. Они боролись с разведчиками и поселенцами вроде Вашингтона и Джефферсона, которым просто в голову не приходило мыслить обо всем под углом зрения пушнины. Таким образом, война за независимость имела глубокую связь с соперничеством по поводу средств коммуникации и рынков. Любое новое средство коммуникации, ускоряясь, ставит под удар жизни и инвестиции целых сообществ. Железная дорога довела до неслыханной интенсивности искусство войны, сделав гражданскую войну в Америке первым крупным конфликтом, в котором оказались задействованы железнодорожные пути, и вызвав восхищенное ее изучение во всех европейских генеральных штабах, у которых пока еще не было возможности воспользоваться железными дорогами для всеобщего кровопролития.
Война есть всегда не что иное, как ускоренное технологическое изменение. Она начинается, когда неравенство темпов роста приводит к какому-нибудь заметному дисбалансу между существующими структурами. Слишком поздние индустриализация и объединение Германии на многие годы выбили ее из состязания за рынки и колонии. Как наполеоновские войны представляли собой в технологическом плане своего рода подтягивание Франции к Англии, так и первая мировая война сама по себе стала важным этапом в окончательной индустриализации Германии и Америки. Сегодня Россия показала, в отличие от не сумевшего показать это ранее Рима, что милитаризм сам по себе есть основной путь технического просвещения и ускорения отсталых регионов.
За войной 1812 г. последовал почти единодушный порыв к улучшению сухопутных путей сообщения. К тому же, британская блокада Атлантического побережья вызвала беспрецедентное повышение объема сухопутных перевозок, подчеркнув тем самым неудовлетворительное состояние дорог. Война определенно есть форма такого подчеркивания, позволяющая многим увидеть во всей красе отставание общественного внимания. Между тем, в пору горячего мира, наставшего после второй мировой войны, проявили свою неадекватность магистрали разума. А после запуска первого спутника многие почувствовали неудовлетворенность нашими методами образования точно так же, как многие во время войны 1812 г. жаловались на дороги.
В настоящее время, когда человек с помощью электрической технологии вынес наружу свою центральную нервную систему, поле битвы переместилось в ментальное сотворение-и-сокрушение-образов — как в войне, так и в бизнесе. До наступления электрической эпохи высшее образование было привилегией и удовольствием праздных классов; сегодня оно стало насущной необходимостью для производства и выживания. Теперь, когда на передний план вышел оборот информации, потребность в передовых знаниях давит даже на души тех, кто безнадежно погряз в рутине. Столь стремительный прорыв академической подготовки на рынок имеет свойства классической перипетии, или обращения; результатом его стал неудержимый гогот, доносящийся из галерок и кампусов. Бурное веселье, однако, стихает, стоит новоиспеченным докторам философии облачиться в чиновничьи костюмы.
Дабы увидеть, как акселерация колеса, дороги и бумаги по-новому взбалтывает население и меняет формы поселения, бросим беглый взгляд на некоторые примеры, приведенные Оскаром Хандлином[154] в исследовании «Бостонские иммигранты».[155] В 1790 году, рассказывает он нам, Бостон был компактной территориальной единицей. Все рабочие и торговцы жили на виду друг у друга, так что не было ни малейшей тенденции к разделению жилых кварталов по классовому признаку. «Но по мере того как город рос в размерах, а окраинные районы становились все более доступными, люди рассеивались по городу и одновременно локализовывались в разных обособленных районах». В одном этом предложении заключена в сжатом виде идея настоящей главы. Приведенное высказывание можно обобщить, подведя под него искусство письма: «По мере того как знание визуально распространялось и становилось более доступным в алфавитной форме, оно локализовывалось и разделялось на специальные области». Вплоть до момента, непосредственно предшествующего электрификации, нарастание скорости создает разделение функций, социальных классов и знания.
С появлением электрической скорости, однако, все обращается вспять. На смену механическому взрыву и экспансии приходят сжатие и уплотнение. Если распространить формулу Хандлина на власть, она приобретает следующий вид: «По мере того как власть разрасталась и ей становились доступны внешние для нее области, она локализовывалась в разных делегируемых должностях и функциях». Эта формула отражает принцип акселерации на всех уровнях человеческой организации. И прежде всего она касается тех расширений наших физических тел, которые явлены в колесе, дороге и бумажных посланиях. Теперь, когда в электрической технологии мы вынесли наружу не просто наши физические органы, но саму нервную систему, принцип специализма и разделения как фактор скорости уже неприменим. Когда информация движется со скоростью передачи сигналов в центральной нервной системе, человек сталкивается с устареванием всех прежних форм ускорения, таких, как дорога и железная дорога. Взамен появляется тотальное поле инклюзивного осознания. Старые образцы психического и социального приспособления утрачивают свою действенность.
Хандлин рассказывает, что до 20-х годов девятнадцатого века бостонцы имели обыкновение ходить по улицам пешком либо пользовались частными транспортными средствами. В 1826 году появились запряженные лошадьми фургоны, которые намного ускорили и расширили ведение бизнеса. Тем временем ускорение промышленности в Англии распространило бизнес в сельские районы, заставив многих оторваться от земли и повысив масштабы иммиграции. Доставка иммигрантов морем стала доходным делом и вызвала огромное ускорение океанских перевозок. Затем британские власти поддержали деньгами Линию Кунарда[156] для обеспечения быстрого контакта с колониями. Вскоре к почтовой службе Кунарда были подсоединены железные дороги, чтобы доставлять почту и иммигрантов в глубинные районы.
Хотя Америка развила широкую сеть внутренних каналов и речного пароходного сообщения, они не были приспособлены к набирающим скорость колесам нового промышленного производства. Нужна была железная дорога, чтобы справиться с механизированным потоком продукции и соединить огромные пространства континента. Железная дорога с паровой тягой как средство ускорения оказалась одним из самых революционных расширений наших физических тел, создав новую политическую централизацию и новый тип формы и размера города. Именно железной дороге американский город обязан своей абстрактной решетчатой планировкой и неорганическим разделением производства, потребления и проживания. Автомобиль привел абстрактную форму промышленного города в беспорядок, перемешав его разделенные функции до такой степени, что это разочаровало и озадачило как градопланировщика, так и гражданина. Осталось лишь самолету довести до конца эту путаницу, усложнив мобильность гражданина до той точки, когда городское пространство как таковое становится нерелевантным. В равной мере нерелевантно пространство крупного города для телефона, телеграфа, радио и телевидения. То, что градопланировщики при обсуждении идеальных городских пространств называют «человеческим масштабом», тоже никак не вяжется с этими электрическими формами. Наши электрические расширения самих себя попросту игнорируют пространство и время, создавая проблемы человеческого вовлечения и организации, прецедента которым в истории еще не было. Хотя мы и можем иной раз вспомнить с тоской о простых временах автомобиля и сверхскоростной магистрали.
ГЛАВА 11. ЧИСЛО ПРОФИЛЬ ТОЛПЫ
Гитлер сделал особое пугало из Версальского договора, поскольку тот вызвал дефляцию германской армии. После 1870 года щелкающие каблуками солдаты германской армии стали новым символом племенного единства и племенного могущества. В Англии и Америке то же чувство количественного величия, проистекавшее из голых числовых множеств, связывалось с лавинообразным выпуском промышленной продукции и статистикой благосостояния и производства: «миллион цистерн». Голые числовые множества, будь то в благосостоянии или в толпах, обладают непостижимой способностью создавать динамическое побуждение к росту и расширению. Элиас Канетти в трактате «Масса и власть» иллюстрирует глубокую связь между денежной инфляцией и поведением толпы. Он удивляется, что мы до сих пор так и не удосужились изучить инфляцию как феномен толпы, ибо она оказывает поистине всепроникающее воздействие на наш современный мир. Экономическую и популяционную инфляцию, видимо, должно бы было связать побуждение к неограниченному росту, внутренне присущее любому типу толпы, кучи или орды.
В театре, на балу, на футбольном матче, в церкви каждый индивид наслаждается присутствием всех остальных.[157] Удовольствие от пребывания в массах заключается в той радости от преумножения числа, наличие которой уже давно подозревали у грамотных членов западного общества.
В таком обществе отделение индивида от группы в пространстве (приватность), в мышлении («точка зрения») и в работе (специализация) пользовалось культурной и технологической поддержкой грамотности и сопутствовавшей ей галактики фрагментированных индустриальных и политических институтов. Вплоть до недавнего времени способность печатного слова создавать гомогенизированного социального человека неуклонно возрастала, порождая парадокс «массового сознания» и массовый милитаризм гражданских армий. Доведенные до своей механизированной крайности буквы, по-видимому, часто приводили к последствиям, прямо противоположным цивилизации, точь-в-точь как в былые времена нумерация разрушала племенное единство, о чем говорится в Ветхом Завете («И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление Израильтян»[158]). Фонетические буквы и числа стали первыми средствами фрагментации и детрайбализации человека.
На протяжении всей западной истории мы традиционно и справедливо считали буквы источником цивилизации и смотрели на свои литературы как на критерий цивилизованного достижения. Тем не менее на всем этом пути рядом с нами шествовал призрак числа, языка науки. Взятое само по себе, число столь же таинственно, как и письмо. Но если рассмотреть его как расширение наших физических тел, оно становится вполне понятным. Как письмо есть расширение и отделение самого нейтрального и объективного нашего чувства, а именно зрения, так и число есть расширение и отделение самой интимной и связующей нашей активности — нашего чувства осязания.
Эту способность к осязанию, которую греки называли «гаптическим» чувством, пропагандировала в 20-е годы в Германии Баухаузская программа чувственного воспитания через работы Пауля Клее, Вальтера Гропиуса[159] и многих других. Чувство осязания, наделяющее произведение искусства своего рода нервной системой или органическим единством, пленило умы художников еще со времен Сезанна.[160] Уже более века художники пытаются в ответ на вызов электрической эпохи отвести тактильному чувству роль нервной системы, объединяющей все остальные чувства. Парадоксально, но достичь этого удалось «абстрактному искусству», предложившему произведению искусства вместо общепринятой оболочки старого изобразительного образа центральную нервную систему. Люди все более сознавали, что чувство осязания необходимо для интегрального существования. Невесомое существо, заключенное в пространственную капсулу, должно бороться за сохранение интегрирующего чувства осязания.[161] Наши механические технологии, расширяя и обособляя функции наших физических тел, вплотную подвели нас к состоянию дезинтеграции, сделав нас неосязаемыми для нас самих. Вполне возможно, что в нашей сознательной внутренней жизни чувство осязания конституируется именно взаимодействием между чувствами. Может быть, осязание — это не просто контакт кожи с вещами, но сама жизнь вещей в разуме? У греков существовало представление о согласии, или «общем чувстве», переводящем каждое из чувств в любое другое и дарующем человеку сознание. Сегодня, когда мы с помощью технологии расширили наружу все части наших тел и все наши чувства, нас одолевает потребность во внешнем согласовании технологии и опыта, которое бы вознесло наши общественные жизни на уровень всемирного консенсуса. Теперь, когда мы достигли всемирной фрагментации, нет ничего противоестественного в том, чтобы задуматься о всемирной интеграции. О такой всеобщности сознания всего человечества мечтал Данте, считавший, что люди будут оставаться всего лишь фрагментированными осколками, пока не объединятся во всезаключающем осознании. Что мы имеем, однако, сегодня вместо электрически упорядоченного общественного сознания, так это частное подсознание, или индивидуальную «точку зрения», сурово насаждаемую нам нашей старой механической технологией. Это совершенно естественный результат «культурного отставания», или конфликта в мире, зависшем между двумя технологиями.
Древний мир магически связывал число со свойствами материальных вещей и с их необходимыми причинами, во многом так же, как наука вплоть до недавнего времени стремилась свести все объекты к исчисляемым количествам. В любом и каждом из своих проявлений, однако, число имеет, по-видимому, как слуховой и повторяющийся резонанс, так и тактильное измерение. Именно этим качеством числа объясняется его способность создавать эффект иконы, или сжатого инклюзивного образа. Так его и используют в газетных и журнальных сообщениях, например: «Велосипедист Джон Джеймисон, 12 лет, столкнулся с автобусом», — или: «Уильям Сэмсон, 51 год, новый вице-президент, отвечающий за чистку».[162] Журналисты случайно для себя открыли иконическую силу числа.
Со времен Анри Бергсона и художественной группы «Баухауз», не говоря уж о Юнге и Фрейде, бесписьменные и даже антиписьменные ценности племенного человека были удостоены энергичного исследования и нашли себе верных сторонников. Для многих европейских художников и интеллектуалов одной из объединяющих точек в их поиске интегрального Романтического Образа стал джаз. Безоговорочный восторг европейского интеллектуала перед племенной культурой звучит в восклицании, которое вырвалось у архитектора Ле Корбюзье при первом посещении Манхэттена: «Да это же горячий джаз в камне!» Тот же восторг сквозит в описании художником Мохой-Надем[163] своего посещения в 1940 г. одного из сан-францисских ночных клубов. Негритянский бэнд играл с энергией и задором. Вдруг один музыкант произнес нараспев: «Один миллион и трио. Ему ответили: «Один миллион и семь с половиной». Затем другой пропел: «Одиннадцать», — а еще кто-то: «Двадцать один». Так среди «беззаботного смеха и пронзительного пения заняли свое место числа».
Мохой-Надь отмечает, что европейцам Америка кажется страной абстракций, где числа обрели собственное самостоятельное существование в таких, например, выражениях: «57 Varieties», «the 5 and 10», «7 Up» или «behind the 8-ball».[164] Америка считает. Быть может, это своего рода эхо индустриальной культуры, очень зависящей от цен, таблиц и цифр. Взять хотя бы 36-24-36. Никогда числа не бывают так чувственно осязаемы, как когда кто-то бормочет их в качестве магической формулы женской фигуры, в то время как гаптическая рука обводит воздух.
Бодлер правильно уловил суть числа как тактильной руки или нервной системы, взаимно связывающей разрозненные элементы, когда сказал: «Число заложено в индивидууме. Опьянение — это число».[165] Этим объясняется, почему «удовольствие быть в толпе — это таинственное выражение радости, возникающей от умножения числа». Иначе говоря, число не только является слуховым и резонирующим, подобно устному слову, но и уходит корнями в чувство осязания, расширением которого оно служит. Статистическое скопление, или столпотворение, чисел рождает современные наскальные росписи и рукотворные рисунки статистических таблиц. С какой стороны ни возьми, нагромождение чисел статистически дает человеку новый приток примитивной интуиции и магически подсознательного осознания, будь то общего вкуса или общего чувства: «Вы чувствуете больше удовольствия, когда пользуетесь хорошо известными торговыми марками».
Подобно деньгам, часам и всем прочим формам измерения, числа с развитием письменности приобрели свою особую жизнь и интенсивность. Бесписьменные общества почти не пользовались числами, и даже сегодня бесписьменный цифровой компьютер заменяет числа ответами «да» или «нет». Компьютер силен в очертаниях, но слаб в цифрах. А следовательно, электрическая эпоха снова — к худу ли, к добру ли — возвращает число в единство с визуальным и слуховым опытом. Труд Освальда Шпенглера «Закат Европы» родился в значительной степени из его увлечения новой математикой. Шпенглеру показалось, что неевклидовы геометрии, с одной стороны, и появление Функций в теории чисел, с другой, предрекают конец западного человека. Он не уловил того, что изобретение евклидова пространства само по себе есть прямой результат воздействия на человеческие чувства фонетического алфавита. Не понял он и того, что число — это расширение физического тела человека, вынесение наружу нашего чувства осязания. «Бесконечность функциональных процессов», в которой Шпенглер угрюмо узрел исчезновение традиционного числа и геометрии, опять-таки, является расширением нашей центральной нервной системы в электрические технологии. Нам не следует испытывать особой благодарности к апокалиптическим авторам вроде Шпенглера, видящим в наших технологиях космических пришельцев из внешнего пространства. Всякого рода Шпенглеры — это погрузившиеся в племенной транс люди, страждущие обморочного впадения в коллективное бессознательное и абсолютного опьянения числом. Индийская идея даршана[166] — мистического опыта пребывания в очень больших скоплениях людей — диаметрально противоположна западной идее сознательных ценностей.
Наиболее примитивные из племен Австралии и Африки, подобно сегодняшним эскимосам, так до сих пор и не научились считать по пальцам и не расставляют числа в последовательные ряды. Вместо этого они располагают бинарной системой независимых чисел, обозначающих «один» и «два», а также составными числами, доходящими до «шести». После шести они воспринимают только «кучу». Не обладая чувством последовательного ряда, они вряд ли заметят, если из ряда, состоящего из семи булавок, будут вынуты две. Но при этом они мгновенно замечают, когда недостает одной булавки. Тобиас Данциг, занимавшийся изучением этих проблем, отмечает в книге «Число: язык науки»,[167] что чувство равенства, или кинестетическое чувство, развито у этих людей сильнее, чем чувство числа. Это явно указывает на то, что с появлением числа в культуре нарастает визуальный стресс. Плотно интегрированная племенная культура с трудом подчиняется сепаратистским визуальным и индивидуалистическим давлениям, которые приводят к разделению труда, а после к таким акселерированным формам, как письмо и деньги. В свою очередь, западному человеку, если бы он решил и дальше хранить преданность тем фрагментированным и индивидуалистическим обычаям, которые он почерпнул в частности из печатного слова, вполне можно было бы посоветовать выкинуть на свалку всю его электрическую технологию, появившуюся после телеграфа. Имплозивный (сжимающий) характер электрической технологии отыгрывает пластинку, или фильм, западного человека назад, погружая его в самое сердце племенной тьмы, или в то, что Джозеф Конрад[168] назвал «Африкой внутри». Мгновенность электрического движения информации ничего не укрупняет; она втягивает человеческий род в сплоченное состояние деревенской жизни.
Кажется внутренним противоречием, что способность нашего аналитического западного мира дробить и разделять должна проистекать из акцентирования визуальной способности. Ведь то же самое визуальное чувство отвечает и за привычку видеть все вещи непрерывными и связными. Фрагментирование посредством визуального акцента проявляется в том обособлении временного момента или пространственного аспекта, которое не способны осуществить ни осязание, ни слух, ни обоняние, ни движение. Навязывая невизуализируемые взаимосвязи, являющиеся результатом мгновенной скорости, электрическая технология сбрасывает с трона визуальное чувство и возвращает нас в царство синестезии и тесного взаимопроникновения других чувств.
То, что удалось узреть Шпенглеру в бегстве Запада от Величия Числа в Волшебную Страну Функций и абстрактных отношений, погрузило его в Трясину Отчаяния.[169] «Изречение, что число есть сущность всех чувственно осязаемых вещей, — писал он, — осталось наиболее значимым высказыванием античной математики. Число определено здесь как мера. В нем заложено все мирочувствование души, страстно обращенной к теперь и здесь. Измерять в этом смысле — значит измерять нечто близкое и телесное».[170]
У Шпенглера через каждую страницу просвечивает экстатический племенной человек. Ему ни разу не приходило в голову, что пропорция (ratio) между телесными вещами просто не может быть иной, нежели рациональной. Иначе говоря, сама рациональность, или сознание, есть пропорция, или соотношение между чувственными компонентами опыта, а не нечто, к такому чувственному опыту добавляемое. Дорациональные существа не располагают средствами для достижения такой пропорции, или соотношения, в своей чувственной жизни; они привязаны, так сказать, к фиксированным длинам волн, безотказно надежным в их области опыта. Сознание, вещь сложная и тонкая, может быть ослаблено или вообще выключено просто резким повышением или понижением интенсивности любого из чувств; такая процедура применяется в гипнозе. Интенсификация какого-то отдельно взятого чувства новым средством коммуникации может погрузить в гипноз все сообщество. Таким образом, рассудив, что взору его предстало Упразднение современной математикой и наукой визуальных связей и построений ради принятия невизуальной теории отношений и функций, Шпенглер объявил кончину Запада.
Возьми Шпенглер на себя труд отыскать истоки числа и евклидова пространства в психологических следствиях фонетического алфавита, «Закат Европы», возможно, никогда не был бы написан. Эта работа базируется на допущении, что человек классической древности — аполлоновский человек — был не продуктом особого технологического уклона греческой культуры (а именно, раннего влияния письменности на племенное общество), а результатом особого трепета в душевном аппарате, взлелеявшего греческий мир. Это поразительный пример того, насколько легко человек любой культуры впадает в панику, когда какой-то привычный образец или ориентир теряет свою беспримесную чистоту или меняется под косвенным давлением нового средства коммуникации. Шпенглер, во многом как и Гитлер, почерпнул из радио подсознательное право объявить конец всех «рациональных», или визуальных, ценностей. Он вел себя на манер Пипа из «Больших ожиданий» Диккенса.[171] Пип был бедным мальчишкой, у которого был тайный благодетель, хотевший, чтобы Пип возвысился до статуса джентльмена. Пип проявлял готовность и желание достичь этого, пока не узнал, что его благодетелем был беглый заключенный. Шпенглер, Гитлер и еще многие потенциальные «иррационалисты» нашего века подобны мальчикам, разносящим поющие телеграммы, которые пребывают в блаженном неведении относительно средства коммуникации, подсказывающего им песню, которую они поют.
По мнению Тобиаса Данцига (представленному в его книге «Число: язык науки»), прогресс, приведший от тактильного счета на пальцах ног и рук к «гомогенному понятию числа, сделавшему возможной математику», есть результат визуального отвлечения от операции тактильного манипулирования. Обе крайности процесса выражены в нашей повседневной речи. Гангстерское понятие to put the finger оп[172] («донести на кого-то») говорит о том, что настал чей-то «черед» (number[173]). На полюсе графических профилей, построением которых занимаются статистики, откровенно выражена цель манипулирования населением ради решения каких-то задач власти. Так, в офисе любого крупного биржевого маклера есть современный знахарь, известный под именем «мистер Одд Лотс».[174] Его магическая функция состоит в том, чтобы изучать ежедневные покупки и продажи, совершаемые на больших торгах мелкими покупателями. Долгий опыт показал, что в 80 процентах случаев эти мелкие покупатели ошибаются. Статистический профиль неосведомленности маленького человека позволяет крупным операторам примерно в 80 процентах случаев поступать правильно. Так благодаря числам из ошибки рождается истина, а из бедности — богатство. Такова современная магия чисел. Более примитивная установка в отношении магической власти чисел проявилась в ужасе, охватившем англичан, когда Вильгельм Завоеватель[175] пересчитал их и их имущество в книге, которую народная молва окрестила «Книгой страшного суда».[176]
Вновь коротко возвращаясь к вопросу о числе в его более ограниченном проявлении, Данциг указывает на еще один письменно-визуальный фактор, присущий прежней математике, ясно утверждая, что идея гомогенности должна была возникнуть раньше, чем появилась возможность развить на основе примитивных чисел математику как таковую. Он отмечает: «Соотношение и последовательность, два принципа, пронизывающие всю математику — и, более того, все области точного мышления, — вплетены в саму ткань нашей системы чисел». Таким образом, они, по сути, вплетены в саму ткань западной логики и философии. Мы уже видели ранее, как фонетическая технология выпестовала визуальную непрерывность и индивидуальную точку зрения, а последние внесли свою лепту в возникновение однородного евклидова пространства. Данциг говорит, что именно идея соотношения дает нам кардинальные числа. Обе упомянутые пространственные идеи — линейности и точки зрения — приходят вместе с письмом, особенно письмом фонетическим; но ни одна из них не является необходимой в нашей новой математике и физике. Не является необходимым для электрической технологии и письмо. Письмо и общепринятая арифметика, разумеется, еще долго могут сохранять свою высокую практическую ценность для человека, но только и всего. Даже Эйнштейну встреча с новой квантовой механикой не доставила особого внутреннего комфорта. Будучи слишком визуальным ньютонианцем для восприятия этой новой задачи, он говорил, что с квантами нельзя обращаться математически. Это все равно что сказать, что поэзию невозможно адекватно перевести в сугубо визуальную форму печатной страницы.
Данциг, развивая далее свои рассуждения о числе, говорит, что хотя арифметические руководства эпохи Возрождения продолжали давать подробные правила счета на руках, обученное грамоте население быстро отходит от абака[177] и счета на пальцах. Правда, в некоторых культурах числа могли появиться раньше письменности, но и в них появлению письма предшествовал визуальный стресс. Ибо письмо — всего лишь главное из проявлений расширения нашего визуального чувства, о чем могут напомнить нам сегодня фотография и кино. Задолго до того, как появилась письменная технология, бинарных факторов рук и ног было достаточно, чтобы направить человека на путь подсчетов. Математик Лейбниц даже видел в мистической красоте бинарной системы нуля и единицы образ Творения. Он считал, что единства Высшего Существа, действующего в пустоте посредством бинарной функции, вполне достаточно для сотворения из ничего всего существующего.
Данциг напоминает нам также, что в эпоху манускрипта существовало хаотическое многообразие знаков, обозначающих цифры, и что стабильную форму они приняли лишь с рождением книгопечатания. Хотя это культурное последствие книгопечатания было далеко не самым важным, оно должно напомнить нам о том, что одним из крупных факторов, побудивших греков принять буквы фонетического алфавита, были престиж и распространенность той системы счисления, которую применяли финикийские торговцы. Римляне переняли у греков финикийские буквы, но сохранили свою, гораздо более древнюю систему счисления. Комики Уэйн и Шустер неизменно вызывают взрывы хохота, выстраивая в ряд группу древнеримских полицейских в тогах и заставляя их рассчитываться слева направо, выкрикивая римские цифры. Эта шутка демонстрирует, как давление чисел заставляло людей искать все более прямолинейные методы счисления. До появления порядковых, последовательных, или позиционных чисел правителям приходилось подсчитывать большие отряды солдат, используя методы фильтрования. Иногда их сбивали группами в участки, имевшие приблизительно известную площадь. Еще одним методом, связанным отчасти с абаком и счетной доской, был метод, в соответствии с которым их заставляли проходить шеренгами или бросать камни в резервуар. Со временем метод применения счетной доски привел к великому открытию: в первые века нашей эры был открыт принцип позиции. Благодаря последовательному помещению одного за другим чисел 3, 4 и 2 в позиции на доске открылась возможность фантастически повысить скорость и потенциал калькуляции. Открытие калькуляции посредством позиционных чисел, а не просто с помощью добавочных чисел, привело, помимо прочего, к открытию нуля. Сами позиции на доске для 3 и 2 создавали двусмысленность того, что имеется в виду: 32 или 302. Появилась потребность в особом знаке для обозначения пробелов между числами. Однако только в тринадцатом веке эта сифр (арабское слово, означавшее «пробел» или «пустой») была латинизирована и вошла в нашу культуру как «цифра» (ziphrium), после чего, в конце концов, превратилась в итальянское zero. Фактически нуль обозначал позиционный пробел. Незаменимое качество «бесконечности» он приобрел лишь с появлением перспективы и «точки схода» в живописи эпохи Возрождения. Новое визуальное пространство живописи эпохи Возрождения повлияло на число так же сильно, как и несколькими столетиями раньше линейное обслуживание.
Теперь, когда установилась связь между средневековым позиционным нулем и точкой схода эпохи Возрождения, проявил себя основной факт, касающийся чисел. То, что греческой и римской культурам точка схода и бесконечность были неведомы, можно объяснить как побочный продукт письменности. До тех пор, пока печать не расширила визуальную способность в предельно высокую степень отчетливости, единообразия и интенсивности особого рода, другие чувства не могли быть ограничены или подавлены настолько, чтобы создать новое осознание бесконечности.
Будучи одним из аспектов перспективы и книгопечатания, математическая, или числовая, бесконечность служит примером того, как различные наши физические расширения, или средства коммуникации, действуют друг на друга через посредство наших чувств. Так человек становится репродуктивным органом технологического мира, о чем эксцентрично возвестил в романе «Едгин» Самюэл Батлер.[178] Воздействие любого вида технологии рождает в час новое равновесие, приводящее, в свою очередь, к рождению совершенно новых технологий, как мы увидели только что на примере взаимодействия числа (тактильной и количественной формы) с более абстрактными формами письменной, или визуальной, культуры. Технология печати преобразовала средневековый нуль в бесконечность эпохи Возрождения и сделала это не только в силу конвергенции (перспективы и точки схода), но и благодаря тому, что впервые в человеческой истории привела в действие фактор точной повторяемости. Печать дала людям понятие беспредельного повторения, необходимое для формирования математического понятия бесконечности.
Кроме того, Гутенбергов факт единообразных, непрерывных и до бесконечности повторяемых единиц способствовал рождению связанного с ним понятия исчисления бесконечно малых величин, благодаря которому стал возможен перевод любого пространства, пусть даже самого хитрого, в прямое, плоское, единообразное и «рациональное». Отнюдь не логикой было навязано нам это понятие бесконечности. Это был дар Гутенберга. Равно как и возникшая позже промышленная сборочная линия. Способность переводить знание в механическое производство путем разбиения любого процесса на фрагментированные аспекты и дальнейшего размещения их в линейную последовательность заменимых, но единообразных частей была формальной сущностью печатного пресса. Эта удивительная техника пространственного анализа, немедленно начинающая дублировать себя на манер своего рода эха, проникла в мир числа и осязания.
Здесь, стало быть, мы имеем всего лишь один из известных, хотя и неосознаваемых случаев, иллюстрирующих способность одного средства коммуникации переводить себя в другое средство. Поскольку все средства коммуникации являются расширениями наших тел и чувств, а мы в своем собственном опыте привычным образом переводим одно чувство в другое, нас не должно удивлять, что наши вынесенные наружу чувства, или технологии, должны повторять процесс перевода и преобразования одной формы в другую. По своему характеру этот процесс вполне может быть неотделим от осязания и тесного соприкосновения поверхностей, идет ли речь о химии, толпах или технологиях. Таинственная потребность толп в росте и внешнем действии, характерная в такой же степени и для больших скоплений богатства, сразу становится понятной, если деньги и числа в действительности суть технологии, выносящие наружу способность осязания и хватательную способность руки. Ибо тогда мы прозреваем в численных множествах (будь то в массах людей, нагромождениях цифр или скоплениях денег) одну и ту же фактуальную магию схватывания и поглощения.
Греки с головой окунулись в проблему перевода своих новых средств коммуникации, когда попытались применить рациональную арифметику к проблемам геометрии. Сразу вырос призрак Ахилла и черепахи. Эти попытки обернулись первым кризисом в истории нашей западной математики. Кризис был связан с проблемами определения диагонали квадрата и длины окружности; здесь мы видим ясный пример того, как число, то есть осязание, пытается справиться с визуальным и изобразительным пространством путем сведения визуального пространства к самому себе.
Что же касается эпохи Возрождения, то именно исчисление бесконечно малых величин позволило арифметике возобладать над механикой, физикой и геометрией. Именно идея бесконечного, но непрерывного и единообразного процесса, лежащая в основе Гутенберговой технологии съемных наборных литер, дала толчок развитию калькуляции. Стоит изгнать бесконечный процесс, и математика — как чистая, так и прикладная, — вернется в то состояние, в котором она пребывала до Пифагора. Иначе говоря, стоит лишь изгнать новое средство печати с его фрагментированной технологией единообразной, линейной повторяемости, и современная математика тут же исчезнет. Но стоит только применить этот бесконечный единообразный процесс к нахождению длины дуги, и задача сведется к тому, чтобы вписать в дугу последовательность прямолинейных контуров, состоящую из все большего числа отрезков. Когда эти контуры приблизятся к пределу, предел данной последовательности как раз и будет длиной дуги. Старый метод определения объема с помощью вытеснения жидкости переводится исчислением в абстрактные визуальные термины. Принципы, относящиеся к понятию длины, применимы также к понятиям площадей, объемов, масс, моментов, давлений, сил, напряжений, натяжений, скоростей и ускорений.
Чудотворная чистая функция бесконечно фрагментируемого и повторяемого стала средством превращения в визуально плоское, прямое и единообразное всего, что было прежде невизуальным: косого, кривого и ухабистого. Точно так же много веков назад фонетический алфавит проник во внутренне неоднородные культуры варваров и перевел их шероховатые и грубые черты в единообразные качества визуальной культуры западного мира. Именно этот единообразный, связный и визуальный порядок мы до сих пор принимаем за норму «рациональной» жизни. В нашу электрическую эпоху мгновенных и невизуальных форм взаимосвязи мы, следовательно, оказываемся неспособны определить, что такое «рациональное», уже хотя бы потому, что мы никогда не обращали внимания на то, откуда оно изначально возникло.
ГЛАВА 12. ОДЕЖДА НАША РАЗРОСШАЯСЯ КОЖА
По оценкам экономистов, неодетое общество съедает на 40 процентов больше, чем общество, одевшееся в западные наряды. Одежда как расширение нашей кожи помогает нам сохранять и перенаправлять энергию, так что если западный человек меньше нуждается в пище, то он может одновременно и требовать больше секса. Тем не менее ни одежду, ни секс нельзя понять как отдельные изолированные факторы; многие социологи отмечали, что секс может становиться компенсацией жизни в толпе. Приватность, как и индивидуализм, неведома племенным обществам, и западный человек должен постоянно об этом помнить, когда берется оценивать привлекательность нашего образа жизни для бесписьменных народов.
В одежде как внешнем расширении кожи можно видеть как механизм управления теплом, так и средство социального определения Я. В этом отношении одежда и жилье почти близнецы, хотя одежда и ближе, и старше. Если жилье выносит внутренние механизмы управления теплом нашего организма наружу, то одежда является более непосредственным расширением внешней поверхности тела. Сегодня европейцы начали одеваться для ублажения глаза, по-американски, в то самое время, когда американцы стали отказываться от своего традиционного визуального стиля. Медиа-аналитик знает, почему эти противоположные стили внезапно меняются своим местонахождением. Европеец со времен второй мировой войны начал акцентировать визуальные ценности; не случайно его экономика поддерживает в настоящее время массовый выпуск единообразных потребительских благ. Американцы же впервые взбунтовались против единообразных потребительских ценностей. В автомобилях, одежде, книгах в бумажных обложках, в бородах, детишках и пышных прическах — везде американец выступил за перенесение акцента на осязаемость, участие, вовлечение и скульптурные ценности. Америка, бывшая некогда страной абстрактно-визуального порядка, снова вошла в глубокий «контакт» с европейскими традициями питания, жизни и искусства. То, что для экспатриантов 1924 г. было авангардной программой, стало нормой для нынешнего тинэйджера.
Между тем, европейцы пережили своеобразную революцию потребления в конце восемнадцатого века. Когда индустриализм был еще в диковинку, среди высших классов стало модно отказываться от богатой придворной одежды в пользу более простой. Это было время, когда мужчины впервые облачились в штаны простого солдата-пехотинца (или пионера, в первоначальном значении этого французского слова), однако делалось все это тогда как своего рода поспешный жест социальной «интеграции». До сих пор феодальная система склоняла высшие классы одеваться так же, как они говорили, то есть в куртуазном стиле, совершенно оторванном от манер простых людей. Одежда и речь были наделены тем великолепием и богатством текстуры, которое со временем было полностью уничтожено всеобщей грамотностью и массовым производством. Например, швейная машина создала длинную прямую строчку в одежде подобно тому, как линотип выровнял стиль произношения.
Одно из последних рекламных объявлений C-E-I-R Computer Services изображало простую хлопчатобумажную одежду, снабженную заголовком: «Почему госпожа «X» носит такую одежду?» Имелась в виду жена Никиты Хрущева. На некоторых экземплярах этого весьма изобретательного объявления имелось еще и продолжение: «Это икона. Своему ущемленному народу и неприсоединившимся странам Востока и Юга она говорит: "Мы бережливые, простые, правдивые, миролюбивые, домашние, хорошие". Свободным народам Запада она говорит: "Мы вас закопаем"».
Именно такое сообщение посылала новая простая одежда наших предков феодальным классам во времена Французской революции. Тогда одежда была невербальным манифестом политического переворота.
Сегодня в Америке появилась революционная установка, находящая выражение как в нашей одежде, так и в наших патио и маленьких автомобилях. За какое-то десятилетие с небольшим женские стили одежды и прически отбросили визуальный акцент ради переключения на икони-ческий, то есть скульптурный и осязательный. Подобно штанам тореадора и гетровым чулкам, пышная прическа тоже скорее иконична и чувственно инклюзивна, нежели абстрактно-визуальна. Словом, американская женщина впервые преподносит себя как человека, на которого можно не только смотреть, но которого можно также потрогать и обнять. В то время как русских одолевает смутная тяга к визуальным потребительским ценностям, североамериканцы резвятся посреди заново открытых ими тактильных, скульптурных пространств автомобилей, одежды и жилища. По этой причине нам теперь относительно легко распознать в одежде расширение кожи. В эпоху бикини и подводного плавания мы начинаем понимать «замок нашей кожи» как особое пространство и особый мир. Душещипательная острота стриптиза канула в прошлое. Нагота могла быть греховно возбуждающей лишь для визуальной культуры, отрезавшей себя от аудио-тактильных ценностей менее абстрактных обществ. Еще в 1930 году непристойные слова, визуально запечатленные на печатной странице, казались чем-то диковинным. Слова, употребляемые большинством людей ежедневно и ежечасно, стоило только их напечатать, становились не менее возмутительны, чем сама нагота. Большинство «слов из трех букв» до предела нагружены тактильным акцентом. Поэтому они и кажутся такими земными и живыми визуальному человеку. Так же и с наготой. Для отсталых культур, все еще укорененных в полной гамме чувственной жизни и еще не абстрагированных письменностью и индустриальным визуальным порядком, нагота всего лишь трогательна. В отчете Кинси о сексуальной жизни мужчины[179] выразилась озадаченность тем, что крестьяне и отсталые народы не смакуют супружескую наготу и наготу будуара. Хрущеву не понравился канкан, которым его пытались развлечь в Голливуде. И это вполне естественно. Такого рода имитация чувственного вовлечения значима лишь для обществ, прошедших долгую школу письменности. Отсталые народы подходят к наготе, если она вообще их интересует, с установкой, которую мы привыкли ожидать от наших художников и скульпторов — установкой, включающей все чувства сразу. Для человека, использующего весь чувственный аппарат, нагота — богатейшее из возможных выражений структурной формы. Для очень визуальной и разбалансированной чувственности индустриальных обществ внезапное столкновение с тактильной плотью становится поистине опьяняющей музыкой.
Сегодня происходит движение к новому равновесию, в ходе которого мы сознаем то предпочтение, которое оказываем в одежде грубым, тяжелым текстурам и скульптурным формам. Также имеет место ритуалистическое выставление тела в помещениях и на улице. Психологи давно учили нас, что мы слышим в значительной мере через кожу. После многих столетий нашей полной одетости и запертости в единообразном визуальном пространстве электрическая эпоха вводит нас в такой мир, где мы живем, дышим и слышим всей кожей. Разумеется, в этом культе пока присутствует изюминка новизны, и постепенно утверждающееся равновесие между чувствами отбросит значительную часть этого нового ритуализма в одежде и жилье. А тем временем в новой одежде и новых жилищах наша воссоединившаяся чувственность радостно скачет среди широкого осознания материй и цветов, и это делает наше время одной из величайших эпох в музыке, поэзии, живописи и архитектуре.
ГЛАВА 13. ЖИЛИЩЕ НОВЫЙ ВЗГЛЯД И НОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ[180]
Если одежда представляет собой расширение наших частных кожных покровов, призванное сохранять и перенаправлять наши тепло и энергию, то жилище является коллективным средством достижения той же цели для семьи или группы. Жилище как кров есть расширение наших механизмов контроля температуры тела, то есть наша коллективная кожа, или одежда. Дальнейшим расширением физических органов во внешний мир, удовлетворяющим нужды больших групп, являются города. Многие читатели знают, что Джеймс Джойс строил свой роман «Улисс», соотнося разные городские формы — стены, улицы, общественные здания и средства коммуникации — с разными органами тела. Проведение параллели между городом и человеческим телом позволило Джойсу провести еще одну параллель, между древней Итакой и современным Дублином, создающую ощущение глубокого единства человечества, преодолевающего границы истории.
Свои «Fleurs du mal»[181] Бодлер поначалу собирался назвать иначе, «Les limbes»,[182] имея в виду город как совокупность телесных расширений наших физических органов.[183] Наше высвобождение самих себя вовне — наши, так сказать, самоотчуждения с целью усиления и увеличения могущества различных наших функций — Бодлер считал цветами, или ростками, зла. Город как внешнее продолжение человеческих вожделений и чувственных страстей обладал для него целостным органическим и психическим единством.
Письменный, или цивилизованный, человек склонен ограничивать и ограждать пространство и разделять функции, тогда как племенной человек свободно расширял форму своего тела, заключая в себя весь мир. Действуя как орган самого космоса, племенной человек воспринимал функции своего тела как способы участия в божественных энергиях. В индийской религиозной мысли тело человека ритуально связывалось с образом космоса, а тот, в свою очередь, ассимилировался в форму дома. Для племенных и бесписьменных обществ жилище было образом как тела, так и универсума. Постройка дома с очагом как огненным алтарем ритуально ассоциировалась с актом творения. И даже еще глубже этот ритуал вкладывался в строительство древних городов: и их форма, и сам процесс строительства осознанно моделировались как акт восхваления божества. В племенном мире (как сегодня в Китае и Индии) город и дом могут восприниматься как иконические воплощения слова, божественного мифоса,[184] всеобщего устремления. Даже в нашу электрическую эпоху многие люди испытывают ностальгическую тоску по этой инклюзивной стратегии наделения значимостью их частного и изолированного бытия.
Письменный человек, принявший некогда аналитическую технологию фрагментации, и близко не обладает той восприимчивостью к космическим образцам, которой обладает племенной человек. Он отдает предпочтение не открытому космосу, но скорее отдельности и пространствам, поделенным на ячейки. Он утрачивает склонность принимать свое тело как модель мира и видеть в своем доме — как и в любом другом средстве коммуникации — ритуальное расширение своего тела. Как только люди принимают визуальную динамику фонетического алфавита, они сразу начинают терять одержимость племенного человека космическим порядком и ритуалом как тем, что постоянно воспроизводится в физических органах и их социальном расширении. Между тем, именно безразличие к космическому способствует тому интенсивному сосредоточению на мелких сегментах и специалистских задачах, которое дает уникальную силу западному человеку. Ибо специалист — это тот, кто никогда не допускает мелких огрехов на пути к огромной ошибке. Люди живут в домах округлой формы, пока не принимают оседлый образ жизни и не начинают специализироваться в своих трудовых организациях. Антропологи часто отмечали этот переход от круглой формы к квадратной, не зная его причин. Медиа-аналитик может помочь антропологу в этом вопросе, хотя для людей визуальной культуры его объяснение не будет самоочевидным. Точно так же человек визуальный не может увидеть большой разницы между кино и телевидением или между «корвером» и «фольксвагеном»,[185] ведь здесь имеет место различие не между двумя визуальными пространствами, а между пространствами тактильным и визуальным. Шатер или вигвам не являются огражденным, или визуальным пространством. Равно как не являются таковым пещера или нора в земле. Эти типы пространства — шатер, вигвам, иглу, пещера — не «ограждены» в визуальном смысле, поскольку, подобно треугольнику, повторяют динамические силовые линии. Будучи огражденной, или переведенной в визуальное пространство, архитектура обычно утрачивает свое осязательное кинетическое давление. Квадрат есть ограждение визуального пространства; иначе говоря, его образуют пространственные свойства, абстрагированные от внешне проявляющихся напряжений. Треугольник повторяет силовые линии, и это самый экономный способ закрепления на земле вертикального объекта. Квадрат выходит за пределы таких кинетических давлений, дабы оградить визуальные пространственные отношения, оставаясь в то же время зависимым от диагональных опор. Такое обособление визуального от прямого тактильного и кинетического давления и перевод его в новые жилые пространства совершаются лишь тогда, когда люди уже приучены на практике к специализации своих чувств и дроблению своих трудовых навыков. Квадратные комната или дом говорят языком малоподвижного оседлого специалиста, тогда как округлая хижина или иглу, подобно коническому вигваму, говорят об интегральных номадических обычаях сообществ собирателей.
Приводя эти рассуждения, мы испытываем серьезные опасения, что они будут неверно поняты, ибо, что касается пространства, все это вопросы в значительной степени технические. Тем не менее, как только мы поймем такие пространства, они дадут нам ключ к огромному множеству прошлых и нынешних загадок. Они объясняют переход от архитектуры круглого купола к готическим формам — переход, обусловленный изменением в соотношениях, или пропорциях, чувственной жизни членов общества. Такого рода изменения происходят с расширением тела в новые социальные технологии и изобретения. Новое расширение устанавливает новое равновесие между всеми чувствами и способностями, ведущее, как мы говорим, к «новому мировоззрению», то есть к новым установкам и предпочтениям в самых разных сферах.
В самом общем плане, как уже ранее отмечалось, жилище являет собой попытку расширить телесный механизм температурного контроля. Одежда берется за эту проблему более непосредственно, но не столь фундаментально, и скорее приватно, чем социально. И одежда, и жилище сохраняют тепло и энергию и делают их доступными для решения многих задач, решить которые в противном случае было бы невозможно. Делая тепло и энергию социально доступными для семьи или группы, жилище благоприятствует развитию новых умений и нового обучения, выполняя базисные функции всех других средств. Контроль тепла как в одежде, так и в жилище является ключевым фактором. Прекрасный пример — жилище эскимоса. Эскимос может днями обходиться без пищи при пятидесятиградусном морозе. Неодетый местный житель, оставшись без пропитания, погибает в считанные часы.
Многие могут с удивлением узнать, что примитивная форма иглу на самом деле восходит к примусу. Эскимосы веками жили в круглых каменных домах и, по большей части, продолжают жить в них до сих пор. Иглу, сделанное из снежных блоков, появилось в жизни этого народа каменного века сравнительно недавно. Жить в таких строениях стало возможно с появлением белого человека и его переносной печки. Иглу — эфемерное жилище, придуманное для временного пользования белыми охотниками. Эскимос стал охотником лишь после вхождения в контакт с белым человеком; до этого он промышлял собирательством. Пусть иглу послужит нам примером того, как вследствие интенсификации одного-единственного фактора (в данном случае — искусственного отопления) в древний образ жизни внедряется новый образец. Так и в нашей сложной жизни интенсификация какого-то единичного фактора естественным образом ведет к установлению нового равновесия между нашими технологически расширенными способностями, создавая в итоге новый взгляд на вещи и новое «мировоззрение» с новыми мотивациями и изобретениями.
Из истории двадцатого века мы знаем, какие изменения в жилище и архитектуре вызвало появление лифтов, работающих на электроэнергии. Эта же энергия, идущая на освещение, изменила наши жизненные и рабочие пространства, причем еще более радикально. Электрический свет упразднил разделение ночи и дня, внутреннего и внешнего, подземного и наземного. Он изменил каждый пространственный аспект труда и производства настолько же, насколько другие электрические средства изменили пространственно-временной опыт общества. Все это, разумеется, хорошо известно. Менее известна революция в архитектуре, ставшая возможной несколько веков тому назад благодаря усовершенствованиям в отоплении. Когда в эпоху Возрождения была поставлена на широкую ногу добыча угля, жители более холодных климатов открыли для себя огромные новые ресурсы личной энергии. Новые средства обогрева позволили наладить производство стекла, укрупнить жилые помещения и поднять потолки. Бюргерский дом эпохи Возрождения стал одновременно спальней, кухней, мастерской и местом торговли.
Как только мы усматриваем в жилище групповую (или корпоративную) одежду и механизм теплового контроля, новые средства отопления могут быть поняты как причины, вызывающие изменения в пространственной форме. Между тем, в порождении этих изменений в архитектурных и городских пространствах освещение играет почти такую же решающую роль, как и отопление. Именно поэтому история стекла так тесно связана с историей жилища. А история зеркала — важнейшая глава в истории одежды, манер и самоощущения.
Недавно изобретательный директор одной из школ в трущобах снабдил каждого ученика его фотографией. Учебные классы были щедро обставлены большими зеркалами. Итогом стало удивительное повышение успеваемости.
Обычно у ребенка из трущоб очень слабо развита визуальная ориентация. Он не видит себя как становящегося чем-то. Он не ставит перед собой отдаленных задач и целей. Изо дня в день он глубоко погружен в свой собственный мир и не может наметить себе плацдарм в высокоспециализированной чувственной жизни визуального человека. Благодаря телевизионному образу такое состояние ребенка из трущоб все больше распространяется на все население.
Одежда и жилище как расширения кожи и механизмов температурного контроля являются средствами коммуникации, прежде всего в том смысле, что они формируют и переупорядочивают образцы человеческой ассоциации и общности. Различные способы освещения и отопления, похоже, лишь придают новую гибкость и масштаб тому, что является основополагающим принципом этих средств, одежды и жилища, а именно: производимому ими расширению наших телесных механизмов теплового контроля, позволяющему нам обрести некоторую степень равновесия в изменяющейся среде.
Современная инженерия предоставляет множество средств, которыми можно пользоваться как жильем: от пространственной капсулы до стен, даруемых самолетами. Некоторые фирмы в настоящее время специализируются на строительстве больших зданий с внутренними стенами и полами, которые можно двигать по своей воле. Такая гибкость естественным образом тяготеет к органике. Человеческая чувственность как будто опять настраивается на те универсальные течения, которые делали племенного человека космическим аквалангистом.
Свидетельством этой тенденции служит не только «Улисс» Джеймса Джойса. Последние исследования готических церквей вывели на передний план органические цели их строителей. Святые всерьез воспринимали тело как символическое одеяние духа, а церковь рассматривали как второе тело, видя в каждой ее детали великую завершенность. Еще до того, как Джеймс Джойс дал детальный образ большого города как второго тела, Бодлер предложил такой же «диалог» членов тела, расширенных в форму города, в своих «Fleurs du mal».
Электрическое освещение внесло в культурный комплекс расширений человека, явленных в жилище и в городе, такую органическую гибкость, какой еще не знала никакая другая эпоха. Если цветная фотография создала «музеи без стен», то насколько же масштабнее созданные электрическим освещением пространство без стен и день без ночи! Будь то в ночном городе, на ночном шоссе или на ночном футбольном матче, всюду рисование и письмо светом перешло из царства художественной фотографии в живые, динамичные пространства, создаваемые наружным освещением.
Еще не так давно стеклянные окна были неведомой роскошью. С появлением управления освещением с помощью стекла появились средства контроля над регулярностью рутинной домашней жизни и постоянство занятия ремеслом и торговлей невзирая на холод или дождь. Мир был помещен в раму. С электрическим светом мы можем не только выполнять самые точные операции независимо от времени, места или климата, но и фотографировать то, чего не видно даже в микроскоп, так же легко, как можем вступить в подземный мир шахты и пещерных художников.
Освещение как расширение наших способностей дает кристально ясный пример того, как такого рода расширения меняют наши восприятия. Если люди еще склонны сомневаться, могли ли колесо, книгопечатание или самолет изменить наши привычки чувственного восприятия, то с электрическим освещением их сомнениям приходит конец. В этой сфере само средство есть сообщение, и когда свет включается, появляется мир чувств, который сразу же исчезает, как только свет выключается.
«Рисование светом» — есть такое жаргонное выражение в мире сценического электричества. Способы применения света в мире движения, будь то в автомобиле, кино или микроскопе, столь же разнообразны, как и способы применения электричества в мире сил. Свет — информация без «содержания», подобно тому, как ракета — средство передвижения без добавлений колеса и дороги. Как ракета есть самодостаточная транспортная система, потребляющая не только свое топливо, но и свой двигатель, так и свет есть самодостаточная система коммуникации, в которой сообщением является само средство.
Недавнее развитие лазера открыло перед светом новые возможности. Лазерный луч — это усиление света посредством интенсифицированного излучения. Концентрация энергии излучения сделала доступными некоторые новые свойства света. Лазерный луч — так сказать, утончая свет — позволяет модулировать его таким образом, чтобы он нес информацию подобно радиоволнам. Однако в силу большей своей интенсивности один лазерный луч может нести в себе столько же информации, сколько все каналы американского телевидения и радио вместе взятые. Такие лучи не попадают в поле зрения и вполне могут иметь военное будущее как смертоносные средства уничтожения.
В атмосфере ночи кажущийся хаос городского ареала являет себя как тонкая вышивка на темно-фиолетовом фоне. Дьёрдь Кепеш[186] превратил эти бесплотные эффекты ночного города в новую художественную форму «ландшафта», создаваемого не «освещением», а «просвечиванием». Его новые электрические ландшафты полностью соприродны телевизионному образу, который тоже существует благодаря просвечиванию, а не освещению.
Французский художник Андре Жирар стал рисовать непосредственно на кинопленке, когда еще не обрели популярность фотографические кинофильмы. На этом раннем этапе было легко размышлять о «рисовании светом» и привнесении движения в искусство живописи. Жирар говорил:
«Я бы не удивился, если через пятьдесят лет почти никто не стал бы обращать внимание на картины, сюжеты которых остаются недвижными в своих всегда слишком тесных рамках».
Пришествие телевидения наполнило его новым вдохновением:
«Однажды в диспетчерской я вдруг увидел чувствительный глазок камеры, представлявший мне по очереди лица, ландшафты и экспрессии моей большой картины в порядке, о котором я никогда даже не помышлял. Я чувствовал себя композитором, слушающим одну из своих опер, в которой все сцены перемешались и расположились в ином порядке, нежели тот, в котором он сочинил ее сам. Это все равно что видеть здание из кабины стремительно движущегося лифта, который показывал бы вам крышу раньше цоколя и делал быстрые остановки на некоторых этажах, прочие этажи пропуская».
Отныне Жирар в сотрудничестве с техническими специалистами из Си-Би-Эс и Эн-Би-Си разрабатывал новые методы рисования светом. К жилищу его работа имеет вот какое отношение: она позволяет нам представить абсолютно новые возможности архитектурной и художественной модуляции пространства. Рисование светом — своего рода жилище-без-стен. Та же электрическая технология, разрастающаяся в работу по обеспечению средств глобального термостатического контроля, указывает на устаревание жилья как внешнего расширения механизмов температурного контроля тела. Столь же представимо и то, что электрическое расширение процесса коллективного сознания, создав сознание-без-стен, могло бы сделать устаревшими языковые границы. Языки — это заикающиеся расширения наших пяти чувств, которым свойственны разные пропорции и волновые длины. Непосредственная симуляция сознания преодолела бы речь в своего рода массивном сверхчувственном восприятии подобно тому, как глобальные термостаты могли бы оставить в прошлом те расширения кожи и тела, которые мы называем домами. Такое расширение процесса сознания посредством электрической симуляции вполне может случиться уже в 60-е годы.
ГЛАВА 14. ДЕНЬГИ КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА БЕДНЯКА
Связь между денежным комплексом и человеческим телом оказалась в центре внимания современной психоаналитической теории. Некоторые аналитики выводят деньги из инфантильного импульса к игре с фекалиями. В частности, Ференци[187] считает, что деньги — «не что иное, как лишенные запаха высушенные экскременты, которые заставили блестеть». В своей концепции денег Ференци развивает фрейдовскую концепцию «характера и анального эротизма». Хотя эта идея, устанавливающая связь между «отвратительной корыстью» и анальным, получила дальнейшее продолжение в основных направлениях психоанализа, она не настолько хорошо схватывает природу и функцию денег в обществе, чтобы составить тему настоящей главы.
Деньги появились в бесписьменных культурах как товар. Например, на Фиджи это были зубы китов, а на острове Пасхи — крысы, которые были там сочтены деликатесом, стали оцениваться как предмет роскоши и таким образом превратились в средство обмена или бартера. Когда в 1574 году испанцы держали в осаде Лейден, там были выпущены в оборот кожаные деньги; по мере того как положение дел становилось все хуже, жители города отваривали и съедали новую валюту. В письменных культурах в силу обстоятельств вновь могут вводиться товарные деньги. После германской оккупации во время второй мировой войны голландцы остро нуждались в табаке. Поскольку поставки его были невелики, за небольшие запасы сигарет продавали такие дорогостоящие предметы, как ювелирные изделия, точные приборы и даже дома. В 1945 году «Ридерс дайджест» зафиксировал один эпизод времен ранней оккупации Европы, рассказав о том, как нераспакованная пачка сигарет служила валютой, переходя из рук в руки и переводя умения одного рабочего в умения другого до тех пор, пока кто-то ее не вскрывал.
Деньги всегда сохраняют в себе черты товарного и общественного характера. Вначале выполняемая ими функция перенесения хватательной способности человека с ближайших продуктов и предметов потребления на более отдаленные едва заметна. Повышение мобильности хватания и торга поначалу незначительно. Так же обстоит дело с появлением речи у ребенка. В первые месяцы жизни хватание происходит рефлекторно; способность к волевому снятию напряжения приходит лишь к концу первого года. Речь появляется с развитием способности отпускать объекты. Она дает способность к отстранению от среды, которая есть одновременно и способность к большей мобильности в познании этой среды. Таким же образом развивается представление о деньгах как о валюте, а не товаре. Валюта — это способ освобождения от непосредственно наличных продуктов и предметов потребления, служащих поначалу в качестве денег, с целью распространения торга на весь социальный комплекс. Торговля с помощью валюты основана на принципе попеременного циклического схватывания и отпускания. Одна рука удерживает изделие, служащее объектом соблазна для другой стороны. Другая рука требовательно протянута в направлении объекта, который желательно получить в обмен. Первая рука разжимается, как только другая прикасается ко второму объекту, и происходит все это на манер того, как артист, выступающий на трапеции, меняет одну перекладину на другую. На самом деле, как утверждает Элиас Канетти в книге «Масса и власть»,[188] торговец вовлечен в одно из древнейших занятий, а именно — лазанье по деревьям и перемещение с ветки на ветку. В примитивном хватании, калькуляции и временной координации движений крупных древесных обезьян он видит перевод в финансовые термины одного из древнейших образцов движения. Как посреди ветвей деревьев рука освоила образец схватывания, совершенно отличный от поднесения пищи ко рту, так же торговец и финансист развили увлекательные абстрактные виды деятельности, являющиеся продолжениями алчного лазанья и мобильности крупных обезьян.
Как и любое другое средство коммуникации, деньги — это основной продукт, природный ресурс.[189] Как внешняя и видимая форма стремления меняться и обмениваться, они суть корпоративный образ, институциональный статус которого зависит от общества. Вне участия в делах сообщества деньги лишены всякого смысла. Это открытие сделал для себя Робинзон Крузо, когда обнаружил монеты на потерпевшем крушение судне:
«Я улыбнулся при виде этих денег. "Ненужный хлам, — проговорил я, — зачем ты мне теперь? Ты и того не стоишь, чтобы нагнуться и поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов отдать за любой из этих ножей. Мне нечего с тобой делать. Так оставайся же, где лежишь, и отправляйся на дно морское, как существо, чью жизнь не стоит спасать!"
Однако ж, поразмыслив, я решил взять деньги с собой и завернул в кусок парусины. Затем я стал подумывать о сооружении плота…»[190]
Примитивные товарные деньги, как и магические заклинания в бесписьменном обществе, могут быть вместилищем власти и часто становились поводом к лихорадочной экономической деятельности. Туземцы Южных морей, вовлекаясь в этот процесс, не ищут никакой экономической выгоды. За яростным включением в производительную деятельность может последовать намеренное уничтожение продукции ради приобретения морального престижа. Но даже в этих культурах «потлача» следствием денежного обращения была интенсификация и акселерация человеческих энергий, которая с введением технологии фонетического алфавита стала в древнем мире универсальной. Наряду со способностью переводить один вид работы в другой и сводить первый ко второму, деньги, как и письмо, обладают способностью специализировать и перенаправлять человеческие энергии и разделять функции. Даже в эпоху электричества они нисколько не утратили эту способность.
Потлач распространен очень широко, в особенности там, где сбор или производство продуктов питания нетрудоемки. Например, у рыбаков северо-западного побережья Америки и крестьян Борнео, занятых выращиванием риса, производятся огромные излишки продукции, которые должны быть уничтожены, ибо в противном случае могут возникнуть классовые различия, способные разрушить традиционный социальный порядок. На Борнео путешественник может увидеть, как во время ритуалов выставляются под проливной дождь тонны риса и сносятся огромные художественные постройки, в возведение которых были вложены колоссальные силы.
В то же время, хотя деньги в этих примитивных обществах могут высвобождать безумные энергии, нацеленные на то, чтобы зарядить кусочек меди магическим престижем, на них очень мало можно купить. Богатые и бедные по необходимости живут почти одинаково. Сегодня, в электронную эпоху, богатейший человек начинает пользоваться почти теми же формами проведения досуга и даже теми же продуктами питания и транспортными средствами, что и человек самый заурядный.
Употребление такого товара, как деньги, естественным образом повышает его производство. Неспециалистская экономика Виргинии в семнадцатом столетии делала устоявшиеся европейские валюты совершенно ненужными. Располагая небольшим капиталом и желая вкладывать как можно меньшую часть этого капитала в денежную форму, виргинцы в некоторых случаях прибегали к товарным деньгам. Когда такой товар, как табак, был узаконен в качестве легального платежного средства, это стало стимулом к увеличению производства табака точно так же, как принятие металлических денег привело к увеличению добычи металлов.
С появлением репрезентативных, или бумажных, денег деньги как социальное средство расширения и перевода труда и мастерства в доступную и портативную форму потеряли значительную часть своей магической силы. Как речь с появлением письма, а далее книгопечатания утратила свою магию, так и принудительная аура денег сразу же растаяла, как только золото вытеснили напечатанные деньги. Сэмюэл Батлер в романе "Едгин" (1872) ясно на это намекал, когда говорил о таинственном престиже, создаваемом благородными металлами. Его высмеивание денежного посредника приняло форму переноса старого почтительного отношения к деньгам в новый социальный контекст. Новый тип абстрактных, печатных денег, свойственный эпохе высокоразвитой индустрии, просто не может поддержать эту старую установку:
«Это настоящая филантропия. Человек, делающий колоссальные прибыли на торговле трикотажем, но сумевший благодаря своей энергии сбить цену шерстяных изделий на тысячную долю пенни с каждого фунта, — да такой человек стоит десяти профессиональных филантропов! На едгинцев это производит настолько сильное впечатление, что если человек наживает за год состояние, превышающее 20 000 фунтов, его освобождают от всякого налогообложения, рассматривая как произведение искусства и считая слишком драгоценным человеком, чтобы ему досаждать. Они говорят: "Как много он, должно быть, сделал для общества, раз сумел убедить общество дать ему так много денег". Столь величественная организация внушает им благоговейный трепет; они считают, что она упала на них с неба.
"Деньги, — говорят они, — это символ долга, таинство сотворения для человечества того, чего оно хотело. Человечество не самый справедливый судья, но лучшего нет". Поначалу меня это шокировало, когда я вспоминал, как мне авторитетно сообщали, что те, кто имеют богатых, вряд ли войдут в царство небесное. Однако влияние Едгина заставило меня увидеть вещи в новом свете, и я не мог удержаться от мысли, что они, не имеющие богатых, еще более вряд ли туда войдут».
Ранее в книге Батлер высмеял под личиной «Музыкальных Банков» кассовую мораль и религию индустриального мира; духовенство выступило у него в роли кассиров. В приведенной выдержке он воспринимает деньги как «таинство сотворения для человечества того, чего оно хотело». Деньги, говорит он, — это «внешний и зримый знак внутренней и незримой добродетели».
Деньги как социальный посредник, или расширение внутреннего желания и мотива создают социальные и духовные ценности. Это проявляется даже в фасонах женской одежды. В одном из недавних рекламных объявлений подчеркивается этот аспект одежды как валюта[191] (то есть социальное таинство, или внешний и видимый знак): «В сегодняшнем мире моды важно казаться облаченным в ходовую ткань». Конформность к этой моде дает стилю или ткани в буквальном смысле слова валюту, создавая тем самым социальное средство коммуникации, повышающее как богатство, так и выразительность. Не подчеркивается ли здесь, каким образом деньги, да и любое другое средство коммуникации конституируются и обретают свою действенность? Когда люди начинают испытывать неловкость в связи с такими социальными ценностями, достигаемыми за счет единообразия и повторения, делающего для человечества то, чего оно хочет, мы можем принять это как признак упадка механической технологии.
«Деньги красноречивы», ведь деньги — это метафора, перенос, мост. Подобно словам и языку, деньги являются хранилищем сообща накопленного труда, умения и опыта. Вместе с тем, деньги, как и письмо, являются специалистской технологией: как письмо интенсифицирует визуальный аспект речи и порядка, а часы визуально отделяют время от пространства, так и деньги отделяют труд от других социальных функций. Даже сегодня деньги остаются языком для перевода фермерского труда в труд парикмахера, врача, инженера или водопроводчика. Как широкая социальная метафора, мост, или переводчик, деньги в любом сообществе, подобно письму, ускоряют обмен и скрепляют узы взаимозависимости. Они дают огромное пространственное расширение и огромную власть политическим организациям, точно так же, как это делают письмо или календарь. Это действие на расстоянии как в пространстве, так и во времени. В высокоразвитом письменном, фрагментированном обществе «время — деньги», а деньги — вместилище времени и усилий других людей.
На протяжении средневековья идея фиска, или «королевской казны», удерживала связь понятия денег с языком («королевский английский») и дорожным сообщением («королевская дорога»). До пришествия печати было вполне естественно рассматривать средства коммуникации как расширения отдельного тела. Чем грамотнее становилось общество, тем больше деньги и часы приобретали визуальный, или фрагментированный, акцент. Пользование деньгами у нас на Западе как хранилищем и переводчиком общественного труда и мастерства зависело на практике от долгого привыкания к письменному слову и от способности письменного слова специализировать, делегировать и разделять функции в организации. Мы сможем лучше понять, как письмо помогает установлению валют, если бросим взгляд на природу и способы использования денег в бесписьменных обществах. Единообразие товаров, сочетающееся с системой фиксированных цен, которую мы ныне принимаем как нечто само собой разумеющееся, становится возможным только тогда, когда для него подготовит почву книгопечатание. «Отсталым» странам требуется много времени для достижения экономического «взлета», так как они не прошли экстенсивной обработки книгопечатанием с его психологическим обусловливанием в направлении единообразия и повторяемости. В общем и целом, Запад почти не сознает, в сколь огромной степени мир цен и счисления поддерживается всепроникающей визуальной культурой письменности.
В бесписьменных обществах психические ресурсы для создания и поддержания тех колоссальных структур статистической информации, которые мы называем рынками и ценами, совершенно отсутствуют. Гораздо легче организовать производство, чем обучить население целых стран, так сказать, умению переводить свои желания и устремления в статистику с помощью рыночных механизмов предложения и спроса и визуальной технологии цен. Запад только в восемнадцатом веке начал принимать эту форму расширения своей внутренней жизни в новый статистический образец маркетинга. Мыслителям того времени этот механизм казался настолько странным, что они назвали его «гедонистическим расчетом». Цены тогда, с точки зрения чувств и желаний, казались сопоставимыми с широким миром пространства, отдавшим ранее свои неравенства во власть переводящего дифференциального исчисления. Одним словом, дробление внутренней жизни посредством цен казалось в восемнадцатом веке таким же таинственным, как и мельчайшее дробление пространства с помощью исчисления столетием раньше.
Крайние абстрактность и отчужденность, представляемые нашей системой ценообразования, абсолютно немыслимы и непригодны для народов, у которых с каждой новой сделкой повторяется возбуждающая драма торга вокруг цены.
Сегодня, когда непосредственная электрическая взаимозависимость всех людей на нашей планете сформировала новые силовые линии власти, значимость визуального фактора в социальной организации и личном опыте идет на убыль, и деньги все более перестают быть средством хранения или обмена труда и мастерства. Автоматизация, будучи по своей природе электронной, репрезентирует не столько физический труд, сколько программируемое знание. По мере того как труд вытесняется чистым движением информации, деньги как хранилище труда сплавляются воедино с информационными формами кредита и кредитной карточки. От монеты к бумажным деньгам, от бумажных денег к кредитной карточке — вот устойчивая прогрессия, ведущая к окончательному превращению торгового обмена в движение информации. Эта тенденция в сторону инклюзивной информации является в образе кредитной карточки и вновь приближает деньги к их племенному характеру. Ибо в племенном обществе, не знающем специализации труда или работы, не специализированы также и деньги. Там деньги можно есть, пить и носить на себе, подобно изобретаемым в наше время съедобным космическим кораблям.
В бесписьменном мире «труда» не существует. Примитивный охотник или рыболов был занят трудом не больше, чем сегодняшний поэт, художник или мыслитель. Там, где человек всем существом погружен в деятельность, никакого труда нет. Труд появляется в оседлых аграрных сообществах вместе с разделением труда и специализацией функций и задач. В компьютерную эпоху мы вновь целиком погружаемся в наши роли. В электрический век «труд» уступает место вовлечению и увлеченности, какие существовали в племени.
В бесписьменных обществах связь денег с другими органами общества очень проста. Необычайно возрастает роль денег после того, как они начинают форсировать специализацию и разделение социальных функций. Деньги фактически становятся основным средством установления взаимосвязи между все более специализирующимися деятельностями письменного общества. Фрагментирующая сила зрения, отделенного письменностью от других чувств, — факт, более всего заметный сегодня, в электронную эпоху. В наше время, когда появились компьютеры и электрическое программирование, средства хранения и перемещения информации становятся все менее визуальными и механическими и все более интегральными и органическими. Тотальное поле, созданное мгновенными электрическими формами, может быть визуализировано нисколько не больше, чем скорости электронных частиц. Мгновенность рождает такое взаимодействие между временем, пространством и человеческими занятиями, для которого старые формы денежного обмена становятся все более неадекватными. Если бы какой-нибудь современный физик попытался воспользоваться визуальными моделями восприятия для организации данных о мире атомов, ему не удалось бы ни на йоту приблизиться к природе своих проблем. В электронную эпоху мгновенной информации как время (измеряемое визуально и по сегментам), так и пространство (единообразное, изобразимое и очерченное) исчезают. В эпоху мгновенной информации человек завершает свой труд в рамках частичной специализации и принимает роль собирателя информации. Сегодня сбор информации возвращает инклюзивное понятие «культуры», точно соответствующее состоянию примитивного собирателя пищи, жившего в полном равновесии со всей своей средой. Теперь, в этом новом кочевом и «безработном» мире, живительным источником для нас становится знание и понимание творческих процессов жизни и общества.
Люди покинули замкнутый мир племени ради «открытого общества», обменяв с помощью технологии письма ухо на глаз. В частности, именно алфавит позволил им вырваться из заколдованного круга и резонирующей магии племенного мира. Позже, благодаря печатному слову и переходу от металлических денег к бумажным, развернулся аналогичный процесс экономического изменения, приведший от закрытого общества к открытому, от меркантилизма и экономического покровительства национальной торговле к идеалу открытого рынка свободных предпринимателей. Сегодня — когда новая динамика человеческой взаимозависимости переключается с таких фрагментирующих средств коммуникации, как печать, на такие инклюзивные, или массовые средства, как телеграф, — электрическая технология ставит под угрозу само понятие денег.
Поскольку все средства коммуникации суть расширения нас самих, или переводы какой-то части нас в различные материалы, изучение одного средства помогает нам понять все другие. Деньги не исключение. Использование денег в примитивном, или бесписьменном обществе особенно показательно, поскольку оно демонстрирует легкое принятие основных продуктов как средств коммуникации. Бесписьменный человек может принять в качестве денег любой основной продукт, отчасти потому, что основные продукты сообщества являются одновременно как товарами, так и средствами коммуникации. Хлопок, пшеница, скот, табак, древесина, рыба, мех и многие другие продукты служили во многих культурах главными формообразующими силами общественной жизни. Когда какой-то из этих продуктов начинает доминировать в качестве социальной связи, он становится также вместилищем ценности и переводчиком (или средством обмена) навыков и задач.
Классическое проклятие Мидаса — способность переводить все, чего бы он ни касался, в золото — в какой-то степени свойственно любому средству коммуникации, включая язык. Этот миф обращает внимание на магический аспект всех расширений человеческого чувства и тела, то есть всей технологии вообще. Вся технология обладает прикосновением Мидаса. Когда сообщество развивает какое-то расширение самого себя, оно обычно предоставляет всем другим функциям возможность измениться в направлении приспособления к этой форме.
Язык, как и валюта, служит хранилищем восприятия и инструментом передачи восприятий и опыта от одного человека или поколения к другому. Будучи переводчиком и хранилищем опыта, язык, вдобавок к тому, является еще и упростителем и исказителем опыта. Великое преимущество, создаваемое ускорением процесса обучения и обеспечением возможности передачи знания и понимания во времени и пространстве, легко отвлекает внимание от недостатков языковых кодификаций опыта. В современной математике и науке появляется все больше невербальных способов кодирования опыта.
Деньги, будучи, как и язык, хранилищем труда и опыта, также действуют как переводчик и передатчик. Деньги могут отходить от своей роли хранилища труда, особенно с тех пор, как письменное слово продвинуло вперед разделение социальных функций. Эта роль очевидна, когда в качестве денег используется какой-нибудь основной товар или предмет потребления, например, скот или мех. Но по мере того как деньги отделяются от товарной формы и становятся специалистским средством обмена (или переводчиком ценностей), они движутся все быстрее, а объем денежной массы все более возрастает.
В не столь далекие времена драматичное пришествие на смену товарным деньгам бумажной денежной наличности, или «репрезентативных денег», вызвало замешательство. Примерно так же и Гутенбергова технология, создав обширную новую республику букв, вызвала немало волнений и споров по поводу границ между царствами литературы и жизни. Репрезентативные деньги, базирующиеся на технологии печати, породили новые скоростные параметры кредита, никак не согласующиеся с инертной массой золотого слитка и товарных денег. Тем не менее были предприняты все усилия к тому, чтобы заставить быстрые новые деньги вести себя подобно неповоротливой карете с золотыми брусками. Дж. М. Кейнс в «Трактате о деньгах»[192] так описал эту политику:
«И вот, наконец, долгий век Товарных Денег окончательно отступил перед эпохой Репрезентативных Денег. Золото перестало быть монетой, сокровищницей, осязаемой претензией на богатство, чья ценность не может уйти, не попрощавшись, пока рука индивида прочно сжимает вещественные деньги. Оно стало вещью гораздо более абстрактной — просто стандартом ценности — и сохраняет этот номинальный статус лишь благодаря тому, что время от времени вращается в сравнительно небольших количествах в кругу Центральных банков, когда какой-то один из них понижает или повышает стоимость находящихся в его управлении репрезентативных денег в степени, отличной от той, которую допускают в своем поведении его соседи».
Бумажные, или репрезентативные, деньги отделились от своей древней роли хранилищ труда и перешли к столь же древней и основополагающей функции передатчика и переводчика любого вида труда в любой другой. Как алфавит был радикальной визуальной абстракцией от богатой иероглифической культуры египтян, так и они редуцировали и перевели эту культуру в великий визуальный водоворот греко-римского мира. Алфавит есть однонаправленный процесс редукции бесписьменных культур в специалистские визуальные фрагменты нашего западного мира. Деньги же служат придатком этой специалистской алфавитной технологии, доводящим даже Гутенбергову форму механической повторяемости до новой интенсивности. Как алфавит нейтрализовал расхождения между примитивными культурами, переведя их комплексности в простые визуальные категории, так и репрезентативные деньги редуцировали в девятнадцатом веке моральные ценности. Как бумага позволила алфавиту ускорить сведение устных варваров к римскому единообразию цивилизации, так и бумажные деньги позволили западной промышленности опутать собою весь мир.
Незадолго до появления бумажных денег колоссально возросшие объемы движения информации в европейских информационных бюллетенях и газетах сотворили образ и понятие Национального Кредита. Тогда, как и теперь, такой корпоративный образ кредита зависел от быстрого и всеохватного движения информации, которое мы за два с небольшим столетия стали принимать как нечто само собой разумеющееся. На этой стадии рождения государственного кредита деньги взяли на себя еще одну роль: перевод не только локальных, но и национальных запасов труда из одной культуры в другую.
Одним из неизбежных результатов ускорения движения информации и переводной способности денег стала возможность обогащения, открывшаяся перед теми, кто может за считанные часы или годы, в зависимости от случая, предвосхитить эту трансформацию. Сегодня мы видим особенно много примеров обогащения, свершающегося за счет заблаговременного обладания информацией о положении дел на рынках акций, долговых обязательств и недвижимости. В прошлом, когда богатство не было столь очевидно связано с информацией, целый социальный класс мог монополизировать богатство, рождающееся из непредвиденного изменения в технологии. В отчете Кейнса об одном из таких случаев, содержащемся в его исследовании «Шекспир и инфляция прибыли», разъясняется, что, поскольку новые богатства и золотые слитки перепадают в первую очередь правящим классам, они переживают внезапное воодушевление и эйфорию, счастливое освобождение от привычного стресса и тревог, способствующее процветанию, а это, в свою очередь, вдохновляет прозябающего в нищете художника изобретать у себя на чердаке новые победные ритмы и исполненные ликования формы живописи и поэзии. Пока прибыли скачут далеко впереди заработков, правящий класс радостно ликует, и стиль этого ликования зарождает великие концепции в душе нуждающегося художника. Но как только прибыли и зарплаты начинают удерживаться в разумном контакте друг с другом, эта бьющая через край радость правящего класса соответственно утихает, и тогда искусство не может извлечь из процветания никакой выгоды.
Кейнс открыл динамику денег как коммуникационного посредника. Реальная задача исследования этого конкретного средства коммуникации тождественна задаче изучения всех средств коммуникации, а именно, как писал Кейнс, «рассмотреть проблему в динамике, анализируя различные заключенные в ней элементы таким образом, чтобы обнаружить причинный процесс, посредством которого устанавливается уровень цен, а также способ перехода от одного равновесного положения к другому».
Одним словом, деньги не являются замкнутой системой и не имеют смысла в отрыве от всего остального. Как средство перевода и расширения, деньги обладают уникальной способностью заменять один вид вещи другим. Информационные аналитики пришли к выводу, что степень, в какой один ресурс может быть заменен на другой, повышается с увеличением информации. Чем больше мы знаем, тем меньше мы полагаемся на какой-то один вид пищи, топлива или сырья. Одежда и мебель могут теперь изготавливаться из множества самых разных материалов. Деньги, бывшие на протяжении многих столетий основным средством передачи и обмена информации, теперь все более передают эту функцию науке и автоматизации.
Сегодня даже естественные ресурсы имеют информационный аспект. Они существуют благодаря культуре и мастерству определенного сообщества. Верно, однако, и обратное. Все средства коммуникации — или расширения человека — являются естественными ресурсами, существующими благодаря общему знанию и мастерству сообщества. Именно осознание этого аспекта денег так поразило Робинзона Крузо, когда он посетил потерпевшее крушение судно и погрузился в размышления, цитируемые в начале этой главы.
Когда есть товары, но нет денег, должен присутствовать какой-то род бартера, или прямого обмена одного продукта на другой. Между тем, когда в бесписьменных обществах товары используются в прямом обмене, легче всего заметить их тенденцию вбирать в себя функцию денег. С каким-то материалом проделана определенная работа, пусть даже всего лишь его доставка издалека. Следовательно, предмет хранит в себе труд и информацию, или техническое знание, в той степени, в какой с ним было что-то сделано. Когда один предмет обменивается на другой, он уже тем самым принимает на себя функцию денег, становясь средством перевода или сведения множества вещей к какому-то общему знаменателю. Общий знаменатель (или переводчик) является, вместе с тем, средством экономии и ускорения времени. Таким образом, деньги — это время, и трудно было бы отделить в этой операции экономию труда от экономии времени.
Есть некая тайна в том, что финикийцы, будучи алчными морскими торговцами, приняли монетную систему позже, чем жившие на суше лидийцы.[193] Причина, с которой связывают эту задержку, не может объяснить финикийскую проблему, но обращает внимание на один базовый факт, касающийся денег как средства коммуникации, а именно на то, что людям, ведшим караванную торговлю, требовалось легкое и транспортабельное средство оплаты. Для тех, кто, как финикийцы, вел морскую торговлю, эта потребность не была столь насущной. Портативность как средство усиления и расширения эффективного радиуса действия не менее красноречиво демонстрируется папирусом. Одно дело, когда алфавит применялся к глине или камню, и совсем другое, когда он стал применяться к легкому папирусу. Произошедший в результате скачок в скорости и пространстве создал Римскую империю.
Возрастание точности измерения труда в промышленную эпоху высветило фактор экономии времени как основной аспект экономии труда. Такие средства коммуникации, как деньги, письмо и часы, вновь стали сливаться в органическое целое, и это предельно близко подвело нас к тому тотальному вовлечению человека в свою работу, которое характерно для аборигена в примитивном обществе и для художника в студии.
Одной из своих особенностей деньги обеспечивают естественный переход к числу, поскольку груда, или скопление, денег имеет много общего с толпой. Более того, психологические паттерны толпы и паттерны, связанные с накоплением богатства, очень близки. Элиас Канетти подчеркивает, что в основе толп лежит динамическое стремление к быстрому и неограниченному росту. Такая же силовая динамика характеризует большие скопления богатства или сокровищ. Фактически, современной единицей богатства в массовом мнении является миллион. Эта единица приемлема для любого типа валюты. С миллионом всегда связывается представление о том, что его можно заполучить с помощью быстрого спекулятивного взлета. Так же Канетти объясняет типичное для речей Гитлера стремление видеть повсюду нагромождения множеств.
Толпы людей и груды денег не только стремятся к росту, но и рождают тяжкие раздумья о возможности дезинтеграции и дефляции. Эта двусторонняя динамика экспансии и дефляции, видимо, и является причиной неспокойствия толп и тревоги, приходящей вместе с богатством. Значительную часть своего анализа Канетти посвящает психическим последствиям инфляции в Германии после первой мировой войны. Параллельно инфляции немецкой марки происходило обесценение гражданина. Это была потеря лица и достоинства, в которой смешались в кучу личностные и денежные единицы.[194]
ГЛАВА 15. ЧАСЫ АРОМАТ ВРЕМЕНИ
В работе «Коммуникация в Африке» Леонард Дуб отмечает: «Для обозначения высокого ранга здесь носят тюрбан, меч, а в наши дни еще и будильник». Похоже, пройдет еще немало времени, прежде чем африканец начнет смотреть на часы для того, чтобы быть пунктуальным.
Когда были открыты позиционные, или тандемные, числа (302 вместо 32, и т. п.), произошла великая революция в математике. И точно так же на Западе произошли великие культурные перемены, когда открылась возможность фиксировать время как нечто, находящееся между двумя точками. Из этого применения визуальных, абстрактных и единообразных единиц родилось наше западное восприятие времени как продолжительности. Именно из проводимого нами деления времени на единообразные, визуализируемые отрезки рождается наше ощущение длительности, а также то свойственное нам нетерпение, когда мы не можем вынести промедления между событиями. Бесписьменным культурам такое чувство нетерпения и восприятие времени как длительности незнакомы. Как труд возникает с разделением труда, так и длительность появляется с разделением времени, особенно теми его членениями, посредством которых механические часы внедряют в переживание времени единообразную последовательность.
Как произведение технологии, часы представляют собой машину, которая на манер конвейерной линии производит единообразные секунды, минуты и часы. Претерпевая такую единообразную обработку, время отделяется от ритмов человеческого опыта. Короче говоря, механические часы помогают сотворить образ количественно квантифицированного и механически управляемого универсума. Часы вступили на путь своего современного развития в мире средневековых монастырей с присущей ему потребностью в руководстве и синхронизированном распорядке, которые бы направляли общинную жизнь. Время, измеряемое не уникальностью частного опыта, а абстрактными единообразными единицами, пропитывает собой шаг за шагом всю чувственную жизнь, во многом так же, как это делает технология письма и печати. Не только труд, но также питание и сон начинают приноравливаться не к органическим потребностям, а к часам. По мере того как этот образец произвольного и единообразного измерения времени все шире распространялся в обществе, даже одежда начинала претерпевать ежегодные изменения, удобные для промышленности. В этой точке, разумеется, механическое измерение времени как принцип прикладного знания объединило свои силы с печатью и сборочной линией как средствами единообразной фрагментации процессов.
Самое интегральное и целостное чувство времени, какое только можно себе представить, находит выражение в китайской и японской культурах. До того, как в семнадцатом веке сюда пришли миссионеры и ввели в обиход механические часы, китайцы и японцы на протяжении тысячелетий измеряли время градациями благовоний. Не только часы и дни, но и времена года и зодиакальные знаки обозначались последовательностью строго упорядоченных ароматов. Чувство обоняния, долгое время считавшееся основой памяти и объединяющей основой индивидуальности, вновь вышло на передний план в экспериментах Уайлдера Пенфилда.[195] Во время операций на мозг электрическое зондирование мозговой ткани будило в пациентах многочисленные воспоминания. Определяющим и объединяющим принципом этих воспоминаний были уникальные запахи и ароматы, которые структурировали переживания прошлого. Чувство обоняния — не только самое тонкое и деликатное из всех человеческих чувств; оно также и наиболее иконично в том смысле, что полнее, чем любое другое, вовлекает в себя весь человеческий сенсорный аппарат. Отсюда неудивительно, что высокоразвитые письменные общества предпринимают шаги, нацеленные на уменьшение запахов в среде или полное их устранение. «В.O.»,[196] уникальная подпись и декларация человеческой индивидуальности, — дурное слово в письменных обществах. Уж слишком оно объемно для наших привычек отстраненности и специалистского внимания. Общества, измерявшие ароматы времени, должны были тяготеть к такой сплоченности и к такому глубокому единству, которые сопротивлялись бы всякого рода изменению.
Льюис Мэмфорд выдвинул предположение, что по очередности влияния на механизацию общества часы предшествовали печатному прессу. Однако Мэмфорд не принимает во внимание фонетический алфавит как технологию, сделавшую возможной визуальную и единообразную фрагментацию времени. Мэмфорд по сути не замечает в алфавите источник западного механизма, равно как не видит в механизации перевод общества из аудио-тактильных моделей в визуальные ценности. Наша новая электрическая технология по своей направленности органична и немеханична, поскольку расширяет уже не наши глаза, а нашу нервную систему, превращая ее в планетарное одеяние. В пространственно-временном мире электрической технологии прежнее механическое время начинает восприниматься как неприемлемое, уже хотя бы потому, что оно единообразно.
Современные лингвистические исследования являются скорее структурными, чем литературными, и многим обязаны новым возможностям перевода, открывшимся благодаря компьютеру. Как только язык в целом начинает анализироваться как единая система, появляются странные зоны. Рассмотрев весь спектр употреблений английского языка, Мартин Йос[197] остроумно выделил «пять часов стиля», или пять разных зон и независимых культурных климатов. Только одна из этих зон является сферой ответственности. Эго зона гомогенности и единообразия, которой правит как своею вотчиной Гутенберг, забрызганный с головы до ног типографской краской. Это стилистическая зона Стандартного Английского Языка, насквозь пропитанная Центральным Стандартным Временем, и в пределах этой зоны ее, так сказать, обитатели могут проявлять различные степени пунктуальности.
Эдвард Т. Холл[198] в книге «Безмолвный язык»,[199] обращаясь к теме «Время с американским акцентом», противопоставляет нашему чувству времени чувство времени индейцев хопи. Для них время не единообразная последовательность или протяженность, а плюрализм многочисленных сосуществующих видов вещей. «Время для хопи, это когда начинает созревать кукуруза, или подрастает овца… Это естественный процесс, который совершается, пока живая субстанция разыгрывает свою жизненную драму».[200] Следовательно, для них существует так же много видов времени, как и видов жизни. Это то самое чувство времени, которого придерживаются современный физик и ученый. Они уже не пытаются размещать события во времени, а мыслят каждую вещь как создающую свое собственное время и свое собственное пространство. Более того, теперь, когда мы живем в мгновенном мире электричества, пространство и время тотально взаимопроникают друг в друга в пространственно-временном мире. Таким же образом художник со времен Сезанна возродил пластический образ, благодаря которому все чувства сосуществуют в едином узоре. Каждый предмет или набор предметов порождает собственное уникальное пространство теми отношениями, которыми он визуально или музыкально связан с другими. Когда осознание этого вновь вернулось в западный мир, оно было осуждено как растворение всех вещей в потоке. Теперь мы понимаем, что эта тревога была естественной письменной и визуальной реакцией на новую невизуальную технологию.
Дж. 3. Янг в книге «Сомнение и достоверность в науке»[201] объясняет, что электричество — это не что-то, передающееся чем-то или содержащееся в чем-то, а нечто, возникающее тогда, когда два или более тела занимают особое положение относительно друг друга. Наш язык, выросший из фонетической технологии, не может справиться с этой новой точкой зрения на знание. Мы все еще говорим, что электрический ток «течет», или ведем речь о «разряде» электрической энергии, уподобляя его линейному огню из ружей. Однако точно так же, как и в случае эстетической магии живописи, «электричество есть состояние, которое мы наблюдаем, когда между вещами имеются определенные пространственные отношения». Художник учится устанавливать отношения между вещами так, чтобы из них рождалось новое восприятие, а химик и физик изучают, как другими отношениями высвобождаются другие виды энергии.[202] В электрическую эпоху мы находим все меньше оснований навязывать каждому объекту или группе объектов один и тот же набор отношений. Вместе с тем в древнем мире единственное средство достичь силы и власти заключалось в том, чтобы заставить тысячу рабов действовать как один человек. В средние века общинные часы, снабженные колоколом, позволяли обеспечивать высокую координацию энергий небольших сообществ. В эпоху Возрождения часы, соединившись с единообразной респектабельностью нового книгопечатания, расширили мощь социальной организации почти до национальных масштабов. К девятнадцатому веку они предоставили такую технологию сплочения, неотделимую от промышленности и транспорта, которая позволила целым метрополисам действовать чуть ли не в качестве автомата. Ныне, в электрическую эпоху децентрализованной власти и информации, единообразие часового времени начинает нас раздражать. В эту эпоху пространства-времени мы ищем множественности ритмов, а не их повторяемости. Разница тут такая же, как между марширующими солдатами и балетом.
Чтобы прийти к пониманию средств коммуникации и технологии, надо осознать, что всякий раз, когда мы сталкиваемся с новым заклинанием механизма или расширением наших тел, наступает наркоз, или оцепенение, охватывающее новорасширенную область. Никто не жаловался на часы, пока электрическая эпоха не сделала их механический сорт времени вопиюще несообразным. В наш электрический век город, ведущий механическую жизнь по часам, выглядит скоплением лунатиков и зомби, знакомым нам из начальных строф поэмы Т. С. Элиота «Бесплодная земля».
На планете, уменьшенной новыми средствами коммуникации до размеров деревни, сами города кажутся причудливыми и странными, словно архаические формы, уже накрытые сверху новыми конфигурациями культуры. Однако в те времена, когда механическое письмо (как поначалу называли печать) дало механическим часам огромную новую силу и практичность, реакция на новое чувство времени была весьма неоднозначной и даже насмешливой. В сонетах Шекспира то тут, то там всплывает двойственна» тема бессмертия славы, дарованного печатной машиной, — и мелкой суетности повседневного существования, измеряемого часами:
Когда часы мне говорят, что свет Потонет скоро в грозной тьме ночной… Я думаю о красоте твоей, О том, что ей придется отцвести…[203] Сонет XIIВ «Макбете» Шекспир связывает эти сдвоенные технологии печати и механического времени в известном монологе, призванном явить крушение макбетовского мира:
Так — в каждом деле. Завтра, завтра, завтра, — А дни ползут, и вот уж в книге жизни Читаем мы последний слог и видим, Что все вчера лишь озаряли путь К могиле пыльной…[204]Время, сообща нарубленное часами и печатным станком на единообразные последовательные отрезки, стало главной темой в неврозе эпохи Возрождения, неотделимом от нового культа точного измерения в науках. В Сонете LX Шекспир ставит механическое время в начало, а новый механизм бессмертия (печатный станок) в конец:
Как волны набегают на каменья, И каждая там гибнет в свой черед, Так к своему концу спешат мгновенья, В стремленье неизменном — все вперед!.. Но все ж мой стих переживет столетья: Так славы стоит, что хочу воспеть я![205]В стихотворении Джона Донна «К восходящему солнцу» используется противопоставление аристократического и буржуазного времени. Одной из черт, более всего порочивших буржуазию девятнадцатого столетия, была ее пунктуальность, педантичная преданность механическому времени и последовательному распорядку. Когда благодаря электрической технологии в ворота сознания хлынуло пространство-время, всякая механическая пунктуальность стала презираемой и даже смехотворной. Донну было присуще то же ироничное ощущение неуместности часового времени, однако он делал вид, что в царстве любви даже великие космические временные циклы являются мелочными аспектами часов:
Как ты мешать нам смеешь, дурень рыжий? Ужель влюбленным Жить по твоим резонам и законам? Иди отсюда прочь, нахал бесстыжий! Ступай, детишкам проповедуй в школе, Усаживай портного за работу, Селян сутулых торопи на поле, Напоминай придворным про охоту; А у любви нет ни часов, ни дней — И нет нужды размениваться ей![206]Популярность Донна в двадцатом веке была во многом связана с тем, что он бросил вызов могуществу новой Гутенберговой эпохи, пытавшейся одарить его язвами единообразного повторяемого книгопечатания и мотивами точного визуального измерения. Аналогичным образом, стихотворение Эндрю Марвелла[207] «К стыдливой возлюбленной» было исполнено презрения к новому духу измерения и калькуляции времени и добродетели:
Сударыня, будь вечны наши жизни, Кто бы подверг стыдливость укоризне? Не торопясь, вперед на много лет Продумали бы мы любви сюжет… Столетие ушло б на воспеванье Очей; еще одно — на созерцанье Чела; сто лет — на общий силуэт; На груди — каждую! — по двести лет; И вечность, коль простите святотатца, Чтобы душою Вашей любоваться. Сударыня, вот краткий пересказ Любви, достойной и меня и Вас.[208]Марвелл смешал воедино манеры обмена с манерами восхваления, приспособленными к конвенциональному и модно фрагментированному мировоззрению своей возлюбленной. Вместо ее «кассового» подхода к реальности он подставил иную временную структуру и иную модель восприятия. Это мало чем отличается от гамлетовского «Взгляни на ту картину и на эту». Вместо тихого буржуазного перевода средневекового любовного кодекса на язык нового торговца из среднего класса, не капер ли Байрона мчится здесь к дальним берегам идеальной любви?
Но за моей спиной, я слышу, мчится Крылатая мгновений колесница; А впереди нас — мрак небытия, Пустынные, печальные края.Здесь явлена новая линейная перспектива, которая вместе с Гутенбергом проникла в живопись, но до мильтоновского «Потерянного рая» еще не проникала в мир словесности. Даже письменный язык на протяжении двух столетий сопротивлялся абстрактному визуальному порядку линейной последовательности и крайнего предела. Однако уже следующее поколение после Марвелла переключилось на пейзажную лирику и приняло подчинение языка специальным визуальным эффектам.
Марвелл же увенчал свою обратную стратегию покорения буржуазного часового времени следующим замечанием:
И пусть мы солнце в небе не стреножим, — Зато пустить его галопом сможем!Он полагал, что его возлюбленная и он должны превратиться в пушечное ядро и запустить себя в солнце, чтобы пустить его галопом. Время можно победить, так сказать, полным обращением его характеристик, стоит лишь в достаточной мере ускорить его ход. Пережить этот факт предстояло электронной эпохе, открывшей, что мгновенные скорости отменяют время и пространство и возвращают человека в состояние интегрального и примитивного сознания.
Сегодня не только часовое время, но само колесо безнадежно устарело и втягивается под влиянием все возрастающих скоростей в живую форму. В приведенном стихотворении отчетливо звучит интуитивное понимание Эндрю Марвеллом того, что часовое время можно победить скоростью. Сегодня, в условиях господства электрических скоростей, механика начинает уступать место органическому единству. Теперь человек может оглянуться назад, на двух-или трехтысячелетнюю историю различных степеней механизации, с полным осознанием того, что механическая эпоха была интерлюдией между двумя великими органическими периодами культуры. В 1911 году итальянский скульптор Боччони[209] сказал: «Мы туземцы неведомой культуры». По прошествии полувека мы знаем о новой культуре электронной эры немного больше, и это знание приподняло завесу тайны, которой была окутана машина.
В отличие от простого орудия труда, машина есть расширение, или овнешнение процесса. Орудие труда расширяет вовне кулак, ногти, зубы, руку. Колесо расширяет вовне вращательное или поступательное движение ступней. Печать, явившаяся первой полной механизацией ручной работы, разбивает движение руки на серию дискретных шагов, которым свойственна такая же повторяемость, как и находящемуся во вращении колесу. Из этой аналитической последовательности родился конвейерный принцип, однако теперь, в электрическую эпоху, конвейер устарел, поскольку синхронизация перестала быть последовательной. Благодаря электрическим пленкам может симультанно происходить синхронизация любого числа различных действий. Таким образом, механический принцип аналитического членения на ряды пришел к своему концу. Вообще говоря, в настоящее время настал конец и колесу, хотя механический слой нашей культуры еще удерживает его как часть накопленной инерции, или архаической конфигурации.
Современные часы — механические по своему принципу — воплотили в себе колесо. Они утратили свои старые значения и функции. На смену единообразию-времени приходит множественность-времен. Сегодня проще простого отобедать в Нью-Йорке, а несварение желудка ощутить уже в Париже. Путешественники имеют возможность ежедневно переживать на собственном опыте, что значит побывать в такой-то час в культуре 3000 года до нашей эры, а в следующий час быть уже в культуре 1900 года нашей эры. В большинстве своих внешних проявлений североамериканская жизнь отвечает принципам девятнадцатого столетия. Но наш внутренний опыт, все более расходящийся с этими механическими образцами, является по своей форме электрическим, инклюзивным и мифическим. Мифический, или иконический, способ осознания заменяет точку зрения многоликостью.
Историки согласны друг с другом, что основной ролью часов в монастырской жизни была синхронизация человеческих задач. Нигде, кроме высокоразвитых письменных сообществ, принятие такого дробления жизни на минуты и часы было немыслимо. Готовность подчинить человеческий организм чуждой модели механического времени зависела в первые века христианства от письменности так же, как и сегодня. Ведь для утверждения господства часов необходимо было, чтобы прежде был принят визуальный акцент, неотделимый от фонетической письменности. Сама письменность есть абстрактный аскетизм, расчищающий путь бесчисленным формам лишения в человеческом сообществе. С приходом всеобщей грамотности время может принять характер замкнутого, или рисованного, пространства, которое можно разделять и подразделять. Оно может быть наполнено. «Мое расписание наполнено до предела». Оно может быть оставлено свободным: «В следующем месяце у меня есть свободная неделя». И как показал в книге «О времени, труде и досуге» Себастьян де Грациа,[210] все свободное время в мире — это не досуг, поскольку досуг не признает ни разделения труда, конституирующего «труд», ни разделений времени, создающих «полный рабочий день» и «свободное время». Досуг исключает времена как вместилища. Но стоит лишь время механически или визуально оградить, подразделить и наполнить, как сразу появляется возможность использовать его все более и более эффективно. Как заметил Паркинсон[211] в знаменитом «Законе Паркинсона», время можно превратить в машину экономии труда.
Исследователь истории часов обнаружит, что с изобретением механических часов в жизнь вошел совершенно новый принцип. В самых первых механических часах еще сохранился старый принцип непрерывного действия движущей силы, какой применялся в водяных часах и водяном колесе. И только около 1300 года был сделан шаг вперед, состоявший в изобретении коротких нарушений вращательного движения с помощью коронной шестерни или баланса. Эта функция была названа «анкерным механизмом» и стала средством буквального перевода непрерывной силы колеса в визуальный принцип единообразной, но сегментированной последовательности. Анкерный механизм привнес взаимное попеременное действие рук в попеременное вращение шпинделя вперед-назад. Произошедшая в механических часах встреча этого древнего расширения движения рук с поступательным вращательным движением колеса была, таким образом, переводом рук в ноги, а ног в руки. Более сложного технологического расширения взаимно переплетенных телесных дополнений нам, видимо, не найти. Таким образом источник энергии в часах посредством технологического перевода был отделен от рук, или источника информации. Анкерный механизм как перевод одного из видов колесного пространства в единообразное и визуальное пространство является, стало быть, прямым предвосхищением исчисления бесконечно малых величин, которое переводит любой вид пространства или движения в единообразное, непрерывное и визуальное пространство.
Сидя на заборе между механическим и электрическим использованием труда и времени, Паркинсон имеет возможность по-настоящему повеселить нас, просто искоса поглядывая то одним, то другим глазом на картину времени и работы. Культуры вроде нашей, зависшие в точке трансформации, рождают в большом изобилии как трагическое, так и комическое сознание. Именно максимальное взаимодействие разных форм восприятия и опыта делает великими культуры пятого века до нашей эры, шестнадцатого века и двадцатого века. Однако лишь немногие наслаждались жизнью в эти насыщенные периоды истории, когда всё, что гарантирует привычность и безопасность, за считанные десятилетия разрушается и принимает новые конфигурации.
Не сами часы, а именно письменность, поддержанная часами, создала абстрактное время и приучила людей есть не тогда, когда они голодны, а когда настало «время подкрепиться». Льюис Мэмфорд делает красноречивое наблюдение, когда говорит, что абстрактно-механическое ощущение времени в эпоху Возрождения позволило людям поселиться в классическом прошлом и вырваться из своего настоящего. Опять-таки, именно печатный пресс сделал возможным возрождение классического прошлого посредством массового производства его литературы и текстов. Утверждение механического и абстрактного паттерна времени находит вскоре свое продолжение в периодической смене стилей одежды, в то время как массовое производство находит аналогичное продолжение в периодической публикации газет и журналов. Сегодня мы принимаем как само собой разумеющееся, что задача журнала «Вог» состоит в изменении стилей одежды, которое входит составной частью в процесс его печатания вообще. Когда вещь в ходу, она создает деньги; мода создает богатство, приводя в движение ткани и делая их все более ходовыми. Как действует этот процесс, мы уже видели в главе о деньгах. Часы — это механические средства коммуникации, которые трансформируют задачи и, повышая скорость человеческой ассоциации, создают новую работу и новое богатство. Координируя и ускоряя человеческие встречи и весь образ жизни, часы повышают чистое количество человеческих обменов.
Но тогда Мэмфорд прав, связывая друг с другом «часы, печатный пресс и доменную печь» как гигантские нововведения эпохи Возрождения. Часы, как и домна, ускоряли переплавку материалов и развитие гладкой конформности в очертаниях социальной жизни. Еще задолго до промышленной революции конца восемнадцатого века люди жаловались, что общество стало «скучной машиной», с головокружительной скоростью прогоняющей их через жизнь. Часы вырвали человека из мира сезонных ритмов и повторений так же эффективно, как алфавит вызволил их из. магического резонанса устного слова и из племенного капкана. Это двойное выведение индивида из объятий Природы и плена племени не обошлось без соответствующих наказаний. Однако в условиях электричества возврат к Природе и возвращение в племя стали фатально просты. Нам нужно остерегаться тех, кто выступает с программами возвращения человека в первозданное состояние и к первоначальному языку расы. Эти крестоносцы никогда не утруждали себя анализом того, какую роль играют средства коммуникации и технология в перебрасывании человека из одного измерения в другое. Они подобны сомнамбулическому африканскому вождю с притороченным к спине будильником.
Профессор сравнительной религии Мирча Элиаде в книге «Священное и мирское»[212] не понимает, что «священный» универсум — в том смысле, который он в него вкладывает, — есть универсум, находящийся во власти устного слова и слуховых средств коммуникации. «Мирской» же универсум находится во власти зрения. Часы и алфавит, раздробив мир на визуальные сегменты, положили конец музыке взаимосвязи. Именно визуальное десакрализирует универсум и создает «безрелигиозного человека современных обществ».
В историческом плане, однако, книга Элиаде полезна, поскольку в ней подробно рассказывается о том, что до наступления эпохи часов и живущего по часам города у племенного человека были космические часы и священное время самой космогонии. Когда племенной человек хотел построить город или дом или исцелить недуг, он останавливал космические часы с помощью сложной ритуальной постановки, или воспроизведения, исходного процесса творения. Элиаде упоминает, что на Фиджи «церемония утверждения в должности нового правителя называется "сотворением мира"». Такая же драма разыгрывается с целью помочь росту злаков. Если современный человек чувствует себя обязанным соблюдать пунктуальность и беречь время, то племенной человек нес на себе ответственность за постоянное снабжение энергией космических часов. От электрического, или экологического, человека (человека тотального поля) можно ожидать, что он превзойдет староплеменную космическую заботу о заключенной внутри него Африке.
Примитивный человек жил в гораздо более тираничной космической машине, чем когда-либо изобретенные западным письменным человеком. Мир уха всеохватнее и инклюзивнее, чем мир глаза. Ухо сверхчувствительно. Глаз же холоден и бесстрастен. И если ухо повергает человека в универсальную панику, то глаз, расширенный вовне письменностью и механическим временем, оставляет какие-то пробелы и островки, дарующие свободу от непрестанного акустического давления и многократно отраженного рокота.
ГЛАВА 16. ПЕЧАТЬ КАК НА НЕЕ КЛЮНУТЬ
Искусство изготовления изобразительных высказываний в точной и повторяемой форме мы на Западе уже давно воспринимаем как само собой разумеющееся. Но обычно забываем при этом, что без оттисков и светокопий, без карт и геометрии вряд ли существовал бы мир современных наук и технологий.
Во времена Фердинанда,[213] Изабеллы[214] и других морских монархов карты были такими же совершенно секретными, как и сегодняшние новые открытия в области электроники. Когда капитаны возвращались из дальних странствий, королевские чиновники делали все возможное и невозможное, чтобы заполучить и оригиналы, и копии сделанных во время плавания карт. В результате возник доходный черный рынок, и развернулась бойкая торговля секретными картами. Карты, о которых идет речь, не имели ничего общего с картами более позднего оформления и, фактически, больше походили на дневники, в которых фиксировались всевозможные приключения и опыты. Ибо сложившееся позже восприятие пространства как однородного и непрерывного было неведомо средневековому картографу, чьи труды были сродни современному нерепрезентативному искусству. Шок, вызванный новым ренессансным пространством, до сих пор ощущается туземцами, которые впервые с ним сталкиваются сегодня. Принц Модупе в автобиографической книге «Я был дикарем» рассказывает, как научился в школе читать карты и, возвращаясь домой, в родную деревню, прихватил с собой карту реки, по которой его отец много лет путешествовал, будучи торговцем.
«…мой отец счел, что вся эта идея от начала до конца абсурдна. Он отказался отождествлять поток, который пересекал близ Бомако — где тот, как он говорил, был не глубже человеческого роста, — с великими водными просторами обширной дельты Нигера. Расстояния, измеряемые милями, не имели для него никакого смысла… Карты лгут, — коротко отрезал он. По тону его голоса я заключил, что каким-то образом глубоко его обидел; чем именно — я тогда еще не знал. Вещи, причиняющие страдание, не находят отражения на карте. Истина места состоит в радости или боли, которая от него исходит. Он посоветовал, что лучше бы мне не доверяться такой ненадежной вещи, как карта… Теперь я понимаю, хотя тогда еще не понимал, что мой беззаботный и легкомысленный охват прослеживаемых на карте ошеломляющих расстояний принизил значимость тех путешествий, которые он мерил усталостью ног. Красноречивостью своей карты я стер величие его тяжелых и изнурительных переходов».
Никакими словами в мире не описать такой предмет, как ведро, хотя мы легко сумеем в нескольких словах рассказать, как его можно сделать. Эта неадекватность слов для передачи визуальной информации об объектах была действенной преградой на пути развития греческих и римских наук. Плиний Старший[215] сообщал о неспособности греческих и латинских ботаников разработать средства для передачи информации о растениях и цветах:
«Поэтому-то другие авторы и ограничивались словесным описанием растений; а некоторые даже не столько их описывали, сколько по большей части довольствовались пустым воспроизведением их названий…»
Здесь мы еще раз сталкиваемся с основной функцией средств коммуникации, состоящей в сохранении и ускорении информации. Ясно, что сохранять значит ускорять, поскольку то, что хранится, одновременно и более доступно по сравнению с тем, что еще только предстоит собрать. То, что визуальная информация о цветах и растениях не может быть сохранена вербально, указывает также и на то, что наука в западном мире долгое время находилась в зависимости от визуального фактора. И нет ничего удивительного в том, что так обстоит дело в письменной культуре, базирующейся на технологии алфавита, культуре, которая даже разговорный язык сводит к визуальной модели. Когда электричество создало многочисленные невизуальные средства хранения и восстановления информации, не только культура, но и наука полностью изменила свою базу и характер. Однако ни у педагога, ни у философа не возникает потребности узнать, что означает этот сдвиг для обучения и умственного процесса.
Задолго до того, как Гутенберг изобрел печать со съемных наборных литер, много печатных работ делалось с помощью ксилографии. Пожалуй, самой популярной формой ксилографической печати текстов и изображений была Biblia Pauperum, или «Библия для бедных».[216] Печатающие устройства ксилографического типа опередили по времени появление типографских станков, хотя на сколько именно, установить трудно, поскольку эти дешевые и популярные оттиски, презираемые людьми образованными, хранились не дольше, чем хранятся сегодня сборники комиксов. В этой разновидности печати, которая предшествует Гутенберговой, вступает в силу великий закон библиографии: «Чем больше их было прежде, тем меньше их сейчас». Помимо печатной продукции, он применим и ко многим другим единицам, например, к почтовой марке и первым формам радиоприемников.
В опыте средневекового человека и человека эпохи Возрождения почти не было того разделения и специализации искусств, которое получило развитие позже. Рукопись и первые печатные книги прочитывались вслух, а поэтические произведения пелись или читались нараспев. Ораторское искусство, музыка, литература и рисунок были тесно связаны. И, прежде всего, мир иллюминированной рукописи был миром, в котором самому тиснению придавался пластический акцент, доходящий едва ли не до скульптурности. В исследовании, посвященном искусству иллюминатора рукописей Андреа Мантеньи,[217] Миллард Майс[218] говорит, что посреди полей страницы, украшенных цветами и листьями, выполненные Мантеньей буквы «высятся словно монументы — каменные, непоколебимые и изящно выточенные… Осязаемо прочные и весомые, они уверенно возвышаются на раскрашенном фоне, часто отбрасывая на него тень…»
Такое же ощущение букв алфавита как резных икон возродилось в наши дни в графических искусствах и рекламных вывесках. С предчувствием этого грядущего изменения читатель, возможно, столкнется в сонете Рембо, посвященном гласным буквам,[219] и в некоторых живописных полотнах Брака. Однако и обычный стиль газетных заголовков стремится подтолкнуть буквы к иконической форме — форме, очень близкой к слуховому резонансу, а также тактильности и скульптурности.
Возможно, высшим качеством печати является качество, пропавшее для нас даром в силу своего слишком случайного и очевидного существования. И состоит оно попросту в том, что именно изобразительное высказывание может повторяться точно и до бесконечности — по крайней мере пока сохраняется оттиск. Повторяемость составляет ядро механического принципа, овладевшего нашим миром, особенно с появлением Гутенберговой технологии. Сообщение печати и книгопечатания — прежде всего сообщение о повторяемости. С рождением книгопечатания принцип съемных литер явил средство механизации любой ручной работы путем сегментирования и фрагментирования целостного действия. То, начало чему положил алфавит как разделение многочисленных жестов, зрительных образов и звучаний, заключенных в устном слове, достигло нового уровня интенсивности: сначала с появлением ксилографии, затем — с развитием книгопечатания. Алфавит отдал первенство в слове визуальному компоненту, редуцировав все прочие чувственные факты устного слова к этой форме. Это помогает объяснить, почему в письменном мире были так радушно встречены ксилография и даже фотография. Эти формы предоставляют тот мир инклюзивного жеста и драматической позы, который неизбежно упущен в письменном слове.
За печать жадно ухватились как за средство распространения информации и как за стимул, зовущий к благоговению и размышлению. В 1472 г. в Вероне была напечатана книга Вольтурия «Искусство войны», снабженная многочисленными ксилографиями, объясняющими механику войны. Широкое применение ксилографии как вспомогательного средства для созерцания в часословах,[220] гербовых книгах и пасторских календарях продолжалось еще двести лет.
Уместно обратить внимание на то, что старые оттиски и ксилографии, подобно современным комиксам и книжкам комиксов, дают очень мало данных о конкретных моментах времени и пространственных аспектах объекта. Зритель, или же читатель, вынужден участвовать в довершении и интерпретации тех немногочисленных намеков, которые содержатся в контурах рисунков. Мало чем отличается по своему характеру от ксилографии или комикса телевизионный образ, со свойственной ему низкой степенью информирования об объектах и возникающей в итоге высокой степенью зрительского участия, нацеленного на довершение того, что дано лишь намеком в мозаичном смешении точек. С тех пор, как появилось телевидение, книжки комиксов пришли в упадок.
Судя по всему, достаточно очевидно, что если холодное средство коммуникации в значительной степени вовлекает зрителя, то горячее — нет. Хотя это и может противоречить массовым представлениям, мы полагаем, что книгопечатание как горячее средство вовлекает читателя гораздо меньше, чем рукопись, а книжка комиксов и телевидение как холодные средства дают глубокое вовлечение тому, кто ими пользуется, и как изготовителю, и как участнику.
Когда истощились греко-римские резервы рабского труда, Западу пришлось технологизироваться интенсивнее, чем это делал древний мир. То же произошло с американским фермером, который, столкнувшись с новыми задачами и возможностями, но в то же время и с огромным дефицитом человеческой помощи, лихорадочно погрузился в создание средств экономии труда. Казалось бы, логика успеха в этом деле состоит в окончательном устранении рабочей силы со сцены тяжелого физического труда. Короче говоря, в автоматизации. Но даже если этот мотив и стоял за всеми нашими человеческими технологиями, отсюда вовсе не следует, что мы готовы принять его последствия. Обрести точки опоры нам помогает видение того, как протекал этот процесс в те далекие времена, когда труд означал специалистское рабство, и только досуг означал жизнь, полную человеческого достоинства, в которую человек был вовлечен целиком.
В своей неуклюжей фазе ксилографии печать раскрывает нам основной аспект языка, а именно тот, что слова в повседневном употреблении не могут нести строгого определения. Когда Декарт окинул взором философскую обстановку начала семнадцатого столетия, он был потрясен смешением языков и немедленно приступил к попыткам сведения философии к точной математической форме. Это страстное стремление к неуместной точности помогло лишь исключить из философии большинство философских вопросов; и вскоре великое царство философии было поделено на огромное множество никак не сообщавшихся друг с другом наук и специальностей, известных нам сегодня. Интенсивность акцента на визуальном копировании и точности — это взрывная сила, разрывающая на фрагменты мир власти и знания. Возрастание точности и количества визуальной информации превратило печать в трехмерный мир перспективы и фиксированной точки зрения. Иероним Босх своими картинами, вплетающими средневековые формы в пространство эпохи Возрождения, поведал нам о том, каково это на самом деле — жить, разрываясь между двумя мирами, старым и новым, во время такого рода революции. Босх предложил старый тип пластичного, тактильного образа и одновременно поместил его в интенсивную новую визуальную перспективу. Он предложил старую средневековую идею уникального, прерывного пространства, наложив ее в то же время на новую идею единообразного, связного пространства. И сделал это с прямолинейной интенсивностью ночного кошмара.
Льюис Кэрролл перенес девятнадцатый век в мир сновидений, столь же поразительный, как мир Босха, но построенный на обратных принципах. «Алиса в стране чудес» предлагает как норму те непрерывные время и пространство, которые внушали ужас эпохе Возрождения. Проникнув в этот единообразный евклидов мир известного пространства-и-времени, Кэрролл отбросил фантазию прерывного пространства-и-времени, предвосхитив Кафку, Джойса и Элиота. Будучи математиком и современником Клерка Максвелла,[221] Кэрролл был достаточно передовой личностью, чтобы знать о входивших в то время в моду неевклидовых геометриях. В «Алисе в стране чудес» он дал убежденным викторианцам веселое предвкушение Эйнштейнова пространства-и-времени. Босх же дал своей эпохе предчувствие нового непрерывного пространства-и-времени единообразной перспективы. Босх с ужасом глядел вперед, на современный мир — так же, как Шекспир в «Короле Лире» или Поуп в «Дунсиаде».[222] Льюис Кэрролл, напротив, с широкой улыбкой приветствовал наступление электронной эпохи пространства-времени.
Нигерийцев, обучающихся в американских университетах, просят иногда определить пространственные отношения. Сталкиваясь с объектами, освещенными солнечным светом, они часто оказываются неспособны указать, в каком направлении упадут тени, ибо это требует погружения в трехмерную перспективу. Таким образом, солнце, объекты и наблюдатель переживаются в опыте по отдельности и рассматриваются как независимые друг от друга. Для средневекового человека, как и для дикаря, пространство не было гомогенным и не содержало в себе объекты. Каждая вещь создавала свое собственное пространство, как до сих пор полагает туземец (а также современный физик). Конечно, это не означает, что туземные художники не связывают вещи друг с другом. Нередко они изобретают в высшей степени сложные и изощренные конфигурации. Ни сам художник, ни наблюдатель не испытывают ни малейших затруднений с узнаванием и истолкованием образца (pattern), но только в том случае, когда он традиционный. Как только вы начинаете модифицировать, или переводить его в другое средство (скажем, три измерения), туземцам не удается его узнать.
В одном антропологическом фильме был показан меланезийский резчик по дереву, который вырезал украшенный барабан с такими умением, координацией и легкостью, что аудитория неоднократно разражалась аплодисментами; это становилось песней, балетом. Однако когда антрополог попросил членов племени сделать ящики, дабы поместить туда эти резные работы, те на протяжении трех дней безуспешно пытались заставить две доски пересечься под углом 90 градусов, после чего разочарованно бросили это занятие. Они не могли упаковать то, что создали.
В мире средневековой ксилографии, для которого была характерна низкая определенность, каждый объект создавал свое пространство, и не было того рационального связного пространства, в которое бы его необходимо было втиснуть. Когда впечатление, производимое на сетчатку глаза, усиливается, объекты перестают быть привязаны к пространству собственного изготовления и «помещаются» вместо этого в единообразное, непрерывное и «рациональное» пространство. В 1905 году теория относительности возвестила об исчезновении единообразного Ньютонова пространства как иллюзии, или фикции, пусть даже и полезной. Эйнштейн провозгласил конец непрерывного, или «рационального» пространства, расчистив тем самым путь для Пикассо, братьев Маркс и журнала MAD.
ГЛАВА 17. КОМИКС ВЕСТИБЮЛЬ MAD,[223] ВЕДУЩИЙ К ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Спасибо печати! Именно благодаря ей Диккенс стал юмористическим писателем. Его жизненный путь начался с поставки материала для одного популярного карикатуриста. Здесь, после главы о печати, мы рассмотрим комикс, дабы зафиксировать наше внимание на устойчивых характеристиках комикса двадцатого века, роднящих его с печатью и даже грубой ксилографией. Не сразу и сообразишь, каким образом качества, присущие печати и ксилографии, могут вновь явиться в мозаичной сетке телевизионного образа. Телевидение — настолько сложный предмет для людей письменного склада, что подходить к нему следует исподволь. Из трех миллионов точек в секунду, появляющихся на телевизионном экране, зритель способен воспринять в иконическом схватывании лишь несколько десятков, примерно семьдесят, из которых и складывается образ. Образ, составленный таким способом, настолько же приблизителен, как и образ комической картинки. А потому печать и комикс дают нам полезный подход к пониманию телевизионного образа, поскольку предлагают очень мало визуальной информации, или связанных друг с другом деталей. Художники и скульпторы, однако, поймут телевидение без особого труда, ибо знают, как много нужно тактильного вовлечения для правильного восприятия пластического искусства.
Структурные качества печати и ксилографии присущи и карикатуре; всех их отличает общий участный и «самодеятельный» характер, пронизывающий сегодня широкий спектр переживаний, создаваемых средствами коммуникации. Как печать — ключ к комической карикатуре, так и комикс — ключ к пониманию телевизионного образа.
Какой покрывшийся морщинами тинэйджер не вспомнит сегодня, как очарован был «Желтым Крошкой» Ричарда Ф. Оутколта,[224] этой гордостью жанра комикса! Впервые он появился в нью-йоркской «Санди Уорлд» под названием «Аллея Хогана». Газета стала помещать на видном месте различные сценки из жизни маленьких детей из доходных домов, Мэгги и Джиггса. Этот постоянный раздел обеспечил хорошую распродажу газеты в 1898 году, как, впрочем, и после. В скором времени газету приобрел Херст, который приступил к изданию больших комических приложений. Обладая низкой определенностью, комиксы (как уже было объяснено в главе о печати) являются высокоучастной формой выражения, идеально приспособленной к мозаичной форме газеты. Кроме того, они изо дня в день обеспечивают чувство непрерывного течения времени. Отдельная заметка в колонке новостей дает очень мало информации и требует от читателя довершения, или наполнения, точно так же, как это делают телевизионный образ и фототелеграмма. Именно поэтому телевидение нанесло миру комиксов тяжелейший удар. Оно вовсе не было дополнением к нему; оно было ему настоящим конкурентом. Но еще более сокрушительный удар нанесло телевидение миру изобразительных рекламных объявлений, вытеснив все отчетливое и гладкое и водворив на его место шероховатое, скульптурное и осязаемое. Отсюда внезапный успех журнала MAD, предлагающего лишь нелепое и холодное повторение форм, взятых из таких горячих средств коммуникации, как фотография, радио и кино. MAD — это старый печатный и ксилографический образ, возрождающийся сегодня в различных средствах коммуникации. Свойственный ему тип конфигурации будет определять форму всех перспективных телевизионных предложений.
Величайшим случаем влияния телевидения был «Лил Абнер»[225] Эла Каппа. Восемнадцать лет Эл Капп удерживал Лила Абнера на грани вступления в брак. Изощренная формула, используемая им в отношении своих персонажей, была обратна формуле, которой пользовался французский романист Стендаль, говоривший: «Я просто вовлекаю моих героев в последствия их собственной глупости, а затем даю им мозги, чтобы они могли страдать». Эл Капп, в свою очередь, говорил так: «Я просто вовлекаю моих героев в последствия их собственной глупости, а затем отнимаю у них мозги, чтобы они ничего не могли с этим поделать». Их неспособность помочь самим себе создавала своего рода пародию на все прочие комиксы, построенные на напряженном ожидании. Эл Капп довел принцип напряженного ожидания до абсурда. Однако читателям долгое время доставляло удовольствие, что неуклюжее состояние беспомощной неспособности к действию было парадигмой человеческой ситуации вообще.
С появлением телевидения и его иконического мозаичного образа, повседневные жизненные ситуации стали казаться совершенно нормальными. Эл Капп вдруг обнаружил, что его передергивание уже не работает. Ему показалось, что американцы утратили способность смеяться над собой. Он ошибался. Просто телевидение глубже, чем раньше, вовлекло всех людей в жизни друг друга. Это холодное средство с данным ему мандатом глубокого участия требовало от Каппа иначе сфокусировать образ Лила Абнера. Его растерянность и тревога идеально соответствовали чувствам тех, кто работал на любом мало-мальски значительном американском предприятии. Перефокусирование целей и образов — с журнала «Лайф» на «Дженерал Моторс», с классной комнаты на номер люкс для высших чиновников, — позволяющее обеспечивать все большее вовлечение и участие аудитории, было неизбежным. Капп говорил: «Теперь Америка изменилась. Юморист чувствует это изменение, быть может, даже больше, чем кто бы то ни было. Теперь в Америке есть вещи, над которыми смеяться нельзя».
Глубинное вовлечение побуждает каждого воспринимать себя гораздо серьезнее, чем раньше. Когда телевидение остудило американскую аудиторию, снабдив ее новыми предпочтениями и новой ориентацией зрения, слуха, осязания и вкуса, чудесное варево Эла Каппа тоже должно было несколько сбавить тон. Не было более потребности дурачиться над Диком Трейси[226] или рутиной техники напряженного ожидания. Как обнаружил журнал MAD, новая аудитория находила сцены и темы обыденной жизни не менее забавными, чем то, что происходило в далеком Собачьем Закутке.[227] Журнал MAD просто перенес мир рекламных объявлений в мир книжки комиксов и сделал это как раз тогда, когда телевизионный образ уже начинал уничтожать книжку комиксов в прямой конкуренции. В то же время телевизионный образ сделал неясным и размытым четкий и ясный фотографический образ. Телевидение остужало аудиторию рекламных объявлений до тех пор, пока непрекращающееся безумие рекламы и развлечений не приспособилось как следует к программе журнального мира MAD. Телевидение фактически превратило в комиксовый мир такие былые горячие средства коммуникации, как фотография, кино и радио, и достигло этого, просто представив их как перегретые упаковки. Сегодня десятилетний ребенок прижимает к сердцу свой MAD («Построй свое Я вместе с MAD») подобно русскому битнику, хранящему как реликвию старую пленку с записями Пресли, сделанными с радиопередач для джи-ай. Если бы «Голос Америки» внезапно переключился на джаз, Кремль мог бы запросто рухнуть. Это было бы почти так же эффективно, как если бы у русских граждан вместо нашей сумрачной пропаганды американского образа жизни вдруг появилась возможность потаращить глаза на копии каталогов «Сиэрз Робак».[228]
Пикассо долгое время был фанатичным поклонником американских комиксов. Высоколобые интеллектуалы, от Джойса до Пикассо, издавна преданы всей душой американскому массовому искусству, поскольку видят в нем аутентичную реакцию воображения на официальное действие. С другой стороны, благородное искусство склонно попросту избегать и осуждать вульгарные способы действия в могущественном высокоопределенном, или «мещанском» обществе. Благородное искусство — своего рода повторение специализированных акробатических подвигов индустриализованного мира. Массовое же искусство — это клоун, напоминающий нам о всей полноте жизни и обо всех способностях, упущенных нами в нашей повседневной рутине. Он берет на себя смелость выполнять специализированные рутинные действия общества, действуя как целостный человек. Но целостный человек совершенно беспомощен в специалистской ситуации. И это дает по крайней мере один из подступов к постижению искусства комикса, а вместе с тем и искусства клоуна.
Голосуя за MAD, нынешние десятилетние дети на свой особый лад говорят нам о том, что телевизионный образ покончил с потребительской фазой американской культуры. Сегодня они говорят нам о том, о чем десять лет назад впервые попытались сказать восемнадцатилетние битники. Потребительская эпоха изобразительности мертва. Мы стоим на пороге иконической эпохи. Теперь мы подбрасываем европейцам ту упаковку, которая занимала нас с 1922 до 1952 года. Настал их черед вступить в свою первую потребительскую эпоху стандартизированных продуктов. Мы же входим в свою первую глубинную эпоху художественно-продюсерской ориентации. Америка столь же широко европеизируется, сколь Европа американизируется.
Так что же остается на долю старых популярных комиксов? Как быть с «Блондинкой»[229] и «Воспитанием отца»?[230] Их мир был пасторальным миром первобытной невинности, из которого молодая Америка давно выросла. В те дни было беззаботное детство, еще существовали далекие идеалы, сокровенные грезы и визуализируемые цели, и не было энергичных и вездесущих телесных поз группового участия.
В главе о печати было показано, что карикатура, представляя собой самодеятельную форму опыта, вела по мере наступления электрической эпохи все более энергичную жизнь. Таким образом, все электрические устройства — вовсе не средства экономии труда, а новые формы работы, децентрализованные и ставшие доступными каждому. Таков также мир телефона и телевизионного образа, предъявляющий гораздо больше требований к своим пользователям по сравнению с радио или кино. Как простое следствие этого участного и самодеятельного аспекта электрической технологии, каждый вид развлечения в эпоху телевидения отдает предпочтение тому же типу личностного вовлечения. Отсюда тот парадокс, что в эпоху телевидения обыватель Джонни не умеет читать, ибо чтение в том виде, в каком его обычно преподают, — деятельность слишком поверхностная и расточительная. Поэтому высокоинтеллектуальная книжка в бумажной обложке в силу своей глубины вполне может увлечь подростков, с презрением отвергающих те повествования, которые им обычно предлагают. Сегодня учителя часто сталкиваются с тем, что студенты, не способные прочесть даже страничку в учебнике истории, становятся экспертами в программировании и лингвистическом анализе. Проблема, следовательно, не в том, что Джонни не умеет читать, а в том, что в эпоху глубокого вовлечения Джонни не может визуализировать отдаленные цели.
Первые книжки комиксов появились в 1935 году. Лишенные какой бы то ни было связности, не имевшие ничего общего с литературой и бывшие к тому же не менее трудными для расшифровки, чем «Евангелие из Келса»,[231] они быстро пленили умы молодежи. От старейшин племени, никогда не замечавших, что самая заурядная газета не уступает в безумии выставке сюрреалистического искусства, вряд ли можно было ожидать, что они заметят, что книжки комиксов столь же экзотичны, как и миниатюры восемнадцатого века. Таким образом, не замечая ничего в форме, они не смогли ничего разглядеть и в содержании. Драки и насилие — вот все, что они заметили. А потому, следуя своей наивной письменной логике, они ожидали, что насилие захлестнет мир. Или относили на счет влияния комиксов существующую преступность. Слабоумные преступники научились даже жаловаться: «Это-книжки-комиксов-ва-всем-винаваааты».
Тем временем нужно было как-то сжиться с насилием индустриальной и механической среды, подыскать ему какой-то смысл и мотив в нервах и инстинктах молодежи. Смириться с чем-то, или пережить что-то, значит перевести его непосредственное воздействие в многочисленные косвенные формы осознания. Мы подарили молодежи шумные и пронзительные асфальтовые джунгли, рядом с которыми любые тропические джунгли покажутся тихими и безопасными, как клетка для кроликов. Мы назвали это нормальным. Мы платили людям за удержание этих джунглей на высочайшем уровне интенсивности, ибо они хорошо окупались. А когда индустрия развлечений попыталась дать резонное факсимиле обычного городского безумия, наши брови подпрыгнули вверх от удивления.
Эл Капп открыл, что, по крайней мере до появления телевидения, любая степень драчливости Скрэгга или нравственности Фогбаунда воспринималась как нечто забавное. Сам он не считал, что это забавно. Он просто помещал в свою полосу карикатур то, что видел вокруг себя. И лишь наша выученная неспособность связывать ситуации друг с другом позволяла нам ошибочно принимать за юмор его сардонический реализм. Чем больше он показывал способность людей вляпываться в отвратительные затруднения, будучи при этом неспособными даже рукой пошевелить, чтобы хоть как-то себе помочь, тем больше люди хихикали. «Сатира, — говорил Свифт, — это зеркало, в котором мы видим любое лицо, но только не свое собственное».
Следовательно, комикс и рекламное объявление относятся к миру игр, к миру моделей и расширений ситуаций вовне. Журнал MAD, будучи миром ксилографии, печати и карикатуры, свел их с другими играми и моделями из мира развлечений. MAD — своего рода газетная мозаика рекламы как развлечения и развлечения как формы сумасшествия. И прежде всего, это печатеобразная и ксилографообразная форма выражения и опыта, чей неожиданный вызов является убедительным свидетельством глубоких изменений в нашей культуре. Сегодня нам крайне нужно понять формальный характер печати, комикса и карикатуры, бросающий вызов потребительской культуре кино, фотографии и прессы и в то же время изменяющий ее. Но нет ни одного подхода к этой задаче, ни одного наблюдения и ни единой идеи, которые могли бы дать решение столь сложной проблемы изменения в человеческом восприятии.
ГЛАВА 18. ПЕЧАТНОЕ СЛОВО АРХИТЕКТОР НАЦИОНАЛИЗМА
«Можете заметить, мадам, — говорил, по-боксерски улыбаясь, доктор Джонсон, — что я благовоспитан вплоть до ненужной скрупулезности». Какова бы ни была достигнутая доктором степень соответствия новому акценту его времени, вынесшему на передний план опрятность белых сорочек, он вполне сознавал возросший общественный спрос на визуальную представительность.
Печать со съемных наборных форм была первой механизацией сложной ручной работы и стала архетипом всей последующей механизации. От Рабле[232] и Мора[233] до Милля[234] и Морриса книгопечатный взрыв разносил умы и голоса людей по всей земле, дабы воспроизвести в мировом масштабе человеческий диалог, перебрасывающий мосты между эпохами. Ибо книгопечатание — если смотреть на него просто как на хранилище информации или как на новое средство быстрого восстановления знания — положило конец ограниченности и трайбализму как психически, так и социально, как в пространстве, так и во времени. И в самом деле, первые два столетия печати со съемных наборных форм были гораздо более мотивированы не потребностью в чтении и написании новых книг, а желанием увидеть книги античные и средневековые. До 1700 года больше половины всех печатавшихся книг были либо древними, либо средневековыми. Таким образом, первой читающей публике, внимавшей печатному слову, была дарована не только античность, но и средние века. И наибольшей популярностью пользовались средневековые тексты. Как и любое другое расширение человека, книгопечатание имело психические и социальные последствия, вызвавшие неожиданный сдвиг в прежних границах и образцах культуры. Втянув античный и средневековый миры в процесс сплавления — или, как некоторые сказали бы, смешения, — печатная книга создала третий мир, мир современный, который сталкивается ныне с новой электрической технологией, или новым расширением человека. Электрические средства движения информации преобразуют наши книгопечатные культуры настолько же радикально, насколько печать изменила средневековую культуру рукописи и схоластики.
Не так давно в книге «Алфавит» Беатрис Уорд описала электрическое изображение букв, нарисованных с помощью света. Речь шла о рекламе фильма Нормана МакЛарена. Она спрашивает:
«Разве вас удивит, что в тот вечер я опоздала в театр, если я расскажу вам, что увидела две косолапые египетские А… которые не спеша расхаживали рука об руку с неподражаемым важным видом танцовщиц из мюзик-холла? Я увидела засечки на основаниях, повернутые друг к другу, словно балетные туфельки, так что буквы буквально танцевали sur le pointes[235]… После сорока веков необходимо статичного Алфавита я увидела, что способны вытворять его члены в четвертом измерении Времени, «потоке», движении. Вы вправе сказать, что я была наэлектризована».
Трудно найти что-нибудь более далекое от книгопечатной культуры с ее принципом «места для всего и всего на своем месте».
Миссис Уорд посвятила всю свою жизнь изучению книгопечатания и проявляет несомненный такт в своей испуганной реакции на буквы, не отпечатанные с наборных литер, а нарисованные светом. Взрыв, начавшийся с фонетических букв («драконьих зубов», посеянных царем Кадмом), под влиянием мгновенной скорости электричества, вполне возможно, обратится в «сжатие». Алфавит (и его расширение в виде книгопечатания), обусловив возможность распространения власти, то есть знания, и ослабив племенные узы, взорвал тем самым племенное человечество и превратил его в скопление обособленных индивидов. Электрическое письмо и электрическая скорость мгновенно и последовательно обрушили на человека интересы всех других людей. И теперь он опять становится племенным. Род человеческий снова становится единым племенем.
Любой ученый, исследуя социальную историю печатной книги, скорее всего, будет озадачен отсутствием понимания психических и социальных последствий печати. За истекшие пять столетий внятное объяснение или осознание воздействий печати на человеческую чувственность встречается крайне редко. Но то же самое можно сказать обо всех расширениях человека, неважно, одежда это или компьютер. Расширение появляется как продолжение органа, чувства или функции, заставляющее центральную нервную систему отреагировать самозащитным жестом отключения расширяемой области, во всяком случае в той части, в какой это касается непосредственного освидетельствования или осознания произошедшего. Косвенные объяснения воздействий печатной книги могут быть найдены в изобилии в произведениях Рабле, Сервантеса, Монтеня, Свифта, Поупа и Джойса. Они воспользовались книгопечатанием для создания новых художественных форм.
В психическом плане печатная книга, будучи расширением зрительной способности, интенсифицировала перспективу и фиксированную точку зрения. Вместе с визуальной акцентировкой точки зрения и точки схода, дающей иллюзию перспективы, приходит еще одна иллюзия — что пространство визуально, единообразно и непрерывно. Линейность, точность и единообразие аранжировки съемных наборных литер неотделимы от этих великих культурных форм и инноваций, созданных опытом эпохи Возрождения. Новая интенсивность визуального акцента и частной точки зрения в первый же век существования печати соединилась с теми средствами самовыражения, которые стали возможны благодаря книгопечатному расширению человека.
В социальном плане книгопечатное расширение человека принесло с собой национализм, индустриализм, массовые рынки, всеобщую грамотность и всеобщее образование. Ибо печать подарила образ повторяемой точности, пробудивший совершенно новые формы расширения социальных энергий. В эпоху Возрождения, как сегодня в Японии и России, печать выпустила наружу великие психические и социальные энергии, с корнем вырвав индивида из традиционной группы и одновременно дав образец того, как прибавлять индивида к индивиду в массивной агломерации власти. Тот дух частного предпринимательства, который подтолкнул писателей и художников к культивированию самовыражения, привел других людей к созданию гигантских корпораций — как военных, так и коммерческих.
Пожалуй, самый важный из всех даров, преподнесенных человеку книгопечатанием, — дар отстраненности и непричастности, способность действовать, ни на что не реагируя. Со времен Возрождения наука занималась превознесением этого дара, который в электрическую эпоху, когда все люди ежесекундно вовлечены в жизнь всех других, превратился в обузу. Само слово «беспристрастный», выражающее высшую степень отстраненности и этической неподкупности[236] книгопечатного человека, все чаще используется в последнее десятилетие в том смысле, что «его уже почти ничто не волнует». Неподкупность, на которую указывает слово «беспристрастный» как характеристика научного и ученого темперамента письменного и просвещенного общества, все больше отвергается в наше время как «специализация» и фрагментация знания и чувственности. Фрагментирующая и аналитическая власть печатного слова над нашей психической жизнью дала нам ту «диссоциацию чувственности», которая в сфере искусств и литературы со времен Сезанна и Бодлера занимала в каждой программе реформирования вкусов и знания верхнюю строчку в списке того, что подлежало уничтожению. В электрический век «имплозивного сжатия» разделение мышления и чувствования стало казаться таким же странным, как и факультетское дробление знания в школах и университетах. Тем не менее именно способность разделять мышление и чувство, позволив письменному человеку действовать, ни на что не реагируя, вырвала его из племенного мира тесных семейных уз, связывавших его частную и общественную жизнь.
Книгопечатание было приложением к искусству письма не более, чем автомобиль — приложением к лошади. У печати была своя фаза «безлошадного экипажа» — фаза превратного ее понимания и применения, — которая пришлась на первые десятилетия ее существования, когда покупатель печатной книги нередко отдавал ее переписчику, дабы тот ее скопировал и проиллюстрировал. Еще в начале восемнадцатого века «учебник» определялся как «Классический Автор, широко переписываемый Студентами для того, чтобы между строк можно было вписать Интерпретацию, продиктованную Наставником и т. п.» (Oxford English Dictionary). До появления печати значительная часть учебного времени в школе и колледже тратилась на изготовление таких текстов. Классная комната тяготела к превращению в scriptorium[237] с подстрочным комментарием. Студент был редактором-и-издателем. Кроме того, сам книжный рынок был рынком подержанных книг, на котором продавалось относительно немного товаров. Печать изменила как процесс обучения, так и рыночную торговлю. Книга стала первой преподавательской машиной, а также первым товаром массового производства. Усилив и расширив письменное слово, книгопечатание обнажило и в огромной степени расширило структуру письма. Сегодня, в век кино и электрического ускорения движения информации, формальная структура печатного слова, как и механизма вообще, проступает наружу, словно ветка, выброшенная на берег. Новое средство коммуникации никогда не бывает добавлением к старому и никогда не оставляет старое средство в покое. Оно не перестает подавлять старые средства коммуникации до тех пор, пока не найдет им новое положение и не облечет их в новые формы. Рукописная культура поддерживала в сфере образования устную процедуру, названную в ее высших проявлениях «схоластикой»; однако печать, подкладывая любому данному множеству учеников или читателей один и тот же текст, быстро покончила со схоластическим режимом устного диспута. Печать дала писаниям прошлого такую огромную новую память, на фоне которой индивидуальная память стала неадекватной.
Маргарет Мид рассказывала о том, что когда она привезла на один тихоокеанский остров несколько экземпляров одной и той же книги, там это вызвало чрезвычайное изумление. Туземцы раньше уже видели книги, но только по одному экземпляру каждой, а потому воспринимали каждую из них как уникальную. Их изумление по поводу идентичности нескольких книг было естественной реакцией на то, что является, в конце концов, самым магическим и могущественным аспектом печати и массового производства. Это принцип расширения посредством гомогенизации, служащий ключом к пониманию западного могущества. Открытое общество является открытым благодаря единообразной книгопечатной образовательной переработке, которая позволяет любой группе осуществлять бесконечную экспансию путем приращения. Печатная книга, базирующаяся на типографском единообразии и повторяемости визуального порядка, была первой машиной преподавания, также как книгопечатание было первой механизацией ручной работы. Вместе с тем, несмотря на крайнюю фрагментацию, или специализацию, человеческого действия, необходимую для возникновения печатного слова, печатная книга представляет собой богатую смесь прежних культурных изобретений. Совокупное усилие, воплощенное в иллюстрированной печатной книге, предлагает поразительный пример того многообразия отдельных актов изобретения, которое становится предпосылкой рождения нового технологического результата.
Психические и социальные последствия печати включали постепенное гомогенизирующее распространение ее делимого и единообразного характера на разные регионы, приведшее, в конце концов, к тому возрастанию власти, энергии и агрессии, которое мы связываем с новыми наци-онализмами. В психическом плане, визуальное расширение и усложнение индивида печатью имело множество последствий. Наверное, не менее удивительным, чем все прочие, было последствие, упомянутое м-ром Э. М. Форстером, который, обсуждая некоторые типичные черты эпохи Возрождения, высказал идею, что «печатный пресс, которому было тогда всего-то столетие от роду, был ошибочно принят за машину бессмертия, и люди поспешили доверить ему свои деяния и страсти на благо грядущих веков». Люди начали вести себя так, словно в магической повторяемости и расширениях печати таится само бессмертие.
Другим важным аспектом единообразия и повторяемости печатной страницы стало их влияние на формирование «правильной» орфографии, синтаксиса и произношения. Еще заметнее были такие последствия печати, как отделение поэзии от пения, прозы — от ораторского искусства, а простонародной речи — от образованной. Что касается поэзии, то оказалось, что поэтическое произведение можно читать без того, чтобы его слышали, а на музыкальных инструментах можно играть без стихотворного сопровождения. Музыка отвернулась от устного слова, дабы вновь воссоединиться с ним у Бартока[238] и Шёнберга.[239]
С появлением книгопечатания процесс разделения (или взрывного распыления) функций быстро продолжился на всех уровнях и во всех сферах; нигде это не подмечается и не комментируется с такой горечью, как в пьесах Шекспира. Шекспир, прежде всего в трагедии «Король Лир», предложил образ, или модель процесса квантификации и фрагментации, ворвавшегося в мир политики и семейной жизни. В самом начале пьесы Лир представляет «нашу темную цель» как план делегирования властей и обязанностей:
Мне с этих пор Останется лишь королевский титул, А пользованье выгодами, власть, Доход с земель и воинскую силу Предоставляю вам, в залог чего Даю вам разделить мою корону.[240]Этот акт фрагментации и делегирования губит Лира, его королевство и его семью. Тем не менее принцип «разделяй и властвуй» стал главенствующей новой идеей организации власти в эпоху Возрождения. «Наша темная цель» восходит к самому Макиавелли, развившему индивидуалистическую и квантитативную идею власти, которая внушала в то время больше страха, чем Маркс в наши дни. Таким образом, печать бросила вызов корпоративным формам средневековой организации в такой же степени, в какой электричество бросает сегодня вызов нашему фрагментированному индивидуализму.
Единообразие и повторяемость печати насквозь пропитали всю эпоху Возрождения представлением о времени и пространстве как непрерывных измеряемых количествах. Прямым следствием этой идеи стала десакрализация мира природы и мира власти. Новый способ контроля над физическими процессами при помощи их сегментации и фрагментации отделил не только Бога от Природы, но и в не меньшей степени Человека от Природы, или человека от человека. Потрясение, вызванное этим отходом от традиционного мировоззрения и инклюзивного осознания, часто направлялось на фигуру Макиавелли, который, однако, лишь озвучил новые квантитативные и нейтральные, или научные, представления о силе применительно к манипулированию королевствами.
Все произведения Шекспира пронизаны темами новых разграничений власти — как королевской, так и частной. В его время трудно было даже представить себе больший ужас, чем спектакль о Ричарде П, сакральном короле, переживающем унижения тюремного заключения и развенчание своих священных прерогатив. Однако именно в «Троиле и Крессиде» новые культы делимой безответственной власти, общественной и частной, были выставлены напоказ как циничная возня в условиях атомистической конкуренции:
Спеши же! Честь идет тропою узкой: С ней рядом место — только одному; Займи его: ведь сотни сыновей У зависти и все бегут в погоню. Подвинься чуть иль уклонись с пути, — Все ринутся, подобно наводненью, И станешь ты последним.[241] ПI, iiiОбраз общества, сегментированного и превращенного в гомогенную массу квантифицированных аппетитов, постоянно витает над поздними пьесами Шекспира.
Из множества непредвиденных последствий книгопечатания наиболее известно, видимо, рождение национализма. Политическая унификация населений на основе диалектных и языковых группировок была немыслима, пока печать не превратила каждый народный язык в экстенсивное средство массового общения. Племя — расширенная форма семьи, состоящей из кровных родственников, — взрывается печатью и заменяется ассоциацией людей, гомогенно обученных быть индивидами. Сам национализм предстал в энергичном новом визуальном образе групповой судьбы и группового статуса и зависел от скорости движения информации, которая до появления печати была неведома. Сегодня национализм как образ еще находит опору в прессе, однако все новые электрические средства коммуникации действуют против него. В бизнесе, как и в политике, даже скорости реактивной авиации делают совершенно неработоспособными старые национальные группировки социальной организации. В эпоху Возрождения именно скорость печати и обусловленное ею развитие рынка и торговли сделали национализм (который есть преемственность и конкуренция в гомогенном пространстве) сколь новым, столь и естественным. К тому же, гетерогенность и неконкурентная прерывность средневековых гильдий и семейной организации стали большим неудобством, когда вызванное печатью ускорение информации потребовало большей фрагментации функций и большего их единообразия. Всякие Бенвенуто Челлини,[242] которые были золотых-дел-мастерами-и-художниками-и-скульпторами-и-писателями-и-кондотьерами, безнадежно устарели.
Как только новая технология входит в социальную среду, она не может перестать пропитывать эту среду, пока не пропитает собою насквозь каждый институт. За истекшие пять столетий книгопечатание проникло во все уголки искусств и наук. Было бы нетрудно задокументировать те процессы, благодаря которым принципы непрерывности, единообразия и повторяемости легли в основу исчисления и маркетинга, а также промышленного производства, развлечений и науки. Достаточно указать на то, что повторяемость подарила печатной книге то причудливо новое качество единообразно оцениваемого товара, которое распахнуло двери системам ценообразования. Вдобавок, печатная книга приобрела качество портативности и доступности, которого недоставало рукописи.
С этими экспансивными качествами была напрямую связана революция в самовыражении. В условиях преобладания рукописи роль авторства была неясной и неопределенной, подобно роли менестреля. Поэтому к самовыражению не проявлялось особого интереса. Книгопечатание же создало такое средство коммуникации, благодаря которому открылась возможность громко и дерзновенно высказаться перед всем миром, а также пуститься в плавание по миру книг, до той поры прочно запертых в плюралистическом мире монастырских келий. Дерзновенность наборной литеры создала дерзновенность самовыражения. Единообразие просочилось также в сферы речи и письма, обернувшись установлением единой тональности и установки по отношению к читателю и сюжету на протяжении всего сочинения. Произошло рождение «литератора». Распространившись на устное слово, эта литературная равно-тональностъ позволила грамотным людям сохранять в речи единый «высокий слог», надо сказать, совершенно невыносимый, а прозаикам девятнадцатого столетия — принять моральные качества, которым сегодня мало кто взялся бы подражать. Пропитка разговорного языка единообразными качествами письма выравнивало нашу грамотную речь до тех пор, пока она не стала более или менее сносным акустическим факсимиле с единообразных и непрерывных визуальных эффектов книгопечатания. Из этого технологического воздействия вытекает еще один факт, состоящий в том, что юмор, сленг и драматичная напористость англо-американской речи стали монополией полуграмотных.
Для многих эти проблемы книгопечатания заряжены противоречивыми ценностями. Тем не менее, какой бы подход к пониманию печати мы ни приняли, нам нужно оставаться в стороне от рассматриваемой формы, если мы хотим наблюдать ее типичные давления и ее жизнь. Тем, кто сегодня паникует по поводу угрозы, идущей от новейших средств коммуникации, и той революции, которую мы куем — революции, превосходящей по своему размаху даже революцию Гутенберга, — явно недостает холодной визуальной отстраненности и благодарности за тот могущественнейший дар, которым письменность и книгопечатание наделили западного человека, а именно: способность действовать, ни на что не реагируя, то есть без вовлечения. Именно этот род специализации посредством диссоциации даровал Западу могущество и эффективность. Без этого отщепления действия от чувств и эмоций люди стеснены в движениях и нерешительны. Печать научила людей говорить: «К черту эти торпеды. Полный вперед!»
ГЛАВА 19. КОЛЕСО, ВЕЛОСИПЕД И САМОЛЕТ
Типы взаимодействия между колесом, велосипедом и самолетом очень поразят тех, кто никогда о них не задумывался. Ученые склонны исходить в своей работе из археологического допущения, будто вещи следует изучать в обособленности. Это привычка специализма, совершенно естественным образом вытекающая из книгопечатной культуры. Когда такой ученый, как Линн Уайт,[243] отваживается провести кое-какие взаимосвязи, пусть даже в своей узкой области специального исторического исследования, он повергает в уныние своих коллег-специалистов. В книге «Средневековая технология и социальное изменение»[244] он объясняет, как феодальная система стала социальным продолжением стремени. Стремя впервые появилось на Западе в VIII веке нашей эры и было позаимствовано с Востока. С появлением стремени появился конный бой, давший жизнь новому социальному классу. Европейский класс конных воинов уже существовал, оставалось только его вооружить, но для того, чтобы полностью оснастить доспехами рыцаря, требовалось объединить ресурсы десятка или более крестьянских дворов. Карл Великий[245] потребовал, чтобы менее зажиточные вольноотпущенники сливали свои частные хозяйства с целью экипировки для участия в военных действиях одного-единственного рыцаря. Под давлением новой военной технологии постепенно развились классы и экономическая система, способные обеспечивать тяжелыми доспехами многочисленных конных воинов. Примерно к 1000 году нашей эры старое слово miles перестало употребляться в значении «солдат» и стало означать «рыцаря».
Кроме того, Линну Уайту есть много что сказать о подковах и хомутах как революционной технологии, вызвавшей укрепление власти и расширение масштаба и скорости человеческого действия в раннем средневековье. Он тонко чувствует психические и социальные последствия каждого технологического расширения человека, показывая, как тяжелый колесный плуг привел к установлению нового порядка в системе землепользования, а также в рационе питания этой эпохи. «Средневековье буквально распирало от бобовых».
Подходя ближе к занимающей нас теме колеса, Линн Уайт объясняет, как эволюция колеса в средние века была связана с развитием хомута и упряжи. До открытия хомута повышение скорости и выносливости лошади, необходимое для гужевых перевозок, было немыслимым. Но стоило лишь получить развитие конской упряжи, как это сразу же привело к развитию телег с вращающимися передними осями и тормозами. К середине XIII века четырехколесная телега, приспособленная к транспортировке тяжелых грузов, стала обычным делом. Последствия ее появления для городской жизни трудно переоценить. Крестьяне стали жить в городах, выезжая каждый день на свои поля, почти так же, как это делают моторизованные саскачеванские фермеры. Последние живут преимущественно в городе, не имея в деревне никакого жилья, кроме сараев для тракторов и оборудования.
С появлением фургонов и трамваев на конной тяге в американских городах развернулось строительство жилья, которое уже не обязательно располагалось в таких местах, откуда были видны мастерская или фабрика. Дальнейший толчок развитию пригородов дала железная дорога. Сначала жилье строилось в пределах нескольких минут ходьбы от железнодорожной станции. Магазины и гостиницы, окружавшие станцию, придавали пригороду некоторую сосредоточенность и форму. Автомобиль, а следом за ним самолет размыли это сосредоточение и положили конец пешеходному, или человеческому, масштабу пригорода. Льюис Мэмфорд говорит, что автомобиль превратил пригородную домохозяйку в шофера на полном рабочем дне. Трансформации колеса как ускорителя функций и архитектора все новых и новых человеческих отношений, разумеется, еще далеко не завершились, но в электрическую эпоху информации его формообразующая власть идет на убыль, и этот факт подталкивает нас к более ясному осознанию его характерной формы, которая ныне тяготеет к архаике.
До появления колесного транспорта существовал простой принцип абразивного волочения; колесам как средствам передвижения предшествовали полозья и лыжи, в точности как полному и свободному вращательному движению гончарного круга предшествовало абразивное, полувращательное движение оси и бура, управляемых рукой. Нужен был момент перевода, или «абстрагирования», чтобы отделить возвратно-поступательное движение руки от свободного движения колеса. «Нет никаких сомнений, что понятие колеса возникло первоначально из наблюдения того, что бревно легче катить, чем толкать», — пишет Льюис Мэмфорд в книге «Техника и цивилизация».[246] Некоторые могли бы возразить, что катание бревна ближе к возвратно-поступательной работе рук, чем к круговому движению ступни, и что оно вовсе не обязательно должно было быть переведено в технологию колеса. В условиях стресса естественнее было бы сфрагментировать собственную телесную форму и позволить какой-то ее части перейти в другой материал, нежели переводить в другой материал какие бы то ни было движения внешних объектов. Расширение наших телесных поз и движений в новые материалы посредством вынесения их наружу постоянно вытекает из нашего стремления к увеличению власти и могущества. Большинство телесных напряжений толкуются как потребности в вынесении наружу функций сохранения и мобильности, какое происходит в случае речи, денег или письма. Вся суть утвари и инструмента состоит в капитуляции перед этим телесным напряжением посредством расширения тела вовне. Потребность в сохранении и портативности можно без труда разглядеть в вазах, сосудах и «огнепроводных шнурах» (сохранении огня).
Возможно, главная характерная черта всех орудий труда и машин — экономия жеста — есть непосредственное выражение того или иного рода физического давления, заставляющего нас вынести наружу, или расширить, самих себя, будь то в слова или колеса. Человек может выразить это стремление цветами, плугами или локомотивами.
Игнац из «Сумасшедшего Кота»[247] выразил это стремление кирпичами.
Одно из самых передовых и изощренных своих применений колесо нашло в кинокамере и кинопроекторе. Знаменательно, что эта тончайшая и сложнейшая группировка колес была изобретена ради того, чтобы выиграть пари и доказать, что иногда от земли одновременно отрываются все четыре ноги бегущей лошади. Это пари было заключено в 1889 году между одним из пионеров фотографии Эдвардом Мибриджем[248] и владельцем лошадей Леландом Стэнфордом. Для начала установили в ряд несколько фотоаппаратов, каждый из которых должен был фиксировать застывшее положение копыт бегущей лошади. Из идеи механически реконструировать движение ног возникли кинокамера и кинопроектор. Колесо, родившееся как расширенная нога, совершило огромный эволюционный прыжок в кинотеатр.
Благодаря необычайному ускорению расставленных в ряд сегментов кинокамера наматывает реальный мир на катушку, чтобы позднее раскрутить его и перевести на киноэкран. То, что кино воссоздает органический процесс и движение путем доведения до точки обращения механического принципа, есть образец, проявляющийся во всех расширениях человека, абсолютно во всех, когда они достигают наивысшей точки своего развития. Благодаря ускорению самолет скручивает в себя автодорогу. В момент взлета дорога исчезает в самолете, и он становится ракетой, самодостаточной транспортной системой. В это мгновение колесо вновь втягивается в форму птицы или рыбы, в которую самолет превращается, взмывая в воздух. Глубоководным аквалангистам не нужны пути и дороги; они утверждают, что их движение сродни полету птицы; их ноги перестают существовать как то поступательное, последовательное движение, которое служит источником вращательного движения колеса. В отличие от крыла или плавника, колесо линейно и требует дороги для своего завершения.
Именно тандемное соединение колес создало трехколесный, а затем двухколесный велосипед; ускорившись благодаря сцеплению с визуальным принципом мобильной линейности, колесо приобрело новую интенсивность. Велосипед поднял колесо в плоскость аэродинамического баланса и не слишком-то окольно привел к созданию самолета. Не случайно братья Райт[249] были велосипедными механиками, а первые аэропланы чем-то напоминали велосипеды. Трансформации технологии имеют характер органической эволюции, поскольку все технологии — расширения нашего физического бытия. Сэмюэл Батлер вызвал огромное восхищение у Бернарда Шоу своей интуитивной догадкой, что эволюционный процесс был фантастически ускорен переходом в машинный режим.[250] Однако Шоу беззаботно оставил существо дела в этом восхитительно непроницаемом состоянии. Сам Батлер по крайней мере указывал, что машинам косвенную способность к воспроизводству дает их последующее влияние на те тела, которые их породили, исторгнув их из себя наружу. Наша реакция на возрастающую мощь и скорость наших расширенных тел рождает новые их расширения. Каждая технология создает в сотворивших ее людях новые стрессы и потребности. Новая потребность и новая технологическая реакция рождаются из тех объятий, в которые заключает нас уже существующая технология; и этот процесс не прекращается.
Тем, кому знакомы романы и пьесы Сэмюэла Беккета,[251] нет нужды напоминать о той насыщенной клоунаде, которую он извлекает с помощью велосипеда. Велосипед с его акробатической связью между разумом и телом, находящимися в рискованном дисбалансе, служит для него основным символом картезианского разума. Это неустойчивое состояние линейно-поступательно движется вперед, пародируя саму форму целенаправленной и изобретательной независимости действия. Для Беккета целостное существо — не акробат, а клоун. Акробат действует как специалист, пользуясь лишь ограниченным сегментом своих способностей. Клоун же — это целостный человек, передразнивающий акробата в изощренной драме некомпетентности. Беккет видит в велосипеде знак и символ специалист-ской тщеты в электрическую эпоху, когда все мы должны действовать и реагировать, пользуясь сразу всеми своими способностями.
Шалтай-болтай — известный пример клоуна, безуспешно пытающегося сымитировать акробата. Из одного того, что вся королевская конница и вся королевская рать не может Шалтай-болтая поднять, еще не следует, что Шалтай-болтая не сможет поднять на место электромагнитная автоматизация. Так или иначе, целостное и единое яйцо сидит на стене без дела. Стены сделаны из единообразно фрагментированных кирпичей, которые появляются вместе со специализмами и бюрократиями. Они смертельные враги таких интегральных существ, как яйца. На вызов стены Шалтай-болтай ответил театрализованным коллапсом.
В том же детском стишке поясняются и последствия падения Шалтай-болтая. Суть дела в королевской коннице и королевской рати. Они тоже фрагментированы и специализированы. Не имея единого видения целого, они беспомощны. Шалтай-болтай — очевидный пример интегральной цельности. Уже само существование стены предрекало его падение. Джеймс Джойс в «Поминках по Финнегану» без устали вплетает в текст эти темы, и даже само название произведения указывает на осознание им того, что электрическая эпоха — «a-stone-aging»,[252] какой она могла бы быть, — возвращает единство пластического и иконического пространства и поднимает Шалтай-болтая на место.[253]
Гончарный круг, как и все прочие технологии, был ускорением уже существующего процесса. После того, как кочевое собирательство уступило место оседлому образу жизни, связанному со вспашкой земель и посевными работами, возросла потребность в хранении запасов. Для все большего числа самых разных целей требовались горшки. Люди обратили свои силы на изменение форм вещей посредством окультуривания. Переход к специализации производства в локальных районах создал потребность в обмене и транспорте. Для этой цели в Северной Европе вплоть до 5000 года до нашей эры использовались сани, саням же естественным образом предшествовали люди-носильщики и гужевые животные. Колесо, помещенное под сани, было ускорителем ног, а не руки. С этим ускорением ног возникла потребность в дороге, так же как с расширением наших ягодиц в форму стула появилась потребность в столе. Колесо есть абсолютный отделительный падеж ноги так же, как стул есть абсолютный отделительный падеж ягодиц. Но когда внедряются такие отделительные падежи, они изменяют синтаксис общества. В мире средств коммуникации и технологии нет никакого ceteris paribus.[254] Каждое расширение или ускорение создает новые конфигурации во всей ситуации в целом.
Колесо создало дорогу и стало быстрее доставлять продукцию сельского хозяйства с полей в поселения. Ускорение создавало все более крупные центры, все больший специализм и все более интенсивные стимулы, агрегаты и агрессии. Так, колесный транспорт сразу же являет себя в образе боевой колесницы, а городской центр, созданный колесом, — в образе агрессивной крепости. Не нужно искать никаких дополнительных мотивов, кроме соединения и консолидации специалистских навыков вследствие акселерации колеса, чтобы объяснить необычайно возросшую степень человеческой креативности и деструктивности.
Льюис Мэмфорд называет эту урбанизацию «взрывом вовнутрь», но на самом деле это был взрыв вовне. Города были созданы фрагментацией образцов пастушеского общества. Колесо и дорога выразили этот взрыв и разносили его на манер расходящихся кругов, в соответствии с конфигурацией «центр—периферия». Централизм опирается на периферии, доступные благодаря дороге и колесу. Морская держава не принимает эту структуру «центр—периферия». Не принимают ее также пустынные и степные культуры. Сегодня, с появлением реактивной авиации и электричества, городской централизм и специализм обращаются в децентрализм и протекающее во все более неспециалистских формах взаимодействие социальных функций. Колесо и дорога служат централизаторами, ибо повышают скорость до такой точки, которой корабли достигнуть не могут. Однако ускорение сверх некоторого предела, происходящее благодаря автомобилю и самолету, создает децентрализм в самом сердце старого централизма. Здесь и таятся истоки городского хаоса нашего времени.
Колесо, как только выходит за некоторый предел интенсивности движения, больше не централизует. Все электрические формы, о каких бы ни шла речь, оказывают децентрализующее воздействие, так же противоречащее старым механическим образцам, как волынка симфонии. Выбор Мэмфордом термина «взрыв вовнутрь» для обозначения городского специалистского взрыва очень плох. «Взрыв вовнутрь» принадлежит электронной эпохе, как он принадлежал раньше доисторическим культурам. Все примитивные общества так же имплозивны, как устное слово. Между тем, как говорил Лайман Брисон, «технология есть эксплицитность»; а эксплицитность, или специалистское расширение функций, — это централизм и взрыв функций, но никак не имплозия, не сжатие и не одновременность. Администратор одной авиакомпании, хорошо понимая имплозивный характер мировой авиации, обратился к коллегам-администраторам из других авиакомпаний мира с просьбой, чтобы каждый прислал ему один камешек со двора у своего офиса. У него была идея построить небольшую пирамиду из камешков со всех концов земного шара. Когда его спросили: «Ну и что?» — он сказал, что теперь благодаря авиации в одном месте можно прикоснуться ко всем уголкам земли. Таким образом, он случайно наткнулся на мозаичный, или иконический принцип одновременного прикосновения и взаимодействия, заложенный в имплозивной скорости самолета. Еще более присущ этот принцип имплозивной мозаики всем типам электрического движения информации.
Централизм и разнесение власти с помощью колеса и письменного слова на периферийные районы империи создают прямое применение силы, внеположенной и внешней, которой люди не обязательно подчиняются в своем сердце. Имплозия же являет собой магическое заклинание и формулу племени и семьи, которым люди с готовностью подчиняются. В условиях технологической эксплицитности, и даже эксплицитности городской централистской структуры, некоторым людям удавалось вырваться из заколдованного круга племенной магии. Поясняя эту ситуацию, Мэмфорд приводит слова китайского философа Мэн-цзы:
«Когда людей покоряют силой, они подчиняются не в своем сердце, но лишь потому, что им недостает силы. Когда людей подчиняют властью, заключенной в личности, они удовлетворены до самой глубины души и действительно подчиняются».[255]
Будучи выражением новых специалистских расширений наших тел, собирание людей и запасов в центрах с помощью колеса и дороги требовало непрестанной обоюдной экспансии на манер впитывания и выпускания воды губкой, в ловушку которой повсюду, независимо от места и времени, попадали все городские структуры. Мэмфорд отмечает: «Если я правильно толкую факты, кооперативные формы городской политии с самого начала были подорваны и опорочены деструктивными, ориентированными на смерть мифами, которые сопутствовали… чрезмерной экспансии физической власти и технологической ловкости». Чтобы обрести такую власть через расширение собственных тел, люди должны взорвать внутреннее единство своего существа на эксплицитные фрагменты. Сегодня, в эпоху сжатия, мы отыгрываем древний взрыв назад, словно кинопленку. Мы можем видеть, как осколки человеческого существа вновь собираются воедино в эпоху, обладающую такой мощью, что применение ее для всеобщего разрушения даже слабоумному и кривоумному представляется бессмысленным.
В формах великих городов древнего мира историки видят проявление всех граней человеческой личности. Архитектурные и административные учреждения, будучи расширениями наших физических существ, во всем мире неизбежно тяготеют к сходству. Центральной нервной системой города была цитадель, которая включала великий храм и дворец царя, наделенные параметрами и иконографией, символизирующими власть и престиж. Степень, в которой это центральное ядро могло гарантированно распространять свою власть, зависела от его способности действовать на расстоянии. Пока не появились алфавит с папирусом, эта цитадель не могла расширить себя в пространстве слишком далеко. (См. главу о дорогах и маршрутах движения бумаг.) Однако древний город мог появиться так скоро, как скоро мог специалистский человек разделить свои внутренние функции в пространстве и архитектуре. Сказать, что города ацтеков и перуанцев были похожи на европейские города, значит всего лишь сказать, что они в обоих регионах заключали в себе и расширяли одни и те же способности. Вопрос о прямом физическом влиянии и подражании, якобы посредством диффузии, становится неуместным.[256]
ГЛАВА 20. ФОТОГРАФИЯ БОРДЕЛЬ-БЕЗ-СТЕН
На обложке журнала «Лайф» от 14 июня 1963 года была помещена фотография «Собор св. Петра в знаменательный момент истории». Одной из отличительных особенностей фотографии является то, что она обособляет отдельные моменты времени. Телевизионная камера этого не делает. Непрерывная сканирующая работа телекамеры представляет не какой-то изолированный момент или аспект, а контур, иконический профиль и диапозитив. Египетское искусство, как и сегодняшняя примитивная скульптура, предлагало значащие очертания, не имевшие ничего общего с моментом времени. Скульптура тяготеет к вневременному.
Осознание преобразующей силы фотографии часто воплощается в популярных анекдотах вроде того, в котором восхищенный друг восклицает: «Ах, какой прелестный малыш!» Мать отвечает: «Да так, ничего особенного. Вот если бы ты увидел его фотографию!» Способность камеры находиться повсюду и связывать друг с другом вещи прекрасно видна в хвастовстве журнала «Vogue» (15 марта 1953 г.): «Теперь женщина, не покидая страны, может повесить в своем гардеробе самое лучшее из пяти (или больше) стран мира — изящное и прекрасно сочетающееся, словно в мечтах политика». Вот почему моды в эпоху фотографии приобрели свойства коллажного стиля в живописи.
Столетие назад английское помешательство на моноклях наделило тех, кто их носил, способностью фотоаппарата пригвождать людей пристальным взглядом свысока, как если бы они были объектами. Эрих фон Штрохейм[257] много и долго упражнялся с моноклем, создавая образ надменного прусского офицера. И монокль, и фотокамера склонны превращать людей в вещи, а фотография распространяет и размножает человеческий образ в масштабах, свойственных товарам массового производства. Кинозвезды и популярные кинокрасавцы вовлекаются фотографией в сферу публичности. Они становятся грезами, которые можно купить за деньги. Купить, сжать в объятиях и ощупать их легче, чем уличных проституток. Товар массового производства всегда кого-нибудь смущал своей продажностью. Пьеса Жана Жене «Балкон»[258] как раз на эту тему — тему общества как борделя, погруженного в атмосферу насилия и ужаса. Алчное желание человечества торговать собой не угасает даже перед лицом революционного хаоса. Посреди самых ужасающих изменений бордель продолжает стоять прочно и непоколебимо. Одним словом, фотография навеяла Жене образ мира после фотографии как Борделя-без-стен.
Невозможно заниматься фотографией в одиночку. У человека может быть по крайней мере иллюзия, что он читает или пишет в уединении, но фотография не воспитывает таких установок. Если и есть какой-то смысл в сожалениях по поводу развития таких корпоративных и коллективных форм искусства, как кино и пресса, то, разумеется, лишь в связи с прежними индивидуалистическими технологиями, которые под влиянием этих новых форм выветриваются. Тем не менее, не будь гравюр, ксилографий и клише, никогда не появилась бы и фотография. На протяжении столетий ксилография и гравюра изображали мир с помощью аранжировки линий и точек, имевшей чрезвычайно сложный синтаксис. Многие историки этого визуального синтаксиса, в частности, Э. X. Гомбрих и Уильям М. Айвинс, мучительно пытались объяснить, как получилось, что искусство рукотворного манускрипта проникло в искусство ксилографии и гравюры, так что в конце концов, с появлением процесса автотипии, точки и линии внезапно опустились ниже порога нормального зрения. Синтаксис, представляющий собой паутину рациональности, исчез из поздних печатных оттисков точно так же, как стремился исчезнуть из телеграммы и импрессионистской живописи. В конце концов, в пуантилизме[259] Сёра[260] мир вдруг явился сквозь живописное полотно. Синтаксической точке зрения, направленной на полотно извне, настал конец, когда литературная форма с появлением телеграфа выродилась в заголовки. Точно так же с появлением фотографии люди открыли для себя, как делать визуальные сообщения без синтаксиса.
В 1839 году Уильям Генри Фокс Толбот[261] выступил в Королевском Обществе с докладом, который назывался «Об искусстве фотогенического рисования, или о процессе, посредством коего природные объекты можно заставить прорисовывать самих себя без помощи карандаша художника». Он вполне сознавал, что фотография — своего рода автоматизация, устраняющая синтаксические процедуры ручки и карандаша. В меньшей степени он, вероятно, сознавал то, что привел мир изображения в соответствие с новыми индустриальными процедурами. Ведь фотография отражала внешний мир автоматически, производя точно повторяемый визуальный образ. Именно это первостепенное качество единообразия и повторяемости создало Гутенбергов разрыв между средневековьем и Возрождением. Фотография сыграла почти такую же решающую роль в создании разрыва между простым механическим индустриализмом и графической эпохой электронного человека. Шаг из эпохи Книгопечатного Человека в эпоху Графического Человека был сделан с изобретением фотографии. И дагерротипы, и фотографические снимки внесли в процесс изготовления изображений свет и химию. Природные объекты сами рисовали себя посредством экспозиции, интенсифицируемой с помощью линзы и фиксируемой химическими веществами. В дагерротипии применялось то же нанесение на поверхность мельчайших точек, которое позднее отозвалось эхом в пуантилизме Сёра и до сих пор сохраняется в газетной мозаике точек, называемой «фототелеграфией». Не прошло и года после открытия Дагера,[262] а Сэмюэл Ф. Б. Морзе[263] уже делал в Нью-Йорке фотографии жены и дочери. Так на вершине небоскреба встретились точки для глаза (фотография) и точки для уха (телеграф).
Дальнейшее перекрестное опыление произошло, когда Толбот изобрел фотографию, которую он представлял себе как продолжение camera obscura,[264] или картинок в «маленькой темной комнате», как называли итальянцы ящик с картинками шестнадцатого века. Во времена, когда было изобретено механическое письмо с помощью съемных наборных литер, появилась новая забава: рассматривать движущиеся образы на стене темной комнаты. Если на улице солнечно, а в одной из стен проделано крошечное отверстие, то на противоположной стене появляются образы внешнего мира. Это новое открытие чрезвычайно вдохновило художников, поскольку интенсифицировало новую иллюзию перспективы и третьего измерения, столь тесно связанную с печатным словом. Однако первые зрители движущихся образов, жившие в шестнадцатом веке, видели эти образы вверх ногами. Поэтому была введена линза, чтобы переворачивать картинку с головы на ноги. Наше нормальное зрение тоже схватывает все вверх ногами. В психическом плане, мы приучаемся переворачивать наш визуальный мир головой вверх посредством перевода изображения, запечатленного на сетчатке, из визуальных в тактильные и кинетические параметры. Нахождение головой вверх явно есть нечто такое, что мы прекрасно чувствуем, но не можем непосредственно увидеть.
Для исследователя средств коммуникации тот факт, что «нормальное» видение головой вверх является переводом из одного чувства в другое, служит полезным намеком, позволяющим распознать те виды деятельности, сопряженные с искажением и переводом, которые навязываются всем нам любым языком и любой культурой. Ничто так не веселит эскимоса, как белый человек, вытягивающий шею, чтобы рассмотреть наклеенные на стенах иглу журнальные картинки. Ведь в том, чтобы смотреть на картинку с правильной стороны, эскимос нуждается не более, чем ребенок, еще не научившийся расставлять буквы в линию. Почему западный человек приходит в замешательство, обнаруживая, что аборигены должны учиться читать картинки точно так же, как мы учимся читать буквы, — на это стоит обратить внимание. Крайнее смещение и искажение нашей чувственной жизни, рождаемое нашей технологией, является, видимо, таким фактом, который мы в повседневной жизни предпочитаем не замечать. Свидетельства того, что аборигены не воспринимают мир в перспективе и не чувствуют третьего измерения, видимо, угрожают западному образу Я и его структуре, как выясняли для себя многие люди после экскурсии по Эймсовской лаборатории восприятия[265] в университете штата Огайо. Эта лаборатория организована с целью разоблачения различных иллюзий, которые мы для себя создаем в том, что, по нашему мнению, является «нормальным» зрительным восприятием.
То, что мы на протяжении почти всей своей истории подсознательно принимали такое смещение и отклонение, достаточно ясно. Но почему мы не довольствуемся более оставлением своего опыта в таком подсознательном состоянии и почему многие люди стали так остро сознавать бессознательное — этот вопрос заслуживает особого исследования. В наши дни люди крайне озабочены приведением в порядок своих домов, и огромный толчок этому процессу самоосознания дала фотография.
Уильям Генри Фокс Толбот, наслаждаясь швейцарскими пейзажами, стал размышлять о camera obscura и писал, что «именно в этих размышлениях мне вдруг пришло в голову… сколь очаровательно было бы, когда бы оказалось возможно заставить эти природные образы надолго запечатлевать самих себя и оставаться закрепленными на бумаге!» В эпоху Возрождения печатный пресс вызвал аналогичное желание дать постоянство повседневным ощущениям и переживаниям.
Метод, придуманный Толботом, состоял в печати позитивов с негативов химическим способом, чтобы при этом создавался точно повторяемый образ. Таким образом были сметены преграды, мешавшие греческим ботаникам и приводившие в уныние их последователей. Большинство наук с самого своего появления крайне страдали от недостатка адекватных невербальных средств передачи информации. Сегодня даже субатомная физика не могла бы развиваться без фотографии. Воскресный выпуск «Нью Йорк Таймс» от 15 июня 1958 года сообщал:
НОВЫЙ МЕТОД ПОЗВОЛИЛ «УВИДЕТЬ» МЕЛЬЧАЙШИЕ КЛЕТКИ
Микрофоретический метод распознает одну миллион-миллиардную долю грамма, говорит лондонский инженер
Образцы веществ, весящие меньше одной миллион-миллиардной доли грамма, позволяет анализировать новый метод микроскопического исследования, разработанный в Англии. Речь идет о «микрофоретическом методе» Бернарда М. Тернера, лондонского биохимика и конструктора измерительных приборов. Он может быть применен в изучении клеток мозга и нервной системы, деления клеток, в том числе в тканях, пораженных раком, и, как считается, окажет помощь в анализе загрязнения атмосферы…
Таким образом, электрический ток втягивает разные элементы образца в зоны, в которых они обычно были бы невидимы.
Но если мы скажем, что «фотоаппарат не может лгать», мы тем самым лишь подчеркнем многочисленные обманы, практикуемые ныне от его имени. В самом деле, мир кино, подготовленный фотографией, стал синонимом иллюзии и фантазии, превращающей общество в тот, по выражению Джойса, «еженощный новостесерийный фильм», который подменяет реальность «киношным» миром.[266] Джойс больше, чем кто бы то ни было, знал о влиянии фотографии на наши чувства, наш язык и наши мыслительные процессы. Вердикт, вынесенный им «автоматическому письму», то есть фотографии, был таким: абнигилизация этима. Он видел в фотографии по крайней мере конкурента — а, может быть, и узурпатора — слова, будь то письменного или устного. Но если этим (этимология) означает сердце, ядро и сырую субстанцию тех бытий, которые мы схватываем в словах, то Джойс вполне мог иметь в виду, что фотография — это новое творение из ничего (ab-nihil) или даже сведение творения к фотографическому негативу. Если в фотографии и в самом деле присутствуют чудовищный нигилизм и подмена субстанции тенями, то нам, очевидно, было бы нелишне об этом знать. Технология фотографии является внешним продолжением нашего существа и, как любая другая технология, может быть изъята из обращения, если мы решим, что она смертельно опасна. Однако ампутация таких расширений нашего физического бытия требует не менее основательных знаний и навыков, чем те, которые нужны для проведения любой другой физической ампутации.
Если фонетический алфавит был техническим средством отделения устного слова от его звуковых и жестовых аспектов, то фотография и ее превращение в кино вернули жест в человеческую технологию регистрации опыта. Фактически, фиксация остановленных человеческих поз с помощью фотографии направила на физическую и психическую позу больше внимания, чем когда бы то ни было раньше. Век фотографии, как никакая прежняя эпоха, стал эпохой жеста, мимики и танца. Фрейд и Юнг строили свои наблюдения на применении интерпретации языков индивидуальных и коллективных поз и жестов к сновидениям и обыденным действиям повседневной жизни.[267] Физические и психические гештальты, или «неподвижные» снимки, с которыми они работали, были многим обязаны миру телесных поз, открытому фотографией. Фотография одинаково пригодна как для индивидуальных, так и для коллективных поз и жестов, тогда как письменный и печатный язык отмечены креном в сторону частной и индивидуальной позиции. Так, традиционные риторические фигуры были индивидуальными позами разума частного оратора, предназначенными для аудитории, в то время как миф и юнговские архетипы являют собой коллективные позы души, с которыми письменная форма не может справиться так же, как не может командовать мимикой и жестом. Более того, фотография, где бы она ни использовалась, обладает универсальной способностью обнаруживать и схватывать позу и структуру, и этот факт проявляется в бесчисленном множестве примеров. Взять хотя бы анализ полета птицы. Именно фотография открыла секрет птичьего полета и позволила человеку оторваться от земли. Арестовав птичий полет, фотография показала, что он основан на принципе недвижной фиксации крыла. Оказалось, что взмахи крыльев используются не для полета, а для придания движению поступательности.
Революцию — быть может, даже великую — произвела фотография в традиционных искусствах. Художник не мог более изображать мир, который повсюду только и делали, что фотографировали. Вместо этого он обратился к раскрытию внутреннего творческого процесса в экспрессионизме и абстрактном искусстве. Подобным образом и романист не мог более описывать объекты или события для читателей, и так уже всё знавших о происходящем вокруг благодаря фотографии, прессе, кино и радио. Поэт и романист обратились к тем внутренним движениям души, с помощью которых мы достигаем озарения, делаем самих себя и строим свой мир. Таким образом, искусство перешло от внешнего копирования к внутреннему изготовлению. Вместо изображения мира, дублирующего тот, который мы уже знаем, человек искусства обратился к изображению творческого процесса, в котором предлагалось принять участие публике. Сегодня он дал нам средства вовлечения в процесс изготовления. Каждое новшество в электрическую эпоху притягивает к себе высокую степень производительной ориентации, а также ее требует. И, следовательно, эпохой потребителя обработанных и упакованных товаров является не нынешняя электрическая эпоха, а механическая, которая ей предшествовала. Вместе с тем, механическая эпоха неизбежно должна была пересечься с электрической, скажем, в таких очевидных случаях, как двигатель внутреннего сгорания, который требует и электрической искры для воспламенения топлива, и взрыва, приводящего в движение его цилиндры. Телеграф представляет собой электрическую форму, которая, скрещиваясь с печатью и ротационными печатными машинами, выпускает современную газету. Фотография тоже не машина; но это такой химический и световой процесс, который, скрещиваясь с машиной, производит кино. Между тем, есть в этих гибридных формах неистовство и насилие, так что они, образно говоря, самоликвидируются. Ибо в радио и телевидении — чисто электрических формах, из которых механический принцип был полностью исключен, — присутствует совершенно новая связь средства коммуникации с его пользователями. Это связь высокого участия и вовлечения, которую — хорошо это или плохо — не создавал еще никогда ни один механизм.
Просвещение — идеальное средство гражданской защиты от побочных последствий средств коммуникации. Тем не менее западный человек до сих пор не располагает ни образованием, ни необходимым оснащением для того, чтобы встретить новые средства коммуникации на тех условиях, которые они ему ставят. В присутствии фильма или фотографии письменный человек не только цепенеет и стушевывается, но и усугубляет свою неповоротливость оборонительной заносчивостью и снисходительностью по отношению к «поп-культуре»[268] и «массовым развлечениям». Именно в такой атмосфере бульдожьей тупости не смогли достойно встретить вызов печатной книги в шестнадцатом веке философы-схоласты. Вложения в приобретенное знание и конвенциональную мудрость всегда игнорировались и проглатывались новыми средствами коммуникации. Однако изучение этого процесса, будь то ради стабильности или ради изменения, еще даже не началось. Представление, будто своекорыстие дарует большую остроту взгляда для распознания процессов изменения и установления над ними контроля, не имеет под собой никаких оснований, свидетельством чему служит ситуация в автомобильной промышленности. Здесь царит мир ветхости, обреченный на быструю эрозию так же безусловно, как в 1915 году были обречены предприятия, производившие кабриолеты и фургоны. Но знает ли, скажем, «Дженерал Моторс» хоть что-нибудь о воздействии, которое оказывает на пользователей автомобилей телевизионный образ? Предприятия, издающие журналы, оказываются так же подорваны телевизионным образом и его воздействием на рекламную икону. Смысл новой рекламной иконы не был уловлен теми, кто рискует все потерять. То же в целом касается киноиндустрии. Каждому из этих предприятий не хватает элементарной «грамотности» в каких-то еще средствах коммуникации, кроме своего собственного, а потому кричащие изменения, вызываемые новыми гибридами и скрещиваниями средств коммуникации, застают их врасплох. Для исследователя коммуникационных структур каждая деталь тотальной мозаики современного мира живет осмысленной жизнью. Не далее как 15 марта 1953 года журнал «Вог» возвестил о новом гибриде, родившемся из смешения фотографии с воздушным путешествием:
«Этот первый выпуск журнала «Вог», посвященный международной моде, знаменует новый этап. Раньше мы не могли сделать такой номер. Лишь совсем недавно мода получила доступ в международные издания, и мы впервые имеем возможность сообщить в одном выпуске о коллекциях кутюрье из пяти стран».
Преимущества такого образца рекламы как первосортного сырья в лаборатории медиа-аналитика могут разглядеть лишь те, кто хорошо освоил язык зрения и пластических искусств в целом. Составитель рекламных объявлений должен быть мастером стриптиза, связанным полной эмпатией с непосредственным душевным состоянием аудитории. Таким же по существу дарованием обладают популярный писатель и сочинитель шлягеров. Отсюда следует, что любой писатель или эстрадный артист, пользующийся широким признанием, воплощает в себе и извлекает наружу текущий набор установок, который может быть вербализирован аналитиком. «Как понял, Мак?».[269] Но если бы слова автора журнала «Вог» рассматривались просто с литературной или редакторской точки зрения, их смысл был бы упущен. Так и изобразительное рекламное объявление следует рассматривать не как буквальное утверждение, а как передразнивание психопатологии обыденной жизни. В эпоху фотографии язык обретает графический, или иконический характер, «значение» которого почти никак не связано с семантическим универсумом и вообще не принадлежит к республике букв.
Если открыть сегодня какой-нибудь номер журнала «Лайф» за 1938 год, картинки или позы, выглядевшие тогда нормальными, позволят нам ощутить ушедшее прошлое острее, чем реальные предметы старины. Теперь маленькие дети применяют фразу «вчерашний день» ко вчерашним шляпам и ботикам; настолько тонко они настроены на резкие сезонные перепады визуальной позы в мире мод. Однако базисным здесь является переживание, испытываемое большинством людей в отношении вчерашней газеты; ничто по сравнению с ней не может быть более радикально вышедшим из моды. Дабы выразить свое отвращение к джазовым записям, джазовые музыканты говорят: «Да это такое же старье, как вчерашняя газета!»
Возможно, это простейший способ постичь значение фотографии в создании мира ускоренной быстротечности. Ведь к «сегодняшним газетам», или словесной брехне, мы относимся так же, как к модам. Мода — вовсе не способ достижения осведомленности или знания, а способ пребывания с ней. Но это обращает наше внимание лишь на негативный аспект фотографии. В плане позитивном, эффектом ускорения временной последовательности становится упразднение времени, во многом аналогичное упразднению пространства телеграфом и телеграммой. Разумеется, фотография делает и то, и другое. Она стирает национальные границы и культурные барьеры и вовлекает нас в Семью человеческую,[270] невзирая ни на какие частные точки зрения. Изображение группы людей любого цвета кожи — это изображение людей, а не «цветных людей». Говоря политически, такова уж логика фотографии. Однако логика фотографии не является ни словесной, ни синтаксической, и это обстоятельство делает письменную культуру совершенно беспомощной перед лицом фотографии. Вдобавок к тому, полное преобразование человеческого чувственного восприятия, совершаемое этой формой, включает развитие само-сознания, которое меняет выражение лица и косметический грим так же мгновенно, как меняет нашу телесную позу на публике и в обстановке приватности. Этот факт можно извлечь из любого журнала или кинофильма пятнадцатилетней давности. А потому не будет преувеличением сказать, что если фотография оказывает воздействие на внешнюю позу, то такое же воздействие она оказывает на наши внутренние позы и диалоги с самими собой. Эпоха Юнга и Фрейда — это, прежде всего, эпоха фотографии, эпоха полной гаммы самокритичных установок.
Это колоссальное наполнение нашей внутренней жизни, приводимое в действие новой культурой изобразительного гештальта, имело очевидные параллели в наших попытках внести новый порядок в свои дома, парки и города. Стоит кому-нибудь увидеть фотографию местных трущоб, как он тут же погружается в невыносимое состояние. Простое соотнесение картинки с реальностью дает новый мотив к изменению, а вместе с тем и новый мотив для путешествий.
Дэниэл Бурстин в книге «Образ, или что случилось с американской мечтой» предлагает литературную туристическую поездку по новому фотографическому миру путешествий. Достаточно взглянуть на новый туризм в литературной перспективе, чтобы открыть, что тот вообще лишен всякого смысла. Для письменного человека, почитавшего кое-что о Европе в ленивом предчувствии путешествия, рекламное объявление, вкрадчиво нашептывающее: «Всего пятнадцать гурманских обедов на самом быстром в мире корабле отделяют вас от Европы», — выглядит грубо и отвратительно. Рекламные объявления о путешествиях по воздуху еще хуже: «Обед — в Нью-Йорке, несварение — в Париже». Более того, фотография перевернула с ног на голову цель путешествия, которая до сих пор состояла во встрече со странным и незнакомым. Еще в начале семнадцатого века Декарт подметил, что путешествовать — это все равно что беседовать с людьми из других столетий. Раньше такая точка зрения была совершенно неведома. Тем, кто не в силах расстаться с таким причудливым опытом, нужно сегодня вернуться на много столетий назад тропою искусства и археологии. Профессора Бурстина, похоже, печалит, что так много американцев так много путешествуют и так мало от этого меняются. Он считает, что весь опыт путешествия стал «обескровленным, притворным, заранее сфабрикованным». Он не берет на себя труд выяснить, почему фотография сотворила с нами такое. Но точно так же интеллигентные люди в прошлом не переставали жаловаться, что книга стала заменой изыскания, беседы и размышления, и при этом никогда не обременяли себя задачей поразмыслить над природой печатной книги. Читатель книг всегда тяготел к пассивности, поскольку она лучше всего подходит для чтения. Сегодня пассивным стал путешественник. Дорожные билеты, паспорт, зубная щетка, и весь мир у ваших ног. Мощеная дорога, железная дорога и пароход изъяли из путешествия travail.[271] Люди, движимые глупейшими капризами, толпами устремились в наше время в чужеземные места, ибо путешествие теперь мало чем отличается от вылазки в кино или перелистывания журнальных страниц. Формула туристических агентств «Отправляетесь сейчас, платите потом» вполне могла бы звучать и так: «Отправляетесь сейчас, приезжаете потом», — ибо можно поспорить, что такие люди на самом деле никогда не покидают своих избитых маршрутов невосприимчивости, равно как никогда не прибывают ни в какое новое место. Они могут отправиться в Шанхай, Берлин или Венецию в составе туристической группы, потребности покинуть которую у них никогда не возникает.[272] В 1961 г. компания «Трансуорлд Эйрлайнз» стала показывать во время трансатлантических полетов новые фильмы, так что вы, направляясь, скажем, в Голландию, могли посетить Португалию, Калифорнию или любое другое место. Таким образом, сам мир становится своего рода музеем экспонатов, с которыми вам уже приходилось встречаться раньше в каком-нибудь другом средстве коммуникации. Хорошо известно, что даже хранители музеев часто предпочитают оригиналам различных предметов, хранящихся в коллекциях, их цветные картинки. Точно так же турист, посещая падающую Пизанскую башню или Большой Каньон в Аризоне, может теперь просто проверить свои реакции на что-то, с чем он уже давно был знаком, и нащелкать несколько собственных снимков того же самого.
Сокрушаться по поводу того, что групповая туристическая поездка, как и фотография, действует удешевляюще и разлагающе, делая все места легкодоступными, значит почти ничего не понять. Это значит высказывать ценностные суждения с фиксированной привязкой к фрагментарной перспективе письменной культуры. Это все равно что рассматривать литературное описание ландшафта как нечто высшее по сравнению с кинофильмом о путешествии. Для неподготовленного сознания всякое чтение и всякое кино, как и всякое путешествие, одинаково банальны и непитательны в качестве опыта. Труднодоступность не дает адекватности восприятия, хотя может заключать объект в ауру псевдоценностей, как это происходит с драгоценными камнями, кинозвездами и старыми мастерами. Это подводит нас к фактуальному ядру «псевдособытия» — этикетки, прикладываемой к новым средствам коммуникации в целом ввиду их способности давать нашей жизни новые образцы посредством акселерации старых. Необходимо поразмыслить над тем, что эта же коварная способность уже ощущалась однажды в старых средствах коммуникации, в том числе в языках. Все средства коммуникации существуют ради того, чтобы вкладывать в нашу жизнь искусственное восприятие и произвольные ценности.
С акселерацией смысл всего меняется, так как при любом ускорении информации меняются все формы личной и политической взаимозависимости. Некоторые остро ощущают, что ускорение обеднило мир, который они знали, изменив присущие ему формы человеческих взаимосвязей. Нет ничего нового или странного в узком предпочтении тех псевдособытий, которым случилось войти в композицию общества непосредственно накануне электрической революции нашего столетия. Исследователь средств коммуникации быстро начинает ожидать, что новые средства коммуникации любого периода будут классифицироваться как «псевдо» теми, кто усвоил образцы прежних средств, какими бы они ни были. Казалось бы, это нормальная и даже привлекательная черта, гарантирующая максимальную степень социальной преемственности и постоянства посреди изменения и обновления. Однако весь консерватизм в мире не в силах оказать даже символическое сопротивление экологическому натиску новых электрических средств коммуникации. На оживленной автомагистрали транспортное средство, вызывающее затор, разгоняется пропорционально ситуации на дороге. Таким, видимо, и является нелепый статус культурного реакционера. Когда тенденция ведет в одном направлении, его сопротивление обеспечивает большую скорость изменения. Власть же над изменением заключается, видимо, не в том, чтобы двигаться вровень с ним, а в том, чтобы быть впереди него. Предвидение дает способность менять и контролировать силу. Таким образом, мы можем чувствовать себя подобно человеку, которого вынесло из любимого дупла на стадион неистовствующей толпой фанатиков, жаждущих увидеть прибытие кинозвезды. Мы оказываемся в состоянии взглянуть на то или иное событие не раньше, чем то уже будет стерто другим, и так же вся наша западная жизнь кажется туземным культурам одной долгой последовательностью приготовлений к жизни. При этом излюбленной позой письменного человека долгое время было «с тревогой видеть» либо «с гордостью указывать», в то же время скрупулезно не замечая того, что происходит.
Одной из обширных областей фотографического влияния, оказывающих воздействие на нашу жизнь, является мир упаковки и выставления напоказ и, вообще, организация всякого рода магазинов и универмагов. Газета, которая могла рекламировать на одной и той же странице какие угодно продукты, быстро вызвала появление универсальных магазинов, предлагающих все возможные виды продуктов под одной крышей. Сегодняшняя децентрализация таких учреждений во множество небольших магазинчиков, расположенных на территории торговых центров, является отчасти детищем автомобиля,[273] отчасти продуктом телевидения. Фотография еще продолжает оказывать некоторое централистское давление в каталогах «товары почтой». Тем не менее, торгово-посылочные фирмы с самого начала подверглись не только централизующему влиянию железной дороги и почтовых служб, но и децентрализующему давлению телеграфа. Сеть магазинов «Сиэрз Робак» была прямо обязана своим рождением применению телеграфа начальниками железнодорожных станций. Эти люди увидели, что простоям товаров на запасных путях может положить конец скорость телеграфа, позволяющая быстро менять маршруты и места сосредоточения грузов.
Сложную сеть средств коммуникации, проявляющихся, помимо фотографии, в мире сбыта товаров, легче наблюдать в мире спорта. Однажды камера репортера внесла вклад в радикальные изменения, произошедшие в игре в футбол. Газетная фотография избитых игроков, сделанная в 1905 году на матче между Пенсильванией и Суортмором, попалась на глаза президенту Тедди Рузвельту. Он был настолько разъярен фотографией покалеченного Боба Максвелла из суортморской команды, что немедленно предъявил ультиматум, в котором говорилось, что если грубая игра будет продолжаться дальше, то он запретит футбол президентским указом. Произведенный эффект был таким же, какой произвели в свое время душераздирающие телеграфные репортажи Рассела из Крыма, создавшие образ и роль Флоренс Найтингейл.[274]
Не менее сильный эффект произвело фотографическое освещение в прессе жизни богатых. «Демонстративное потребление» было обязано своим появлением не столько выражению Веблена,[275] сколько газетному фотографу, начавшему проникать в места развлечений очень богатых. Зрелище людей, заказывающих выпивку, сидя верхом на лошадях в клубных барах, быстро вызвало в Америке волну общественного негодования, которая толкнула богатых на путь застенчивой заурядности и безвестности. С этого пути они больше не сворачивали. Фотография сделала отнюдь не безопасным выходить на публику и играть, ибо выдавала такие вульгарные стороны власти, которые грозили ей крахом. С другой стороны, кинематографическая стадия развития фотографии создала новую аристократию актеров и актрис, драматически олицетворявшую на экране и вне экрана фантазию показного потребления, которую в свое время так и не смогли воплотить богатые. Кино продемонстрировало магическую силу фотографии, снабдив всех Золушек мира потребительской упаковкой плутократии.
«Гутенбергова галактика»[276] дает необходимую основу для изучения быстрого развития новых визуальных ценностей, начавшегося после того, как появилась печать со съемных наборных литер. «Место всему и все на своем месте» — особенность, характерная не только для того порядка, в который приводит свои шрифты наборщик, но и для всей человеческой организации знания и действия, сложившейся начиная с шестнадцатого века. Даже внутренняя чувственная и эмоциональная жизнь стала структурироваться, упорядочиваться и анализироваться в соответствии с членораздельными изобразительными ландшафтами, как показал в очаровательном исследовании «Образность» Кристофер Хасси.[277] Открытию Толботом в 1839 году фотографии предшествовало более столетия такого изобразительного анализа внутренней жизни. Пойдя гораздо дальше в изобразительном прорисовывании природных объектов, чем это могли сделать живопись или язык, фотография привела к обратному эффекту. Дав средство самоописания объектов, или «высказывания без синтаксиса», фотография дала толчок изобразительному описанию внутреннего мира. Высказывание без синтаксиса, то есть без вербализации, было в действительности высказыванием посредством жеста, мимики и гештальта. В лице таких поэтов, как Бодлер и Рембо, это новое измерение открыло для человеческого освоения le paysage intérieur,[278] или царство души. Поэты и живописцы проникли в этот мир внутреннего ландшафта задолго до того, как Фрейд и Юнг, прихватив свои фотокамеры и записные книжки, отправились покорять состояния сознания. Быть может, наиболее показателен из всех пример Клода Бернара,[279] чей труд «Введение в изучение опытной медицины»[280] направил науку в le milieu intérieur[281] тела в то самое время, когда поэты сделали то же самое в отношении мира восприятий и чувств.
Важно отметить, что эта конечная стадия перевода всего в изображение была обращением образца. Мир тела и души, который наблюдали Бодлер и Бернар, вообще не был фотографическим. Это был такой невизуальный набор отношений, с каким, например, столкнулся физик благодаря новой математике и статистике. Можно также сказать, что именно фотография явила человеческому вниманию субвизуальный мир бактерий, итогом чего стало изгнание Луи Пастера[282] из медицинской профессии его возмущенными коллегами. Как художник Сэмюэл Морзе непреднамеренно спроецировал себя в невизуальный мир телеграфа, так и фотография реально выходит за пределы изобразительного, создавая благодаря схватыванию внутренних жестов и поз тела и души новые миры эндокринологии и психопатологии.
Следовательно, мы никогда не сможем понять такое средство коммуникации, как фотография, не уяснив его связь с другими средствами, старыми и новыми. Ибо средства коммуникации, будучи расширениями наших физических и нервных систем, конституируют такой мир биохимических взаимодействий, который должен все время искать новое равновесие по мере появления новых расширений. В Америке люди могут терпимо относиться к своим образам, которые видят в зеркале или на фотографии, но чувствуют себя очень неуютно, когда слышат запись собственного голоса. Фотографические и визуальные миры — это безопасные области анестезии.
ГЛАВА 21. ПРЕССА УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ
Один из заголовков в пресс-релизе Ассошиэйтед Пресс от 25 февраля 1963 года гласит:
ПРЕССУ ОБВИНЯЮТ В УСПЕХЕ
КЕННЕДИ НАГЛО, ЦИНИЧНО, ИСПОДТИШКА УПРАВЛЯЕТ НОВОСТЯМИ, — ЗАЯВЛЯЕТ КРОК
Далее приводятся слова Артура Крока, что «основная ответственность за это ложится на сам печатный и электронный процесс». Возможно, кому-то это покажется не более чем еще одним способом сказать, что «вся вина ложится на историю». Но именно мгновенные последствия электрического перемещения информации делают необходимым внедрение в размещение новостей и управление ими осознанной художественной цели. В сфере дипломатии та же электрическая скорость рождает практику сообщения о решениях еще до их принятия с целью проверить различные реакции, которые могут последовать, когда такие решения действительно будут приняты. Такая процедура, совершенно неизбежная при электрической скорости, вовлекающей все общество в процесс принятия решений, шокирует деятелей прессы старой закалки, поскольку отрекается от какой бы то ни было определенной точки зрения. По мере увеличения скорости информации политика все более отходит от представительства и делегирования полномочий избирателями к непосредственному вовлечению всего сообщества в центральные акты принятия решений. Меньшие скорости движения информации делают делегирование и представительство обязательными. С таким делегированием связаны точки зрения разных секторов общественных интересов, которые, как ожидается, будут выноситься на обсуждение и рассмотрение всего остального сообщества. Когда в такую организацию делегирования и представительства вторгается электрическая скорость, эту устаревшую организацию можно заставить функционировать только с помощью ряда ухищрений и паллиативных средств. Некоторых наблюдателей они шокируют базовым предательством изначальных целей и задач установленных форм.
С массивной темой прессы можно справиться, только войдя в прямой контакт с формальными образцами этого средства коммуникации. А потому необходимо сразу установить, что «человеческий интерес» — это технический термин, обозначающий то, что происходит, когда много книжных страниц или много единиц информации располагаются в мозаику на одном листе. Книга — это частная исповедальная форма, дающая «точку зрения». Пресса, в свою очередь, является групповой исповедальной формой, которая обеспечивает общественное участие. Она может придавать событиям «окраску», просто используя их или не используя. Но именно повседневное публичное выставление многочисленных статей в их сопоставлении друг с другом придает прессе ее комплексное измерение человеческого интереса.
Книжная форма — это не общественная мозаика и не корпоративный образ, а частный голос. Одним из непредвиденных воздействий телевидения на прессу стал огромный рост популярности журналов «Тайм» и «Ньюсуик». Совершенно необъяснимым для них самих образом и без каких бы то ни было дополнительных подписных кампаний их тиражи после появления телевидения выросли более чем вдвое. Эти журналы новостей исключительно мозаичны по своей форме; они не предлагают никаких окон в мир, как это делали старые иллюстрированные журналы, а представляют корпоративные образы общества в действии. Если зритель иллюстрированного журнала пассивен, то читатель новостного журнала активно вовлекается в создание значений корпоративного образа. Таким образом, телевизионная привычка вовлечения в мозаичный образ необыкновенно усилила притягательность новостных журналов, уменьшив в то же время привлекательность старых иллюстрированных журналов.
И книга, и газета по своему характеру исповедальны. Они создают эффект тайной истории уже самой своей формой, независимо от содержания. Как книжная страница преподносит тайную историю духовных приключений автора, так и газетная страница разглашает внутреннюю историю сообщества, находящегося в действии и взаимодействии. Видимо, именно поэтому пресса наилучшим образом выполняет свою функцию тогда, когда обнажает изнанку. Настоящие новости — это плохие новости: либо плохие новости о ком-то, либо плохие новости для кого-то. В 1962 году, когда Миннеаполис на несколько месяцев остался без газеты, начальник полиции сказал: «Конечно, я скучаю по новостям, но что касается моей работы, то я очень надеюсь, что газеты никогда здесь больше не появятся. Без газеты, разносящей идеи по округе, меньше преступлений». Еще до того, как появилось телеграфное ускорение, газета XIX века прошла долгий путь в сторону мозаичной формы. Ротационные печатные машины, работающие на паровой энергии, вошли в употребление за несколько десятилетий до появления электричества, но вплоть до изобретения в 1890 году линотипа ручной типографский набор оставался более удовлетворительным по сравнению с любыми механическими средствами. С появлением линотипа пресса могла полнее приспособить свою форму к сбору новостей телеграфом и печатанию новостей ротационными машинами. Типично и знаменательно, что изобретение линотипа в ответ на давнюю медлительность типографского набора пришло отнюдь не от тех, кто был связан с проблемой непосредственно. Целые состояния тратились понапрасну на приобретение наборных машин, пока Джеймс Клефан, искавший быстрый способ расшифровки и размножения стенографических записей, не нашел, наконец, способ соединить пишущую машину с наборной машиной. Именно пишущая машина решила совершенно иную по природе проблему типографского набора. Сегодня издание как книги, так и газеты одинаково зависит от пишущей машины.
Ускорение сбора информации и ее публикации естественным образом создало новые формы упорядочения материала для читателей. Еще в 1830 году французский поэт Ламартин[283] говорил: «Книга выходит с большим опозданием», — обращая внимание на тот факт, что книга и газета являются абсолютно разными формами. Стоит замедлить типографский набор и сбор новостей, и изменится не только физический облик прессы, но и художественный стиль тех, кто для нее пишет. Первое великое изменение в стиле произошло уже в XVIII веке, когда знаменитые журналы «Тэтлер» и «Спектейтор» Аддисона[284] и Стила[285] открыли новую технику письма, соответствующую форме печатного слова. Это была техника равнотональности. Она состояла в сохранении единого уровня тональности и единой установки по отношению к читателю на протяжении всего сочинения. Благодаря этому открытию Аддисон и Стил привели письменную речь в соответствие с печатным словом и увели ее от разнобойной интенсивности и тональности устного и даже рукописного слова. Этот способ совмещения языка с печатью необходимо ясно понять. Телеграф вновь оторвал язык от печатного слова и начал создавать беспорядочные шумы, называемые заголовками, газетными штампами и телеграфным стилем, — феномены, до сих пор приводящие в смятение литературное сообщество с его манерами надменной равнотональности, копирующими книгопечатное единообразие. Стиль газетных заголовков создает такого рода эффекты, как, например:
ПАРИКМАХЕР ПОЛИРУЕТ МИНДАЛИНЫ
НА ВЕЧЕРЕ ВЕТЕРАНОВ,
что означает: Сэл (Парикмахер) Магли, смуглолицый мастер финта из старого состава «Бруклин Доджерс»,[286] выступил на обеде в бейсбольном клубе в качестве зазванного оратора. То же самое сообщество восхищается изменчивой тональностью и энергией Аретино,[287] Рабле и Нэша,[288] писавших прозу еще до того, как давление печати стало достаточно сильным, чтобы свести языковые жесты к единообразной линейности. Беседуя с одним экономистом, работавшим в комиссии по безработице, я спросил, не видит ли он в чтении газет форму платного найма. Я не ошибся, предположив, что он отнесется к этому вопросу недоверчиво. Тем не менее все средства коммуникации, смешивающие рекламу с другими типами программного наполнения, являются формой «платного обучения». В грядущие годы, когда ребенку начнут платить за учебу, педагоги признают за сенсационной прессой роль предвестника оплачиваемого обучения. Одна из причин, мешавших увидеть этот факт раньше, состоит в том, что обработка и перемещение информации не были главным бизнесом для механического и промышленного мира. Однако они легко становятся главным бизнесом и средством обогащения в электрическом мире. На исходе механической эпохи люди все еще полагали, что пресса, радио и даже телевидение всего лишь формы информации, оплачиваемые изготовителями и пользователями «аппаратного оборудования», подобно автомобилям, мылу и бензину. Когда набирает обороты автоматизация, становится очевидно, что ключевым товаром является информация, а твердые продукты — не более чем приложение к движению информации. Ранние стадии, на которых информация как таковая стала основным экономическим товаром электрической эпохи, были окутаны дымом тех способов, с помощью которых реклама и развлечение сбивали людей со следа. Рекламодатели платят за пространство и время в газете и журнале, на радио и телевидении; иначе говоря, они покупают часть читателя, слушателя или зрителя так же определенно, как если бы брали в аренду наши дома для проведения публичных мероприятий. Они были бы рады заплатить читателю, слушателю или зрителю за его время и внимание напрямую, если бы знали, как это сделать. Единственный способ, изобретенный до сих пор, — это выставление на всеобщее обозрение. Кино в Америке не разработало рекламных пауз просто потому, что само является величайшей из всех форм рекламы потребительских товаров.
Те, кто сожалеет о фривольности прессы и ее естественной привычке выставлять группу напоказ и промывать кости, просто игнорируют природу этого средства коммуникации и требуют, чтобы она была книгой, к каковой она тяготеет в Европе. В Западной Европе книга появилась задолго до газеты; однако в России и Центральной Европе книга и газета развивались почти одновременно, в результате чего эти две формы так и не были четко разделены.
Тамошняя журналистика распространяет частную точку зрения литературного мандарина. Британская и американская журналистика, напротив, всегда стремилась использовать мозаичную форму газеты для представления прерывного разнообразия и разноголосицы обыденной жизни. Монотонные требования литературного сообщества — чтобы газета использовала свою мозаичную форму для представления фиксированной точки зрения в плоскости какой-то единственной перспективы — демонстрирует неспособность увидеть форму прессы вообще. Это все равно как если бы публика вдруг потребовала, чтобы в универмагах было всего по одному отделу.
Рекламные объявления (и сводки о положении дел на рынке ценных бумаг) — это фундамент, на котором держится пресса. Стоит найти альтернативный источник легкого доступа к такой разнородной повседневной информации, и пресса прогорит. Радио и телевидение могут справиться с освещением спортивных событий, новостями, комиксами и иллюстрациями. Редакционная статья, являющаяся одной из книжных особенностей газеты, многие годы оставалась без внимания, пока не была облечена в форму новости или платного объявления.
Если наша пресса представляет собой главным образом свободную развлекательную службу, оплачиваемую рекламодателями, желающими купить себе читателей, то русская пресса in toto[289] работает в режиме индустриальной рекламы. В то время как мы используем новости — политические и личные — как развлечение, призванное захватить внимание читателей рекламных объявлений, русские пользуются новостями как средством пропаганды своей экономики. Их политическим новостям свойственны та же агрессивная прямолинейность и поза, которыми обладает голос спонсора в американской рекламе. Культура, которая получает газету с опозданием (по тем же причинам, по которым откладывается индустриализация), и культура, которая воспринимает прессу как форму книги и рассматривает промышленность как групповое политическое действие, вряд ли будут искать в новостях развлечение. Даже в Америке людям письменного склада нелегко понять иконографическую пестроту рекламного мира. Рекламу игнорируют, на рекламу жалуются, но ее редко изучают и используют для получения удовольствия.
Каждый, кто мог бы подумать, будто в Америке и России, во Франции и Китае пресса выполняет одну и ту же функцию, на самом деле ничего не смыслит в этом средстве коммуникации. Должны ли мы предположить, что такого рода неграмотность в отношении средств коммуникации характерна только для Запада и что русские знают, как корректировать систематическую погрешность данного средства коммуникации, чтобы давать ему правильное толкование? Или люди смутно предполагают, что главы государств в различных странах мира знают, что газета оказывает в разных культурах совершенно разное воздействие? Для таких допущений нет никаких оснований. Неосознание природы прессы, кроющейся в ее подпороговом или скрытом воздействии, столь же обычно среди политиков, как и среди политологов. Например, в устной России газеты «Правда» и «Известия» распоряжаются внутренними новостями, а крупные международные сообщения поступают на Запад через Московское радио. В визуальной Америке, наоборот, сообщениями о внутренних событиях занимаются радио и телевидение, а международные дела получают официальное освещение в журнале «Тайм» и газете «Нью Йорк Таймс». Тупость «Голоса Америки» как службы вещания на зарубежные страны не идет ни в какое сравнение с изощренностью Би-Би-Си и Московского радио, но то, чего недостает ему в вербальном содержании, он с лихвой компенсирует увеселительной ценностью американского джаза. Следствия этой разницы акцентов очень важны для понимания мнений и решений, естественных для устной культуры, в отличие от визуальной.
Один мой друг, пытавшийся преподавать кое-что о формах средств коммуникации в средней школе, был поражен единодушной реакцией, которая на это последовала. Ученики даже на миг не могли принять предположение, что пресса или любое другое публичное средство коммуникации могут использоваться в низменных целях. Они считали, что это было бы сродни загрязнению воздуха или водопровода, и не могли даже представить, чтобы их друзья или родственники, занятые в этих средствах массовой информации, могли опуститься до такой коррупции. Именно неспособность к восприятию проявляется в том, что мы обращаем внимание на программное «содержание» наших средств коммуникации и при этом игнорируем их форму, идет ли речь о радио, печати или самом английском языке. Как много людей, вообще ничего не смыслящих в форме средств коммуникации, разглагольствовали, подобно Ньютону Миноу (бывшему главе федеральной комиссии по коммуникациям), о Бесплодной земле масс-медиа! Они воображают, что более честный тон и более строгая тематика непременно поднимут уровень книги, прессы, кино и телевидения. Они неправы до смешного. Им нужно лишь испытать свою теорию на каких-нибудь пятидесяти последовательных словах, взятых из такого средства массовой коммуникации, как английский язык. Что стал бы делать мистер Миноу, что стал бы делать любой рекламодатель без избитых и банальных клише популярной речи? Представь- те себе, что нам поставили бы задачу попытаться с помощью нескольких слов повысить уровень повседневного английского разговора, наполнив его рядом сдержанных и серьезных чувств? Было бы это способом справиться с проблемами улучшения средства коммуникации? Если бы все английское произношение было поднято на мандаринский уровень единообразной элегантности и сентенциозности, разве стали бы от этого лучше язык и его пользователи? Вспоминается ремарка Артемуса Уорда,[290] что «Шекспир писал хорошие пьесы, но он бы не справился с работой вашингтонского корреспондента какой-нибудь нью-йоркской ежедневной газеты. Ему просто не хватило бы для этого безрассудной фантазии и воображения».
Книжно-ориентированный человек тешит себя иллюзией, что без рекламных объявлений и давления со стороны рекламодателя пресса стала бы лучше. Обследования читательской аудитории удивили даже издателей, выявив, что блуждающие глаза читателей газет получают одинаковое удовольствие от рекламных объявлений и колонок новостей. Однажды во время второй мировой войны USO[291] разослало в войска специальные выпуски основных американских журналов, из которых были изъяты рекламные объявления. Люди настояли, чтобы рекламные объявления вернули на место. И это естественно. Объявления, безусловно, самая лучшая часть любого журнала или газеты. На изготовление рекламного объявления уходит больше труда и мысли, ума и искусства, чем на изготовление любого текстового элемента газеты или журнала. Объявления — это новости. Что в них не так, так это то, что это всегда хорошие новости. Чтобы сбалансировать эффект и продать хорошие новости, нужно располагать кучей плохих новостей. Более того, газета — горячее средство коммуникации. Ради интенсивности и читательского участия она непременно должна содержать в себе плохие новости. Настоящие новости, как уже отмечалось, это плохие новости. С тех пор, как появилась печать, это может подтвердить любая газета. Наводнения, пожары, другие общие катастрофы на суше, на море и в небесах превосходят в качестве новостей любую разновидность частного ужаса или злодейства. Рекламные объявления, напротив, должны громогласно и звонко выкрикивать свою радостную весть, дабы уравновесить проникновенную силу плохих новостей.
Комментаторы, отслеживающие взаимоотношения между прессой и американским Сенатом, отмечали, что с тех пор, как Сенат стал вмешиваться в неприятные темы, его роль выросла по сравнению с ролью Конгресса. Большим недостатком президентства и президентского руководства общественным мнением является фактически то, что президентские структуры пытаются быть источником хороших новостей и благородного наставления. В свою очередь, конгрессменам и сенаторам отдается изнаночная сторона, столь необходимая для жизнеспособности прессы.
Внешне это может показаться циничным, особенно тем, кто полагает, что содержание средства коммуникации является делом политического благоразумия и личного вкуса, а все корпоративные средства коммуникации — не только радио и прессу, но и обычную простонародную речь — рассматривает как испорченные формы человеческого самовыражения и опыта. Здесь я должен еще раз повторить, что с самого начала газета тяготела не к книжной, а к мозаичной, или участной форме. С ускорением печати и сбора новостей эта мозаичная форма стала преобладающим аспектом человеческой ассоциации; ведь мозаичная форма означает не отрешенную «точку зрения», а участие в процессе. По этой причине пресса неотделима от демократического процесса, но начисто лишена ценности с литературной, или книжной точки зрения.
Опять же, книжно-ориентированный человек неправильно понимает коллективную мозаичную форму прессы, когда жалуется на ее нескончаемые сообщения об изнаночной стороне общества. Как книге, так и прессе самой их формой назначено трудиться над извлечением наружу внутренней тайной истории, и при этом неважно, дарит ли Монтень частному читателю тонкие очертания своей души или Херст[292] с Уитменом обрушивают свои варварские крики на крыши мира. Именно печатная форма публичного обращения и высокой интенсивности с ее точным единообразием воспроизведения придают книге и прессе особый характер публичной исповедальни.
Сообщения в прессе, на которые все люди в первую очередь обращают внимание, — это сообщения о том, о чем они уже знают. Если нам довелось быть свидетелями какого-то события, будь то бейсбольного матча, краха фондовой биржи или снежной бури, мы прежде всего обращаемся к сообщению об этом событии. Почему? Ответ на этот вопрос имеет решающее значение для понимания средств коммуникации. Почему ребенку нравится без умолку, пусть даже и сбивчиво, болтать о том, как он провел день? Почему мы предпочитаем романы и кинофильмы об известных событиях и персонажах? Потому что для разумных существ заново видеть или узнавать свой опыт в новой материальной форме — высшая радость в жизни. Опыт, переведенный в новое средство коммуникации, дарит чарующее возвращение прежнего переживания, в самом буквальном смысле. Пресса повторяет то возбуждение, которое мы получаем от работы своего ума, а посредством работы своего ума мы можем переводить внешний мир в ткань нашего собственного бытия. Этим возбуждением от перевода как раз и объясняется, почему люди совершенно естественным образом желают все время пользоваться своими чувствами. Те внешние расширения чувств и способностей, которые мы называем средствами коммуникации, мы используем так же постоянно, как глаза и уши, и притом исходя из тех же самых мотивов. С другой стороны, книжно-ориентированный человек считает такое безостановочное пользование средствами коммуникации испорченностью; в книжном мире оно ему незнакомо.
До сих пор мы обсуждали прессу как мозаичную наследницу книжной формы. Мозаика являет собой форму корпоративного или коллективного образа и требует глубокого участия. Это участие скорее общественное, чем частное, и скорее инклюзивное, чем эксклюзивное. Другие особенности газетной формы легче всего уловить с помощью нескольких случайных штрихов, выхваченных за пределами нынешней формы прессы. Например, в прошлом газетам приходилось ждать поступления новостей. Первая американская газета, изданная 25 сентября 1690 года в Бостоне Бенджамином Харрисом,[293] оповещала, что будет «доставляться раз в месяц (или если случится Обилие Событий, то чаще)». Ничто не могло яснее показать, что новости для газеты были чем-то внешним и привходящим. При таких рудиментарных условиях осознания главная функция газеты состояла в том, чтобы корректировать слухи и устные сообщения подобно тому, как словарь мог давать «правильные» написания и значения слов, давно существовавших без всякой помощи словарей. Очень скоро пресса почувствовала, что новость необходимо не только сообщать, но также собирать и даже, более того, создавать. Новостью тогда было то, что проникало в прессу извне. Все остальное новостью не было. Выражение «он сделал новость» подозрительно двусмысленно, ибо быть помещенным в газете значит не только быть новостью, но и создавать новость. Таким образом, «делание новостей», как и «делание товара», предполагает мир воздействий и фикций. Однако пресса представляет собой ежедневное воздействие и ежедневную фикцию, то есть сделанную вещь; и изготавливается она едва ли не из всего, что есть в сообществе. Благодаря мозаичным средствам она превращается в образ, или срез сообщества.
Когда такой общепризнанный критик, как Дэниэл Бурстин, жалуется, что современная практика привлечения литературных «негров», телетайп и телеграфные агентства создают невещественный мир «псевдособытий», он фактически заявляет, что никогда не исследовал природу каких-либо средств коммуникации, предшествовавших средствам электрической эпохи. Ибо псевдо-, или фиктивный, характер всегда пронизывал средства коммуникации, и отнюдь не только те, которые появились недавно.
Задолго до того, как крупный бизнес и корпорации осознали образ своего действия как фикцию, которую необходимо тщательно запечатлеть в чувственный аппарат общественности, пресса создала образ сообщества как серии развертывающихся действий, объединенных выходными данными газеты. Помимо используемого профессионального жаргона, выходные данные — единственный организующий принцип газетного образа сообщества. Отнимите у газеты выходные данные, и любой ее номер будет неотличим от другого. Вместе с тем, прочитать газету недельной давности, не заметив, что она не сегодняшняя, — это такой опыт, который приводит в смущение. Как только пресса уловила, что презентация новостей вовсе не пересказ происшествий и сообщений, а прямая причина событий, сразу стало много всего происходить. Реклама и продвижение товаров, до тех пор сдерживаемые, с подачи Барнема[294] выплеснулись на первую полосу как сенсационные истории. Сегодняшний составитель рекламных объявлений относится к газете, точно чревовещатель к своей бутафорской кукле. Он может заставить ее говорить все, что захочет. Он смотрит на нее, как художник на свою палитру и тюбики с красками; из неисчерпаемых ресурсов наличных событий можно получить бесконечное многообразие управляемых мозаичных эффектов. Любого частного клиента можно уютно поместить в широкий спектр всевозможных конфигураций и окрасок общественных дел, человеческих интересов и глубинных сообщений.
Если отнестись со всем вниманием к тому, что пресса представляет собой мозаичный, участный тип организации и самодеятельную разновидность мира, то можно увидеть, почему она так нужна демократическому государству. На протяжении всего исследования прессы, предпринятого в книге «Четвертая ветвь власти», для Дугласа Кейтера остается загадкой тот факт, что посреди крайней фрагментации правительственных учреждений и ветвей власти прессе каким-то образом удается удерживать их связь друг с другом и с нацией в целом. Он подчеркивает парадокс, что в то время как назначение прессы состоит в очищении сообщества посредством предания всего огласке, в электронном мире сплошной паутины событий большинство дел должно, тем не менее, оставаться засекреченным. Магической гибкостью контролируемой утечки информации высшая секретность переводится в публичное участие и ответственность.
Именно благодаря такой каждодневной искусной адаптации западный человек начинает приспосабливаться к электрическому миру тотальной взаимозависимости. И нигде этот трансформирующий процесс адаптации не проявляется так отчетливо, как в прессе. Пресса сама собой представляет противоречие, будучи индивидуалистической технологией, поставленной на службу оформлению и обнажению групповых установок.
Теперь было бы неплохо рассмотреть, каким образом модифицировали прессу такие недавние нововведения, как телефон, радио и телевидение. Мы уже видели, что телеграф является фактором, внесшим наибольший вклад в создание мозаичного образа современной прессы с его массой прерывных и несвязных штрихов. Именно этот групповой образ общественной жизни, а не какое-то редакторское мировоззрение или передергивание, конституирует участника данного средства коммуникации. Для книгомана безучастной приватной культуры здесь кроется скандальность прессы: ее бесстыдное вовлечение в глубины человеческих интересов и чувств. Устранив из презентации новостей время и пространство, телеграф приглушил приватность книжной формы, а вместо нее усилил в прессе новый публичный образ.
Первый душераздирающий опыт, с которым сталкивается журналист по приезде в Москву, — отсутствие телефонных книг. Следующее бросающее в ужас откровение — отсутствие центральных коммутаторов в государственных учреждениях. Или вы знаете номер, или уж, извините, поступайте как знаете. Исследователь средств коммуникации счастлив прочесть добрую сотню томов, лишь бы открыть пару таких фактов. Они освещают лучом прожектора обширную непроницаемую территорию мира прессы и высвечивают роль телефона, позволяя увидеть ее через призму другой культуры. Американский газетчик собирает свои истории и обрабатывает свои данные в значительной части с помощью телефона, ввиду скорости и непосредственности процесса устного общения. Наша популярная пресса вплотную приближается к системе тайных сообщений с помощью сигналов. Русский и европейский газетчик, в отличие от американского, литератор. Парадокс, но в письменной Америке пресса имеет интенсивно устный характер, в то время как в устной России и Европе — строго литературную природу и функцию.
Англичане настолько недолюбливают телефон, что заменяют его многочисленными почтовыми отправлениями. Русские используют телефон как статусный символ, подобно тому, как в Африке племенные вожди носят в качестве предмета одежды будильники. Мозаика газетного образа ощущается в России как непосредственная форма племенного единства и участия. Черты прессы, которые мы находим наиболее расходящимися со строгими индивидуальными стандартами письменной культуры, — это те самые черты, которые рекомендуют ее Коммунистической партии. «Газета, — однажды заявил Ленин, — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор».[295] Сталин называл ее «самым мощным оружием нашей партии». Хрущев поминает ее как «наше главное идеологическое оружие». Этих людей больше привлекала коллективная форма газетной мозаики с ее магической властью навязывать свои допущения, нежели печатное слово как выражение частной точки зрения. Устной России неведома фрагментация государственной власти. Равно как незнакома ей и функция нашей прессы как объединителя фрагментированных учреждений. Русский монолит находит мозаике прессы совершенно другие применения. В настоящее время пресса нужна России (как нам некогда нужна была книга) для того, чтобы перевести племенное и устное сообщество в такую визуальную, единообразную культуру, которая была бы способна поддерживать рыночную систему.
В Египте пресса нужна для пробуждения национализма, то есть того визуального рода единства, который вырывает людей из плена локальных и племенных форм. Парадоксально, но в качестве омолодителя древних племен в Египте на передний план вышло радио. Батарейный радиоприемник, носимый на верблюде, дает племенам бедуинов неведомую доселе силу и жизненность, а потому употреблять слово «национализм» в отношении неистовства устной агитации, обрушившегося на арабов по радио, значит скрывать от самих себя суть ситуации. Единство арабоязычному миру может принести только пресса. Национализм был неведом западному миру до эпохи Возрождения, когда Гутенберг дал возможность увидеть родной язык в единообразной одежде. Радио не делает ничего для утверждения этого единообразного визуального единства, столь необходимого для национализма. Чтобы ограничить радиопрослушивание национальными программами, некоторые арабские правительства издали закон, запрещающий пользоваться личными наушниками, укрепив тем самым племенной коллективизм в своих радиоаудиториях. Радио реставрирует племенную восприимчивость и эксклюзивное вовлечение в паутину родства. Пресса, напротив, создает визуальный, не столь глубоко вовлекающий тип единства, гостеприимно открытый для включения многих племен и разнообразия частных воззрений.
Если телеграф укоротил предложение, то радио укоротило новость, а телевидение впрыснуло в журналистику инъекцию вопросительности. Фактически, в наше время не только сама пресса является воссоздаваемой из часа в час телефотомозаикой человеческого сообщества, но и ее технология есть мозаика всех технологий сообщества. Даже в своем отборе подходящего материала для новостей пресса отдает предпочтение людям, уже получившим определенную известность благодаря кино, радио, телевидению и театру. Этот факт мы можем использовать как лакмусовую бумажку при изучении природы такого средства, как пресса, ибо если кто-то появляется только в газете, то это лишнее доказательство того, что он заурядный гражданин.
Недавно промышленники наладили выпуск обоев, копирующих внешний вид одной французской газеты. Эскимос приклеивает журнальные страницы на потолок своего иглу, чтобы сверху не капало. Даже обычная газета, валяющаяся на полу на кухне, будет открывать новости, которые были упущены из виду, когда газета была в руке. И все же независимо от того, в каких целях прессу используют — для уединения в общественном транспорте или для вовлечения в общественную жизнь в обстановке наслаждения приватностью, — мозаике прессы удается выполнять сложную многоуровневую функцию создания группового сознания и участия, которую никогда не могла выполнить книга.
Форму прессы — то есть ее структурные характеристики — самым естественным образом заимствовали поэты после Бодлера для пробуждения инклюзивного осознания. Наша обычная газетная страница не только является сегодня по-авангардному символистской и сюрреалистической, но и служила первым источником вдохновения для символизма и сюрреализма в искусстве и поэзии, в чем каждый может убедиться, почитав Флобера и Рембо. Гораздо легче получить удовольствие от любой части «Улисса» Джойса или любого стихотворения Т. С. Элиота до «Квартетов»,[296] если подойти к ним как к газетной форме. Но такова уж суровая преемственность книжной культуры, что ей недосуг заметить эти liaisons dangereuses между средствами коммуникации, особенно скандальные сделки книжной страницы с электронными тварями, живущими по ту сторону линотипа.
Учитывая неутомимую озабоченность прессы очищением посредством предания огласке, неплохо было бы спросить, не обусловливает ли она сама неизбежность столкновения с книжным средством коммуникации. Пресса как коллективный и общественный образ встает в естественную позу оппозиции ко всякой частной манипуляции. Любой, даже самый заурядный, индивид, стоит лишь ему начать проявлять беспокойное шевеление, как если бы он что-нибудь значил, сразу попадает в прессу. Любой индивид, манипулирующий публикой ради каких-то личных целей, тоже может ощутить на себе очистительную силу гласности. При этом будто бы некая шапка-невидимка самым естественным образом опустилась на тех, кто владеет газетами или широко использует их в своих коммерческих целях. Не объясняется ли этим странная одержимость книгомана прирожденной продажностью хозяев прессы? Уже сама частная и фрагментарная точка зрения, принимаемая читателем книг и писателем, обнаруживает естественные основания для враждебности по отношению к большой общественной власти прессы. Как формы и как средства коммуникации, книга и газета, казалось бы, несовместимы настолько, насколько вообще могут быть несовместимы любые два средства. Владельцы средств коммуникации всегда стараются дать публике то, чего она хочет, ибо они чувствуют, что их власть коренится в самом средстве коммуникации, а не в сообщении или программе.
ГЛАВА 22. АВТОМОБИЛЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ НЕВЕСТА
Вот одно сообщение из колонки новостей, схватывающее во многом значение автомобиля в связи с социальной жизнью:
«Я был потрясающ. Я сидел в своем белом Континентале. На мне были чисто шелковая, белоснежная, с вышивкой ковбойка и черные габардиновые брюки. Рядом со мной в машине сидел мой черный как уголь датский дог, привезенный из Европы, по кличке Дава фон Крупп. Чего еще желать!»
Хотя, может быть, мы не погрешим против истины, если скажем, что американец дитя четырех колес и что достижению возраста, позволяющего получить водительские права, американская молодежь придает гораздо больше значения, чем достижению возраста, дающего право голосовать, столь же верно и то, что автомобиль стал предметом одежды, без которого мы в городской среде чувствуем себя неуверенными, раздетыми и несовершенными. Некоторые наблюдатели настаивают, что в последнее время место автомобиля в качестве статусного символа занял дом. Если это так, то данный сдвиг от открытой мобильной дороги к наманикюренным корням предместий может означать реальное изменение в ориентациях американцев. Все большее смущение вызывает превращение автомобилей в реальное население наших городов, в результате которого произошла утрата человеческого масштаба в энергиях и в расстояниях. Планировщики городов пребывают в раздумьях о том, какими способами и какими средствами выкупить наши города для пешеходов у крупных транспортных компаний.
В книге «Средневековая технология и социальное изменение» Линн Уайт излагает историю стремени и рыцаря в тяжелых доспехах. Всадник в доспехах, необходимый для ведения шокового боя, обходился настолько дорого, но вместе с тем был настолько обязателен, что для оплаты его оснащения возникла кооперативная феодальная система. Оружейный порох и артиллерия эпохи Возрождения положили конец военной роли рыцаря и возвратили город пешему горожанину.
Если автомобилист в технологическом и экономическом отношении намного выше оснащенного доспехами рыцаря, то, может быть, электрические изменения в технологии выбьют его из седла и возвратят нас к пешеходному масштабу. «Дорога на работу» может быть лишь переходной фазой, как и «прогулка по магазинам». Бакалейные компании давно предусмотрели возможность совершения покупок с помощью двустороннего телевидения, или видеотелефона. Уильям М. Фримен, пишущий для службы новостей «Нью Йорк Таймс», в номере от 15 октября 1963 года (вторник) сообщает, что явно наметился «решительный отход от сегодняшних механизмов распределения… Госпожа Покупательница будет иметь возможность настраиваться на разные магазины. Номер ее кредитной карточки будет автоматически определяться с помощью телевидения. На экран будут выводиться товары в полном и достоверном цветовом изображении. Расстояние не будет иметь никакого значения, поскольку к концу века покупатель будет иметь возможность совершать прямые телевизионные подключения, независимо от того, сколько миль отделяет его от магазина».
Чем грешат все такие пророчества, так это тем, что они предполагают стабильную фактуальную рамку — в данном случае дом и магазин, — которая обычно исчезает первой. В эпоху автоматизации меняющаяся связь между покупателем и продавцом абсолютно меркнет на фоне меняющегося паттерна самой работы. Надо признать, что уход-на-работу и приход-с-работы почти наверняка полностью потеряют свой нынешний характер. В этом смысле, автомобиль как средство передвижения пойдет по пути лошади. Лошадь утратила свою роль в транспортировке, но совершила уверенное возвращение в сферу развлечений. Так же и с автомобилем. Его будущее никак не связано со сферой транспортировки. Если бы только что родившаяся автомобильная промышленность созвала в 1910 году конференцию, чтобы обсудить будущее лошади, дискуссия сосредоточилась бы на поиске для лошади новых мест работы, а также новых видов подготовки, которые бы расширили область ее полезного применения. Всеобъемлющая революция в сфере транспорта, жилья и планировки города была бы проигнорирована. Никто бы даже не подумал о повороте нашей экономики к изготовлению и обслуживанию автомобилей и о посвящении значительной части свободного времени их использованию в обширной новой системе автомагистралей. Иначе говоря, с появлением новой технологии меняется сама рамка, а не просто изображение в этой рамке. Вместо того, чтобы размышлять о покупках по телевидению, мы должны осознать, что двусторонняя оперативная телевизионная связь означает конец самого шоппинга и конец работы в том виде, в каком мы ее сегодня знаем. Та же ошибка подстерегает нас, когда мы размышляем о телевидении и образовании. Мы думаем о телевидении как случайном вспомогательном средстве, тогда как на самом деле уже оно само трансформировало процесс обучения молодежи, причем независимо от того, где он протекает, дома или в школе.
В 30-е годы, когда миллионы книжек комиксов орошали потоками крови молодое поколение, никто как будто не замечал, что в эмоциональном плане насилие миллионов автомобилей, разъезжающих по нашим улицам, несравнимо истеричнее, чем что бы то ни было, могущее выйти из-под печатного станка. Все носороги, бегемоты и слоны в мире, соберись они в одном городе, не смогли бы создать такой угрозы и взрывной интенсивности, какую создает ежедневное и ежечасное переживание работы многочисленных двигателей внутреннего сгорания. Неужели и в самом деле от людей ждут, что они интернализируют всю эту мощь, все это взрывное насилие и будут жить с ними, никак не перерабатывая и не перекачивая их для компенсации и поддержания равновесия в какую-нибудь форму фантазии?
В немых картинах 20-х годов очень многие эпизоды включали в себя автомобиль и полисменов. Поскольку фильм тогда воспринимали как оптическую иллюзию, коп был основным напоминанием о существовании основополагающих правил в игре фантазии. Будучи таковым, он без конца ввязывался в драки. Автомобили 20-х годов являлись нашему взору этакими хитроумными штуковинами, второпях собранными в инструментальной мастерской. Их связь с кабриолетом все еще была прочной и ясной. Потом появились надувные шины, массивный салон и выпуклые крылья. Некоторые люди видят в большом автомобиле своего рода обрюзгшего мужчину средних лет, явившегося после глупого периода первой любви между Америкой и автомобилем. Но как бы забавно ни умели венские аналитики распространяться об автомобиле как о сексуальном объекте, они, делая это, в конце концов, привлекли внимание к тому факту, что люди всегда были половыми органами технологического мира, подобно пчелам в растительном мире. Автомобиль является сексуальным объектом не больше и не меньше, чем колесо или молоток. Что совершенно упустили из виду исследователи мотивации, так это то, что американское чувство пространственной формы во многом изменилось после появления радио и претерпело радикальное изменение после того, как появилось телевидение. Было бы ошибкой — впрочем, безвредной — пытаться постичь это изменение в образе человека средних лет, домогающегося грациозной Лолиты.
Разумеется, было в последние годы несколько энергичных программ похудания для автомобиля. Но если бы кто-то спросил: «Сохранится ли автомобиль?» — или: «Останется ли у нас автомобиль?» — сразу возникли бы замешательство и сомнения. Странно, но в столь прогрессивную эпоху, когда изменение стало единственной константой в нашей жизни, мы никогда не задаемся вопросом: «Останется ли у нас автомобиль?» Ответом будет, разумеется: «Нет». В электрический век само колесо безнадежно устарело. В самом сердце автомобильной промышленности есть люди, понимающие, что время автомобиля уходит так же определенно, как была обречена плевательница, когда на деловую сцену вышла секретарша-машинистка. Какие они предприняли меры, чтобы облегчить уход автомобильной промышленности со сцены? Само устаревание колеса еще не означает его исчезновения. Оно означает лишь, что колесо, подобно каллиграфии и книгопечатанию, отойдет в культуре на второстепенные роли.
В середине девятнадцатого века был достигнут огромный успех, когда на открытой дороге появились автомобили на паровой тяге. Лишь тяжелые дорожные пошлины, взимаемые местными дорожными властями, мешали паровым двигателям развернуться как следует на шоссейных дорогах. В 1887 году во Франции к паровому автомобилю были приспособлены надувные шины. В 1899 году начался расцвет американского «Стэнли Стимера».[297] В 1896 году Форд построил свой первый автомобиль, а в 1903 году была основана «Форд Мотор Компани».[298] Электрическая искра позволила перейти от парового двигателя к двигателю, работающему на бензине. Скрещивание электричества, биологической формы, с механической формой еще никогда не высвобождало такой огромной энергии.
Тяжелый удар по американскому автомобилю нанесло телевидение. Автомобиль и конвейер были высшим выражением Гутенберговой технологии, то есть единообразных и повторяемых процессов, применяемых ко всем аспектам работы и жизни. Телевидение поставило под вопрос все механические допущения относительно единообразия и стандартизации, а вместе с тем и все потребительские ценности. Кроме того, телевидение принесло одержимость глубинным исследованием и анализом. Мотивационные исследования, предложившие нанести сокрушительный удар по рекламе и Оно,[299] немедленно стали приемлемы для безумного административного мира, который испытывал к новым американским вкусам такие же чувства, какие испытывал Эл Капп к своей 50-миллионной аудитории, когда пробил звездный час телевидения. Что-то случилось. Америка была уже не та.
На протяжении сорока лет автомобиль был великим уравнителем физического пространства и вместе с тем социальной дистанции. Разговоры об американском автомобиле как статусном символе всегда упускали из внимания тот основополагающий факт, что именно власть автомобиля выравнивает все социальные различия и делает пешехода гражданином второго сорта. Многие заметили, что реальным интегратором и уравнителем белых и негров на Юге было не выражение моральных точек зрения, а частный автомобиль и грузовик. Простой и очевидный факт, касающийся автомобиля, состоит в том, что он более, чем лошадь, является расширением человека, превращающим всадника в супермена. Это горячее, взрывное средство социальной коммуникации. И телевидение, остудив американские общественные вкусы и создав новую потребность в уникальном обволакивающем пространстве, своевременно предоставленном европейским автомобилем, практически выбило из седла американского автокавалериста. Маленькие европейские автомобили вновь опускают его чуть ли не до пешеходного статуса. Некоторые даже умудряются гонять на них по тротуарам.
Автомобиль одной только лошадиной силой выполнил свою задачу социального уравнивания. Кроме того, автомобиль создал автомагистрали и излюбленные места сборищ, которые были не только очень похожи друг на друга во всех уголках страны, но и в равной мере доступны для всех. С тех пор, как появилось телевидение, отовсюду естественным образом раздаются жалобы на это единообразие средств передвижения и мест отдыха. Как выразился Джон Китс, накинувшись на автомобиль и промышленность в «Наглых колесницах»,[300] там, где может проехать один автомобиль, ездят все автомобили, и повсюду, куда бы автомобиль ни добрался, следом за ним уверенно приходит автомобильная версия цивилизации. Сегодня сориентированное телевидением чувство направлено не только против автомобиля и стандартизации, но и против Гутенберга, а следовательно — против Америки тоже. Разумеется, мне известно, что Джон Китс не имеет этого в виду. Он никогда не задумывался ни о средствах коммуникации, ни о том, как Гутенберг создал Генри Форда, конвейерную линию и стандартизированную культуру. Единственное, что он знал, это то, что популярно хулить все единообразное, все стандартизированное и вообще все горячие формы коммуникации. По этой же причине смог к месту откликнуться своими «Тайными увещевателями»[301] и Вэнс Пакард.[302] Он с улюлюканьем набросился на старых коммерческих агентов и горячие средства коммуникации в том духе, в каком это делает MAD. До появления телевидения такие жесты были бы бессмысленны. Они бы не окупились. Теперь смеяться над механическим и просто стандартизированным стало выгодно. Джон Китс мог бы теперь поставить под вопрос основную доблесть бесклассового американского общества, сказав: «Если вы видели какую-то часть Америки, вы увидели ее всю», — и добавить, что автомобиль дал американцу не возможность путешествовать и переживать приключения, а возможность «делать себя все более и более заурядным». С тех пор, как появилось телевидение, стало модно относиться ко все более и более единообразным и повторяемым продуктам промышленности с тем же презрением, какое в 1890 году какой-нибудь аристократ вроде Генри Джеймса[303] мог испытывать к династии, хранящей верность старым ночным горшкам.[304] В самом деле, автоматизация близка к тому, чтобы производить со скоростью и дешевизной конвейерной линии уникальное и скроенное по индивидуальному заказу. Автоматизация способна изготовить на заказ автомобиль или пальто с меньшей суетой, нежели когда мы производили их стандартизированные аналоги. Но уникальный продукт не может циркулировать на нашем рынке и в нашей системе распределения. А потому мы вступаем в самый революционный период как в области маркетинга, так и в любой другой области.
Когда европейцы перед второй мировой войной приезжали в Америку, они обычно говорили: «Да у вас же тут коммунизм!» Подразумевалось, что мы не просто имеем стандартизированные товары, а каждый их имеет. Наши миллионеры не просто питались кукурузными хлопьями и хот-догами, но и реально мыслили себя членами среднего класса. А как иначе? Кем еще мог быть миллионер, как не членом «среднего класса», если ему недоставало творческого воображения художника, чтобы сделать свою жизнь уникальной? И разве есть что-то странное в том, что европейцы связывали единообразие среды и потребительских товаров с коммунизмом? Или в том, что Ллойд Уорнер[305] и его коллеги в своих исследованиях американских городов рассуждали об американской классовой системе в категориях дохода? Даже самый высокий доход не может освободить североамериканца от его «среднеклассовой» жизни. Даже самый низкий доход дает каждому значительный кусок того же среднеклассового существования. Мы действительно в высокой степени гомогенизировали наши школы, фабрики, города и развлечения, потому что обладаем письменной грамотностью и принимаем логику единообразия и гомогенности, присущую Гутенберговой технологии. Эта логика, которую никогда вплоть до самого последнего времени не принимали в Европе, в Америке внезапно была поставлена под вопрос, когда в американский сенсорный аппарат стала проникать тактильная сетка телевизионной мозаики. Когда популярный писатель может с уверенностью в себе хулить использование автомобиля для путешествия как нечто, делающее водителя «все более и более заурядным», под вопрос ставится сама ткань американской жизни.
Всего несколько лет назад Кадиллак объявил, что выпускаемый им брогам[306] «Эльдорадо» обладает регулировкой плавного хода, аутригерами, безопорной стилистикой, бамперами наподобие крыльев чайки в форме снаряда, забортными выхлопными отверстиями и разными прочими экзотическими особенностями, позаимствованными из неавтомобильного мира. Нас приглашали связать его с гавайскими удальцами, занимающимися серфингом, с чайками, скользящими над водой подобно шестнадцатидюймовым снарядам, и с будуаром мадам де Помпадур.[307] Мог ли журнал MAD придумать что-то лучшее? В эпоху телевидения любая из этих сказок венского леса, рождающихся в фантазиях исследователей мотивации, могла бы стать идеальным сюжетом для комического сценария в журнале MAD. Это сценарий фактически всегда был под рукой, но только когда появилось телевидение, аудитория приучилась получать от него наслаждение.
Ошибочно принять автомобиль за статусный символ только потому, что его нужно принимать за что угодно, но только не автомобиль, значит ошибочно истолковать все значение этого очень позднего продукта механической эпохи, который уступает ныне свою форму электрической технологии. Автомобиль — это величественный образец единообразного, стандартизированного механизма, стоящий в одном ряду с Гутенберговой технологией и письменностью, создавшими первое в мире бесклассовое общество. Автомобиль дал демократическому всаднику его лошадь и доспехи в одной упаковке с высокомерной дерзостью, превратив рыцаря в неуправляемую ракету. Фактически американский автомобиль производил уравнивание не опуская вниз, а поднимая вверх, на уровень аристократической идеи. Необычайное возрастание и распространение энергии было также уравнивающей силой письменности и различных других форм механизации. Готовность принять автомобиль как статусный символ, сводя его более экспансивную форму к использованию его чиновниками высокого ранга, — не признак автомобиля и механической эпохи, а примета электрических сил, подводящих в настоящее время к концу эту механическую эпоху единообразия и стандартизации и воссоздающих нормы статуса и роли.
Когда автомобиль был еще в диковинку, он оказывал типичное механическое давление, выражавшееся во взрыве и разделении функций. Он разрушил (или только казалось, что разрушил) семейную жизнь в 20-е годы нашего века. Он разделил, как никогда раньше, работу и место жительства. Он взорвал каждый город на дюжину пригородов, а затем разносил многие из форм городской жизни вдоль автомагистралей, пока открытая дорога не стала, наконец, казаться непрерывным городом. Он создал асфальтовые джунгли и привел к тому, что 40 000 квадратных миль зеленой и приятной земли были зацементированы. С появлением воздушных путешествий легковой и грузовой автомобиль, объединив усилия, погубили железные дороги. Сегодня маленькие дети умоляют покатать их на поезде, как если бы это был дилижанс, лошадь или катер: «Пока они еще не исчезли, папочка».
Автомобиль покончил с сельской местностью и заменил ее новым ландшафтом, в котором автомобиль стал чем-то вроде скаковой лошади. В то же время мотор разрушил город как несерьезную среду, в которой могли зарождаться семьи. Улицы и даже тротуары стали слишком интенсивной сценой для спонтанного взаимодействия подростков. Когда город наполнился мобильными чужаками, даже ближайшие соседи стали друг для друга посторонними. Такова история автомобиля, и продолжаться ей осталось уже недолго. С появлением телевидения волна вкуса и терпимости делала такое горячее средство, как автомобиль, все более обременительным. Взгляните на чудо пешеходного перехода, где во власти маленького ребенка остановить цементовоз. Это же изменение сделало большой город невыносимым для многих людей, которые могли чувствовать себя здесь, как и десять лет тому назад, нисколько не больше, чем наслаждаться чтением журнала «MAD».
Сохраняющаяся способность автомобильного средства коммуникации трансформировать формы поселения полностью проявляется в том, как новая городская кухня приняла тот же центральный и множественный социальный характер, что и старая сельская кухня. Сельская кухня занимала ключевое положение на пути, ведущем в фермерский дом, и стала также его социальным центром. Новый пригородный дом вновь делает кухню центром и, в идеале, локализуется так, чтобы удобно было выйти из него к автомобилю или войти в него из автомобиля. Автомобиль стал панцирем, защитной и агрессивной раковиной городского и пригородного человека. Еще до появления «Фольксвагена» наблюдатели, видевшие улицу сверху, часто отмечали необычайное сходство автомобилей с глянцевыми панцирными насекомыми. В эпоху тактильно-ориентированного глубоководного аквалангиста этот твердый глянцевый панцирь — одна из самых черных примет, внушающих отвращение к автомобилю. Именно ради моторизованного человека появились автостоянки у магазинов. Это чуждые островки, заставляющие пешехода чувствовать себя одиноким и лишившимся тела. Автомобиль раздражает его.
Одним словом, автомобиль придал совершенно новые формы всем пространствам, объединяющим и разделяющим людей, и будет продолжать менять эти формы еще лет десять, пока на сцену не выйдут его электронные наследники.
ГЛАВА 23. РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СТРЕМЯСЬ НЕ ОТСТАТЬ ОТ СОСЕДЕЙ
Непрекращающееся давление все больше побуждает создавать рекламные объявления по образу и подобию мотивов и желаний аудитории. Чем более возрастает участие аудитории, тем меньшее значение имеет сам продукт. Крайним примером служит серия объявлений, рекламирующих корсеты, в которых звучит протест: «Это не тот корсет, о котором вы думаете!» Требуется делать рекламные объявления так, чтобы они включали в себя опыт аудитории. Продукт и реакция публики становятся единой комплексной конфигурацией. Искусство рекламы дивным образом осуществило старое определение антропологии как «науки о человеке, включая женщину».[308] В рекламе присутствует устойчивая тенденция выставлять продукт как неотъемлемую часть крупных социальных задач и процессов. Располагая огромными бюджетами, коммерческие художники шли в сторону превращения рекламного объявления в икону. Иконы — это уже не специалистские фрагменты или аспекты, а единые сжатые образы комплексного типа. Они стягивают в крошечный фокус огромный регион опыта. Таким образом, в рекламных объявлениях проявляется тенденция к отходу от потребительской картинки продукта в сторону созидательного образа процесса. Корпоративный образ процесса втягивает потребителя также и в роль производителя.
Эта новая тенденция в сфере рекламных объявлений, властно влекущая их в направлении иконического образа, существенно ослабила положение журнальной индустрии в целом и иллюстрированных журналов в частности. Журнальные статьи долгое время эксплуатировали картиночную трактовку тем и новостей. Бок о бок с этими журнальными статьями, представляющими снимки и фрагментарные точки зрения, расположились новые массивные иконические рекламные объявления с их сжатыми образами, соединяющими в единое целое производителя и потребителя, продавца и общество. Рекламные объявления заставляют журнальные страницы выглядеть бледными, слабыми и безжизненными. Журнальные статьи принадлежат старому изобразительному миру, который предшествовал телевизионной мозаичной образности.
Именно мощный мозаичный и иконический прорыв, происшедший в нашем опыте с приходом телевидения, объясняет парадоксальный взлет популярности таких журналов, как «Тайм», «Ньюсуик» и т. д. Эти журналы представляют новости в сжатой мозаичной форме, которая является настоящим аналогом рекламного мира. Мозаичная новость — не повествование, не точка зрения, не объяснение и не комментарий. Это корпоративный глубинный образ действующего сообщества, зовущий к максимальному участию в социальном процессе.
Рекламные объявления, похоже, работают на основе очень передового принципа, согласно которому любая мелочь и любой образец в шумном и избыточном шквале повторения будут постепенно утверждать самих себя. Реклама выводит принцип всепоглощающего шума на стабильный уровень убеждения. Она в полной мере созвучна процедурам промывания мозгов. И этот глубинный принцип стремительной атаки на бессознательное, возможно, все объясняет.
Многие люди в наше время выражают тревогу по поводу рекламного предпринимательства. Грубо говоря, рекламная индустрия — это топорная попытка распространить принципы автоматизации на все стороны общества. В идеале, реклама нацелена на достижение запрограммированной гармонии между всеми человеческими импульсами, устремлениями и дерзаниями. Применяя ремесленные методы, она стремится к конечной электронной цели утверждения коллективного сознания. Когда все производство и потребление будут приведены в предустановленную гармонию со всеми желаниями и усилиями, тогда реклама ликвидирует саму себя собственным успехом.
С тех пор, как появилось телевидение, эксплуатация рекламодателем бессознательного дала сбой. Сознательные идеи по поводу бессознательного телевизионный опыт предпочитает гораздо больше, нежели прямолинейные формы навязчивой рекламы, свойственные прессе, журналу, кино и радио. Сенсорная терпимость аудитории изменилась, а вместе с тем изменились и методы воздействия, применяемые рекламодателями. В новом холодном мире телевидения старый горячий мир навязчиво сбывающего свой товар и откровенного в речах торгового агента обладает всем древним очарованием эстрады и одежды двадцатых годов. Морт Заль и Шелли Берман, мистифицируя рекламный мир, идут на поводу у тенденции, а не создают ее. Они открыли, что достаточно безостановочно рассказывать рекламные объявления и новости, и публика сразу приходит в неистовство. Уилл Роджерс[309] несколько лет назад открыл, что любая газета вызывает веселый смех, если прочесть ее вслух с театральной сцены. То же можно сказать о сегодняшней рекламе. Любое рекламное объявление становится забавным, если поместить его в новую обстановку. Это значит, что любое рекламное объявление комично, если подойти к нему с мерками сознания. Рекламные объявления не предназначены для осознанного потребления. Они задуманы как подпороговые пилюли для бессознательного, назначение которых состоит в том, чтобы осуществить гипнотическое воздействие, особенно на социологов. Это один из самых поучительных аспектов той колоссальной фабрики просвещения, именуемой рекламой, чей годовой бюджет в размере 20 миллиардов долларов близок к объему общенациональных бюджетных средств, расходуемых на школьное образование. За любой дорогостоящей рекламой стоят тяжелый труд, внимание, тестирование, ум, мастерство и навыки многих людей. На составление любого броского рекламного объявления в газете или журнале уходит больше мысли и заботы, чем на написание статей и редакторских передовиц. Всякое дорогостоящее рекламное объявление так же кропотливо возводится на проверенном фундаменте публичных стереотипов, или «наборов» закрепившихся установок, как небоскреб на скальном основании. Поскольку в деле изготовления рекламного объявления для той или иной установленной линии потребительских товаров сотрудничают искусные и проницательные команды талантливых людей, то очевидно, что каждое приемлемое объявление есть энергичная драматизация общего опыта. Никакая группа социологов не сможет тягаться с рекламной командой в сборе и обработке полезных социальных данных. Рекламные команды ежегодно расходуют миллиарды долларов на исследование и проверку реакций, и их продукты являют собой великолепные скопления материала об общих переживаниях и чувствах всего сообщества. Конечно, если оторвать рекламные объявления от центра этого общего опыта, они сразу потерпят крах, утратив всякую власть над нашими чувствами.
Разумеется, рекламные объявления используют самый базисный и проверенный человеческий опыт сообщества гротескным образом. Если взглянуть на них с сознательными мерками, они так же несообразны, как и исполнение «Серебряных нитей в золоте» для музыкального сопровождения стриптиза. Но водолазы психических глубин с Мэдисон Авеню старательно разрабатывают рекламные объявления для полуосознанного их восприятия. Само их существование — свидетельство сомнамбулического состояния утомленного метрополиса и вклад в поддержание этого состояния.
После второй мировой войны один разбирающийся в рекламе офицер американской армии, служивший в Италии, с опаской заметил, что итальянцы могут назвать вам имена членов кабинета министров, но не знают названий товаров, предпочитаемых итальянскими знаменитостями. Кроме того, говорил он, стены в итальянских городах увешаны не коммерческими плакатами, а политическими лозунгами. Он предсказывал, что у итальянцев будет мало надежды достичь процветания или спокойствия в своей стране, пока конкурирующие претензии кукурузных хлопьев и сигарет не начнут заботить их больше, чем способности общественных деятелей. Фактически он вплотную подошел к мысли, что демократическая свобода состоит преимущественно в том, чтобы не замечать политику и, взамен того, тревожиться об угрозе, идущей от взлохмаченной шевелюры, волосатых ног, вялой работы кишечника, отвисшей груди, западающих челюстей, избыточного веса и застоя крови.
Офицер, вероятно, был прав. Любое сообщество, желающее ускорить и максимизировать обмен товарами и услугами, просто обречено гомогенизировать свою социальную жизнь. Решение о гомогенизации легко приходит на ум высокограмотному письменному населению англоязычного мира. Между тем, устным культурам трудно согласиться с этой программой гомогенизации, ибо они слишком склонны переводить сообщение радио в племенную политику, а не в новые средства проталкивания «Кадиллаков». Это одна из причин того, почему ретрайбализированному наци было так легко ощутить свое превосходство над американским потребителем. Племенному человеку очень легко заметить пробелы в письменной ментальности. С другой стороны, у письменных обществ есть своя особая иллюзия: они думают, что в них высока степень осознания и индивидуализма. Столетия книгопечатного воспитания на принципах линейного единообразия и фрагментированной повторяемости привлекли к себе в электрическую эпоху возросшее критическое внимание художественного мира. Линейный процесс был изгнан из индустрии, причем не только из сферы менеджмента и производства, но и из сферы развлечений. Место Гутенберговых структурных допущений заняла новая мозаичная форма телевизионного образа. Критики романа Уильяма Берроуза «Голый завтрак»[310] намекали на умелое использование в книге «мозаичного» языка и метода письма. Телевизионный образ делает мир стандартных торговых марок и потребительских благ попросту смешным. Главная причина этого в том, что мозаичная сетка телевизионного образа подталкивает зрителя к настолько активному участию, что у него развивается ностальгия по обычаям и временам допотребительской эпохи. Льюис Мэмфорд встречает самое серьезное внимание, когда превозносит сплоченную форму средневековых городов, считая ее релевантной нашему времени и нашим потребностям.
Реклама раскрутилась на полную катушку лишь в конце прошлого века, когда была изобретена фототипия. Рекламные объявления и картинки стали взаимозаменяемыми и с тех пор такими и остались. Важнее, однако, то, что иллюстрации сделали возможным колоссальное возрастание тиражей газет и журналов, еще более повысившее количество и прибыльность рекламной продукции. Сегодня немыслимо, чтобы какое-то печатное издание, ежедневное или периодическое, могло удерживать больше нескольких тысяч читателей без иллюстраций. Ведь и художественное объявление, и иллюстрированная статья передают массу мгновенной информации об огромном количестве людей, без чего в нашем типе культуры невозможно идти в ногу со временем. А потому не кажется ли естественным и необходимым, что в этом графическом и фотографическом мире молодежь получает обучение восприятию по крайней мере в таком же объеме, в каком она получала его в мире книгопечатном? Фактически, ей нужно даже больше подготовки в графике, поскольку искусство преподнесения и аранжировки актеров в рекламе не только сложное, но и чертовски коварное.
Некоторые утверждали, что Графическая Революция переключила нашу культуру с частных идеалов на корпоративные образы. Это по сути означает, что фотография и телевидение соблазняют нас уйти от письменной и частной «точки зрения» в сложный и инклюзивный мир групповой иконы. Именно это и делает реклама. Вместо представления частного аргумента, или частной перспективы, она предлагает образ жизни для каждого или ни для кого. Она предлагает этот ориентир, апеллируя к вещам иррелевантным и тривиальным. Например, одна роскошная реклама автомобиля изображает детскую погремушку на фоне богатого ковра и говорит, что нежеланный грохот автомобиля был убран так же легко, как легко пользователь может убрать подальше детскую погремушку. Такого рода реклама на самом деле не имеет никакого отношения к погремушкам. Это всего лишь построенная на игре слов шутка,[311] призванная отключить критические способности, пока образ автомобиля оказывает воздействие на загипнотизированного зрителя. Те, кто провел всю жизнь в борьбе со «лживой и вводящей в заблуждение рекламой», являются для рекламодателей такой же находкой, какой являются для пивоваров трезвенники, а для книг и фильмов моральные цензоры. Протестующие — лучшие зрители и ускорители. С пришествием иллюстраций работа рекламной копии случайна и латентна, как «смысл» стихотворения для стихотворения и как слова песни для песни. Развитый письменный народ не может справиться с невербальным искусством иллюстрированных изданий, а потому люди нетерпеливо скачут вверх-вниз, пытаясь выразить бессмысленное неодобрение, ввергающее их в бесполезную суету и дающее новую силу и власть рекламным объявлениям. Бессознательные глубинные сообщения рекламных объявлений никогда не становятся для письменного человека объектом нападения, ибо он неспособен замечать и обсуждать невербальные формы упорядочения и смысла. Искусством спорить с иллюстрациями он не обладает. Когда на ранних этапах развития телевещания была опробована скрытая реклама, образованные люди шумно паниковали, пока от нее наконец не отказались. Тот факт, что само книгопечатание оказывает примерно такое же подсознательное воздействие, как и иллюстрации, — тайна, неразрешимая для книжно-ориентированного сообщества.
Когда появилось кино, весь паттерн американской жизни выплеснулся на экран как безостановочное рекламное объявление. Во что бы ни наряжались, чем бы ни пользовались и что бы ни ели какие-нибудь актер или актриса, все это было такой рекламой, о какой даже в мечтах не могли помыслить. Американские ванная, кухня и автомобиль, равно как и все прочее, пропагандировались на манер «1001 ночи». В результате, все рекламные объявления в журналах и прессе должны были теперь выглядеть как сцены из кинофильма. Такими они остались до сих пор. Разве что резкость очертаний с приходом телевидения пришлось смягчить.
Когда появилось радио, рекламные объявления открыто перешли к заклинаниям коммерческого пения. Шум и тошнота как техники достижения незабываемости обрели универсальный характер.
Производство рекламы и имиджмейкерство стали, и до сих пор остаются, единственной по-настоящему динамичной и развивающейся частью экономики. И кино, и радио являются горячими средствами коммуникации, пришествие которых в высокой степени разогрело каждого, подарив нам Бурные Двадцатые. Следствием стало подведение массивной платформы и полномочий под продвижение товаров как образ жизни, конец которому пришел лишь со «Смертью коммивояжера»[312] и появлением телевидения. Эти два события совпали не случайно. Телевидение внедрило образец жизни, основанный на «глубинном опыте» и принципе «сделай сам», который расшатал образ индивидуалистического прямолинейного продавца и покорного потребителя точно так же, как сделал размытыми ясные в прошлом фигуры кинозвезд. Я не хочу этим сказать, будто Артур Миллер[313] пытался объяснить Америке телевидение накануне его пришествия, хотя он вполне мог дать своей пьесе и такое название: «Рождение человека PR[314]». Те, кто видел «Мир комедий» Гарольда Ллойда,[315] вспомнят свое удивление по поводу того, сколь многое из 20-х годов они забыли. Кроме того, они с удивлением обнаружили, какими на самом деле наивными и простыми были Двадцатые. Эта эпоха роковых женщин, шейхов и пещерных людей была шумной детской комнатой по сравнению с нашим миром, в котором дети читают ради смеха журнал MAD. Это был мир, еще невинно вовлеченный в расширение и взрывное рассеивание, разделение, передразнивание и раздирание. Сегодня, с появлением телевидения, мы переживаем противоположный процесс интеграции и взаимного связывания, который является каким угодно, но только не невинным. Простодушная вера торгового агента в неотразимую силу проталкиваемой им линии (как разговора, так и товаров) теперь уступает место сложному соединению корпоративной позиции, процесса и организации.
Рекламные объявления оказались самоликвидирующейся формой развлечения сообщества. Они пришли сразу после викторианского евангелия труда и сулили Страну небесной радости,[316] где можно «утюжить рубашки, не ненавидя при этом своего мужа». Теперь они покидают индивидуальный потребительский продукт, дабы присоединиться к тому всезаключающему и непрекращающемуся процессу, коим является Имидж любого крупного корпоративного предприятия. «Контейнер Корпорэйшн оф Америка» изображает в своих рекламных объявлениях не бумажные пакеты и картонные стаканчики, а функцию вместилища, причем пользуясь средствами большого искусства. В один прекрасный день историки и археологи откроют, что рекламные объявления нашего времени — самые богатые и достоверные повседневные отражения из всех, какие только до сих пор производило общество в отношении всего круга своей жизнедеятельности. Египетские иероглифы намного отстают в этом плане. С приходом телевидения наиболее сообразительные рекламодатели выпустили на волю мех и пух, пятна и гул. Словом, ушли в подводное плавание. Ибо такова уж природа телезрителя. Он аквалангист, и ему больше не нравится слепящий дневной свет на твердых, глянцевых поверхностях, хотя он и вынужден пока мириться с мучительным для него шумным звучанием радио.
ГЛАВА 24. ИГРЫ РАСШИРЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
Алкоголь и азартные игры в разных культурах имеют очень разные значения. В нашем крайне индивидуалистическом и фрагментированном западном мире «выпивка» представляет собой социальную связь и средство вовлечения в праздник. С другой стороны, в тесно сплоченном племенном обществе «попойка» разрушительна для всего социального паттерна и даже используется как средство приобретения мистического опыта.
Азартная игра в племенных обществах, напротив, приветствуется как средство проявления предприимчивости и индивидуальной инициативы. При перенесении в индивидуалистическое общество те же азартные игры и тотализаторы, по-видимому, угрожают всему социальному порядку. Азартная игра доводит индивидуальную инициативу до той точки, когда она становится передразниванием индивидуалистической социальной структуры. Племенная добродетель — капиталистический порок.
Когда в 1918 и 1919 годах наши парни возвращались домой из грязи и кровавых бань Западного фронта, их ждал антиалкогольный закон Волстеда.[317] Это было социальное и политическое признание того, что война побратала и трайбализировала нас настолько, что алкоголь стал угрозой индивидуалистическому обществу. Когда, вдобавок к тому, мы будем готовы легализовать азартные игры, мы, как и англичане, объявим всему миру о конце индивидуалистического общества и возвращении к племенным обычаям.
Мы считаем юмор признаком душевного здоровья и имеем все основания так думать: в шутках и игре мы восстанавливаем целостную личность, которая в обыденном мире и профессиональной жизни может использовать лишь малый сектор своего бытия. Филип Дин в книге «Плененный в Корее»[318] рассказывает, как проявились игры в самом средоточии последовательной промывки мозгов:
«Настал момент, когда мне пришлось прекратить читать эти книги и заниматься русским языком, поскольку с изучением языка абсурд и постоянное внушение начали давать о себе знать, стали находить во мне отклик, и я почувствовал, что мои мысли стали путаться, а критические способности притупились… и тут они совершили ошибку. Они дали нам почитать «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона на английском… Я снова мог читать Маркса и откровенно, без страха задавать себе вопросы. От Роберта Льюиса Стивенсона на душе у нас полегчало, и мы стали брать уроки танцев».
Игры — это народное искусство, коллективные, социальные реакции на основной импульс или воздействие той или иной культуры. Как технологии суть расширения живого организма, так и игры, наряду с учреждениями, суть расширения социального человека и политического тела. Игры и технологии — контрраздражители, или способы приспособления к удару специализированных воздействий, имеющему место в любой социальной группе. Как расширения массовой реакции на повседневный стресс, игры становятся точными моделями культуры. Они инкорпорируют действие и реакцию целых сообществ в единый динамический образ.
В сообщении агентства Рейтер из Токио от 13 декабря 1962 года говорилось:
БИЗНЕС — ЭТО ПОЛЕ БИТВЫ
В последнее время у японских бизнесменов вошло в моду изучать классическую военную стратегию и тактику с целью применения их в деловых операциях… Сообщается, что одна из крупнейших рекламных компаний в Японии даже обязала всех своих служащих читать эти книжки.
Долгие столетия плотной племенной организации ныне очень помогают японцам в торговле и коммерции электрической эпохи. Всего несколько десятилетий назад они впервые пережили грамотность и индустриальную фрагментацию, достаточные для высвобождения агрессивных индивидуальных энергий. Сплоченная командная работа и племенная лояльность, требуемые в наше время электрической взаимосвязью, вновь ставят японцев в позитивное отношение к своим древним традициям. Наши племенные обычаи ушли от нас гораздо дальше, чтобы можно было дать им социальное применение. Мы вступили в процесс ретрайбализации в таких же мучительных исканиях, в каких дописьменное общество начинает читать и писать и визуально организовывать свою жизнь в трехмерном пространстве.
Год назад поиски Майкла Рокфеллера вовлекли в сферу пристального внимания журнала «Лайф» жизнь одного из племен Новой Гвинеи. Редакторы так объясняли военные игрища этих людей:
«Традиционными врагами Виллигиман-Валлалуа являются Виттайа — народ, в точности похожий на них языком, одеждой и обычаями… Каждую неделю или раз в две недели Виллигиман-Валлалуа и их враги назначают официальное сражение на одной из традиционных боевых площадок. В сравнении с катастрофическими конфликтами «цивилизованных» наций эти драки кажутся больше похожими на опасный боевой спорт, чем на войну в подлинном смысле слова. Каждая битва длится всего один день, всегда останавливается перед наступлением ночи (ввиду опасности духов) или если начинается дождь (никто не хочет замочить волосы и украшения). Мужчины пользуются оружием очень точно — все они играли в военные игры еще с тех пор, как были малыми мальчишками, — но столь же искусно уклоняются от ударов, а потому редко получают травмы.
Подлинно смертоносной частью этой примитивной войны является не официальная битва, а внезапный набег или тайная засада, когда безжалостно убивают не только мужчин, но также женщин и детей…
Это постоянное кровопролитие не обусловлено ни одной из причин, по которым обычно развязывают войну. Захватов и утраты территории не происходит; вещи или пленников не похищают… Они сражаются, потому что им это очень нравится, потому что для них это жизненно необходимая функция настоящего мужчины и потому что они считают, что должны доставить удовольствие духам убитых товарищей».
Короче говоря, эти люди обнаруживают в таких играх своеобразную модель мира, в смертельном гавоте которой они благодаря ритуалу военных игрищ могут принять участие.
Игры — это драматические модели нашей психической жизни, дающие избавление от тех или иных напряжений. Это коллективные и массовые художественные формы, опутанные строгими соглашениями. Древние и бесписьменные общества естественным образом относились к играм как к живым драматическим моделям мира, или внешней космической драмы. Олимпийские игры были прямым разыгрыванием агона, или борьбы бога Солнца. Атлеты бежали по круговой беговой дорожке, украшенной зодиакальными знаками в подражание ежедневному круговому пути солнечной колесницы. В таких играх, бывших драматическими постановками космической битвы, роль зрителя была явно религиозной. Участие в этих ритуалах удерживало космос на правильном пути, а кроме того служило приободряющим стимулом для племени. Племя или город были бледной копией этого космоса, и в равной степени таковой были игры, танцы и иконы. Искусство стало своего рода цивилизованным заместителем магических игр и ритуалов; история этой замены есть история детрайбализации, пришедшей вместе с письменностью. Искусство, как и игры, стало миметическим эхом старой магии тотального вовлечения и избавлением от нее. По мере того как аудитория магических игр становилась более индивидуалистичной, роль искусства и ритуала переставала быть космической и становилась все более человеческой и психологической, как, например, в греческой драме. Даже ритуал стал более вербальным и менее миметическим и танцеподобным. И наконец, вербальный нарратив со времен Гомера и Овидия превратился в романтическую литературную замену корпоративной литургии и группового участия. В прошедшее столетие немало усилий, предпринимаемых учеными во многих областях, было направлено на подробнейшую реконструкции условий, в которых существовали примитивное искусство и ритуал, так как было ощущение, что этот путь предлагает ключ к пониманию разума примитивного человека. Ключ к такому пониманию содержит в себе, однако, и наша новая электрическая технология, которая с исключительной быстротой и основательностью воссоздает в нас самих условия и установки примитивного племенного человека.
Широкий отклик, который находят новейшие игры — а именно такие популярные виды спорта, как бейсбол, футбол и хоккей на льду, — становится понятен, если рассматривать их как внешние модели внутренней психической жизни. Как модели, они являются скорее коллективными, нежели частными драматизациями внутренней жизни. Как и наши родные языки, все игры суть средства межличностной коммуникации и не могли бы ни существовать, ни иметь какой-либо смысл иначе, кроме как в качестве расширений нашей непосредственной внутренней жизни. Когда мы берем в руку теннисную ракетку или садимся сыграть в карты, мы соглашаемся стать частью динамического механизма в искусственно придуманной ситуации. Не в этом ли кроется причина того, что наибольшее удовольствие мы получаем от игр, пародирующих ситуации нашей трудовой и общественной жизни? Не дают ли наши любимые игры избавление от монополистической тирании социальной машины? Словом, не подходит ли идеально ко всем видам игр, танцев и развлечений аристотелевская идея драмы как миметического разыгрывания и избавления от осаждающих нас со всех сторон давлений? Чтобы встретить радушный прием, развлечения и игры должны разносить эхо обыденной жизни. С другой стороны, без игр человек и общество погружаются в трансовый автоматизм зомби. Искусство и игры позволяют нам держаться в стороне от материальных давлений рутины и конвенции, наблюдения и вопрошания. Игры как массовые художественные формы предлагают всем такое подручное средство участия во всей полноте жизни общества, какое не может предложить человеку никакая единичная роль или работа. Отсюда противоречивость «профессионального» спорта. Когда распахнутая дверь игр, приглашающая в свободную жизнь, приводит всего лишь на специалистское рабочее место, каждый чувствует в этом какое-то несоответствие.
Игры, в которые играют люди, многое о них говорят. Игры — своего рода искусственный рай вроде Диснейленда, некое утопическое видение, с помощью которого мы интерпретируем и достраиваем смысл нашей повседневной жизни. В играх мы изобретаем средства неспециализированного участия в более широкой драме нашего времени. Однако для цивилизованного человека идея участия остается строго ограниченной. Глубинное участие, стирающее границы индивидуального сознания, какое имеет место в индийском культе даршана, или мистического переживания физического присутствия огромного множества людей, — такое участие не для него. Игра — это машина, которая может быть приведена в действие лишь при условии, что игроки согласны на какое-то время стать марионетками.[319] Для индивидуалистического западного человека значительная часть «приспособления» к обществу имеет характер личной капитуляции перед коллективными требованиями. Наши игры помогают нам как научиться такого рода приспособлению, так и освободиться от него. Рациональным извинением механической жесткости правил и процедур игры служит неопределенность результатов наших состязаний.
Когда социальные правила резко меняются, принятые прежде манеры общения и ритуалы могут внезапно принять четкие очертания и произвольные формы организованной игры. В книге Стивена Поттера[320] «Искусство игры»[321] рассказывается о социальной революции в Англии. Англичане движутся в сторону социального равенства и той напряженной межличностной конкуренции, которая приходит вместе с равенством. Старые ритуалы принятого долгое время классового поведения начинают казаться теперь комичными и иррациональными, всего лишь хитростями игры. Книга «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги,[322] впервые вышедшая в свет как торжественное наставление по социальной мудрости, людям утонченным показалась совершенно нелепой. Для людей, начавших двигаться в среде фрейдовского сознания, заряженного психопатологией обыденной жизни, то, что Карнеги преподносил как серьезные открытия, выглядело уже похожим на наивный механический ритуал. Теперь уже и фрейдовские образцы восприятия стали изношенным кодом, который начинает давать скорее катартическое развлечение игры, нежели руководство для жизни.
Социальные практики одного поколения обычно кодифицируются в «игру» следующего. В конце концов, игра передается как шутка, как скелет, очищенный от своей плоти. Особенно это касается периодов внезапной перемены установок, наступающих после внедрения какой-нибудь радикально новой технологии. В частности, инклюзивная сетка телевизионного образа означает, помимо прочего, кончину бейсбола. Бейсбол — это игра, строящаяся на принципе «одна-вещь-в-одно-время», фиксированных позициях и зримо делегированных специалистских задачах, а все это относится к уходящей ныне в прошлое механической эпохе с ее фрагментированными задачами и господством комплектуемого штата и линии в организации управления. Телевидение как подлинный образ новых корпоративных и участных обычаев электрической жизни воспитывает навыки целостного осознания и социальной взаимозависимости, которые отчуждают нас от особого стиля бейсбола с его специалистским и позиционным акцентом. Когда меняется культура, меняются и игры. Бейсбол, став элегантным абстрактным образом индустриального общества, живущего в посекундно расписанном времени, утратил в новом телевизионном десятилетии свою психическую и социальную релевантность для нашего нового образа жизни. Игра в бейсбол была вытеснена из социального центра на периферию американской жизни.
В отличие от бейсбола, американский футбол непозиционен: любой и каждый игрок может включаться по ходу игры в любую роль. Поэтому эта игра в настоящее время вытесняет бейсбол в массовых симпатиях. Она прекрасно согласуется с новыми потребностями в децентрализованной командной игре, присущими электрической эпохе. Экспромтом можно бы было предположить, что тесное племенное единство американского футбола делает его той игрой, которую должны культивировать русские. Их преданность хоккею на льду и футболу — двум крайне индивидуалистическим формам игры, — казалось бы, плохо согласуется с психическими потребностями коллективистского общества. Но Россия до сих пор остается в основном устным, племенным миром, который переживает детрайбализацию и еще только открывает для себя индивидуализм как новшество. Футбол и хоккей на льду обладают для нее, следовательно, экзотическим и утопическим качеством, обещающим, что она ни в чем не уступит Западу. Обычно мы называем это качество «снобистской ценностью»; сами мы можем черпать аналогичную «ценность» в обладании скаковыми лошадьми, пони для игры в поло и двенадцатиметровыми яхтами.
Таким образом, игры могут доставлять самые разные удовольствия. Здесь мы смотрим на их роль как средств коммуникации в обществе в целом. Например, покер — это игра, на которую часто ссылались как на выражение всех сложных установок и негласных ценностей состязательного общества. Он требует проницательности, агрессивности, хитрости и правдивых оценок характера.
Говорят, что женщинам не дано хорошо играть в покер, так как он стимулирует их любознательность, а любознательность в покере фатальна. Покер крайне индивидуалистичен и не оставляет места для любезности или учтивости; в нем есть место лишь для величайшего блага максимального числа — числа, и ничего больше. В этой перспективе легко понять, почему войну называли спортом королей. Ведь королевства для монархов то же самое, что наследство и частный доход для частного гражданина. Короли могут играть в покер царствами, а генералы их армий — войсками. Они могут блефовать и обманывать противника насчет своих ресурсов и намерений. Что не дает войне возможности быть настоящей игрой, так это, вероятно, то же, что не позволяет быть ею рынку ценных бумаг и бизнесу, а именно: правила известны не до конца и приняты не всеми игроками. Кроме того, в войне и бизнесе в полной мере участвует аудитория; точно так же в туземном обществе нет в подлинном смысле слова искусства, поскольку в изготовление искусства вовлечен каждый. Искусство и игры нуждаются в правилах, договоренностях и зрителях. Чтобы сохранялось игровое качество, они должны выделяться из целостной ситуации как ее модели. Ибо «игра», будь то в жизни или в колесе, предполагает взаимную игру, или взаимодействие. Должен присутствовать взаимный обмен, или диалог между двумя или более лицами и группами. Это качество может, однако, в любых ситуациях уменьшаться или даже утрачиваться. Великие команды часто проводят тренировочные игры вообще без всякой аудитории. Это не спорт, в нашем смысле слова, так как значительную часть качества взаимной игры или, так сказать, само средство взаимодействия составляют чувства аудитории. Канадский хоккеист Рокет Ричард сетовал, бывало, на плохую акустику некоторых спортивных арен. Он узнавал, что шайба уходит от него, по реву толпы. Спорт как массовая форма искусства — не просто самовыражение. Это глубоко необходимое средство взаимодействия в рамках культуры в целом.
Искусство — это не только игровая активность, но и расширение человеческого сознания в хитроумные конвенциональные паттерны. Спорт как массовое искусство есть глубинная реакция на типичное воздействие общества. Высокое искусство, в свою очередь, не реакция, а фундаментальная переоценка комплексного культурного состояния. «Балкон» Жана Жене находит отклик в некоторых людях как потрясающе логичная оценка сумасшествия человечества, погрузившегося в оргию саморазрушения. В качестве емкого образа человеческой жизни Жене предлагает бордель, окутанный катастрофой войны и революции. Было бы легко доказать, что Жене истеричен и что футбол предлагает более серьезную критику жизни, нежели он. Рассматриваемые как живые модели сложных социальных ситуаций, игры могут быть лишены морального достоинства, и это нужно признать. Быть может, по этой самой причине в высокоспециализированной индустриальной культуре существует настоятельная потребность в играх, ведь они являются единственной формой искусства, доступной многим. В специалистском мире делегированных задач и фрагментированных работ реальное взаимодействие сводится к нулю. Некоторым отсталым, или племенным обществам, внезапно переведенным в промышленные и специалистские формы механизации, нелегко изобрести противоядие спортивных состязаний и игр для создания противовеса этому. Они застревают в зловещей серьезности. Людей, лишенных искусства, и людей, лишенных массовых игровых искусств, влечет к автоматизму.
Комментарий по поводу разных видов игр, в которые играют в британском парламенте и французской палате депутатов, соберет в единую картину политический опыт многих читателей. Англичанам посчастливилось создать двух-командную модель расположения скамей в палате общин, тогда как французы, пытавшиеся добиться централизма, рассадив депутатов полукругом лицом к председателю, получили вместо этого множество команд, играющих во множество самых разных игр. Стремясь к единству, французы получили анархию. Англичане же, устанавливая разнообразие, если чего и достигли, то только чрезмерного единства. Член британской палаты представителей, играя на своей «стороне», не испытывает соблазна погрузиться в частные умственные усилия и потребности следить за дебатами до тех пор, пока мяч не перейдет к нему. Как говорил один критик, если бы скамьи не были расположены лицом друг к другу, англичане не могли бы отличить истину от лжи, а мудрость от глупости до тех пор, пока не выслушали бы всех. А поскольку большинство дебатов бессмысленны, слушать всех было бы глупостью.
В любой игре важна прежде всего форма. Теория игр,[323] как и теория информации,[324] игнорировала этот аспект игры и движения информации. Обе теории занимались информационным содержанием систем и наблюдали факторы «шума» и «обмана», приводящие к искажению данных. Это все равно что подходить к живописному полотну или музыкальному произведению с точки зрения его содержания. Иначе говоря, упущение центрального структурного ядра опыта здесь гарантировано. Ибо именно паттерн игры придает ей значимость для нашей внутренней жизни, а вовсе не состав игроков или исход игры; и точно так же обстоит дело с движением информации. Отбор используемых нами органов чувств составляет, скажем, всю разницу между фотографией и телеграфом. В искусствах первостепенное значение имеет конкретная смесь наших чувств, задействованная в применяемом средстве. Явное программное содержание — не более чем убаюкивающее отвлечение, необходимое для того, чтобы позволить структурной форме проскочить через барьеры сознательного внимания.
Любая игра, как и любое средство информации, есть расширение индивида или группы. И ее воздействие на группу или индивида состоит в переконфигурировании тех частей группы или индивида, которые таким образом еще не расширены. Произведение искусства не существует и не функционирует вне своего воздействия на человеческих наблюдателей. Подобно играм, народным промыслам и средствам коммуникации, искусство обладает способностью навязывать свои допущения, помещая человеческое сообщество в новые связи и позы.
Как и игры, искусство — переводчик опыта. То, что мы уже когда-то чувствовали или видели в одной ситуации, вдруг обнаруживается нами в новом типе материала. Так же и игры переносят знакомый опыт в новые формы, выставляя в неожиданном свете скучную и неясную сторону вещей. Телефонные компании записывают на магнитофонную ленту голоса грубиянов, осыпающих беззащитных телефонисток всякими мятежными выражениями. При воспроизведении записи они становятся приветливыми шутками и игрой и помогают операторам в поддержании душевного равновесия.
Мир науки стал ясно сознавать присутствие игрового элемента в своих нескончаемых экспериментах с моделями ситуаций, иначе ненаблюдаемых. Центры подготовки менеджеров уже давно пользуются играми как средством развития нового восприятия бизнеса. Джон Кеннет Гэлб-рейт утверждает, что бизнес теперь должен учиться у искусства, ибо художник создает модели проблем и ситуаций, еще не возникавших в более широкой матрице общества, и дает тем самым восприимчивому к искусству бизнесмену десятилетнюю фору в планировании своих действий.
В электрическую эпоху уничтожение пропасти между искусством и бизнесом или между кампусом и сообществом является частью всеохватной имплозии, сближающей ранги специалистов на всех уровнях. Флобер, французский романист девятнадцатого века, считал, что франко-прусской войны можно было бы избежать, если бы люди отнеслись внимательно к его «Сентиментальному воспитанию». С тех пор художников часто посещало похожее чувство. Они знали, что заняты изготовлением живых моделей ситуаций, которые в обществе в целом пока еще не вызрели. В своей артистической игре они открывали, что на самом деле происходит, и именно так они оказываются «впереди своего времени». Нехудожники же всегда смотрят на настоящее через очки предшествующей эпохи. Генеральные штабы всегда великолепно подготовлены к победе в прошедшей войне.
Итак, игры — это вымышленные контролируемые ситуации, или расширения группового сознания, дающие передышку от обычных паттернов. Это своего рода разговор всего общества с самим собой. Причем разговор с самим собой — признанная форма игровой активности, незаменимая для развития уверенности в собственных силах. Англичане и американцы испытывают в последнее время необычайную уверенность в себе, родившуюся из игрового духа развлечений и игр. Когда они чувствуют отсутствие такого духа у своих соперников, это вызывает замешательство. Принимать простые слова слишком серьезно значит иметь достойный сочувствия дефект сознания. С первых дней существования христианства в некоторых кругах появилась привычка духовного шутовства, или, как говорит святой апостол Павел, «юродствования во Христе».[325] Павел связывал это чувство духовной уверенности и христианской игры с играми и спортивными состязаниями своего времени. Игра приходит с осознанием огромного несоответствия между мнимой ситуацией и реальными шансами. Похожее чувство витает над ситуацией игры как таковой. Поскольку игра, как и любая художественная форма, есть лишь осязаемая модель другой ситуации, менее доступной для восприятия, в игре или играх всегда присутствует дразнящее чувство дурашливости и веселья, которое делает слишком серьезного человека или слишком серьезное общество смешными. Когда англичанина викторианской эпохи начало клонить к полюсу серьезности, Оскар Уайльд, Бернард Шоу и Г. К. Честертон быстро выступили в качестве противовеса. Ученые часто отмечали, что в игре, посвященной Божеству, Платон видел высшее достижение религиозного порыва человека.
В известном трактате Бергсона о смехе[326] высказывается мысль, что ключом к смешному является механизм, перенимающий у жизни ее ценности. Видеть человека, поскользнувшегося на банановой кожуре, значит видеть рационально структурированную систему, внезапно переведенную во вращательную машину. Поскольку индустриализм создал в обществе того времени аналогичную ситуацию, идея Бергсона была с готовностью принята. Он, видимо, не заметил, что механически усилил механическую метафору в механическую эпоху для объяснения совершенно немеханической вещи — смеха, или, как называл его Уиндхем Льюис, «чиханья ума».
Несколько лет назад духу игры был нанесен сокрушительный удар фальсифицированными телевикторинами. Прежде всего, большой приз показался насмешкой над деньгами. Деньги как хранилище власти и навыка и ускоритель обмена все еще сохраняют способность индуцировать во многих людях транс великой серьезности. Кинофильмы, в некотором смысле, тоже являются сфальсифицированными шоу. Любые пьеса, поэма или роман также подстроены для произведения эффекта. Так же было и с телевикторинами. Но в случае телевидения эффектом становится глубокое участие аудитории. Кино и драма не допускают такого увлеченного участия, какое гарантирует мозаичная сетка телевизионного образа. Участие аудитории в викторинах было настолько высоким, что режиссеров этих шоу обвинили в мошенничестве. Более того, производителям рекламы для прессы и радио, огорченным успехом нового телевизионного средства коммуникации, представилась возможность испытать удовольствие, потерзав плоть своим конкурентам. Конечно, устроители этих шоу блаженно не сознавали природу своего средства коммуникации, а потому придали ему кинотрактовку интенсивного реализма вместо уместных для телевидения более мягких мифических очертаний. Карлу ван Дорену слегка досталось как невинному свидетелю, и все расследование не выявило даже малейшего понимания природы телевидения и производимого им воздействия. К сожалению, все обернулось только счастливым днем для серьезных морализаторов. Моральная точка зрения слишком часто служит заменой понимания технических вопросов. Теперь должно быть ясно, что игры — расширения наших Я, но только не частных, а социальных, и что они суть средства коммуникации. И если, в конце концов, мы спросим: «Являются ли игры средствами массовой коммуникации?», — то должны будем ответить так: «Да, являются». Игры — это ситуации, придуманные для того, чтобы обеспечить одновременное участие множества людей в каком-нибудь значимом паттерне их корпоративной жизни.
ГЛАВА 25. ТЕЛЕГРАФ СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРМОН
Беспроволочный телеграф получил в 1910 году эффектную рекламу, когда помог арестовать в море д-ра Хоули X. Криппена, американского врача, практиковавшего в Лондоне, который убил свою жену, закопал ее в подвале собственного дома и бежал из страны вместе со своей секретаршей на пароходе «Монтроуз». Секретарша была переодета мальчиком, и эта парочка выдавала себя за «мистера Робинсона с сыном». У капитана «Монтроуза» Джорджа Кендалла, читавшего о деле Криппена в английских газетах, закрались подозрения насчет Робинсонов.
«Монтроуз» был в то время одним их немногих кораблей, оснащенных беспроволочным аппаратом Маркони.[327] Обязав радиста соблюдать тайну, капитан Кендалл отправил сообщение в Скотланд-Ярд, и оттуда выслали на быстроходном лайнере инспектора Дьюса, дабы он догнал «Монтроуз» в Атлантическом океане. Инспектор Дьюс, переодетый лоцманом, попал на борт «Монтроуза» раньше, чем тот достиг порта, и арестовал Криппена. Спустя восемнадцать месяцев после ареста Криппена в британском парламенте был принят акт, обязывающий оснастить все пассажирские суда беспроволочными радиопередатчиками.
Дело Криппена показывает, что происходит с самыми продуманными планами мышей и людей в любой организации, когда появляется мгновенная скорость движения информации. Происходит катастрофическое крушение делегированной власти и размывание пирамидальных управленческих структур, известных нам по организационным схемам. Обособление функций, разделение стадий, пространств и задач характерны для письменного и визуального общества и западного мира. Под действием мгновенных органических взаимосвязей электричества эти разделения обычно исчезают.
Бывший германский министр вооружения Альберт Шпеер, выступая на Нюрнбергском процессе, привел несколько горьких замечаний по поводу воздействия электрических средств коммуникации на немецкую жизнь: «Телефон, телетайп и радио сделали возможной прямую отдачу приказов с высших уровней на самые низшие, где они, в силу стоящей за ними абсолютной власти, некритично исполнялись…»
Электрические средства коммуникации ведут к созданию своего рода органической взаимозависимости между всеми институтами общества, подчеркивая точку зрения Тейяра де Шардена,[328] считавшего, что открытие электромагнетизма нужно рассматривать как «удивительное биологическое событие». Если политические и коммерческие институты приобретают благодаря электрическим коммуникациям биологический характер, то для таких биологов, как Ганс Селье, стало в наше время обычным делом мыслить физический организм как коммуникационную сеть: «Гормон — это специфический химический мессенджер, вырабатываемый эндокринной железой и посылаемый в кровь для регулирования и координации функций отдаленных органов».
Эта особая черта электрической формы, состоящая в том, что она кладет конец механической эпохе индивидуальных ступеней и специалистских функций, имеет прямое объяснение. Если вся прежняя технология (за исключением, разве что, речи) расширяла какую-то часть наших тел, то электричество, можно сказать, вынесло наружу саму центральную нервную систему, включая мозг. Наша центральная нервная система — это единое поле, не разделенное на сегменты. Как пишет Дж. 3. Янг в книге «Сомнение и достоверность в науке: размышления биолога о мозге»: «Тайна могущества мозга, может быть, во многом и заключается в тех необычайных возможностях, которые он предоставляет для взаимодействия между эффектами стимулирования каждой из частей воспринимающих областей. Именно это предоставление мест взаимодействия, или мест смешения, позволяет нам реагировать на мир как це лое в гораздо большей степени, чем это может делать большинство других животных».[329]
Непонимание органического характера электрической технологии открыто проявляется в нашей неослабевающей озабоченности опасностями механизации мира. Скорее, нам больше угрожает полное прекращение вложения наших сил в доэлектрическую технологию письменного и механического типа вследствие неразборчивого орудования электрической энергией. Что делает механизм? Он отделяет и расширяет вовне отдельные части нашего тела, например, ладонь, руку, ступни в ручку, молоток, колесо. Механизация той или иной задачи осуществляется за счет сегментирования каждой части действия на ряд единообразных, повторяемых и заменяемых частей. Прямо противоположное характерно для кибернетизации (или автоматизации), которая определяется не только как способ действия, но и как способ мышления. Вместо того, чтобы заниматься обособленными машинами, кибернетизация подходит к производственной проблеме как к интегрированной системе обработки информации.
Именно такое обеспечение мест взаимодействия в электрических средствах коммуникации заставляет нас сегодня реагировать на мир как единое целое. Но прежде всего интегральная целостность частного и общественного сознания создается скоростью электрического вовлечения. Сегодня мы живем в Эпоху Информации и Коммуникации, поскольку электрические средства коммуникации мгновенно и непрерывно создают тотальное поле взаимодействующих событий, в котором участвуют все люди. Теперь мир публичного взаимодействия обладает такой же инклюзивной всеохватностью интегральной взаимной игры, которая до сих пор характеризовала только наши частные нервные системы. А все потому, что электричество по своему характеру органично и через свое технологическое применение в телеграфе, телефоне, радио и других формах подтверждает органическую социальную связь. Одновременность электрической коммуникации, характерная также для нашей нервной системы, делает каждого из нас наличным и доступным для любого другого человека в мире. Наше повсеместное одновременное соприсутствие в электрическую эпоху является в огромной степени фактом пассивного, а не активного опыта. Активно мы с большей вероятностью достигаем этого осознания, когда читаем газету или смотрим телевизионное шоу.
Один из способов постигнуть суть перехода от механической эпохи к электрической — обратить внимание на разницу между макетами литературной и телеграфной прессы, скажем, между лондонской «Тайме» и «Дети Экспресс» или между «Нъю Йорк Тайме» и нью-йоркской «Дети Нъюс». Это разница между колонками, представляющими точки зрения, и мозаикой несвязанных врезок в общее поле, объединенных выходными данными. В мозаике одновременных элементов может присутствовать все что угодно, но в ней не может быть никакой точки зрения. Мир импрессионизма, связанный в конце девятнадцатого века с живописью, нашел более крайнюю свою форму в пуантилизме Сёра и в преломлениях света в мире Моне[330] и Ренуара.[331] Штриховое нанесение точек у Сёра близко к нынешней технике передачи изображений по телеграфу и вплотную приближается к форме телевизионного образа, или той мозаике, которая создается разверткой изображения. Все они предвестники позднейших электрических форм, поскольку, как и цифровой компьютер с его множественными точками и тире, обозначающими «да» и «нет», ласкают контуры любого рода бытия множественными прикосновениями этих точек. Электричество, как и мозг, дает средство вхождения в контакт со всеми гранями бытия сразу. Лишь по случайному стечению обстоятельств электричество является визуальным и слуховым; прежде всего оно тактильно.
Когда в конце девятнадцатого века начала утверждаться эпоха электричества, весь мир искусств вновь стал обретать иконические качества осязания и взаимодействия чувств (или синестезии, как это называют) — и в живописи, и в поэзии. Немецкий скульптор Адольф фон Гильдебранд[332] побудил Беренсона[333] заметить, что «художник может выполнить свою задачу, только придав зрительным впечатлениям осязательную значимость». Такая программа предполагает наделение каждой пластической формы своего рода собственной нервной системой.
Электрическая форма всепроникающего впечатления (impression) глубоко тактильна и органична и наделяет каждый объект своего рода единой чувственностью так, как это делала раньше наскальная живопись. В новую электрическую эпоху неосознаваемая задача художника состояла в том, чтобы вывести этот факт на уровень сознательного восприятия. Отныне обычный специалист в любой области был обречен на бесплодие и поверхностность, которые были отзвуком архаической формы уходящей в прошлое механической эпохи. Современное сознание вновь, после многих веков диссоциированной чувственности, должно было стать интегральным и инклюзивным. Одним из крупных центров, где сосредоточились попытки достичь инклюзивности человеческого сознания, стал Баухауз; однако та же задача была воспринята целой плеядой гигантов, выросшей в сфере музыки и поэзии, архитектуры и живописи. Они подарили искусствам нашего века превосходство над искусствами других эпох, сопоставимое разве что с тем преимуществом, которое мы уже давно признали за современной наукой.
На заре своего развития телеграф был подчинен железной дороге и газете, этим непосредственным расширениям промышленного производства и маркетинга. Фактически, как только железные дороги стали пересекать континент, задача их координации во многом легла на телеграф, вследствие чего образы начальника станции и телеграфного оператора в американском сознании легко наложились друг на друга.[334]
В 1844 году Сэмюэл Морзе открыл телеграфную линию, соединившую Вашингтон с Балтимором, получив на это от Конгресса 30.000 долларов. Частное предпринимательство, как водится, поджидало, пока бюрократия прояснит образ и задачи этого нового дела. Как только оно оказалось прибыльным, безумие частных инвестиций и инициатив немедленно приобрело впечатляющие масштабы, приведя к нескольким диким эксцессам. Еще ни одна новая технология, даже железная дорога, не демонстрировала такого быстрого роста, как телеграф. К 1858 году был проложен первый кабель через Атлантический океан, а к 1861 году телеграфные провода уже опутали вдоль и поперек всю Америку. То, что каждому новому способу транспортировки товаров или информации приходится вести суровую борьбу за существование с уже существовавшими до этого средствами, не удивительно. Каждая инновация не только коммерчески разрушительна, но и социально и психологически разъедающа.
Было бы полезно проследить эмбриональные стадии развития каждого новшества, ибо в этот период его почти совсем не понимают, и неважно, идет ли речь о печати, автомобиле или телевидении. Именно потому, что люди имеют привычку поначалу не замечать природу новой формы, она наносит по зомбированному сознанию зрителей несколько отрезвляющих ударов.
Первая телеграфная линия между Балтимором и Вашингтоном дала толчок проведению шахматных матчей между экспертами из этих двух городов. Другие линии использовались для проведения лотерей и всяческих игр, также как и радио на заре своего существования оставалось в стороне от каких-либо коммерческих дел и на протяжении нескольких лет поддерживалось фактически горсткой радиолюбителей, пока не было втянуто в орбиту крупных коммерческих интересов.
Несколько месяцев назад Джон Кросби прислал в «Нью Йорк Геральд Трибюн» сообщение из Парижа, которое ясно показывает, почему одержимость человека книгопечатной культуры «содержанием» мешает ему заметить любые факты, касающиеся формы нового средства коммуникации:
«Телстар, как вам известно, — это напичканный сложной аппаратурой шарик, который вращается в открытом космосе, передавая телепередачи, телефонные сообщения и все что угодно, кроме здравого смысла. Сначала, когда он был запущен, гремели фанфары. Теперь континенты станут делиться друг с другом интеллектуальными удовольствиями! Американцы будут наслаждаться Брижит Бардо! Европейцы приобщатся к головоломной интеллектуальной зажигательности "Бена Кейси"!.. Фундаментальный изъян этого чуда коммуникаций — тот же самый, который вредил каждому чуду коммуникаций с тех пор, как появилось резное иероглифическое письмо на каменных табличках. Ну что тут скажешь? Телстар отправился в путь в августе, когда нигде в Европе не происходило почти ничего важного. Всем информационным сетям было отдано распоряжение сказать что-нибудь, ну хоть что-то, об этом чудесном инструменте. "Это была новая игрушка, и им нужно было хоть как-то ее использовать", — говорят здесь. Си-Би-Эс прочесало в поисках горячих новостей всю Европу и наткнулось на конкурс по поеданию сосисок, который был должным образом передан через волшебный шар, хотя эту конкретную новость можно было привезти хоть на спине верблюда, и при этом она бы нисколько не утратила своей сути».
Любое нововведение ставит под угрозу равновесие существующей организации. В крупной промышленности новые идеи радушно приветствуют, но стоит только им поднять свою голову, как с ними мгновенно расправляются. Отдел разработки идей в крупной фирме — своего рода лаборатория для изоляции опасных вирусов. Как только обнаруживается таковой, немедленно создается группа, чтобы его нейтрализовать и обезвредить. Поэтому выглядит весьма комично, когда кто-то сломя голову несется в крупную корпорацию с новой идеей, которая должна привести к небывалому «росту производства и продаж». Такой рост был бы катастрофой для существующего аппарата управления. Ему пришлось бы уступить дорогу новому менеджменту. Следовательно, ни одна новая идея не созревает изнутри крупного бизнеса. Она должна вторгнуться в организацию извне, через какую-нибудь небольшую, но конкурирующую организацию. Точно таким же образом овнешнение, или расширение наших тел и чувств в «новое изобретение» принуждает все наши тела и чувства перейти на новые позиции, чтобы сохранить равновесие. Следствием каждого нового изобретения становится новое «замыкание» во всех наших органах и чувствах — как частных, так и публичных. Зрение и слух занимают новые позиции, и то же самое делают все другие наши способности. Появление телеграфа революционизировало весь метод сбора и преподнесения новостей. Естественно, это оказало глубочайшее воздействие на язык, а также на стиль и содержание литературы.
В тот же 1844-й год, когда на первой американской телеграфной линии люди играли в шахматы и лотереи, Сёрен Кьеркегор опубликовал «Понятие страха». Началась Эпоха Тревоги. Ибо с появлением телеграфа человек приступил к тому овнешнению, или расширению наружу своей центральной нервной системы, которое приближается ныне к стадии расширения сознания с помощью спутникового вещания. Вынести свои нервы вовне и поместить свои физические органы внутрь нервной системы, или мозга, значит инициировать если уж не понятие, то во всяком случае ситуацию страха.
Бросив беглый взгляд на основную травму, нанесенную телеграфом сознательной жизни, и заметив, что она ведет прямиком в Эпоху Тревоги и Всепронизывающего Страха, мы можем обратиться теперь к конкретным примерам этого беспокойства и нарастающего волнения. Когда бы ни появлялось новое средство коммуникации, или новое человеческое расширение, оно создает для себя новый миф, связанный обычно с какой-нибудь крупной фигурой: Аретино, Бичом Государей и Марионеткой Печати;[335] Наполеоном и травмой индустриального изменения; Чаплином, публичной совестью кино; Гитлером, племенным тотемом радио; и Флоренс Найтингейл, первой телеграфной певицей человеческого горя.
Флоренс Найтингейл (1820–1910) — состоятельная и утонченная представительница влиятельной новой английской группы, рожденной силой индустриализма, — еще будучи молодой девушкой, начала воспринимать сигналы человеческих бедствий. Сначала они никак не поддавались расшифровке. Потом они перевернули всю ее жизнь; ее родителям, друзьям и поклонникам так и не удалось совместить это с тем ее образом, который они имели. Какой-то уникальный дар позволил ей перевести новую рассеянную тревогу и страх перед жизнью в идею глубокого человеческого участия и больничной реформы. Она начала обдумывать и переживать свое время, и ей открылась новая формула электронной эпохи: Бесплатная медицинская помощь. Забота о теле стала бальзамом для нервов в эпоху, когда человечество впервые во всей истории вынесло за пределы себя свою нервную систему. Передать историю Флоренс Найтингейл в терминах новых средств коммуникации проще простого. Она отправлялась в далекие места, где управление из лондонского центра было организовано в соответствии с обычным доэлектрическим иерархическим образцом. Мельчайшее дробление и делегирование функций и разделение полномочий, бывшее тогда и еще долго после того обычным для военной и промышленной организации, создавало тупую систему расточительности и неэффективности, о которой стало впервые ежедневно сообщаться по телеграфу. Наследие письменности и визуальной фрагментации стало находить каждодневное отражение в телеграфных сообщениях:
«В Англии ярость сменялась новой яростью. Великая буря гнева, унижения и отчаяния продолжалась всю страшную зиму 1854–1855 года. Впервые в истории, читая донесения Рассела, публика осознала, "с каким величием сражается британский солдат". И эти герои были мертвы. Солдаты, штурмовавшие высоты у Альмы,[336] шедшие в атаку у Балаклавы[337]… умирали от голода и невнимания. Даже лошади, принимавшие участие в Атаке летучей кавалерии, гибли от истощения».[338]
Ужасы, о которых передавал по телеграфу в «Таймс» Уильям Говард Рассел, были нормой в британской военной жизни. Он был первым военным корреспондентом, потому что телеграф дал новостям непосредственное и инклюзивное измерение «человеческого интереса», не имевшее ничего общего с «точкой зрения». Будет лишь комментарием к нашей рассеянности и общему безразличию то, что по истечении более чем столетия передачи новостей по телеграфу никто так и не увидел, что «человеческий интерес» есть электронное, или глубинное измерение непосредственного вовлечения в новость. С появлением телеграфа настал конец тому обособлению интересов и разделению способностей, которое не лишено собственных величественных памятников тяжелому труду и изобретательности. Однако вместе с телеграфом пришла интегральная настойчивость и цельность Диккенса, Флоренс Найтингейл и Гарриет Бичер-Стоу.[339] Электричество дает мощные голоса слабым и страдающим, отметает в сторону бюрократические специализмы и трудовые расписания разума, привязанного к инструкциям и руководствам. Параметр «человеческого интереса» — это всего лишь параметр непосредственности участия в опыте других, рождающийся с появлением мгновенной передачи информации. Люди тоже становятся мгновенными в своей реакции сожаления или ярости, когда им приходится делить общее расширение центральной нервной системы со всем человечеством. В этих условиях «показное расточительство» или «демонстративное потребление» становятся делом безнадежным, и даже самые упрямые из богатых людей спускаются вниз, на скромные пути робкого служения человечеству.
На этот момент у кого-то еще может остаться вопрос, почему телеграф должен был создать «человеческий интерес» и почему этого не сделала старая пресса. Этим читателям, возможно, поможет глава, посвященная прессе. Но тут может присутствовать еще и скрытое препятствие для восприятия. Мгновенность «всего-сразу» и тотальное вовлечение, присущие телеграфной форме, до сих пор отталкивают некоторых утонченных людей, сформированных письменностью. Визуальная непрерывность и фиксированная «точка зрения» делают для них непосредственное участие, обеспечиваемое средствами мгновенной коммуникации, столь же отвратительным и неприятным, как и массовые виды спорта. Эти люди такие же жертвы средств коммуникации, невольно искалеченные своими исследованиями и трудами, как и дети на викторианской гуталиновой фабрике. Для многих людей, чья чувственность была непоправимо искривлена и заключена в фиксированные позы механического письма и печати, иконические формы электрической эпохи так же непроницаемы или даже невидимы, как невооруженному глазу гормоны. Работа художника состоит в том, чтобы попытаться перевести старые средства коммуникации в такие позы, чтобы это позволило обратить внимание на новые. Для этой цели художник должен все время играть и экспериментировать с новыми средствами упорядочения опыта, даже если большинство его аудитории предпочитает оставаться зафиксированным в своих старых перцептуальных установках. Самое большее, что может сделать литературный критик, — это подловить средства коммуникации в как можно большем числе характерных и разоблачающих поз, какие он только может изловчиться увидеть. Проанализируем ряд таких поз телеграфа, в которых это новое средство сталкивается с другими средствами, такими, как книга и газета. К 1848 году телеграф, которому было тогда всего четыре года от роду, заставил несколько крупных американских газет учредить коллективную организацию для сбора новостей. Из этой попытки родилось агентство Ассошиэйтед Пресс, которое, в свою очередь, стало продавать свои услуги подписчикам. В каком-то смысле реальное значение этой формы электрического, мгновенного освещения событий было спрятано под механическим покрывалом визуальных и индустриальных образцов типографского оттиска и печати. Специфически электрический эффект в этом случае, видимо, предстает в образе централизующей и сжимающей силы. Многие аналитики рассматривали электрическую революцию как продолжение процесса механизации человечества. При ближайшем рассмотрении обнаруживается совершенно иной ее характер. Например, региональная пресса, которой ранее приходилось полагаться на почтовые услуги и политический контроль, осуществляемый через почтовую службу, благодаря новым телеграфным услугам быстро ускользнула от этого типа монополии, построенного по принципу «центр—периферия». Даже в Англии, где короткие расстояния и высокая концентрация населения сделали железную дорогу могущественным фактором централизма, монополия Лондона была упразднена изобретением телеграфа, который стал поощрять провинциальную конкуренцию. Телеграф положил конец зависимости маргинальной провинциальной прессы от крупной столичной прессы. Во всем поле электрической революции проглядывает из-под многочисленных масок этот образец децентрализации. По мнению сэра Льюиса Нэмира,[340] телефон и аэроплан представляют собой крупнейшую и единственную причину проблем в сегодняшнем мире.
Профессиональных дипломатов с делегированными полномочиями вытеснили премьер-министры, президенты и министры иностранных дел, считающие, что они могут провести все важные переговоры лично. С такой же проблемой столкнулся крупный бизнес, где пользование телефоном сделало невозможным осуществление делегированной власти. Сама природа телефона, также как и всех других электрических средств коммуникации, состоит в том, чтобы сжимать и объединять то, что прежде было разделенным и специализированным. Только «авторитет знания» может работать с помощью телефона — благодаря скорости, создающей тотальное и инклюзивное поле отношений. Скорость требует, чтобы принимаемые решения были инклюзивными, а не фрагментарными или частичными, и поэтому книжные люди, как правило, сопротивляются телефону. Между тем, радио и телевидение, как мы увидим, так же способны навязывать инклюзивный порядок, как и устная организация. Полной противоположностью этому является форма «центр—периферия», свойственная визуальным и письменным структурам власти.
Многих аналитиков электрические средства коммуникации ввели в заблуждение своей мнимой способностью расширять пространственные возможности человеческой организации. Однако электрические средства скорее упраздняют пространственное измерение, нежели его расширяют. Благодаря электричеству мы вновь повсеместно обретаем межличностные отношения, как будто живем в маленькой деревне. Это связь глубинная, в ней нет делегирования функций или полномочий. Механическое повсюду вытесняется органическим. Диалог вытесняет лекцию. Величайшие знаменитости водят дружбу с молодежью. Когда группа оксфордских студентов-выпускников прослышала, что Редьярд Киплинг получает за каждое написанное слово десять шиллингов, они во время встречи с ним послали по рядам десять шиллингов: «Будьте любезны, пришлите нам одно из самых лучших Ваших слов». Спустя несколько минут вернулся ответ: «Спасибо».
Гибриды электричества и старой механики были самыми разными. Некоторые из них, например, фонограф и кино, рассматриваются далее в книге. Сегодня, когда кино вытесняется телевидением, а «Телстар» ставит под угрозу существование колеса, брак механической и электрической технологии подходит к концу. Сто лет назад следствием появления телеграфа стало ускорение работы типографских станков, подобно тому, как применение электрической искры сделало возможным двигатель внутреннего сгорания с его мгновенной слаженностью. Развиваясь далее, электрический принцип повсюду упраздняет механический метод визуального разделения и аналитического расчленения функций. Старую линейную последовательность сборочной линии заменяют электронные ленты с четко синхронизированной информацией.
Ускорение есть формула разложения и распада любой организации. С тех пор как вся механическая технология западного мира вступила в брачный союз с электричеством, она разогналась до высочайших скоростей. Все механические аспекты нашего мира, видимо, наощупь движутся к самоликвидации. Опираясь на взаимодействие железной дороги, почтовой службы и газеты, США создали высокую степень центрального политического контроля. В 1848 году Генеральный Почтмейстер писал в докладной записке, что газеты, «будучи лучшим средством сеять разум среди людей, всегда ценились как имеющие настолько большое значение для общественности, что неизменно предоставлялись самые низкие расценки с целью поощрения их распространения». Телеграф быстро ослабил этот паттерн «центр—периферия» и, что еще важнее, значительно ослабил роль редакторских мнений, колоссально увеличив объем новостей. Новости настойчиво вытесняли точки зрения как фактор формирования общественных установок, хотя найдется мало примеров этого изменения, которые могли бы соперничать в своей поразительности с внезапным возвышением образа Флоренс Найтингейл в британском мире. И вместе с тем ничто еще не понимали так превратно, как роль телеграфа в этом деле. Возможно, самый решающий фактор кроется именно здесь. Естественная динамика книги, а также газеты, состоит в создании единого национального воззрения на основе централизованного образца. Все грамотные люди, стало быть, испытывают желание расширить наиболее просвещенные мнения в единообразный горизонтальный и гомогенный образец, охватывающий «самые отсталые районы» и самые неграмотные умы. Телеграф похоронил эту надежду. Он децентрализовал газетный мир настолько основательно, что единообразные национальные воззрения стали совершенно невозможны; и это произошло еще до гражданской войны. Возможно, даже более важным последствием телеграфа стало то, что в Америке литературный талант мигрировал не в такое средство коммуникации, как книга, а в журналистику. По, Твен и Хемингуэй — вот примеры писателей, не сумевших найти никакой другой школы и отдушины, кроме работы в газете. В свою очередь, в Европе многочисленные небольшие национальные группы являли собой прерывную мозаику, которую телеграф просто усилил. Результатом стало то, что в Европе телеграф укрепил позицию книги и даже прессу заставил принять литературный характер.
Не самым последним по значимости новшеством со времен появления телеграфа стал прогноз погоды, который вызывает, пожалуй, самое массовое участие из всех элементов «человеческого интереса» в ежедневной прессе. В ранние дни существования телеграфа дождь создавал проблемы с заземлением проводов. Эти проблемы привлекли внимание к динамике погоды. В 1883 году одно из сообщений в Канаде гласило: «Уже давно открыли, что когда ветер дует на Монреаль с востока или северо-востока, с запада приходят ливневые дожди, и чем сильнее дует ветер на суше, тем быстрее с противоположной стороны приходит дождь». Ясно, что телеграф, обеспечив широкий мгновенный охват информации, мог выявить метеорологические конфигурации силы, никак не обнаруживаемые наблюдениями доэлектрического человека.
ГЛАВА 26. ПИШУЩАЯ МАШИНКА ВСТУПАЯ В ВЕК НЕСГИБАЕМОЙ ПРИХОТИ
Комментарии Роберта Линкольна О'Брайена, писавшего в 1904 году в «Атлантик Мансли», открывают огромную область социального материала, до сих пор остающегося неизученным. Например:
«Изобретение пишущей машинки дало колоссальный стимул привычке диктовать… Это не только означает большую диффузность… но и выносит на передний план точку зрения того, кто говорит. Со стороны говорящего имеется склонность объяснять, словно наблюдая за выражением лиц своих слушателей с тем, чтобы видеть, насколько они следят за его мыслью. Эта установка не утрачивается, когда аудитория внимательно его слушает. В машинописных кабинетах в вашингтонском Капитолии отнюдь не редко можно увидеть, как конгрессмены во время диктовки писем пользуются самыми энергичными жестами, как будто бы ораторские методы убеждения можно было перенести на печатную страницу».
В 1882 году реклама вещала, что пишущую машинку можно использовать как вспомогательное средство для обучения чтению, письму, орфографии и пунктуации. Сегодня, спустя восемьдесят лет, пишущая машинка используется только в экспериментальных классах. Обычная классная комната все еще хранит где-нибудь в глубине пишущую машинку как привлекательную и отвлекающую игрушку. Однако поэты вроде Чарлза Олсона[341] используют все свое красноречие, отстаивая способность пишущей машинки помочь поэту точно указать задуманные передышки, паузы, подвешивание (даже слогов), соподчинение (даже частей фраз); именно это имеется в виду, когда он отмечает, что поэт впервые получил нотный стан и тактовую черту, которыми обладал композитор.
Такие же автономия и независимость, которые пишущая машинка, по мнению Чарлза Олсона, сообщает голосу поэта, приписывались пятьдесят лет назад пишущей машинке работающей женщиной. Об английских женщинах отзывались, что они приобрели «видок на двенадцать фунтов», когда в продаже появились шестидесятидолларовые пишущие машинки. Этот облик был каким-то образом связан с викинговским жестом ибсеновской Норы Хельмер,[342] захлопнувшей за собой ворота своего кукольного дома и ушедшей на поиски работы и испытания души. На-чалась эпоха несгибаемой прихоти.
Как уже прежде упоминалось, когда в 90-е годы XIX века в конторы хлынула первая волна секретарш-машинисток, производители плевательниц увидели в этом примету надвигающегося конца. Они были правы. Но что еще важнее, единообразные ряды следящих за модой секретарш-машинисток сделали возможной революцию в индустрии одежды. То, что они носили, хотела носить каждая крестьянская девушка, ведь машинистка была популярным образом предприимчивости и мастерства. Она была диктатором стиля, к тому же страстно стремящимся не отставать от стилей. Как и пишущая машинка, машинистка привнесла в бизнес новое измерение единообразия, гомогенности и непрерывности, сделавшее пишущую машинку незаменимой в любом аспекте механической индустрии. Современный линейный корабль нуждается для своей нормальной работы в десятках пишущих машинок. Армии, даже в боевых условиях, пишущих машинок требуется больше, чем единиц средней и легкой артиллерии, и это свидетельство того, что теперь пишущая машинка совмещает в себе функции пера и шпаги.
Однако этим воздействие пишущей машинки далеко не ограничивается. Пишущая машинка не только внесла огромный вклад в известные формы гомогенизированного специализма и фрагментации, образующие печатную культуру, но и вызвала интеграцию функций и создание значительной частной независимости. Г. К. Честертон разоблачал эту новую независимость как обман, говоря, что «женщины отказались подчиняться диктату, ушли и стали стенографистками».[343] Поэт и романист сочиняют теперь на пишущей машинке. Пишущая машинка сплавляет воедино сочинение и публикацию, рождая совершенно новое отношение к письменному и печатному слову. Сочинение на пишущей машинке изменило формы языка и литературы; лучше всего это видно на примере поздних новелл Генри Джеймса, продиктованных мисс Теодоре Босанкет, которая их записывала не от руки, а на пишущей машинке. Ее мемуары «Генри Джеймс в работе»[344] следовало бы продолжить другими исследованиями того, как пишущая машинка изменила английские стих и прозу, а также, фактически, сами мыслительные привычки писателей.
Для Генри Джеймса пишущая машинка к 1907 году прочно вошла в привычку, а его новый стиль приобрел особое легкое и завораживающее качество. Его секретарша рассказывает, что диктовка оказалась для него работой не только более легкой, но и более вдохновляющей, чем сочинение от руки. Он признался ей: «В речи все как будто выходит из меня гораздо эффективнее и неустаннее, чем в письме». В самом деле, Генри Джеймс настолько привязался к постукиванию своей пишущей машинки, что, лежа на смертном одре, попросил, чтобы рядом с постелью работал его «Ремингтон».[345]
Насколько пишущая машинка повлияла своим неоправданным правым полем на развитие vers libre,[346] установить трудно, однако свободный стих фактически был восстановлением устного, драматического акцента в поэзии, и пишущая машинка явно этому способствовала. Усаженный за пишущую машинку, поэт, почти на манер джазового музыканта, переживает исполнение как сочинение. В бесписьменном мире в такой ситуации находились бард или менестрель. У них были темы, но не было текста. Сидя за пишущей машинкой, поэт командует ресурсами печатного пресса. Эта машина сродни находящейся под рукой системе публичного выступления. Поэт может кричать, нашептывать, свистеть, корчить в адрес аудитории смешные типографские рожицы, как это делает Э. Э. Каммингс[347] в следующем стихотворении:
В самый разгар весны когда в мире слякоть — благоуханье маленький жалкий торговец шарами свищет в даль и в раннюю рань и эддиибилл сбегаются отвлекшись от мраморных шариков и пиратства и это весна когда мир удивителен лужами грязной воды странный старый торговец шарами свищет в даль и в раннюю рань и беттииизабелла приходят танцуя забросив скакалки и классики и это весна и козлик куда-то протанцевал свищет торговец шарами в даль и в раннюю раньЭ. Э. Каммингс использует здесь пишущую машинку, чтобы придать стихотворению музыкальный размер для хорового исполнения. Поэт старшего поколения, отделенный от печатной формы всякими техническими стадиями, не мог наслаждаться даже малой толикой той свободы устного акцента, которую принесла печатная машина. Поэт как машинистка может вытворять прыжки Нижинского[348] или ерзать и вихлять на манер Чаплина. Поскольку он сам является зрителем своих наглых механических выходок, он никогда не перестает реагировать на собственное исполнение. Сочинение на пишущей машинке подобно запуску бумажного змея.
Стихотворение Э. Э. Каммингса, если прочесть его вслух с широко варьирующими ударениями и скоростями, будет повторять перцептуальный процесс своего печатающего на машинке творца. А как, должно быть, понравилось бы сочинять на пишущей машинке Джерарду Мэнли Хопкинсу![349] Люди, полагающие, что поэзия предназначена для глаза и молчаливого прочтения, вряд ли смогут где-нибудь заразиться Хопкинсом или Каммингсом. Читаемая же вслух, такая поэзия становится совершенно естественной. Написание имен с маленькой буквы, например, «эддиибилл», встревожило сорок лет назад людей письменного склада. Иначе, впрочем, и быть не могло.
Элиот и Паунд[350] использовали печатную машинку для создания в своих стихотворениях огромного множества основных эффектов. Для них печатная машинка тоже была устным и миметическим инструментом, давшим им свободу устного самовыражения, присущую миру джаза и рэгтайма. Самая разговорная и джазовая из всех поэм Элиота, «Суини-агонист», в первой своей публикации была снабжена подзаголовком: «Какого черта, детка, ты идешь домой?»
То, что пишущая машинка, принесшая в каждый уголок и закуток нашей культуры и экономики Гутенбергову технологию, должна была также дать возможность прорваться наружу этим противоположным ей устным эффектам, представляет собой типичное обращение. Такое обращение формы происходит во всех крайностях развитой технологии; сегодня оно происходит с колесом.
Как ускоритель, пишущая машинка привела в тесную связь письмо, речь и публикацию. Хотя она была всего лишь механической формой, в каких-то отношениях ее воздействие было скорее сжимающим, чем взрывным.
Взрывной характер пишущей машинки, подкрепивший существующие процедуры съемных наборных литер, оказал непосредственное влияние на регулирование орфографии и грамматики. Тяготение Гутенберговой технологии к «правильному», или единообразному написанию слов и стандартной грамматике почувствовалось сразу. Пишущие машинки вызвали необычайный бум в продаже словарей. Также они создали бесчисленные битком набитые досье, что привело в наше время к росту компаний, выпускающих канцелярские принадлежности. Поначалу, однако, в пишущей машинке не разглядели незаменимую вещь для бизнеса. Личное прикосновение к рукописному письму считалось настолько важным, что ученые мужи не допускали коммерческого использования пишущей машинки. Вместе с тем, они полагали, что она была бы полезна писателям, священникам и телеграфным операторам. Даже газеты какое-то время относились к этой машинке без особого энтузиазма.
Как только какая-то часть экономики ощущает скачок в скорости, вся остальная экономика должна к этому приспособиться. В скором времени уже никакой бизнес не мог оставаться индифферентным к колоссально возросшей скорости, обусловленной введением пишущей машинки. Парадоксально, но принятие печатной машины в коммерции было ускорено телефоном. Фраза «Пришли мне напоминание на этот счет», повторяемая каждодневно в миллионах телефонных разговоров, помогла колоссально расширить функции машинистки. Закон Норткота Паркинсона, гласящий, что «работа разрастается ровно настолько, чтобы заполнить весь промежуток времени, отведенный на ее выполнение», и есть та потешная динамика, которую породил телефон. В отсутствие временных ограничений телефон довел работу, которую необходимо было сделать на пишущей машинке, до колоссальных размеров. Внутри каждого бизнеса на базе небольшой телефонной сети вырастают пирамиды бумажной работы. Как и пишущая машинка, телефон сплавляет функции, позволяя, скажем, девушке по вызову быть собственной сводницей и содержательницей.
Норткот Паркинсон открыл, что любая деловая или бюрократическая структура функционирует сама по себе, независимо от той «работы, которую необходимо сделать». Численность персонала и «качество работы вообще никак друг с другом не связаны». В любой данной структуре темпы роста численности персонала связаны не с выполняемой работой, а с внутренней коммуникацией между самими его членами. (Иными словами, средство коммуникации есть сообщение.) Закон Паркинсона, если перевести его в математическую форму, гласит, что годовой темп прироста персонала будет колебаться в диапазоне от 5,17 % до 6,56 %, «независимо от каких-либо изменений в объеме работы, которую необходимо сделать (если она вообще есть)».
Под «работой, которую необходимо сделать» имеется в виду, конечно, преобразование какого-то вида материальной энергии в какую-нибудь новую форму, например, деревьев в пиломатериалы или бумагу, глины в кирпичи или тарелки, металла в трубу. С точки зрения такого рода работы, обслуживающий персонал в военно-морских силах, например, возрастает с уменьшением числа кораблей. Что Паркинсон тщательно скрывает от себя и от своих читателей, так это простой факт, что в области движения информации главной «работой, которую необходимо делать», является на самом деле движение информации. Теперь, в электрическую эпоху, само взаимное связывание людей отбираемой информацией становится главным источником богатства. В прежнюю механическую эпоху работа вообще не походила на то, что она представляет собой сейчас. Под работой подразумевалась обработка различных материалов при помощи конвейерной фрагментации операций и иерархически делегированной власти. Электрические цепи, присоединяясь к этой обработке, упраздняют и конвейерную линию, и делегированную власть. Теперь трудовое усилие прилагается на уровне «программирования» и представляет собой оперирование информацией и знанием, особенно с появлением компьютера. В том аспекте трудовой операции, который связан с принятием решений и «проектированием», телефон и прочие подобные ему ускорители информации покончили с подразделениями делегированной власти, отдав главную роль «авторитету знания». Это как если бы сочинитель симфонии вместо того, чтобы посылать свою рукопись издателю, а затем дирижеру и отдельным членам оркестра, стал сочинять прямо на электронном инструменте, исполняющем каждую ноту или тему так, словно их извлекает соответствующий инструмент. Эго бы сразу положило конец тому делегированию и специализму, которые делают симфонический оркестр столь естественной моделью механической и индустриальной эпохи. Что же касается поэта или романиста, то пишущая машинка вплотную подходит к этому обещанию электронной музыки, поскольку она сжимает, или объединяет разные рабочие задачи, связанные с сочинением и публикацией произведения.
Историка Дэниэла Бурстина крайне шокировало, что в нашу эпоху информации известность определяется не тем, что некто что-то сделал, а просто тем, что он известен как хорошо известный.
Профессора Паркинсона шокирует, что структура человеческого труда в наше время, похоже, совсем не зависит от работы, которая должна быть выполнена Как экономист, он выявляет ту же несообразность и комедию, какая присутствует в отношениях между старым и новым, описанных Стивеном Поттером в «Искусстве игры». Оба разоблачили пустое пародирование «пребывания впереди всего мира», в старом смысле этого выражения. Ни честный упорный труд, ни острый ум не будут служить продвижению честолюбивого руководителя по карьерной лестнице. Причина проста. Позиционная война закончилась — как в частном, так и в корпоративном действии. В бизнесе, как и в обществе, «выдвинуться вперед» может значить выйти из игры. Нет никакого «впереди» в мире, являющем собой эхокамеру мгновенной известности.
Печатная машина, обещавшая карьеру всевозможным Норам Хельмер западного мира, на поверку оказалась, в конце концов, обманчивой каретой из тыквы.[351]
ГЛАВА 27. ТЕЛЕФОН ЗВЕНЯЩАЯ ЛАТУНЬ ИЛИ ЗВОНЯЩИЙ СИМВОЛ?
Нью-йоркская «Ивнинг Телеграм» в 1904 году рассказывала своим читателям: «Под пустозвонством[352] имеется в виду, что вещь, таким образом квалифицируемая, имеет не больше содержания, чем телефонный разговор с подложным другом». Телефонный фольклор, живущий в песнях и анекдотах, был преумножен воспоминаниями Джека Паара, который пишет, что его глухая ненависть к телефону началась с поющей телеграммы. Он рассказывает, как однажды к нему позвонила женщина, сказавшая, что она настолько одинока, что трижды в день принимает ванну в надежде, что зазвонит телефон.
Джеймс Джойс в «Поминках по Финнегану» написал в стиле газетного заголовка: ТЕЛЕВИДЕНИЕ УБИВАЕТ ТЕЛЕФОНИЮ В БРАТСКОЙ ПОТАСОВКЕ, — вводя главную тему в битву технологически расширенных чувств, которая и в самом деле более десятилетия бушевала во всей нашей культуре. С телефоном появляется расширение уха и голоса, то есть своего рода экстрасенсорное восприятие. С телевидением же пришло расширение чувства осязания, или чувственного взаимодействия, которое осуществляет еще более глубокое вовлечение всего сенсорного аппарата.
Ребенок и тинэйджер понимают телефон, обнимая провод с трубкой так, словно это любимые домашние животные. То, что мы называем «французской телефонной трубкой», а именно союз микрофона и наушника в едином инструменте, служит примечательным показателем французской связи тех чувств, которые англо-говорящие люди хранят в строгой отдельности друг от друга. Французский является «языком любви» именно потому, что особенно тесно — так же, как это делает телефон, — объединяет голос и ухо. А потому совершенно естественно целоваться по телефону, но нелегко во время телефонного разговора визуализировать.
Более неожиданного социального последствия телефона, чем исчезновение квартала публичных домов и появление девушки по вызову, наблюдать еще не приходилось. Но для слепого все неожиданно. Форма и характер телефона, также как и всей электрической технологии, проявляются в этом показательном изменении во всей своей полноте. Проститутка была специалистом; девушка по вызову таковым не является. Публичный дом не был домом в подлинном смысле слова; девушка по вызову, напротив, не только живет дома, но и может быть матерью семейства. Способность телефона децентрализовывать любую операцию и класть конец позиционной войне — а в числе прочего и локализованной проституции — чувствовалась, но так и не была до конца понята в нашей стране ни одним бизнесом.
В случае девушки по вызову телефон сродни пишущей машинке, которая сплавляет воедино функции сочинения и публикации. Девушка по вызову обходится без сводника и без хозяйки. Она должна уметь искусно поддерживать разговор на разные темы и быть общительной, поскольку от нее ожидают умения влиться в любую компанию на основе социального равенства. Если печатная машинка оторвала женщину от дома и превратила в специалиста, сидящего в офисе, то телефон вновь вернул ее миру управленцев как общее средство достижения гармонии, приглашение к счастью и своеобразное сочетание исповеди и стены плача для незрелого американского руководителя.
Пишущая машинка и телефон, эти самые непохожие друг на друга близнецы, с технологической безжалостностью и основательностью вновь запустили процесс превращения американской девушки в роковую женщину-вамп.
Поскольку все средства коммуникации являются фрагментами нас самих, расширенными в публичный мир, воздействие, оказываемое на нас любым средством коммуникации, имеет тенденцию заставлять другие чувства вступать в игру в новом взаимоотношении. Читая, мы делаем саундтрек печатного слова; слушая радио, мы производим визуальный аккомпанемент. Почему мы неспособны визуализировать, когда разговариваем по телефону? Читатель сразу возразит: «Но я все зрительно представляю, говоря по телефону!» Если бы ему выпал шанс провести эксперимент, он бы обнаружил, что просто не может визуализировать, разговаривая по телефону, хотя все письменные люди пытаются это делать и, следовательно, верят, что у них это получается. Но больше всего письменного и визуализирующего западного человека раздражает в телефоне не это. Некоторым людям даже с лучшими друзьями трудно поговорить по телефону, не рассердившись. В отличие от письменной и печатной страницы, телефон требует полного участия. Любой письменный человек с негодованием относится к такому настойчивому требованию полного внимания, поскольку давно привык к фрагментарному вниманию. Аналогичным образом, письменный человек лишь с большим трудом может научиться говорить на других языках, так как освоение языка требует участия всех чувств сразу. С другой стороны, наша привычка к визуализации делает письменного западного человека беспомощным в невизуальном мире передовой физики. Только чувствующие нутром, аудио-тактильные тевтонец и славянин обладают иммунитетом к визуализации, необходимым для работы в области неевклидовой математики и квантовой физики. Если бы мы преподавали нашу математику и физику по телефону, даже высокоразвитый книжно-абстрактный человек Запада мог бы со временем составить конкуренцию европейским физикам. Этот факт не интересует сотрудников исследовательского отдела корпорации «Белл Телефон», ибо, как и любая другая книжно-ориентированная группа, они невосприимчивы к телефону как к форме и изучают только содержательный аспект кабельного обслуживания. Как уже упоминалось выше, гипотеза Шеннона[353] и Уивера[354] о Теории Информации, как и Теория Игр Моргенштерна,[355] склонна игнорировать функцию формы как формы. Таким образом, и Теория Информации, и Теория Игр погрязли в бесплодных банальностях, тогда как психические и социальные изменения, являющиеся следствием этих форм, полностью изменили всю нашу жизнь.
Многие люди, когда говорят по телефону, испытывают неодолимую потребность «машинально рисовать». Этот факт тесно связан с характером данного средства коммуникации, а именно: оно требует участия всех наших чувств и способностей. В отличие от радио, его невозможно использовать как фон. Поскольку телефон предлагает очень бедный слуховой образ, мы усиливаем и завершаем его, пользуясь всеми другими органами чувств. Когда слуховой образ имеет высокую определенность, например, в случае радио, мы визуализируем опыт, или завершаем его зрительным чувством. Когда визуальный образ имеет высокую определенность, или интенсивность, мы завершаем его, дополняя звуком. Поэтому, когда в кино была добавлена звуковая дорожка, произошло глубочайшее художественное потрясение. Фактически это потрясение было почти равно тому, которое было вызвано появлением самого кино. Ибо кино — соперник книги, стремящийся дать визуальный ряд нарративного описания и предложить высказывание, гораздо более полное, чем письменное слово.
В 20-е годы была популярна песня «Все одиноки по телефону, все одинокие грустью томимы». Почему телефон должен был создать острое чувство одиночества? Почему мы чувствуем себя обязанными отвечать на звонок общего телефона, когда точно знаем, что этот звонок нас не касается? Почему телефон, звонящий на театральной сцене, мгновенно создает внутреннее напряжение? Почему это напряжение гораздо меньше, когда никто не отвечает на телефонные звонки в кинофильме? Чтобы ответить на все эти вопросы, достаточно сказать, что телефон — это участная форма, которая со всей силой электрического притяжения требует партнера. Он просто не будет действовать в качестве фонового инструмента, как радио.
Типичный розыгрыш, популярный в маленьких городах в первые дни существования телефона, привлекает внимание к телефону как к форме коллективного участия. Никакие задние заборы не могли бы соперничать с той степенью разгоряченного участия, которая стала возможна благодаря спаренному телефону. Шутка, о которой идет речь, приняла вот какую форму. Звонили нескольким людям и искаженным голосом сообщали, что инженерный департамент собирается прочистить телефонные линии: «Во избежание попадания в комнату грязи и смазки рекомендуем вам накрыть свой телефон простыней или наволочкой». Затем шутник совершал обход друзей, которым позвонил, и забавлялся их приготовлениями и напряженным ожиданием того, что вот-вот раздастся свист и рев, когда начнут прочищать линии. Эта шутка приводится здесь с целью напомнить о том, что еще не так давно телефон был этакой новой хитроумной штуковиной, которой пользовались больше не для дела, а для забавы.
Изобретение телефона стало случайным звеном в цепи предпринятых в прошлом веке усилий сделать речь зримой. Мелвилл Белл,[356] отец Александра Грэхема Белла,[357] посвятил всю жизнь разработке универсального алфавита, обнародованного им в 1867 году под названием «Видимая речь».[358] Помимо цели сделать все языки мира непосредственно присутствующими друг перед другом в простой визуальной форме, отец и сын Беллы много работали над тем, как помочь глухим. Видимая речь как будто бы обещала глухим мгновенное средство освобождения из их тюрьмы. Эта борьба за усовершенствование видимой речь для глухих вывела Беллов на изучение тех новых электрических приспособлений, которые дали жизнь телефону. Примерно так же и шрифт Брайля,[359] в котором буквы были заменены выпуклыми точками, зародился как средство чтения в темноте военных сообщений, потом был перенесен в музыку и, наконец, в чтение для слепых. Буквы были закодированы в точки для чтения пальцами задолго до того, как для телеграфа была разработана азбука Морзе. Уместно заметить, что с первых дней существования электричества электрическая технология тоже сосредоточилась на мире речи и языка. Первое великое расширение нашей центральной нервной системы — а именно, такое средство массовой коммуникации, как устное слово, — быстро вступило в брачный союз со вторым великим расширением центральной нервной системы, электрической технологией.
Нью-йоркская «Дейли График» от 15 марта 1877 года вынесла на первую полосу иллюстрацию, озаглавленную «Ужасы телефона: оратор будущего». Взъерошенный Свенгали[360] стоит перед микрофоном, вовсю краснобайствуя в студии. Такой же микрофон показан находящимся в Лондоне, Сан-Франциско, в прериях и в Дублине. Любопытно, что газета того времени видела в телефоне такого же конкурента, как и в системе общественного оповещения, каковой спустя пятьдесят лет фактически стало радио. Однако из всех средств коммуникации телефон, интимный и личный, дальше всего отстоит от формы общественного оповещения. Прослушивание телефонных разговоров кажется даже более одиозным, чем чтение чужих писем.
Слово «телефон» появилось в 1840 году, еще до рождения Александра Грэхема Белла. Оно обозначало приспособление для передачи музыкальных нот с помощью деревянных палочек. В 70-е годы XIX века изобретатели во многих уголках мира пытались добиться электрической передачи речи, и в тот самый день, когда Белл подал заявку в Американское патентное бюро, оно получило также чертеж телефона от Илайши Грея,[361] но буквально на час или два позже. Какую необычайную выгоду извлекли юристы из этого совпадения! Белл обрел славу, а его конкуренты стали примечаниями к нему. Телефон решился предложить свои услуги общественности в 1877 году, одновременно с проволочной телеграфией. Новая телефонная группа была слаба на фоне огромных телеграфных компаний, и «Вестерн Юнион» сразу попытался взять телефонное обслуживание под свой контроль.
Одна из ироний западного человека состоит в том, что изобретение как угроза его образу жизни никогда особо его не заботило. Фактически, начиная с алфавита и заканчивая автомобилем, западный человек неуклонно переформировывался медленным технологическим взрывом, растянувшимся на две с половиной тысячи лет. Однако с тех пор, как появился телеграф, западный человек стал жить в условиях имплозивного сжатия. Внезапно с ницшеанской беззаботностью он начал отматывать киноленту своего 2500-летнего взрыва назад. При этом он все еще продолжает наслаждаться результатами крайней фрагментации изначальных компонентов своей племенной жизни. Именно эта фрагментация позволяет ему игнорировать причину-и-следствие во всем взаимодействии технологии и культуры. Совершенно иначе обстоит дело в Большом Бизнесе. Здесь племенной человек настороженно отслеживает случайные семена изменения. Поэтому Уильям X. Уайт[362] смог написать книгу «Организационный человек»[363] как роман ужасов. Питаться людьми нехорошо. Каждому, кто был воспитан в традициях письменной визуальной фрагментированной свободы, даже прививка людям язвы большой корпорации кажется делом нехорошим. «Я звоню им ночью, когда их охранник теряет бдительность», — говорит один руководитель высшего звена.
В 20-е годы телефон породил массу комических диалогов, которые продавали в виде граммофонных записей. Но радио и звуковое кино относились к монологу без особой сердечности, даже если его произносили У. К. Филдс[364] или Уилл Роджерс. Эти горячие средства вытолкнули более холодные формы на обочину; теперь телевидение в широких масштабах возвращает последние назад. Новая раса держателей ночных клубов (Ньюхарт, Николс и Мэй) имеет курьезный раннетелефонный аромат, поистине очень приятный. Мы можем поблагодарить телевидение с его призывом к такой высокой степени участия за возвращение мимики и диалога. Наши Морты Зали, Шелли Берман и Джеки Паары — это едва ли не разновидность «живой газеты», какую предлагали вниманию китайских революционных масс драматические труппы в 30-е и 40-е годы. Пьесы Брехта[365] обладают таким же участным качеством мира комикса и газетной мозаики — ставшим приемлемым благодаря телевидению, — как и массовое искусство.
Телефонный микрофон был непосредственным порождением долгих попыток воспроизвести механическими средствами человеческую физиологию, истоки которых лежат еще в семнадцатом веке. Следовательно, в самой природе электрического телефона уже во многом заложено то, что он так естественно согласуется с органикой. По совету бостонского хирурга д-ра К. Дж. Блейка принимающее устройство телефонной трубки было напрямую смоделировано по образу и подобию костно-диафрагмального строения человеческого уха. Белл уделял много внимания работе великого Гельмгольца,[366] изыскания которого охватывали множество самых разных областей. Фактически, именно уверенность Белла в том, что Гельмгольцу удалось передать по телеграфу гласные звуки, побуждала его упорно продолжать свои попытки. Оказалось, что это оптимистичное впечатление было обусловлено лишь его плохим знанием немецкого языка. Гельмгольцу не удалось достичь с помощью телеграфной связи никаких речевых эффектов. Белл же рассудил, что если могут быть переданы гласные звуки, то почему бы не передавать и согласные? «Я думал, что Гельмгольц в самом деле достиг этого, а мои неудачи обусловлены лишь моим неведением относительно электричества. Это была очень ценная ошибка. Она дала мне уверенность. Ведь если бы я умел в то время читать по-немецки, я мог бы так никогда и не решиться на свои эксперименты!»
Одним из самых поразительных последствий телефона стало внедрение «цельносплетенной паутины» взаимосвязанных форм в сферу управления и принятия решений. По телефону невозможно осуществлять делегированную власть. Пирамидальная структура разделения должностей, их описаний и делегированных им полномочий не может вынести ту скорость, с какой телефон обходит иерархические препоны и глубоко вовлекает людей. Точно так же мобильные бронетанковые дивизии, оснащенные радиотелефонами, рушат традиционную структуру армии. И мы уже видели, как газетный репортер, соединив печатную страницу с телефоном и телеграфом, создал из фрагментированных государственных подразделений единый корпоративный образ. Сегодня младший руководитель может обращаться по имени к своим старшим коллегам в разных частях страны. «Вы просто начинаете названивать. Каждый может войти по телефону в кабинет любого менеджера. К десяти утра, дозвонившись до нью-йоркского офиса, я уже звал всех по именам».
Телефон — это неотразимый агрессор во времени и пространстве, отчего руководители высшего звена обретают иммунитет к его звонку, только когда обедают за столом для почетных гостей. По самой своей природе телефон — чрезвычайно личная форма, игнорирующая всякие претензии на визуальную приватность, ценимую письменным человеком. Одна фирма, работающая с ценными бумагами, недавно упразднила частные кабинеты своих сотрудников и усадила всех за нечто вроде круглого стола для проведения семинаров. Владельцы фирмы почувствовали, что мгновенные решения, которые должны приниматься на основе непрерывного потока информации, прибывающей по телетайпу и другим электрическим средствам коммуникации, могут получать групповое одобрение достаточно быстро лишь при условии упразднения частного пространства. Находясь на боевом дежурстве, экипажи военных самолетов, даже если они не в воздухе, должны ни на мгновение не упускать друг друга из вида. Это всего лишь фактор времени. Важнее необходимость тотального вовлечения в роль, которая приходит вместе с этой мгновенной структурой. Двух пилотов канадского истребителя сватают друг другу со всей заботливостью, свойственной брачным конторам. После многих испытаний и долгого совместного опыта командир официально женит их «до гробовой доски». И тут нет никакого подвоха. Это та самая тотальная интеграция в роль, от которой встают волосы дыбом у любого письменного человека, когда он сталкивается с имплозивными требованиями цельносплетенной паутины электрического принятия решений. Свобода в западном мире всегда принимала форму взрывную, разделительную, развивавшую отделение индивида от государства. Опрокидывание этого одностороннего движения от-центра-к-периферии так же явно обязано электричеству, как великий западный взрыв — прежде всего фонетической письменности.
Если делегированная власть в командной цепочке не может работать с телефоном, но только на базе письменных инструкций, то какого рода власть вступает в игру? Ответ простой, но нелегко его сформулировать. На базе телефона будет работать только авторитет знания. Делегированная власть линейна, визуальна, иерархична. Авторитет знания нелинеен, невизуален и инклюзивен. Чтобы действовать, наделенный полномочиями человек всегда должен получать разъяснения из командной цепочки. Электрическая ситуация упраздняет такие образцы; эти «сдержки и противовесы» чужды инклюзивной власти знания. Следовательно, ограничения на электрическую абсолютистскую власть могут быть наложены не разделением властей, а только плюрализмом центров. Эта проблема возникла, между прочим, из прямой частной линии, соединившей Кремль с Белым Домом. Президент Кеннеди с естественной западной предвзятостью заявил, что предпочитает телефону телетайп.
Разделение властей было методом наложения ограничений на действие в централистской структуре, расходящейся кругами от центра к отдаленным перифериям. В электрической структуре — поскольку речь идет о времени и пространстве нашей планеты, — нет периферий. А следовательно, в ней может быть лишь диалог между центрами и между равными. Пирамиды командных цепочек не могут найти опору в электрической технологии. С приходом электрических средств вместо делегированной власти вновь появляется роль. Теперь человек опять может быть наделен всеми типами невизуальности. Король и император имели законные полномочия действовать как коллективное эго всех частных эго своих подданных. Пока западный человек столкнулся с восстановлением роли лишь предварительно. Он еще ухитряется удерживать индивидов в порученных им рабочих местах. В культе кинозвезд мы позволили себе сомнамбулически отбросить наши западные традиции, наделив эти безработные[367] образы мистической ролью. Они суть коллективные воплощения многочисленных частных жизней своих поклонников.
Экстраординарный пример, иллюстрирующий способность телефона вовлекать всю личность целиком, зафиксирован психиатрами, сообщившими, что дети-невротики во время разговоров по телефону полностью утрачивают свои невротические симптомы. В номере «Нью Йорк Тайме» от 7 сентября 1949 года был напечатан материал, дающий еще одно необычное свидетельство охлаждающего участного характера телефона:
«6 сентября 1949 года страдающий психозом ветеран Говард Б. Анрух в приступе буйного помешательства убил тринадцать человек на улицах Кемдена, штат Нью-Джерси, после чего вернулся домой. Бригады быстрого реагирования, вооруженные автоматами, пулеметами и гранатами со слезоточивым газом, открыли огонь. В этот момент редактор "Кемден Иенинг Курир" нашел имя Анруха в телефонном справочнике и позвонил ему. Анрух прекратил отстреливаться и ответил:
— Алло.
— Это Говард?
— Да.
— Зачем ты убиваешь людей?
— Не знаю. Пока еще не могу ответить на этот вопрос. Поговорим позже. Сейчас я слишком занят».
В статье, опубликованной недавно в газете «Лос Анджелес Тайме» под заголовком «Диалектика неучтенных телефонных номеров», Арт Зейденбаум писал:
«Знаменитости долгое время прятались. Парадоксально, но в то время как их имена и образы не сходят с широких экранов, они предпринимают все больше усилий к тому, чтобы стать недоступными во плоти или по телефону… Многие "крупные имена" никогда не выдают своих телефонных номеров, телефонная служба принимает каждый звонок и только при поступлении запроса передает накопившиеся сообщения… "Не звоните нам" — этот девиз мог бы стать настоящим региональным кодом для Южной Калифорнии».
«Все одиноки по телефону» описало полный круг. Скоро сам телефон станет «совсем одиноким и погрузившимся в грусть».
ГЛАВА 28. ФОНОГРАФ ИГРУШКА, КОТОРАЯ УЖАЛА НАЦИОНАЛЬНУЮ ГРУДНУЮ КЛЕТКУ
Фонограф, обязанный своим рождением электрическому телеграфу и телефону, не проявлял своей электрической формы и функции до тех пор, пока магнитофон не освободил его от механических нарядов. То, что мир звука является в сущности единым полем мгновенных взаимосвязей, придает ему близкое сходство с миром электромагнитных волн. И этот факт быстро связал фонограф с радио.
Насколько превратно поначалу воспринимался фонограф, видно из замечания, сделанного дирижером духового оркестра и композитором Джоном Филипом Соусой.[368] Он рассуждал: «С фонографом вокальные упражнения выйдут из моды! Что будет тогда с национальным горлом? Не захиреет ли оно? А что будет с национальной грудной клеткой? Не ужмется ли она?»
Один факт Соуса очень точно подметил: фонограф — это расширение и усложнение голоса, вполне способное сократить индивидуальную вокальную деятельность подобно тому, как автомобиль редуцировал деятельность пешеходную.
Как и радио, которому он все еще поставляет программное наполнение, фонограф является горячим средством коммуникации. Без него двадцатый век как эпоха танго, регтайма и джаза имел бы иной ритм. Вместе с тем, фонограф был предметом многих недоразумений, что демонстрируется и одним из ранних его названий — «граммофон». Его воспринимали как форму звукового письма {грамма — буквы). Также его называли «графофоном»; игла выполняла роль ручки. Особенно популярно было представление о нем как о «говорящей машине». Эдисон[369] запоздал со своим подходом к решению его проблем, рассматривая его поначалу как «повторитель телефона», то есть как хранилище данных с телефона, позволяющее телефону «предоставлять бесценные записи вместо того, чтобы быть приемником сиюминутного и скоротечного общения». Эти слова Эдисона, опубликованные в июне 1878 года в «Норт Американ Ревью», показывают, насколько недавнее еще тогда изобретение телефона уже обладало способностью окрашивать мышление в других областях. Так, в проигрывателе следовало видеть своего рода фонетическую запись телефонного разговора. Отсюда такие названия, как «фонограф» и «граммофон».
За фактом немедленного обретения фонографом популярности стоял всеобщий электрический взрыв вовнутрь, придавший аналогичный новый акцент и значимость актуальным речевым ритмам в музыке, поэзии и танце. И все-таки фонограф был не более чем машиной. Поначалу электромотор и электрическая цепь в нем не использовались. Однако, обеспечив механическое расширение человеческого голоса и новых мелодий регтайма, фонограф оказался вытолкнут в центр некоторыми главными течениями эпохи. Сам факт принятия нового выражения, речевой формы или танцевального ритма уже есть прямое свидетельство некоторого реального изменения, с которым они значимым образом связаны. Взять, например, сдвиг английского языка в вопросительное настроение, произошедший после появления фразы «А как насчет того?» Ничто не могло бы заставить людей вдруг начать снова и снова употреблять такое выражение, если бы не было какого-нибудь нового акцента, ритма или нюанса в тех межличностных отношениях, которые сделали его уместным.
Именно работая с записью на бумажной ленте, сделанной с помощью точек и тире азбуки Морзе, Эдисон заметил, что звук, издаваемый ею при проигрывании на высокой скорости, напоминает «едва различимый человеческий разговор». Тогда его осенило, что с помощью нанесения зазубрин на ленту можно записывать телефонное сообщение. Стоило Эдисону войти в электрическое поле, как он сразу осознал ограниченность линейности и бесплодие специализма. «Взгляните, — говорил он, — это выглядит примерно так. Я отправляюсь отсюда с намерением прийти сюда в ходе эксперимента, скажем, по увеличению проводимости атлантического кабеля; но когда я прошел часть пути по своей прямой линии, я встречаюсь с неким феноменом, и он выводит меня в ином направлении. В итоге появляется фонограф». Ничто не могло бы драматичнее выразить поворот от механического взрыва к электрическому сжатию. Сама карьера Эдисона была воплощением этого изменения в нашем мире, и он часто застывал в растерянности между этими двумя формами процесса.
В самом конце девятнадцатого века психолог Липпс[370] с помощью своего рода электрического аудиографа обнаружил, что единственный удар колокола представляет собой емкое вместилище всех возможных симфоний. Примерно таким же путем шел к решению своих задач Эдисон. Практический опыт научил его, что все проблемы уже содержат в зародыше все ответы, надо лишь найти средство сделать их эксплицитными. В его случае все обернулось так, что его решимость дать фонографу, как и телефону, прямое практическое применение в бизнесе привела к тому, что он не обратил внимания на этот инструмент как средство развлечения. Неумение разглядеть в фонографе будущее средство развлечения было на самом деле непониманием смысла электрической революции в целом. В наше время мы уже свыклись с фонографом как игрушкой и утешением; но такое же измерение развлечения приобрели пресса, радио и телевидение. Вместе с тем, доведенное до крайности развлечение становится основной формой бизнеса и политики. Электрические средства в силу своего тотального «полевого» характера склонны упразднять фрагментарные специализации форм и функций, которые мы долгое время принимали как наследие алфавита, печати и механизации. Короткая и сжатая история фонографа включает в себя все фазы письменного, печатного и механизированного слова. Лишь несколько лет тому назад пришествие электрического магнитофона избавило фонограф от его временного втягивания в механическую культуру. Магнитная лента и долгоиграющая пластинка внезапно сделали фонограф средством доступа ко всей музыке и речи мира.
Прежде чем перейти к революции, совершенной магнитофонной записью и долгоиграющей пластинкой, нам следует отметить, что ранний период механической записи и воспроизведения звука заключал в себе один крупный фактор, роднящий их с немым кино. Ранний фонограф производил живой и резко очерченный опыт, имевший немало общего с теми переживаниями, которые рождало кино Мака Сеннетта.[371] Однако подспудное течение механической музыки странным образом печально. Именно гению Чарли Чаплина удалось обуздать в кинофильме это удручающее качество глубокой печали и нагрузить его оживленной яркостью и динамичностью. Поэты, художники и музыканты конца девятнадцатого века дружно настаивают на своего рода метафизической меланхолии, скрыто присутствующей в крупном индустриальном мире большого города. Фигура Пьеро занимает такое же ключевое место в поэзии Лафорга,[372] как и в живописи Пикассо или музыке Сати.[373] Не является ли механическое, в лучшем случае, лишь примечательным приближением к органическому? И разве не способна великая индустриальная цивилизация производить все в изобилии для каждого? Ответ: да. Но Чаплин и воспевавшие Пьеро поэты, художники и музыканты довели эту логику до конца и пришли к образу Сирано де Бержерака — человека, больше всех любившего, но никогда не находившего ответной любви. Таинственный образ Сирано — любящего человека, которого не любили, да и не могли любить, — был пойман в фонографическом культе блюза.[374] Попытки обнаружить истоки блюза в негритянской народной музыке, возможно, ведут в неправильном направлении. Между тем, английский дирижер и композитор Констант Ламберт[375] в книге «Музыка, эй!»[376] описывает блюз как предшественник джаза периода после первой мировой войны. Он приходит к выводу, что великий расцвет джаза в двадцатые годы был массовой реакцией на заумное богатство и оркестровую утонченность периода Дебюсси[377] и Делиуса.[378] Казалось, джаз должен был стать эффективным мостиком между высокоинтеллектуальной и невзыскательной музыкой, примерно таким же, какой проложил Чаплин в киноискусстве. Письменные люди с энтузиазмом приняли эти мосты; Джойс ввел Чаплина в свой «Улисс» в образе Блума, а Элиот точно так же встроил джаз в ритмы своей ранней поэзии.
Клоун-Сирано в исполнении Чаплина в такой же мере является частью глубокой меланхолии, как и навеянное образом Пьеро искусство Лафорга и Сати. Не заложено ли все это в самом триумфе механики и в изъятии из нее человека? Могло ли вообще механическое подняться выше уровня говорящей машины, подражающей голосу и танцу? Не схватывается ли в известных строках Т. С. Элиота о машинистке джазовой эпохи весь пафос века Чаплина и регтаймового блюза?
Когда девица во грехе падет И в комнату свою одна вернется — Рукою по прическе проведет И модною пластинкою займется.[379]Если толковать элиотовского «Пруфрока» как комедию в духе Чаплина, сразу становится ясен его смысл. Пруфрок — это законченный Пьеро, маленькая кукла-марионетка механической цивилизации, стоящей на пороге скачка в свою электрическую фазу.
Трудно переоценить значимость таких сложных механических форм, как кинофильм и фонограф, как прелюдии к автоматизации человеческого пения и танца. Как приблизилась к совершенству эта автоматизация человеческого голоса и жеста, так приблизилась к автоматизации человеческая рабочая сила. Ныне, в электрическую эпоху, сборочная линия с ее людскими руками исчезает, а электрическая автоматизация ведет к устранению из промышленности рабочей силы. Вместо того, чтобы автоматизироваться самим — дробить самих себя в своих задачах и функциях, — как это было при механизации, люди в электрическую эпоху все более движутся к одновременному вовлечению в разные виды работ, к труду, заключающемуся в обучении, и к компьютерному программированию.
Эта революционная логика, присущая электрической эпохе, в полной мере проявилась в ранних электрических формах телеграфа и телефона, давших стимул созданию «говорящей машины». Эти новые формы, сделавшие так много для восстановления вокального, слухового и миметического мира, подавленного печатным словом, породили также странные новые ритмы «века джаза» и всевозможные формы синкопы[380] и символистской прерывности, которые, наравне с теорией относительности и квантовой физикой, возвестили о завершении эры Гутенберга с ее ровными, единообразными линиями печатного набора и организации.
Слово «джаз» происходит от французского jaser, «трепаться». Джаз — это, в сущности, форма диалога между музыкантами и танцорами. Таким образом, он, видимо, ознаменовал собой внезапный разрыв с гомогенными и повторяющимися ритмами плавного вальса. В эпоху Наполеона и лорда Байрона, когда вальс был еще новой формой, его приветствовали как варварское осуществление руссоистской мечты о благородном дикаре.[381] Сколь бы теперь ни казалась абсурдной эта идея, она на самом деле дает ценнейший ключ к пониманию восходящей механической эпохи. Безличный хоровой танец старого придворного образца был отброшен, когда вальсирующие заключили друг друга в объятья. Вальс точен, механичен и милитаристичен, о чем свидетельствует его история. Чтобы вальс полностью проявил свой смысл, в нем должна присутствовать военная одежда. «Шумело к ночи буйное веселье», — так писал лорд Байрон о вальсе накануне Ватерлоо.[382] Восемнадцатому веку и эпохе Наполеона гражданские армии казались индивидуалистическим избавлением от феодальных рамок придворных иерархий. Отсюда ассоциация вальса с благородным дикарем, означающая не более чем свободу от статуса и иерархического почтения. Все вальсирующие были единообразны и равны, пользуясь правом свободного движения в любой части зала. То, что именно таково было романтическое представление о жизни благородного дикаря, теперь кажется странным, но романтики знали о реальных дикарях так же мало, как и о конвейерных линиях.
В нашем столетии о пришествии джаза и регтайма тоже возвестили как о вторжении примитивного туземца. Ненавистники джаза имели привычку апеллировать к красоте механического и повторяющегося вальса, который некогда был встречен как чисто туземный танец. Если рассматривать джаз как разрыв с механизмом в пользу прерывного, участного, спонтанного и импровизационного, то в нем можно увидеть и возвращение к своего рода устной поэзии, в которой исполнение является одновременно творением и сочинением. Среди джазовых исполнителей считается самоочевидным, что записанный джаз «так же несвеж, как вчерашняя газета». Джаз характеризуется такой же живой непосредственностью, как разговор, и, подобно разговору, зависит от репертуара наличных тем. При этом исполнение является сочинением. Такое исполнение гарантирует максимальное участие как со стороны игроков, так и со стороны танцоров. Если представить дело так, сразу становится очевидно, что джаз принадлежит к тому семейству мозаичных структур, которое вновь появилось в западном мире вместе с телеграфными услугами. Он сродни символизму в поэзии и многочисленным аналогичным формам в живописи и музыке.
Связь фонографа с песней и танцем не менее глубока, чем его ранняя связь с телеграфом и телефоном. Когда в шестнадцатом веке впервые были опубликованы музыкальные партитуры, слова и музыка начали дрейфовать по отдельности. Обособленная виртуозность голоса и инструментов стала основой великих музыкальных достижений восемнадцатого и девятнадцатого столетий. Тот же тип фрагментации и специализма в искусствах и науках сделал возможными гигантские результаты в промышленности и военном деле, а также в таких массивных кооперативных предприятиях, как газета и симфонический оркестр.
Фонограф как продукт организации и распределения промышленного, конвейерного типа, разумеется, проявлял мало из тех электрических качеств, которые вдохновили Эдисона на его изобретение. Были пророки, которые могли прорицать великий день, когда фонограф поможет медицине, дав медицинское средство проведения различий между «истерическим рыданием и меланхолическим вздохом… удушливым кашлем больного коклюшем и сухим покашливанием туберкулезника. Он станет экспертом по сумасшествию, проведя различие между смехом маньяка и бредом идиота… Он совершит этот подвиг в приемной, пока врач будет занят своим последним пациентом». На практике, однако, фонограф так и остановился на голосах всевозможных Синьор Сирен, бассо теноров, робусто профундо.
До конца первой мировой войны звукозаписывающие устройства всё никак не осмеливались прикоснуться к таким тонким вещам, как оркестр. Задолго до этого один энтузиаст взглянул на звукозапись как на соперницу фотоальбома и ускорение того счастливого дня, когда «будущие поколения будут способны сконденсировать в пространстве двадцати минут звуковое изображение целой жизни: пять минут будут отведены детскому лепету, пять минут — мальчишескому ликованию, пять минут — рефлексиям мужчины и пять минут — затухающему бормотанию старика, прикованного к смертному одру». Немного позднее Джеймс Джойс поступил еще лучше. Он превратил «Поминки по Финнегану» в звуковую поэму, сконденсировавшую в одном предложении все лепеты, крики ликования, наблюдения и раскаяния всего рода человеческого. Он не мог даже задумать такое произведение в любую другую эпоху, кроме той, которая породила фонограф и радио.
В конечном счете, именно радио внесло полный электрический заряд в мир фонографа. Радиоприемник образца 1924 года был уже выше по качеству звучания и вскоре стал подавлять фонограф и звукозаписывающий бизнес. Со временем радио восстановило бизнес звукозаписи, расширив массовые вкусы в направлении классики.
Реальный прорыв произошел после второй мировой войны, когда стали доступны магнитофоны. Это означало конец записи звука с помощью насечек и сопутствовавшего этому поверхностного шума. В 1949 году эра электрической аппаратуры класса hi-fi стала еще одним спасителем фонографического бизнеса. Вскоре предъявляемое ею требование «реалистичного звука» срослось с телевизионным образом, и это было частью реанимации тактильного опыта. Ибо создание впечатления присутствия играющих инструментов «прямо в той комнате, где вы находитесь» — это стремление достичь союза слухового и тактильного в точности струнных инструментов, а это в значительной степени скульптурный опыт. Быть в присутствии музыкантов-исполнителей значит переживать их прикасание к инструментам и обращение с ними как тактильное и кинетическое событие, а не только звуковое. Таким образом, можно сказать, что аппаратура класса hi-fi — это не поиск абстрактных звуковых эффектов в отрыве от других чувств. С появлением hi-fi фонограф встречается с тактильным вызовом телевидения.
Стереозвук, ставший очередным достижением, представляет собой «всеобъемлющий» или «обволакивающий» звук. Прежде звук шел из одной точки, в соответствии со склонностью визуальной культуры к фиксированной точке зрения. Переворот, вызванный аппаратурой hi-fi, реально стал для музыки тем же, чем был кубизм для живописи и символизм для литературы, а именно: принятием множественных граней и планов в едином опыте. Иными словами, стереозвук есть глубинный звук, подобно тому, как телевидение есть визуальная глубина.
Пожалуй, не будет большим противоречием сказать, что как только средство коммуникации становится средством глубинного опыта, старые категории «классического» и «популярного», «высокоинтеллектуального» и «простонародного» перестают существовать. Лицезрение по телевидению операции, проводимой ребенку с врожденным пороком сердца, не подпадает ни под одну из этих категорий. Когда появились долгоиграющая пластинка, hi-fi и стерео, пришел также и глубинный подход к музыкальному опыту. Каждый человек утратил трудности с восприятием «высокоинтеллектуального», а серьезные люди утратили свою предвзятость в отношении популярной музыки и культуры. Все, к чему бы ни подходили с глубинными мерками, приобретает не меньший интерес, чем самые великие вопросы. Ибо «глубина» означает «во взаимосвязи», а не «в изоляции». Глубина означает не точку зрения, а озарение; озарение же есть своего рода ментальное вовлечение в процесс, заставляющее содержательную сторону предмета казаться совершенно вторичной. Само сознание есть инклюзивный процесс, вообще не зависящий от содержания. Сознание не постулирует сознания чего бы то ни было в частности.
Что касается джаза, то долгоиграющая пластинка внесла в него многочисленные изменения, например, культ «настоящего кул-друла», ибо значительно возросшая продолжительность звучания одной стороны пластинки означала, что джаз-бэнд получил реальную возможность для долгого и свободного разговора между инструментами. Благодаря этим новым средствам репертуар 20-х годов был возрожден и получил новую глубину и сложность. Вместе с тем, сочетание магнитофона с долгоиграющей пластинкой революционизировало репертуар классической музыки. Как магнитофонная лента ознаменовала начало новых исследований устных (а не письменных) языков, так она вобрала в себя и всю музыкальную культуру многих столетий и стран. Там, где раньше существовала узкая выборка из разных периодов и композиторов, магнитофон в сочетании с долгоиграющей пластинкой подарил полную гамму музыки, сделав шестнадцатое столетие столь же доступным, как и девятнадцатое, а китайскую народную песню — такой же близкой, как и венгерская.
Краткое резюме технологических событий, имеющих отношение к фонографу, можно было бы представить следующим образом.
Телеграф перевел письмо в звук, и этот факт непосредственно связан с рождением телефона и фонографа. С появлением телеграфа единственными оставшимися стенами являются языковые стены, которые легко сметаются фотографией, кино и фототелеграфией. Электрификация письма была почти таким же великим шагом в невизуальное слуховое пространство, как и последующие шаги, предпринятые вскоре после этого телефоном, радио и телевидением.
Телефон: речь без стен.
Фонограф: музыкальный холл без стен.
Фотография: музей без стен.
Электрический свет: пространство без стен.
Кино, радио и телевидение: классная комната без стен.
Собиратель пищи снова возрождается, но теперь уже как собиратель информации. И в этой роли электронный человек является кочевником не меньше, чем его палеолитические предки.
ГЛАВА 29. КИНО МИР, НАМОТАННЫЙ НА КАТУШКУ
В Англии кинотеатр первоначально называли «Биоскопом» (от греч. биос, «образ жизни»), так как он визуально представлял реальные движения живых форм. Кино, с помощью которого мы наматываем реальный мир на бобину, чтобы потом раскрутить его как ковер-самолет нашей фантазии, — это выставленное напоказ бракосочетание старой механической технологии с новым электрическим миром. В главе, посвященной колесу, мы уже рассказывали, что кино родилось из попытки сфотографировать летящие копыта скачущих лошадей, и это было весьма символично, ведь установить последовательный ряд фотокамер для изучения живого движения значит особым образом соединить механическое с органическим. В средневековом мире, что любопытно, изменение органических существ представлялось в виде последовательной смены одной статичной формы другой. В воображении людей того времени жизнь цветка была своего рода кинематографической чередой фаз, или сущностей. Кино есть полное осуществление средневековой идеи изменения в форме развлекательной иллюзии. К появлению кинофильма, как и телефона, были напрямую причастны физиологи. В фильме механическое предстает как органическое, а рост цветка можно изобразить так же легко и свободно, как движение лошади.
Сплавляя воедино механическое с органическим в мире волнообразно колеблющихся форм, кино сближается с технологией печати. Задача читателя, образно говоря, в том, чтобы следить за черно-белыми последовательностями кадров, составляющими суть книгопечатания, снабжая их собственной звуковой дорожкой. Он пытается следить за очертаниями авторского разума, работая на разных скоростях и пользуясь различными иллюзиями понимания. Трудно переоценить ту связь между печатью и кино, которая выражена в их способности пробуждать фантазию в зрителе или читателе. Сервантес целиком и полностью посвятил своего «Дон Кихота» этому аспекту печатного слова и его способности создавать особый тип человека, который Джеймс Джойс на протяжении всей книги «Поминки по Финнегану» называет «алфавитно-мыслящим» (ABCED-minded), — человека, которого можно одновременно понимать и как «отсказанного вовне» (ab-said), и как «отсутствующего» (absent), и как просто контролируемого алфавитом.[383]
Задача писателя или кинорежиссера состоит в том, чтобы перенести читателя или зрителя из одного мира, их собственного, в другой, созданный книгопечатанием и кино. Этот перенос настолько очевиден и настолько всеобъемлющ, что люди, переживая такой опыт, принимают его на подпороговом уровне и без крупицы критического осознания. Сервантес жил в мире, где печать была столь же нова, как кино сегодня на Западе, и ему казалось очевидным, что печать — точно так же, как в наше время экранные образы — узурпировала реальный мир. Под их чарами читатель и зритель превратились в грезящих сновидцев, как сказал в 1926 году о кинофильме Рене Клер.[384]
Как невербальная форма опыта, кино, подобно фотографии, есть форма высказывания без синтаксиса. В действительности, однако, кино — так же, как печать и фотография — предполагает наличие у своих потребителей высокого уровня письменной грамотности и для людей бесписьменных оказывается непостижимым. Наше грамотное принятие обычного движения глаза камеры, преследующего предмет или выпускающего его из виду, неприемлемо для африканской киноаудитории. Если кто-то исчезает из кадра, африканец желает знать, что с ним произошло. Письменная же аудитория, привыкшая следовать строка за строкой за печатной фантазией, не ставя под сомнение логику линейности, принимает последовательный киноряд без возражений.
Рене Клер подметил, что если на сцене присутствуют одновременно два или три человека, драматург должен беспрестанно мотивировать или объяснять, почему они вообще там находятся. Кинозритель, в свою очередь, как и читатель книги, принимает саму последовательность как рациональную. На что бы ни оборачивалась камера, аудитория все приемлет. Мы переносимся в иной мир. Как заметил Рене Клер, экран открывает парадную дверь в гарем прекрасных видений и подростковых грез, в сравнении с которыми даже самое восхитительное реальное тело кажется ущербным. Йейтс усматривал в кино мир платоновский идей, где кинопроектор играет «пенистой рябью, прячущей под собой духовную парадигму вещей». Это и был тот самый мир, куда наведывался Дон Кихот после того, как обнаружил его, заглянув в крупноформатную дверь новонапечатанных романов.
Итак, тесная связь между катушечным миром кино и переживанием печатного слова в частной фантазии имеет незаменимое значение для принятия западным человеком кинематографической формы. Даже сама киноиндустрия считает свои величайшие достижения почерпнутыми из романов, и, надо сказать, не без оснований. Как в катушечной своей форме, так и в форме сценария, фильм нерасторжимо связан с книжной культурой. Достаточно представить на мгновение фильм, основанный на газетной форме, и мы увидим, насколько близок фильм к книге. Теоретически, ничто не мешает использовать кинокамеру для фотографирования сложных групп предметов и событий в тех конфигурациях выходных данных, в которых они представлены на газетной странице. На самом деле, к такому конфигурированию или «сгромождению» поэзия склонна больше, чем проза. Поэзия символизма имеет много общего с мозаикой газетной страницы, хотя лишь очень немногие могут отстраниться от единообразного и связного пространства в достаточной степени, чтобы постичь смысл символистских стихотворений. С другой стороны, туземцам, очень мало контактирующим с фонетической письменностью и линейной печатью, приходится учиться «видеть» фотографии или фильмы так же упорно, как нам приходится учить свои буквы. После многолетних попыток научить аф-риканцев читать их буквы с помощью кинофильма, Джон Уилсон из Африканского института при Лондонском университете пришел к заключению, что проще научить их сначала читать буквы, а уж потом приобщать к кинограмотности. Ведь даже уже приучившись «видеть» кинокартины, туземцы не могли принять наши идеи временных и пространственных «иллюзий». Посмотрев фильм «Бродяга» Чарли Чаплина,[385] африканская аудитория приходила к выводу, что европейцы — маги, способные возвращать жизнь. Она видела киногероя, перенесшего сокрушительный удар в голову без малейших признаков боли. Когда камера смещается, они думают, что их взору открываются движущиеся деревья, растущие или съеживающиеся дома, ибо они не могут, как письменные люди, допустить непрерывность и единообразие пространства. Бесписьменные люди просто не схватывают светотеневые эффекты перспективы и дистанцирования, которые мы считаем врожденным человеческим оснащением. Письменные люди мыслят причину и следствие как расположенные последовательно, как если бы одна вещь подталкивала другую вперед физической силой. Бесписьменные люди проявляют очень мало интереса к такого рода «действенным» причине и следствию, но очарованы скрытыми формами, производящими магические результаты. Бесписьменные и невизуальные культуры интересуются скорее внутренними, нежели внешними причинами. Поэтому письменный Запад и видит весь остальной мир скованным цельносплетенной паутиной суеверия.
Подобно устному русскому, африканец не будет воспринимать внешний вид и звук вместе. Звуковое кино стало днем страшного суда для русского фильмопроизводства, потому что русским, как и любой другой отсталой или устной культуре, свойственна неудержимая потребность в участии, которая при добавлении звука к визуальному образу перестает удовлетворяться. И Пудовкин,[386] и Эйзенштейн осуждали звуковой фильм, но считали, что если пользоваться звуком символически и контрапунктически, а не реалистически, то результат будет не так вреден для визуального образа. Неудержимая тяга африканца к групповому участию, распеванию песен и выкрикиванию во время киносеансов полностью фрустрируется звуковой дорожкой. Наши звуковые фильмы были дальнейшим довершением визуальной упаковки как простого потребительского товара. Ибо в случае немого фильма мы сами автоматически обеспечиваем себя звуком посредством «довершения», или завершения. А когда он уже заполнен за нас другими, участия в работе образа становится гораздо меньше.
Кроме того, выяснилось, что бесписьменные люди не знают, как зафиксировать свой взгляд — подобно тому, как это делают люди Запада — на расстоянии нескольких футов от киноэкрана или на некотором расстоянии от фотографии. В результате, они обшаривают глазами фотографию или экран так, как могли бы ощупывать их руками. Именно эта привычка использовать глаза как руки делает европейских мужчин столь «сексуальными» для американских женщин. Только крайне письменное и абстрактное общество приучается фиксировать глаза так, как мы должны это делать при чтении печатной страницы. Для тех, кто фиксирует свое зрение подобным образом, возникает перспектива. В туземном искусстве есть великая утонченность и синестезия, но нет перспективы. Старое мнение, будто на самом деле в перспективе видит каждый, но только художники эпохи Возрождения научились ее изображать, ошибочно. Наше первое телевизионное поколение быстро теряет эту привычку визуальной перспективы как сенсорную модальность, и в то время как совершается это изменение, рождается интерес к словам не как к чему-то визуально единообразному и непрерывному, а как к уникальным глубинным мирам. Отсюда общее помешательство на каламбурах и игре слов, проникшее даже в степенные рекламные объявления.
На фоне других средств коммуникации, таких, как печатная страница, фильм обладает способностью сохранять и передавать огромный объем информации. В одно мгновение он представляет сцену ландшафта с фигурами, которая потребовала бы в прозе нескольких страниц описания. В следующее мгновение он повторяет эту детальную информацию и может продолжать повторять ее дальше. Писатель, со своей стороны, не располагает средствами, которые позволяли бы ему удерживать перед читателем массу подробностей в большом блоке, или гештальте. Как фотография толкает художника в сторону абстрактного, скульптурного искусства, так и фильм подтолкнул писателя к экономии слов и глубинному символизму, в которых фильм не может с ним соперничать.
Еще одну грань чистого количества данных, могущего присутствовать в кинокадре, иллюстрируют такие исторические фильмы, как «Генрих V» и «Ричард III». Здесь при изготовлении декораций и костюмов было проведено масштабное исследование, которое ныне любой шестилетний ребенок может провести так же легко, как и взрослый. Т. С. Элиот рассказывал, как при постановке фильма по его «Убийству в соборе»[387] нужно было не просто найти костюмы того времени, но и чтобы эти костюмы — насколько же велика точность и тирания глаза кинокамеры! — были связаны теми же способами, которые использовались в двенадцатом веке. Средь океана иллюзий Голливуд должен был обеспечить еще и аутентичные ученые копии многочисленных сцен прошлого. Театральная сцена и телевидение могут обходиться весьма грубыми приближениями, ибо предлагают образ низкой определенности, ускользающий от подробного обследования.
Поначалу, однако, именно в детальнейшем реализме таких писателей, как Диккенс, черпали свое вдохновение пионеры кинематографа, в частности, Д. У. Гриффит,[388] возивший с собой на место выездных съемок экземпляр романа Диккенса. Реалистический роман, родившийся в XVIII веке вместе с газетной формой общественного среза и удовлетворения человеческих интересов, был полным предвосхищением формы кинофильма. Даже поэты восприняли тот же панорамный стиль с изменчивыми виньетками человеческого интереса и крупными планами. «Элегия» Грея,[389] «Субботний вечер поселянина» Бёрнса,[390] «Михаил» Уордсворта[391] и «Паломничество Чайлд Гарольда» Байрона все как на подбор напоминают покадровые сценарии какого-нибудь сегодняшнего документального фильма.
«Все началось с чайника…» Так начинается «Сверчок за печкой» Диккенса.[392] Если современный роман вышел из гоголевской «Шинели», то современное кино, говорит Эйзенштейн, вскипело в этом чайнике. Должно быть ясно, что американскому и даже британскому подходу к кинофильму во многом недостает того свободного взаимодействия между чувствами и средствами коммуникации, которое кажется совершенно естественным Эйзенштейну или Рене Клеру. Русским особенно легко подходить к любой ситуации структурно, а значит — скульптурно. Для Эйзенштейна целостный факт фильма заключался в том, что он есть «акт сопоставления». Однако для культуры, находящейся на крайнем пределе книгопечатного обусловливания, сопоставление должно быть лишь сопоставлением единообразных и связанных друг с другом характеров и качеств. Не должно быть никаких скачков от уникального пространства заварочного чайника к уникальному пространству котенка или ботинка. Если такие предметы появляются, они должны быть выровнены каким-то непрерывным нарративом, или «заключены» в какое-то единообразное изобразительное пространство. Чтобы произвести фурор, Сальвадору Дали оказалось достаточно позволить комоду или огромному пианино существовать в собственном пространстве на фоне какой-нибудь Сахары или альпийского пейзажа. Просто вызволив объекты из единообразного непрерывного пространства книгопечатания, мы получили современное искусство и поэзию. Психическое давление книгопечатания можно измерить шумом, который был спровоцирован этим освобождением. У большинства людей образ собственного Я, видимо, настолько обусловлен книгопечатанием, что электрическая эпоха с ее возвращением к инклюзивному опыту угрожает их представлению о самих себе. Это такие фрагментированные Я, для которых специалистский тяжелый труд уже саму перспективу досуга и беззаботной незанятости работой превращает в ночной кошмар. Электрическая одновременность кладет конец специалистской выучке и деятельности и требует даже от личности глубинной взаимосвязи.
Прояснить суть дела помогают фильмы Чарли Чаплина. Его «Новые времена»[393] задумывались как сатира на фрагментарность современных задач. Будучи клоуном, Чаплин проявляет прямо-таки акробатическое мастерство в подражании проработанной некомпетентности, ибо всякая специалистская задача оставляет без дела большинство наших способностей. Клоун напоминает нам о нашем раздробленном состоянии, хватаясь за акробатические, или специальные, рабочие задачи в духе целостного, или интегрального человека. Такова формула беспомощной некомпетентности. На улице, в ситуациях общения, на сборочной линии рабочий не прекращает своих судорожных подергиваний. Жестикуляция этого фильма Чаплина, а также других, точно повторяет движения робота, или механической куклы, глубинный пафос которой состоит в том, чтобы максимально приблизиться к состоянию человеческой жизни. Во всех своих работах Чаплин исполнял марионеточный балет в духе Сирано де Бержерака. Чтобы поймать этот кукольный пафос, Чаплин (верный почитатель балета и личный друг Павловой) с самого начала принял положения ступней из классического балета. Тем самым он сумел окружить себя аурой «Spectre de la Rose»,[394] мерцающей вокруг его шутовского внешнего вида. Из британского мюзик-холла, где он сначала учился, он с подлинной гениальностью перенял такие образы, как, например, мистера Чарлза Путера — западающий в память образ никого. Сохраняя верность позициям из классического балета, он наделил этот претенциозно-благовоспитанный образ сказочно-романтической оболочкой. Новая кинематографическая форма была идеально приспособлена к этому сложному образу, поскольку кинофильм и сам является судорожным механическим балетом рывков, рождающим чисто сновиденческий мир романтических иллюзий. Однако форма кинофильма — не просто марионеточный танец арестованных кадров, ибо ей удается приблизиться к реальной жизни и даже превзойти ее средствами иллюзии. Поэтому Чаплин — по крайней мере, в своих немых картинах — никогда не испытывал соблазна отбросить марионеточную роль Сирано, начисто лишенного способности любить по-настоящему. Чаплин открыл в этом стереотипе самое сердце киноиллюзии и мастерски манипулировал этим сердцем как ключом к пафосу механической цивилизации. Механизированный мир всегда пребывает в процессе приготовления к жизни и ради достижения этой цели принимает самую ужасающую помпу искусности, методичности и изобретательности.
Фильм довел этот механизм до крайнего предела механичности и перебросил в сюрреализм грез, которые можно купить за деньги. Ничто так не конгениально форме фильма, как этот пафос сверхизобилия и могущества, доставшихся в наследство кукле-марионетке, для которой они так никогда и не могут стать реальными. Это ключ к «Великому Гэтсби»,[395] где момент истины достигается, когда Дэйзи теряет самообладание, созерцая великолепную коллекцию рубашек Гэтсби. Дэйзи и Гэтсби живут в показном мире, который одновременно и испорчен властью, и невинно пасторален в своих грезах.
Кино не только есть наивысшее выражение механизма, оно еще и парадоксальным образом предлагает как свой продукт самый магический из потребительских товаров, а именно — грезы. И потому не случайно, что кино отличилось как средство коммуникации, предложившее бедным роли богатых и власть имущих, о которых даже в корыстолюбивых грезах не мечталось. В главе, посвященной фотографии, было, в частности, отмечено, что фотография в прессе заставила по-настоящему богатых людей сойти с путей показного потребления. Показную жизнь, которую фотография отобрала у богатых, кино щедрой рукой раздает бедным:
О, какая удача, как мне повезло! Я буду жить в роскоши, Потому что мой карман полон грез.Голливудские заправилы не ошиблись, когда положились в своих действиях на допущение, что кино даст американскому иммигранту средство безотлагательного самоосуществления. Эта стратегия, сколь бы она ни была достойна сожаления в свете «абсолютного идеального добра», совершенным образом гармонировала с формой фильма. Это означало, что в 20-е годы американский образ жизни был упакован и экспортирован во все уголки земного шара. Мир принялся энергично скупать упакованные грезы. Фильм не просто сопровождал первую великую потребительскую эпоху; это был также стимул, реклама и сам по себе основной товар. Теперь благодаря исследованию средств коммуникации стало ясно, что с точки зрения способности хранить информацию в доступной форме фильм находится вне конкуренции. Со временем аудиопленка и видеозапись должны были превзойти фильм в качестве хранилищ информации. Однако фильм до сих пор остается главным источником информации и соперничает в этом плане с книгой, технологию которой он во многом продолжил и во многом превзошел. В настоящее время фильм пока, образно говоря, находится в стадии рукописи; вскоре под нажимом телевидения он перейдет в свою портативную, доступную, печатно-книжную фазу. В скором времени каждый будет иметь возможность обзавестись небольшим и недорогим кинопроектором, проигрывающим 8-миллиметровую звуковую кассету так, как если бы это было на телеэкране. Этот тип развития является частью нашего нынешнего технологического взрыва вовнутрь. Сегодняшняя диссоциация проектора и экрана — наследие старого механического мира взрывного распыления и разделения функций, который теперь, с наступлением электрического сжатия, подходит к своему концу.
Книгопечатный человек с готовностью принял фильм именно потому, что тот, подобно книгам, предлагает внутренний мир фантазий и грез. Кинозритель сидит в психологическом одиночестве, подобно безмолвному читателю книги. Иначе обстояло дело с читателем рукописи, и иначе оно обстоит с телезрителем. Неприятно включать телевизор только для одного себя в комнате отеля или даже дома. Телевизионный мозаичный образ требует социального достраивания и диалога. Так же обстоит дело с рукописью до книгопечатания, поскольку рукописная культура является устной и требует диалога и спора, что демонстрирует вся культура античного и средневекового миров. Одним из основных давлений телевидения было стимулирование развития «обучающей машины». Эти приспособления фактически представляют собой адаптации книги, ведущие ее в сторону диалога. Обучающие машины — поистине частные учителя, и их ложное название, основанное на том же самом принципе, который породил названия «беспроволочный телеграф» и «безлошадный экипаж», всего лишь еще один пример в длинном ряду наименований, показывающих, что каждое нововведение должно проходить в своем развитии через первичную стадию, на которой новое воздействие еще обеспечивается старым методом, усложненным или модифицированным какой-нибудь новой чертой.
На самом деле, фильм — не единичное средство коммуникации вроде песни или письменного слова, а коллективная художественная форма, в которой цветом, освещением, звуком, действованием и говорением ведают разные индивиды. Пресса, радио, телевидение и комикс тоже суть художественные формы, зависящие от целых команд сотрудников и иерархизации навыков в корпоративном действии. До появления кино самый показательный пример такого корпоративного художественного действия явил себя на заре становления индустриализованного мира, и им стали новые симфонические оркестры девятнадцатого века. Парадоксально, но по мере того как индустрия все дальше продвигалась по своему пути специализированной фрагментации, она все больше требовала групповой работы в сферах сбыта и снабжения. Симфонический оркестр стал основным выражением результирующей мощи такого координированного усилия, хотя от самих исполнителей этот эффект ускользнул — как в симфонии, так и в промышленности.
Когда недавно редакторы журналов внедрили в построение проблемных статей процедуры киносценариев, проблемная статья вытеснила короткий очерк. В этом смысле фильм конкурент книги. (В свою очередь, телевидение в силу своей мозаичной власти конкурент журнала.) Идеи, преподносимые — почти как в обучающей машине — в виде последовательности кадров или иллюстрированных ситуаций, фактически вытеснили короткий очерк из журнального поля.
Голливуд боролся с телевидением главным образом тем, что стал дополнением к телевидению. Подавляющая часть киноиндустрии в настоящее время занимается поставкой телевизионных программ. Вместе с тем, была опробована и новая стратегия: крупнобюджетная картина. Факты говорят, что «Техниколор» — это ближайшая точка, до которой кино способно приблизиться к эффекту телевизионного образа. «Техниколор» значительно снижает фотографическую интенсивность и в какой-то мере создает визуальные условия для участного зрительства. Пойми Голливуд причину успеха «Марти», и телевидение, возможно, подарило бы нам революцию в кино. «Марти» — это телевизионное шоу, вышедшее на экран в форме визуального реализма, имевшего низкую интенсивность, или низкую определенность. Оно не было историей успеха; в нем не было звезд, ибо низко-интенсивный телевизионный образ абсолютно несовместим с высокоинтенсивным образом звезды. Шоу «Марши», выглядевшее фактически как раннее немое кино или старая русская кинокартина, давало киноиндустрии все ключи, в которых та нуждалась, чтобы достойно встретить вызов телевидения.
Такого рода небрежный, холодный реализм легко отдал преимущество новым британским фильмам. «Комната наверху»[396] знаменует торжество нового холодного реализма. Это не только не история успеха; это еще и объявление о конце упаковывания Золушки в наряды, подобно тому, как Мэрилин Монро положила конец системе звезд. «Комната наверху» — это история о том, что чем выше забирается обезьяна, тем отчетливее становится видна ее задница. Мораль такова, что успех не только порочен, но и является формулой нищеты. Такому горячему средству, как кинофильм, очень трудно принять холодное сообщение телевидения. Однако фильмы Петера Селлерса «Со мной все в порядке, Джек» и «Играют только вдвоем» совершенно созвучны той новой сдержанности, которую создал холодный телевизионный образ. Такое же значение имеет двусмысленный успех «Лолиты».[397] Принятие ее как романа оповестило о рождении антигероического подхода к роману. Киноиндустрия давно протоптала королевскую дорогу к роману, поддерживая высокопарный дух истории успеха. «Лолита» объявила о том, что королевская дорога, в конце концов, всего лишь коровья тропа, а что касается успеха, то катись он к чертям собачьим!
В древнем мире и в средние века наибольшей популярностью среди всех историй пользовались истории, посвященные «Падениям королей».[398] С пришествием такого крайне горячего средства коммуникации, как печать, предпочтения изменились и перенеслись на возрастающий ритм и сказки об успехе и внезапном возвышении в свете. Благодаря новому книгопечатному методу мельчайшей единообразной сегментации проблем, казалось, явилась возможность достичь всего. Именно с помощью этого метода со временем было создано кино. Кинофильм как форма был конечным воплощением великого потенциала книгопечатной фрагментации. Но теперь электрическое сжатие обратило весь процесс экспансии через фрагментацию вспять. Электричество вернуло холодный, мозаичный мир имплозивного сжатия, равновесия и стазиса. В нашу электрическую эпоху однонаправленная экспансия обезумевшего индивида, шествующего по пути к вершине, предстает как отвратительный образ растоптанных жизней и порушенных гармоний. Таково подпороговое сообщение телевизионной мозаики с ее тотальным полем одновременных импульсов. Кинопленке и последовательности кадров не остается ничего иного, как склониться перед этой превосходящей силой. Наши мальчишки восприняли близко к сердцу это послание в своем битническом отказе от потребительских нравов и истории частного успеха.
Поскольку лучший способ проникнуть в ядро формы — это изучить ее последствия в какой-нибудь незнакомой обстановке, обратим наше внимание на то, о чем заявил в 1956 году большой группе голливудских администраторов президент Индонезии Сукарно. Он сказал, что считает их политическими радикалами и революционерами, колоссально ускорившими политические изменения на Востоке. В голливудском кино Восток увидел мир, где все люди, даже самые обычные, имеют автомобили, электропечи и холодильники. В итоге, восточный человек считает себя теперь обычным человеком, которого обделили в его элементарных прирожденных человеческих правах.
Это лишь еще один способ разглядеть в таком средстве коммуникации, как кинофильм, гигантскую рекламу потребительских благ. В Америке этот важный аспект кино просто не достигает порога осознания. Будучи далекими от того, чтобы рассматривать наши кинокартины как стимулы, зовущие к смуте и революции, мы принимаем их как утешение и компенсацию, или как форму отсроченной оплаты дневными сновидениями. Но в этом отношении восточный человек прав, а мы заблуждаемся. На самом деле, кино — могущественный орган индустриальной махины. То, что он ампутируется телевизионным образом, есть отражение еще более великой революции, происходящей в самом средоточии американской жизни. Совершенно естественно, что древний Восток чувствует политический нажим и промышленный вызов нашей киноиндустрии. Кино не менее, чем алфавит и печатное слово, есть агрессивная и имперская форма, которая взрывается и проникает в другие культуры. Его взрывная сила в немом кино была значительно выше, чем в звуковом, ибо электромагнитная звуковая дорожка уже предвещает смену механического взрыва вовне электрическим взрывом вовнутрь. Немые кинокартины были непосредственно приемлемы вне зависимости от языковых барьеров, тогда как звуковые фильмы нет. Радио, соединившись с кинофильмом, дало нам звуковое кино и еще дальше продвинуло нас в нашем нынешнем обратном пути имплозивного сжатия, или реинтеграции, на который мы вступили после механической эпохи взрыва и внешней экспансии. Крайняя форма этого сжатия, или уплотнения, — образ астронавта, запертого в своем кусочке всеобъемлющего окружающего пространства. Он вовсе не занят расширением нашего мира вовне, он возвещает о его сжатии до размеров деревни. Ракета и космический корабль кладут конец правлению колеса и машины в такой же мере, в какой это делали телеграфные службы, радио и телевидение.
Теперь мы можем рассмотреть в самом решающем аспекте еще один пример воздействия, оказанного кинофильмом. В современной литературе, вероятно, нет приема более знаменитого, чем поток сознания или внутренний монолог. Будь то в произведениях Пруста, Джойса или Элиота, эта форма последовательности позволяет читателю достичь небывалой идентификации с личностями самого разного рода и склада. Поток сознания создается, на самом деле, путем перенесения техники кино на печатную страницу, откуда она, по большому счету, и появилась; ибо, как мы уже видели, Гутенбергова технология съемных наборных литер совершенно незаменима в любом индустриальном или кинопроизводственном процессе. Как исчисление бесконечно малых величин претендует на работу с движением и изменением посредством мельчайшей их фрагментации, так и фильм делает то же самое, разбивая движение и изменение на серию статичных кадров. Печать поступает аналогичным образом, претендуя на работу со всем разумом в действии. И все-таки фильм и поток сознания, видимо, принесли глубоко желанное освобождение от механического мира возрастающей стандартизации и единообразия. Еще никто не чувствовал себя угнетенным монотонностью или единообразием чаплиновского балета или монотонными, единообразными размышлениями его литературного близнеца Леопольда Блума.
В 1911 году Анри Бергсон в «Творческой эволюции» произвел сенсацию, сопоставив мыслительный процесс с формой кинофильма. На крайнем рубеже механизации, представленном заводом, фильмом и прессой, люди благодаря потоку сознания, или внутреннему фильму, казалось, обрели освобождение и вырвались в мир спонтанности, грез и уникального личного опыта. Начало всему положил, вероятно, Диккенс своим мистером Джинглом из «Посмертных записок Пиквикского клуба».[399] Несомненно, что в «Дэвиде Копперфилде»[400] Диккенс сделал великое техническое открытие, ибо впервые мир реалистически развертывается за счет использования глаз подрастающего ребенка в качестве кинокамеры. Здесь, возможно, был поток сознания в его изначальной форме, существовавшей еще до того, как его приняли Пруст, Джойс и Элиот. Это показывает, как при скрещивании и взаимодействии средств коммуникации разных форм внезапно может произойти обогащение человеческого опыта.
В Таиланде импортные кинофильмы, особенно американские, очень популярны в какой-то степени благодаря ловкой тайской технике обхождения такого препятствия, как чужой язык. В Бангкоке вместо субтитров применяется нечто, называемое «адамо-евствованием». Это нечто принимает форму живого тайского диалога, читаемого через громкоговоритель скрытыми от аудитории тайскими актерами. Посекундный хронометраж и огромная выносливость позволяют этим актерам требовать большего вознаграждения, чем у самых высокооплачиваемых кинозвезд Таиланда.
Каждому когда-то да приходилось желать, чтобы во время киносеанса у него была своя собственная звуковая система, позволяющая вставлять по ходу дела свои комментарии. В Таиланде он мог бы достичь великих высот интерпретативного домысливания во время глупых словесных обменов великих звезд.
ГЛАВА 30. РАДИО ПЛЕМЕННОЙ БАРАБАН
Англия и Америка получили «прививку» против радио, долгое время находившись под воздействием письменности и индустриализма. Эти формы предполагают интенсивную визуальную организацию опыта. У более приземленных и менее визуальных европейских культур иммунитета к радио не было. Его племенная магия не прошла мимо них, и старая сеть родства снова начала резонировать, но теперь уже с нотой фашизма. Неспособность письменных людей постичь язык и сообщение средств коммуникации как таковых нет-нет да и проскальзывает в комментариях социолога Пола Лазарсфельда[401] по поводу оказываемых радио воздействий:
«Последнюю группу воздействий можно назвать монополистическими воздействиями радио. Они привлекли наибольшее внимание общественности в силу их значимости в тоталитарных странах. Если государство монополизирует радио, то с помощью простого повторения и исключения противоположных точек зрения оно может определять мнения населения. О том, как реально работает этот монополистический эффект, мы знаем не так много, но нам важно отметить его исключительность. Не следует делать из него никаких выводов, касающихся воздействия радио как такового. Часто забывают, что Гитлер пришел к власти не благодаря радио, а едва ли не вопреки ему, ибо во время его восхождения к власти радио контролировали его враги. Монополистические воздействия, вероятно, имеют меньшую социальную значимость, чем принято считать».
Беспомощное непонимание природы радио и его воздействия — не личное упущение профессора Лазарсфельда. Это универсальная неспособность, общая для всех.
В радиообращении, сделанном 14 марта 1936 года в Мюнхене, Гитлер сказал: «Я иду своим путем с уверенностью лунатика». Его жертвы и критики были в таком же сомнамбулическом состоянии. Они в трансе танцевали под племенной барабан радио, расширивший вовне их центральную нервную систему и создавший тем самым для каждого глубинное вовлечение. «Я прямо живу внутри радио, когда его слушаю. С радио гораздо легче забыться, чем с книгой», — поведал один голос в ходе радиоопроса. Способность радио глубоко вовлекать людей проявляется в использовании его молодыми людьми во время работы по дому и многими другими людьми, носящими с собой транзисторные приемники, чтобы создать для себя приватный мир в гуще толпы. У немецкого драматурга Бертольда Брехта есть маленькое стихотворение:
Мой маленький ящик, оставайся со мною во время бегства, И пусть твои лампы не перегорят При переноске из дома на судно, с судна на поезд, Дабы враги продолжали все время со мной говорить — У изголовья постели, терзая сердце, Когда отхожу ко сну и когда просыпаюсь, — О своих победах и о моих заботах, Обещай мне, что я не останусь внезапно в безмолвии.Одним из многочисленных воздействий, которое оказало на радио телевидение, стало превращение радио из развлекательного средства коммуникации в своего рода нервную информационную систему. Выпуски новостей, сигналы точного времени, информация о ситуации на дорогах и, прежде всего, сводки погоды служат еще большему повышению способности радио вовлекать людей в жизнь друг друга. Сводка погоды — это тот посредник, который вовлекает в равной степени всех людей. Для радио это информационный блок номер один, омывающий нас фонтанами слухового пространства, или lebensraum.[402]
Не случайно сенатору Маккарти[403] удалось так мало продержаться после того, как он переключился на телевидение. В скором времени пресса решила: «Он больше не новость». Но ни Маккарти, ни пресса так никогда и не узнали, что собственно произошло. Телевидение — холодное средство коммуникации. Оно отвергает горячие фигуры, горячие проблемы и людей из таких горячих средств, как пресса. Фред Аллен[404] был случайным человеком на телевидении. А разве не была таковой Мэрилин Монро? Появись телевидение в широких масштабах во время правления Гитлера, и он бы скоро исчез из виду; приди телевидение еще раньше, и Гитлера вообще бы не было. Когда на американском телевидении появился Хрущев, он был более приемлем, чем Никсон, в качестве клоуна и пользующегося у нас любовью ребячливого старикана. Телевидение сделало его появление комическим номером. Радио, в свою очередь, является горячим средством и принимает карикатурные персонажи всерьез. На радио господин X превратился бы в иное высказывание.
Те, кому довелось слышать по радио дебаты Кеннеди и Никсона, вынесли из них твердое убеждение в превосходстве Никсона. Фатальный промах Никсона состоял в том, что холодному телевизионному средству коммуникации были предложены резкие, высокоопределенные образ и действие, а телевидение перевело этот резкий образ во впечатление пустозвонства. Я полагаю, что «пустозвон» есть нечто неверно резонирующее, нечто, звонящее не по делу. Вполне возможно, не все складно сложилось бы на телевидении и у Франклина Делано Рузвельта. Он научился, по крайней мере, пользоваться горячим средством радиокоммуникации для своей очень холодной задачи ведения беседы у камина. Однако для этого ему пришлось сначала подогреть против себя прессу, чтобы создать для своих радиобесед правильную атмосферу. Он научился, как пользоваться прессой в тесной связке с радио. Телевидение представило бы его в совершенно ином политическом и социальном смешении компонентов и проблем. Возможно, он с удовольствием бы распутал и этот узел, так как обладал особым игровым подходом, нужным для того, чтобы энергично браться за новые и неясные взаимосвязи.
На большинство людей радио воздействует интимно, с глазу на глаз, предлагая мир бессловесной коммуникации между пишущим-говорящим и слушателем. Это непосредственный аспект радио. Приватный опыт. Подпороговые же глубины радио заряжены резонирующими отзвуками племенных горнов и древних барабанов. Это заложено в самой природе данного средства, обладающего способностью превращать душу и общество в единую эхокамеру. Резонирующее измерение радио сценаристы радиопрограмм, за редкими исключениями, не замечают. Знаменитая радиопостановка Орсона Уэллса[405] о вторжении с Марса была простой демонстрацией всепоглощающего и всевовлекающего масштаба создаваемого радио слухового образа. Гитлер внес в радио трактовку реального в духе Орсона Уэллса.
То, что Гитлер вообще обрел политическое существование, напрямую обязано радио и системам публичных выступлений. Это не значит, что данные средства эффективно передавали его мысли германскому народу. Его мысли не имели почти никаких последствий. Радио дало первый массивный опыт электронного взрыва вовнутрь, этого обращения вспять всего направления и смысла письменной западной цивилизации. Для племенных народов, все социальное существование которых есть расширение семейной жизни, радио будет оставаться агрессивным опытом. Высокоразвитым письменным обществам, давно подчинившим семейную жизнь индивидуалистическому акценту бизнеса и политики, удалось абсорбировать и нейтрализовать радиосжатие, обойдясь без революции. Иначе обстоит дело с сообществами, имевшими лишь краткий или поверхностный опыт письменности. Для них радио является в высшей степени взрывным.
Чтобы понять такие эффекты, необходимо рассматривать письменность как книгопечатную технологию, применяемую не только в рационализации всех процедур производства и рыночного распределения, но также в сферах права, образования и городского планирования. Принципы непрерывности, единообразия и повторяемости, почерпнутые из технологии печати, давно пропитали в Англии и Америке все стороны общественной жизни. В этих регионах ребенок усваивает письменность из дорожного движения и улицы, из каждого автомобиля, игрушки и предмета одежды. Обучение чтению и письму является лишь одной из малозначительных граней письменной грамотности в единообразных и непрерывных средах англоязычного мира. Акцент на грамотности — отличительный признак регионов, стремящихся инициировать тот процесс стандартизации, который ведет к визуальной организации труда и пространства. Без производимой письменностью психической трансформации внутренней жизни и разделения ее на сегментированные визуальные части не может быть экономического «взлета», гарантирующего непрерывный поток расширенного изменения товаров и услуг.
В канун 1914 года немцами овладела одержимость «окружающей» угрозой. Все соседние страны создали разветвленные железнодорожные сети, облегчающие мобилизацию человеческих ресурсов. Окружение — в высокой степени визуальный образ, обладавший небывалой новизной для этой только что индустриализованной нации. В 30-е годы немцы, напротив, стали одержимы lebensraum'ом. Это вообще не визуальная категория. Это клаустрофобия, рожденная имплозией радио и сжатием пространства. Поражение в войне отбросило немцев назад — от визуальной одержимости к высиживанию внутри себя резонирующей Африки. Племенное прошлое никогда не переставало быть реальностью для немецкой души.
Именно легкий доступ немецкого и центрально-европейского мира к богатым невизуальным ресурсам слуховой и тактильной формы позволил ему обогатить мир музыки, танца и скульптуры. И, прежде всего, именно его племенная модальность сделала для него легкодоступным новый невизуальный мир субатомной физики, в освоении которого общества, долгое время находившиеся под влиянием письменности и индустриализации, решительно отстают. Богатая область дописьменной жизненности получила со стороны радио горячий толчок. Сообщение радио — это сообщение о неистовом унифицированном сжатии и резонансе. Для Африки, Индии, Китая и даже России радио есть глубинная архаическая сила, временная связь с самым древним прошлым и давно забытым опытом.
Одним словом, традиция — это ощущение всего прошлого как присутствующего сейчас. Ее пробуждение является естественным результатом воздействия радио и вообще электрической информации. В крайне письменных людях, между тем, радио породило глубокое нелокализуемое чувство вины, выражающееся иногда в установке привечать заезжих гостей. Новообретенное человеческое вовлечение вскормило тревогу, неуверенность и непредсказуемость. Поскольку письменность довела до крайнего предела индивидуализм, а радио совершило прямо противоположное, вернув к жизни древний опыт родовых паутин глубокого племенного вовлечения, письменный Запад пытался найти своеобразный компромисс в более широком чувстве коллективной ответственности. Внезапный импульс, подтолкнувший к этой цели, был таким же подпороговым и смутным, как и раннее давление письменности, приведшее к индивидуальному обособлению и безответственности; следовательно, никто не был рад тому положению, в котором очутился. В шестнадцатом веке Гутенбергова технология произвела новый вид визуального, национального единства, который постепенно сросся с промышленным производством и экспансией. Телеграф и радио нейтрализовали национализм, но разбудили архаических племенных духов самой энергичной закваски. Это поистине встреча глаза и уха, взрыва и сжатия, или, как выразился Джойс в «Поминках по Финнегану»: «Тут слухропейский край встречается с Индом». Открытие европейского уха привело к концу открытое общество и вновь внедрило в женщину Западного Края индийский мир племенного человека. Джойс высказывает эти вещи не столько в письменной, сколько в драматической и миметической форме. Читателю достаточно взять любую из фраз такого рода и повторять ее до тех пор, пока она не станет умопостижимой. Этот процесс — недолгий и неутомительный, если подойти к нему в духе свободной игры художника — гарантирует «много забавного в поминках по Финнегану».
У радио, как и у любого другого средства коммуникации, есть свой плащ-невидимка. Оно приходит к нам осязаемо, с приватной и интимной прямотой взаимоотношения лицом-к-лицу, в то время как более важный факт состоит в том, что оно на самом деле является подпороговой эхокамерой магической способности прикасаться к далеким и забытым гармониям. Все наши технологические расширения должны быть окаменевшими и подпороговыми, в противном случае нам не устоять под тем давлением, которое оказывает на нас такое расширение. Радио даже еще больше, чем телефон или телеграф, является расширением центральной нервной системы, соперничать с которым может только сама человеческая речь. Не стоит ли нам тогда поразмыслить над тем, что радио должно быть особенно созвучно этому простейшему расширению нашей центральной нервной системы, этому аборигенному средству массовой коммуникации, коим является родной язык? Скрещение этих двух самых интимных и могущественных человеческих технологий, видимо, не могло не придать человеческому существованию некоторые экстраординарные новые формы. Так и произошло в случае Гитлера, лунатика. Но не воображает ли детрайбализированный и письменный Запад, будто он приобрел иммунитет к племенной магии радио как своей перманентной собственности? В 50-е годы наши тинэйджеры стали проявлять многие из характерных племенных признаков. Подростка, в отличие от тинэйджера, можно теперь классифицировать как феномен грамотности. Не показательно ли, что подросток был характерен только для тех регионов Англии и Америки, где письменность наделила даже пищу абстрактными визуальными значениями? В Европе никогда не было подростков. Там были компаньонки и компаньоны, присматривавшие за молодыми. Ныне радио дает тинэйджеру приватность, но в то же время и тесную племенную связь мира общего рынка, песни и резонанса. Ухо, в отличие от нейтрального глаза, сверхчувствительно. Ухо нетерпимо, закрыто и эксклюзивно, тогда как глаз открыт, нейтрален и общителен. Идеи терпимости пришли на Запад только после двух-трех столетий письменности и визуальной Гутен-берговой культуры. До 1930 года в Германии еще никогда не было такого насыщения визуальными ценностями. Россия от подобного увлечения визуальными порядком и визуальными ценностями пока еще далека.
Когда мы садимся поговорить в темной комнате, слова внезапно приобретают новые значения и иные текстуры. Они становятся даже богаче, чем архитектура, которая, как верно говорит Ле Корбюзье,[406] лучше всего воспринимается ночью. Все те жестовые качества, которые изымает из языка печатная страница, возвращаются в темноте и в радио. Если нам дано только звучание игры, мы должны наполнить содержанием все чувства, а не только внешний вид действия. Самодеятельность, или довершение и «замыкание» действия, настолько развивает в молодых людях своего рода независимое обособление, что делает их далекими и недоступными. Мистический экран звука, которым их наделяют их радиоприемники, обеспечивает приватность их работы по дому и дает им иммунитет к родительским повелениям.
С появлением радио произошли великие изменения в прессе, рекламе, драме и поэзии. Радио предложило новый размах таким любителям розыгрышей, как Мортон Дауни из Си-Би-Эс. Едва только один спортивный комментатор начал свое пятнадцатиминутное чтение заготовленного текста, как к нему тут же присоединился мистер Дауни, который стал стягивать с себя туфли и носки. Далее последовали костюм и штаны, затем нательное белье. Тем временем спортивный обозреватель беспомощно продолжал вести передачу, убеждаясь на собственном опыте в принудительной способности микрофона ставить лояльность выше скромности и порыва к самозащите.
Радио сотворило диск-жокея и вознесло на уровень основной общенациональной роли эстрадного комика. С пришествием радио хохма вытеснила шутку, и виной тому вовсе не эстрадные комики, а то, что радио представляет собой быстрое горячее средство, которое, помимо прочего, урезало пространственные нормы для репортерского сообщения.
Джин Шеперд из WOR (Нью-Йорк) считает радио новым средством коммуникации, требующим нового рода рассказов. Он пишет их по ночам. Ручкой и бумагой для него служит микрофон. Его аудитория и ее знание ежедневных событий в мире снабжают его персонажами, сценами и настроениями. Он считает, что как Монтень первым использовал страницу для регистрации своих реакций на новый мир печатных книг, так и он первым воспользовался радио как формой очерка и новеллы для фиксации нашего общего осознания абсолютно нового мира — мира всеобщего человеческого участия во всех человеческих событиях, частных и коллективных.
Исследователю средств коммуникации трудно объяснить человеческое равнодушие к социальным последствиям этих радикальных сил. Фонетический алфавит и печатное слово, взорвавшие закрытый племенной мир и превратившие его в открытое общество фрагментированных функций и специалистского знания и действия, так до сих пор и не исследованы в своей роли магического трансформатора. Антитетичная им электрическая мощь мгновенной информации, которая обращает социальный взрыв в имплозивное сжатие, частного предпринимателя — в организационного человека, а разрастающиеся вширь империи — в общие рынки, получила так же мало внимания, как и письменное слово. Способность радио ретрайбализировать человечество и почти мгновенно обращать индивидуализм в коллективизм фашистского или марксистского толка осталась незамеченной. Это неосознание настолько не укладывается ни в какие рамки, что именно оно-то и нуждается в объяснении. Трансформирующую силу средств коммуникации объяснить легко, но игнорирование этой силы объяснить очень и очень не просто. Само собой разумеется, что всеобщее игнорирование психического воздействия технологии свидетельствует о некоторой внутренней функции, некотором сущностном онемении сознания вроде того, какое случается при стрессе и шоке.
История радио поучительна как индикатор той односторонности и слепоты, которую индуцирует в любом обществе уже существующая в нем технология. Слово «беспроволочное», до сих пор используемое в Британии в отношении радио, отражает ту же негативную установку в отношении новой формы, которая проявилась в выражении «безлошадный экипаж». Раннюю беспроволочную передачу рассматривали как форму телеграфа; не замечали даже ее связь с телефоном. В 1916 году Давид Сарнофф направил директору Американской Компании Маркони, в которой он работал, памятную записку, в которой отстаивал идею о размещении музыкального ящика в каждом доме. Она была проигнорирована. Это был год Ирландской Пасхи[407] и первого сеанса радиовещания. Беспроволочное радио уже использовали на кораблях в качестве «телеграфной» линии, связывающей корабль с берегом. Ирландские повстанцы воспользовались корабельным беспроволочным радио, но не для передачи сообщения из пункта в пункт, а для рассеянного вещания, в надежде, что их слово достигнет какого-нибудь судна, которое передаст их историю в американскую прессу. Так и случилось. Даже когда радиовещание уже несколько лет как существовало, к нему не проявлялось ни малейшего коммерческого интереса. Именно петиции операторов-любителей, или коротковолновиков, а также их фанатичных поклонников увенчались, в конце концов, некоторыми усилиями по установке радиоприемников. Это подняло шквал недовольства и противодействия со стороны мира прессы, который увенчался в Англии образованием Би-Би-Си и тем, что радио оказалось в тисках газетных и рекламных интересов. Это очевидное соперничество никогда не обсуждалось открыто. Ограничивающее давление прессы на радио и телевидение до сих пор остается горячей проблемой в Британии и Канаде. Однако непонимание природы этого средства делало, как правило, абсолютно тщетной политику сдерживания. Так было всегда, и отчетливее всего это проявилось в государственной цензуре прессы и кино. Поскольку сообщением является само средство коммуникации, контроль над ним выходит за рамки составления программ. Ограничения всегда направлены на «содержание», а им всегда служит другое средство коммуникации. Содержанием прессы является письменное высказывание, подобно тому, как содержанием книги является речь, а содержанием кино — роман. Таким образом, воздействие радио совершенно не зависит от его программного наполнения. Для тех, кто никогда не занимался изучением средств коммуникации, этот факт столь же загадочен, как письменность для туземцев, которые говорят: «Зачем вы пишете? Разве вы не можете запомнить?» Итак, коммерческие компании, думающие о том, как бы сделать средства коммуникации универсально приемлемыми, неизменно опираются на «развлечение» как стратегию нейтральности. Более нарочитый способ по-страусиному спрятать голову в песок изобрести просто невозможно, ибо он гарантирует любому средству коммуникации максимальное всепроникновение. Письменное сообщество всегда будет выступать за дискуссионное или точко-зренческое использование прессы, радио и кино, которое должно в итоге урезать функционирование не только прессы, радио и кино, но в такой же степени и книги. Коммерческая стратегия развлечения автоматически гарантирует любому средству коммуникации максимальную скорость и силу воздействия как на психическую, так и на социальную жизнь. Таким образом она становится комичной стратегией нечаянной самоликвидации, проводимой теми, кто верен постоянству, а не изменению. В будущем единственные эффективные рычаги контроля над средствами коммуникации должны принять термостатическую форму количественного нормирования. Как сейчас мы пытаемся взять под контроль непредвиденные последствия атомной бомбы, так в один прекрасный день мы попытаемся взять под контроль и непредвиденные последствия средств коммуникации. В качестве гражданской защиты от побочных следствий средств коммуникации будет признано образование. Единственным средством коммуникации, от которого наше образование дает сегодня хоть какую-то гражданскую защиту, является печать. Образовательный истэблишмент, основанный на печати, пока не признает за собой никаких других обязательств.
Радио обеспечивает ускорение информации, вызывающее, в свою очередь, ускорение в других средствах. Оно определенно сжимает мир до размеров деревни и создает ненасытную деревенскую тягу к сплетням, слухам и личной злобе. Но в то время как радио сжимает мир до деревенских параметров, оно не вызывает гомогенизации деревенских кварталов. Совсем наоборот. В Индии, где радио является высшей формой коммуникации, есть более дюжины официальных языков и такое же число официальных радиосетей. Эффект радио как воскресителя архаизма и древних воспоминаний не ограничивается гитлеровской Германией. С тех пор как появилось радио, возрождение своих древних языков пережили Ирландия, Шотландия и Уэльс, и еще более крайний случай языкового возрождения представляют израильтяне. Теперь они говорят на языке, который на протяжении столетий был мертвым, присутствуя только в книгах. Радио — не только могучий пробудитель архаических воспоминаний, сил и враждебных чувств, но и децентрализующая, плюралистическая сила, что вообще свойственно электроэнергии и электрическим средствам коммуникации.
Централизм организации базируется на непрерывном, визуальном, линейном структурировании, уходящем своими корнями в фонетическую письменность. А стало быть, сначала электрические средства коммуникации просто дублировали установленные образцы письменных структур. От этих централистских сетевых давлений радио было освобождено телевидением. Затем телевидение приняло бремя централизма, от которого его, возможно, избавит Телстар. Когда телевидение приняло на себя бремя центральной сети, почерпнутое из нашей централизованной промышленной организации, радио обрело свободу диверсифицироваться и приступить к региональному и местному обслуживанию, которого оно еще никогда не знало, даже в первые дни «радиолюбителей-коротковолновиков». С появлением телевидения радио обратилось к индивидуальным потребностям людей в разное время суток, и этот факт сопровождается проникновением многочисленных радиоприемников в спальни, ванные комнаты, кухни, автомобили, а теперь и в карманы. Людям, занятым разными видами деятельности, предлагаются разные программы. Радио, бывшее некогда формой группового прослушивания, опустошившей церкви, с появлением телевидения вновь вернулось в частное и индивидуальное пользование. Тинэйджер выпадает из телевизионной группы, дабы прильнуть к своему частному радиоприемнику.
Естественный крен радио к тесной связи с диверсифицированными группами сообщества ярче всего проявляется в культах диск-жокеев, а также в использовании телефона на манер радио в прославленной форме старого подслушивания телефонных разговоров. Платон, придерживаясь старомодных племенных представлений о политической структуре, говорил, что надлежащий размер города определяется числом людей, которые могут слышать голос глашатая.[408] Даже печатная книга — что уж говорить о радио! — делает политические допущения Платона совершенно нерелевантными для практических задач. И все-таки радио, в силу той легкости, с какой оно устанавливает децентрализованную интимную связь с приватными и небольшими сообществами, может легко воплотить политическую мечту Платона в масштабах всего мира.
Объединение радио с фонографом, образующее типичную радиопрограмму, производит особый образец, безусловно превосходящий по своему могуществу ту комбинацию радио и телеграфной прессы, которая производит наши выпуски новостей и сообщения о погоде. Любопытно, насколько пленительнее по сравнению с новостями сводки погоды, будь то на радио или на телевидении. Не потому ли, что «погода» является всецело электронной формой информации, тогда как новости сохраняют в себе многое от образца печатного слова? Вероятно, именно печатная и книжная склонность Би-Би-Си и Си-Би-Си делает их столь неуклюжими и заторможенными в радио- и телепрезентации. И наоборот, именно насущные коммерческие нужды, а не художественное озарение, утвердили лихорадочную жизнедеятельность в соответствующих американских компаниях.
ГЛАВА 31. ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЗАСТЕНЧИВЫЙ ГИГАНТ
Пожалуй, самым известным и трогательным эффектом телевизионного образа является осанка детей в младших классах. Со времени появления телевидения дети — независимо от состояния зрения — держат голову в среднем на расстоянии шести с половиной дюймов от печатной страницы.[409] Наши дети стремятся перенести на печатную страницу всевовлекающие сенсорные полномочия телевизионного образа. Они выполняют команды телевизионного образа со всем совершенством психоподражательного мастерства. Они пристально разглядывают, они зондируют, они замедляют скорость и глубоко увлекаются. Это то, чему научила их холодная иконография такого средства коммуникации, как книжка комиксов. Телевидение продвинуло этот процесс гораздо дальше. И тут они вдруг переносятся в горячее печатное средство с его единообразными образцами и быстрым линейным движением. Они бессмысленно пытаются читать печать в глубину. Они вкладывают в печать все свои чувства, а печать отвергает их. Печать требует обособленной и оголенной зрительной способности, но никак не единого чувственного аппарата.
Шлем Макуорта, который надевали на детей, смотрящих телевизор, показывал, что их глаза следят не за действиями, а за реакциями. Глаза почти не отрываются от лиц актеров, даже когда идут сцены насилия. С помощью проекции этот шлем показывает одновременно сцену и движение глаз. Такое экстраординарное поведение — еще один показатель очень холодного и вовлекающего характера данного средства коммуникации.
В телешоу Джека Паара 8 марта 1963 года Ричард Никсон был как следует «спаарен» и переделан в подходящий телевизионный образ. Оказалось, что мистер Никсон — и пианист, и композитор. С подлинным тактом по отношению к характеру такого средства, как телевидение, Джек Паар извлек наружу эту фортепианную сторону мистера Никсона, и это произвело замечательный эффект. Вместо прилизанного, благовидного, легального Никсона мы увидели чертовски изобретательного и скромного исполнителя. Несколько своевременных прикосновений вроде этого могли бы полностью изменить результаты кампании Кеннеди—Никсон. Телевидение — это такое средство коммуникации, которое отвергает резко очерченную личность и отдает предпочтение представлению процессов, а не продуктов.
Приспособленность телевидения к процессам, а не к изящно упакованным продуктам объясняет то разочарование, которое испытывают многие люди, когда используют это средство коммуникации в политических целях. В статье Эдит Эфрон в «TV Guide» (18–24 мая 1963 г.) телевидение, в силу его неприспособленности к горячим проблемам и резко определенным спорным темам, было названо «Застенчивым гигантом». Эфрон писала: «Несмотря на официальную свободу от цензуры, молчание, навязанное самим себе, делает документальные программы в сети телевещания едва ли не безмолвными относительно многих крупных злободневных проблем». Будучи холодным средством коммуникации, телевидение — и некоторые это чувствуют — ввело в политическое тело своего рода rigor mortis. И именно необычайно высокая степень участия аудитории в телевизионном средстве коммуникации объясняет его неспособность работать с горячими вопросами. Говард К. Смит[410] подметил: «Вещательные сети довольны, если вы вступаете в спор в стране, удаленной отсюда на 14 000 миль. Они не желают реального спора, реального несогласия дома». Для людей, приученных к такому горячему средству коммуникации, как газета, которое проявляет больше интереса к столкновению взглядов, нежели к глубинному вовлечению в ситуацию, телевизионное поведение остается необъяснимым.
Одна такая горячая новость, имевшая непосредственное отношение к телевидению, была озаглавлена: «Наконец-то это случилось: британский фильм с английскими субтитрами для объяснения диалектов». Фильмом, о котором шла речь, была британская комедия «Воробьи не поют». Йоркширские просторечные слова (кокни) и другие сленговые выражения были напечатаны для потребителей так, чтобы те могли вычислить, что именно означают субтитры. Суб-субтитры являются таким же подручным индикатором глубинных эффектов телевидения, как и новые «шероховатые» стили в женской одежде. Одним из самых необычных процессов со времени появления телевидения в Англии стало быстрое возрождение региональных диалектов. Региональный провинциальный акцент или «картавость» на севере Англии представляют собой вокальный эквивалент гетров.[411] Под воздействием письменности такие провинциальные акценты постепенно выветриваются. Их внезапное возрождение в тех районах Англии, где прежде можно было слышать только стандартную английскую речь, — одно из самых примечательных культурных событий нашего времени. Даже на занятиях в Оксфорде и Кембридже вновь слышны локальные диалекты. Студенты этих университетов не стремятся более к единообразию речи. Со времени появления телевидения в диалектной речи было найдено средство обеспечения таких глубинных социальных уз, которые были невозможны в условиях искусственного «стандартного английского», родившегося всего столетие назад.
Статья о Перри Комо провозглашает его «ненавязчивым королем навязчивого царства». Успех любого телевизионного исполнителя зависит от его умения достичь ненавязчивого стиля презентации; но чтобы его влияние витало в воздухе, может требоваться весьма принудительная организация. В качестве примера можно взять Кастро. Как рассказывает Тэд Шульц[412] в своей истории о «шоу одного человека на кубинском телевидении» (Tad Szulc. The Eighth Art), «со своим внешне импровизационным стилем «вот-иду-я-как-то-раз» он может творить политику и управлять своей страной, не отходя от кинокамеры». Тэд Шульц находится во власти иллюзии, будто телевидение горячее средство коммуникации, и предполагает, что в Конго «телевидение могло бы помочь Лумумбе ввергнуть массы в еще большие беспорядки и кровопролитие». Но он совершенно не прав. Радио — вот средство коммуникации для безумия! Именно оно было главным средством подогревания племенной крови в Африке, Индии и Китае. Телевидение остудило Кубу, как оно сейчас остужает Америку. Тем, что кубинцы получают от телевидения, является переживание прямого вовлечения в принятие политических решений. Кастро преподносит себя как учителя, и, как говорит Тэд Шульц, «ему столь искусно удается смешать политическое руководство и просвещение с пропагандой, что зачастую трудно сказать, где кончается одно и начинается другое». Точно такая же смесь используется в Европе и в Америке в сфере развлечений. Любое американское кино, когда его смотрят за пределами Соединенных Штатов, выглядит мягкой политической пропагандой. Чтобы быть принятым, развлечение должно приукрашивать и эксплуатировать культурные и политические допущения той страны, в которой оно родилось. Эти невысказанные пресуппозиции также не дают людям увидеть самые очевидные факты, касающиеся любого нового средства коммуникации, в частности телевидения.
В группе передач, переданных несколько лет назад в Торонто одновременно по нескольким средствам коммуникации, телевидение сделало странное сальто. Четырем случайно набранным группам университетских студентов давалась одновременно одна и та же информация о структуре дописьменных языков. Одна группа получала ее по радио, другая — по телевидению, третья — из лекции, а четвертая ее читала. Для всех групп, кроме читательской, информация передавалась в прямом вербальном потоке одним и тем же оратором, без обсуждения, без вопросов и без использования доски. Каждая группа получала материал в течение получаса. Затем каждую попросили ответить на одну и ту же серию контрольных вопросов. Для экспериментаторов стало большим сюрпризом, что студенты, получившие информацию по телевидению или радио, справились с контрольной работой лучше, чем получившие информацию через лекцию или печать, а телевизионная группа намного превзошла группу радиослушателей. Поскольку не делалось ничего для придания особого акцента какому-то из этих четырех средств коммуникации, этот эксперимент повторили еще раз на других случайно отобранных группах. На этот раз каждому средству коммуникации была дана возможность проявить все свои умения. В случае радио и телевидения материал был драматически усилен многочисленными слуховыми и визуальными штрихами. Лектор пользовался всеми преимуществами доски и дискуссии в классе. Печатная форма была усилена изобретательным использованием шрифтов и планировки страницы, дабы подчеркнуть каждый момент в лекции. При повторении исходного опыта все средства коммуникации были доведены до высокой интенсивности. Телевидение и радио вновь продемонстрировали более высокие результаты по сравнению с лекцией и печатью. Чего, однако, никак не ожидали экспериментаторы, так это что радио теперь окажется значительно выше телевидения. Прошло много времени, прежде чем заявила о себе очевидная причина этого, и состояла она в том, что телевидение является холодным, участным средством коммуникации. Разогретое драматизацией и убедительными доводами, оно воздействует значительно слабее, поскольку дает меньше возможностей для участия. Радио — горячее средство коммуникации. Получая дополнительную интенсивность, оно функционирует лучше. Оно не требует от своих пользователей такой степени участия. Радио может служить фоновым звуком или средством контроля уровня шума, например, когда сообразительный тинэйджер применяет его как средство приватности. Телевидение не может работать в качестве фона. Оно вас захватывает. Вы должны быть вместе с ним. (Эго выражение вошло в обиход с появлением телевидения.)
Очень многие вещи с пришествием телевидения не будут работать. Это новое средство коммуникации нанесло мощный удар не только кино, но и национальным журналам. Пришли в упадок даже книжки комиксов. До появления телевидения многих всерьез заботило, что обыватель Джонни не умеет читать. С телевидением Джонни приобрел совершенно новый комплекс восприятий. Он вообще уже не тот, что раньше. Отто Премингер, режиссер фильма «Анатомия убийства» и других хитов, датирует великое изменение в кинопроизводстве и зрительской аудитории первым годом существования общей программы телевидения. «В 1951 году, — писал он в «Торонто Дейли Стар» от 19 октября 1963 года, — я вступил в борьбу за выход на киноэкраны фильма "Луна печальна" после того, как мне было отказано в одобрении его товарной маркировки. Это была небольшая битва, и я ее выиграл».
Далее он писал: «Сам факт, что возражение вызвало употребление в фильме "Луна печальна" слова «девственница», кажется сегодня смешным, почти невероятным». Отто Премингер считает, что американское кино достигло своей зрелости благодаря влиянию телевидения. Холодное средство телекоммуникации способствует развитию глубинных структур в искусстве и развлечениях и само создает глубинное вовлечение аудитории. Поскольку со времен Гутенберга почти все наши технологии и развлечения были не холодными, а горячими, не глубокими, а фрагментарными, ориентированными не на производителя, а на потребителя, вряд ли найдется хотя бы одна область установленных взаимоотношений — от дома и церкви до школы и рынка, — которая не была бы основательно выведена из равновесия в плане своей формы и своей текстуры. Психические и социальные потрясения, вызванные телевизионным образом (а не телевизионными программами), ежедневно комментируются в прессе. Реймонд Бэр, исполнитель роли Перри Мейсона,[413] выступая перед Национальной ассоциацией муниципальных судей, напомнил слушателям: «Без понимания и принятия нашими обывателями ни законы, которые вы проводите в жизнь, ни суды, в которых вы заседаете, не смогут существовать дальше». Чего не заметил мистер Бэр, так это что телепрограмма о Перри Мейсоне, в которой он играет главную роль, является типичным образцом того интенсивно участного телевизионного опыта, который изменил наше отношение к законам и судьям.
Модель телевизионного образа не имеет ничего общего с фильмом и фотографией, за исключением того, что, как и они, предлагает невербальный гештальт, или расположение форм. С появлением телевидения сам зритель становится экраном. Он подвергается бомбардировке световыми импульсами, которую Джеймс Джойс назвал «Атакой Световой Бригады»,[414] и эта бомбардировка нашпиговывает «оболочку его души душещипательно-подсознательными осторожными намеками». Телевизионный образ, с точки зрения заложенных в нем данных, имеет низкую визуальную определенность. Телевизионный образ не стоп — кадр. И это ни в каком смысле не фотография; это непрестанно формирующийся контур вещей, рисуемый сканирующим лучом. Складывающийся в результате пластичный контур образуется просвечиванием, а не освещением, и сформированный таким способом образ имеет качества скульптуры и иконы, но никак не картины. Телевизионный образ предлагает получателю около трех миллионов точек в секунду. Из них он принимает каждое мгновение лишь несколько десятков, из которых образ и складывается.
Кинообраз предлагает намного больше миллионов данных в секунду, и в этом случае зрителю не приходится совершать такую же радикальную редукцию элементов, чтобы сформировать свое впечатление. Вместо этого он склонен воспринимать весь образ целиком. В отличие от кинозрителя, зритель телевизионной мозаики, с ее техническим контролем образа, неосознанно переконфигурирует точки в абстрактное произведение искусства на манер Сёра или Руо.[415] Если бы кто-то спросил, изменится ли все это, если технология поднимет характер телевизионного образа на тот уровень насыщенности данными, который свойствен кино, можно бы было ответить вопросом на вопрос: «А можем ли мы изменить мультфильм, добавив в него элементы перспективы и светотени?» Ответ будет «да», но только это будет уже не мультфильм. Так и «усовершенствованное» телевидение будет уже не телевидением. В настоящее время телевизионный образ представляет собой мозаичную смесь светлых и черных пятен; кинокадр не является таковой никогда, даже при очень плохом качестве изображения.
Как и любой другой мозаике, телевидению чуждо третье измерение, однако оно может быть на него наложено. В телевидении иллюзия третьего измерения обеспечивается в какой-то степени сценической обстановкой в студии; но сам телевизионный образ является плоской двумерной мозаикой. Иллюзия трехмерности представляет собой по большей части перенос на телеэкран привычного видения кинофильма или фотографии. Ведь в телевизионной камере нет встроенного угла зрения, как в кинокамере. Кодак разработал двумерную фотокамеру, которая может подлаживаться под плоские эффекты телевизионной камеры. Однако письменным людям с их привычкой к фиксированным точкам зрения и трехмерному видению трудно понять свойства двумерного зрения. Если бы это было для них легко, они бы не испытывали никаких затруднений с восприятием абстрактного искусства, компании «Дженерал Моторс» не приходилось бы заниматься хитросплетениями автомобильного дизайна, а у иллюстрированного журнала не было бы никаких проблем с тем, как связать статьи и рекламные объявления. Телевизионный образ требует, чтобы мы каждое мгновение «заполняли» пустоты в сетке конвульсивным чувственным участием, которое является в основе своей кинетическим и тактильным, ибо тактильность есть взаимодействие чувств, а не обособленный контакт кожи с объектом.
Дабы противопоставить телевизионный образ кинокадру, многие режиссеры называют его образом «низкой определенности» в том смысле, что он, во многом подобно карикатуре, предлагает нам мало деталей и низкую степень информирования. Телевизионный крупный план дает не больше информации, чем небольшая часть общего плана на киноэкране. Поскольку критики программного «содержания» совершенно не замечали этот центральный аспект телевизионного образа, они и твердили всякую чепуху по поводу «телевизионного насилия». Глашатаи цензорских воззрений — типичные полуграмотные книжно-ориентированные индивиды, которым недостает компетентности в вопросах грамматики газеты, радио или кино, но которые искоса и недоверчиво поглядывают на все некнижные средства коммуникации. Простейший вопрос о любом психическом аспекте — пусть даже такого средства коммуникации, как книга, — бросает этих людей в панику неуверенности. Горячность проекции одной-единственной изолированной установки они ошибочно принимают за моральную бдительность. Если бы эти цензоры осознали, что во всех случаях «средство коммуникации есть сообщение» или основной источник воздействий, они перестали бы пытаться контролировать их «содержание» и обратились к подавлению средств коммуникации как таковых. Их текущее допущение, что содержание или программное наполнение есть тот самый фактор, который влияет на мировоззрение и действие, почерпнуто из книжного средства коммуникации с его вопиющим расщеплением формы и содержания.
Не странно ли, что телевидение в Америке 50-х должно было стать таким же революционным средством коммуникации, каким в 30-е годы в Европе было радио? Радио — средство, вернувшее в 20-е и 30-е годы к жизни племенные и родственные путы европейского разума, — не привело к таким последствиям в Англии и Америке. Здесь эрозия племенных уз, происходившая под влиянием письменности и ее индустриальных расширений, зашла так далеко, что наше радио не пробудило сколь-нибудь заметных племенных реакций. Однако десятилетие работы телевидения европеизировало даже Соединенные Штаты, свидетельством чему служит произошедшее здесь изменение в восприятии пространства и личных отношений. Появилась новая восприимчивость к танцу, пластическим искусствам и архитектуре, вырос спрос на маленький автомобиль, книгу в бумажной обложке, скульптурные прически и фасонные эффекты в одежде, не говоря уж о новом интересе к сложным эффектам в кулинарном искусстве и потреблении вин. И все-таки было бы заблуждением говорить, что телевидение ретрайбализирует Англию и Америку. Воздействие радио на мир резонансной речи и памяти было истерическим. Но телевидение определенно сделало Англию и Америку уязвимыми перед радио там, где прежде они в значительной степени были от него защищены. К худу ли, к добру ли, телевизионный образ оказал объединяющее синестетическое воздействие на чувственную жизнь этих чрезвычайно письменных народов — такое воздействие, какого они не ощущали уже несколько веков. Благоразумно было бы воздержаться от каких-либо ценностных суждений, когда мы изучаем проблемы, связанные с этими средствами коммуникации, ибо производимые ими воздействия нельзя друг от друга обособить.
Синестезия, или объединенная жизнь чувств и воображения, долгое время казалась западным поэтам, художникам и вообще людям искусства недостижимой мечтой. В восемнадцатом веке и позднее они с горечью и тревогой смотрели на фрагментированное и истощившееся воображение западного письменного человека. Таков был пафос Блейка и Патера,[416] Йейтса и Д. Г. Лоуренса, многих других великих людей. Они не были готовы к воплощению своих грез в повседневной жизни, произошедшему под эстетическим воздействием радио и телевидения. Тем не менее эти массивные расширения нашей центральной нервной системы окутали западного человека ежедневным сеансом синестезии. Западный образ жизни, ставший итогом многовекового жесткого разделения и специализации чувств, над коими иерархически возвышалось визуальное чувство, не способен отменить радиоволны и телевизионные волны, размывающие великую визуальную структуру абстрактного Индивидуального Человека. Те, кто, руководствуясь политическими мотивами, готовы сегодня присоединить свою силу к антииндивидуальному воздействию нашей электрической технологии, — тщедушные бессознательные автоматы, по-обезьяньи подражающие образцам преобладающих электрических давлений. Столетие назад они в таком же сомнамбулическом состоянии обращали свои взоры в противоположном направлении. Немецкие поэты и философы-романтики, собравшись в племенной хор, воспели возвращение темного бессознательного за столетие до того, как радио и Гитлер сделали такое возвращение почти неизбежным. Что думать о людях, желающих такого возвращения к дописьменным обычаям, когда у них нет даже отдаленного представления о том, как происходила замена племенной слуховой магии цивилизованным визуальным обычаем?
В этот час, когда американцы, поддавшись неукротимым тактильным подстрекательствам телевизионного образа, открывают в себе новую страсть к глубоководному плаванию и облегающему пространству маленьких автомобилей, этот же образ наполняет многих англичан расовыми чувствами племенной исключительности. В то время как высокоразвитые письменные люди Запада всегда идеализировали состояние интеграции рас, именно их письменная культура сделала невозможным реальное единообразие между расами. Письменный человек естественным образом грезит визуальными решениями проблемы человеческих различий. В конце девятнадцатого века такие грезы навеяли мысль о похожей одежде и одинаковом образовании для мужчин и женщин. Провал программ сексуальной интеграции дал тему для размышлений литературе и психоанализу двадцатого века. Расовая интеграция, предпринимаемая на основе визуального единообразия, есть расширение все той же культурной стратегии письменного человека, которому различия всегда кажутся нуждающимися в искоренении, идет ли речь о различиях пола или расы, пространства или времени. Электронный человек, все глубже вовлекаясь в актуальности человеческого существования, не может принять письменную культурную стратегию. Негр отвергнет план визуального единообразия так же решительно, как раньше это сделали женщины, притом по тем же самым причинам. Женщины обнаружили, что у них украли их отличительные роли и они превратились во фрагментированных граждан «мужского мира». Подход к этим проблемам в терминах единообразия и социальной гомогенизации является от начала и до конца давлением механической и промышленной технологии. Нисколько не морализируя, можно сказать, что электрическая эпоха, глубоко вовлекая всех людей друг в друга, отвергнет такие механические решения. Обеспечить уникальность и разнородность труднее, чем навязать единообразные образцы массового образования; но именно такой уникальности и разнородности способствуют, как никогда раньше, условия электрической эпохи.
Все дописьменные группы в мире стали временно ощущать взрывные и агрессивные энергии, высвобождаемые натиском новой письменности и механизации. И эти взрывы приходят как раз в то самое время, когда к ним присоединяется новая электрическая технология, заставляющая нас соучаствовать в них в глобальном масштабе.
Воздействие телевидения как самого последнего и показательного электрического расширения нашей центральной нервной системы трудно постичь по самым разным причинам. Поскольку оно повлияло на всю целостность нашей жизни — личной, социальной и политической, — было бы нереалистично пытаться дать «систематическую» или визуальную презентацию такого влияния. Практичнее «представить» телевидение как сложный гештальт данных, собранных почти случайным образом.
Телевизионный образ является образом низкой интенсивности, или определенности, а следовательно, в отличие от кинофильма, не дает подробной информации об объектах. Это различие сродни различию между старыми рукописями и печатным словом. Там, где прежде была диффузная текстура, печать дала интенсивность и единообразную точность. Печать привила нам ту тягу к точному измерению и повторяемости, которую мы ныне ассоциируем с наукой и математикой.
Любой телевизионный продюсер скажет, что речь, передаваемая по телевидению, не должна обладать той щепетильной четкостью, которая нужна в театре. Телеактер не должен выпячивать ни свой голос, ни самого себя. Аналогичным образом, актерская игра на телевидении — в силу особого вовлечения зрителя в довершение или «заполнение» телевизионного образа — крайне интимна настолько, что актер должен достигать высокой степени спонтанности, которая в кино была бы неуместна, а на театральной сцене напрасна. Ведь аудитория участвует во внутренней жизни телевизионного актера так же полно, как во внешней жизни кинозвезды. С технической стороны, телевидение тяготеет к тому, чтобы быть крупноплановым средством коммуникации. Крупный план, который в кино используется для произведения шока, на телевидении вещь совершенно обычная. И если глянцевое фото размером с телевизионный экран показало бы десяток лиц в адекватных подробностях, то десяток лиц на телеэкране — всего лишь неясно прорисовывающиеся очертания.
Особый характер телевизионного образа, связанный с личностью актера, вызывает в нас такие знакомые реакции, как неспособность узнать в реальной жизни человека, которого мы каждую неделю видим по телевизору. Мало кто из нас так же восприимчив, как тот ребенок из детского сада, который сказал Гарри Муру: «А как ты вылез из телевизора?» И ведущие выпусков новостей, и актеры говорят о том, как часто к ним подходят люди, чувствующие, что раньше где-то их видели. Когда у Джоанны Вудворд брали интервью, ее спросили, в чем разница между кинозвездой и телеактрисой. Она ответила: «Когда я работала в кино, я слышала, как люди вокруг говорили: "Вот идет Джоанна Вудворд". Теперь они говорят: "Кажется, какая-то знакомая идет"».
Владелец одного голливудского отеля, расположенного в районе, где живет много кино- и телеактеров, рассказывал, что туристы переключали свою преданность на телезвезд. Более того, большинство звезд телевидения мужчины, то есть «холодные персонажи», а большинство кинозвезд — женщины, поскольку их можно преподносить как «горячие» персонажи. С появлением телевидения кинозвезды — как мужчины, так и женщины, — опустились вместе со всей системой звезд на более скромный статус. Кино является горячим средством коммуникации с высокой определенностью. Пожалуй, самым интересным наблюдением хозяина отеля было то, что туристы хотели видеть Перри Мейсона и Уайатта Эрпа.[417] У них не было желания видеть Реймонда Бэра и Хью О'Брайана. Туристы же, издавна обожавшие кино, хотели видеть, каковы их фавориты в реальной жизни, а не в своих киноролях. Фанатичные поклонники такого холодного средства коммуникации, как телевидение, хотели видеть свою звезду в роли, тогда как кинофанатикам нужна была реальная вещь.
Похожее обращение установок произошло с появлением печатной книги. В условиях рукописной культуры к частной жизни авторов проявлялось мало интереса. Сегодня комикс близок к такой допечатной форме экспрессии, как ксилография и рукопись. «Пого» Уолта Келли[418] в самом деле выглядит почти как готическая страница. И все-таки, несмотря на огромный интерес публики к форме комикса, частная жизнь создавших их художников вызывает так же мало любопытства, как и жизнь авторов популярных шлягеров. С появлением печати частная жизнь стала в высшей степени интересовать читателей. Печать — горячее средство коммуникации. Она проецирует автора на публику так же, как это сделало кино. Рукопись же является холодным средством, которое не проецирует автора настолько, чтобы увлечь читателя. Так же обстоит дело с телевидением. Зритель вовлекается и участвует. Роль телезвезды кажется, таким образом, более чарующей, чем ее частная жизнь. Стало быть, исследователь средств коммуникации, как и психиатр, получает от своих информаторов больше данных, чем сами они воспринимают. Каждый переживает гораздо больше, чем понимает. Между тем, не понимание, а именно переживание влияет на поведение, особенно в коллективных материях средств и технологий, где индивид почти неотвратимо не сознает того воздействия, которое они на него оказывают.
Кто-то может счесть парадоксальным, что такое холодное средство коммуникации, как телевидение, должно быть сжатым и сконденсированным гораздо больше, чем такое горячее средство, как кинофильм. Однако всем известно, что полминуты телевидения равны трем минутам спектакля или водевиля. То же можно сказать о соотношении рукописи и печати. «Холодная» рукопись тяготела к емким формам высказывания: афоризмам и аллегориям. «Горячее» средство печати расширило экспрессию в сторону упрощения и «обстоятельного выговаривания» смыслов. Печать ускорила и «взорвала» сжатую рукопись, разбив ее на более простые фрагменты.
Холодное средство коммуникации, идет ли речь об устном слове, рукописи или телевидении, оставляет слушателю или пользователю гораздо больше работы, чем горячее. Если средство коммуникации имеет высокую определенность, то участие является низким. Если средство коммуникации обладает низкой определенностью, то участие становится высоким. Видимо, именно поэтому влюбленные любят перешептываться.
Поскольку низкая определенность телевидения гарантирует высокую степень вовлечения аудитории, самыми эффективными являются программы, в которых предлагаются ситуации, представляющие какой-либо процесс, требующий довершения. Так, применение телевидения для преподавания поэзии позволило бы преподавателю сосредоточиться на поэтическом процессе актуального изготовления, связанном с тем или иным стихотворением. Книжная форма совершенно непригодна для такого типа вовлекающего представления. Эта же отличительная особенность процесса самодеятельности и глубинного вовлечения в телевизионный образ находит продолжение в искусстве телевизионного актера. В условиях телевидения он должен уметь импровизировать и украшать каждую фразу и каждый вербальный резонанс деталями жеста и позы, поддерживающими ту интимность в отношениях со зрителем, которая на массивном киноэкране или на сцене не представляется возможной.
Говорят, что один нигериец после просмотра телевизионного вестерна восхищенно заметил: «Я и не представлял, что вы на Западе так низко цените человеческую жизнь». Компенсирует эту ремарку поведение наших детей при просмотре телевизионных вестернов. Когда на них надевают новые экспериментальные шлемы, отслеживающие движения глаз при разглядывании образа, выясняется, что дети удерживают свой взгляд на лицах телеактеров. Даже во время сцен физического насилия их глаза остаются прикованы к реакциям лица, а не к разрушительному действию. Ружья, ножи, кулаки — все это игнорируется; предпочтение отдается выражению лица. Телевидение — это средство коммуникации, построенное не столько на действии, сколько на реакции.
Неудержимая страсть телевизионного средства коммуникации к темам процесса и комплексных реакций позволила выйти на передний план фильму документального типа. Кино может великолепно работать с процессом, но кинозритель более склонен быть пассивным потребителем действий, нежели участником реакций. Киновестерн, как и документальное кино, всегда был формой непритязательной. С появлением телевидения вестерн приобрел новую значимость, поскольку в центре него всегда стоит тема: «Давайте-ка устроим заварушку». Аудитория участвует в выстраивании и выработке сообщества из скудных и малообещающих компонентов.[419] Более того, телевизионный образ благожелательно обращается к изменчивым и грубым текстурам западных седел, одежд, засад, наспех сколоченных деревянных баров и гостиничных коридоров. Кинокамера, напротив, чувствует себя как дома в шикарном хромовом мире ночного клуба и увеселительных заведений большого города. Более того, контрастирующие предпочтения камеры в кино 30-х-40-х годов и в телевидении 50-х-60-х распространяются на все население. Сложившиеся за десять лет новые вкусы Америки в одежде, питании, жилье, развлечениях и средствах передвижения выражают новый образец взаимосвязи форм и «самодеятельного» вовлечения, вскормленный телевизионным образом.
Не случайно в новую телевизионную эпоху такие крупные кинозвезды, как Рита Хейворт, Лиз Тейлор и Мэрилин Монро, оказались в трудном положении. Они попали в эпоху, поставившую под сомнение все ценности «горячих» средств коммуникации времен дотелевизионного потребителя. Телевизионный образ бросает ценностям славы такой же решительный вызов, как и ценностям потребительских благ. «Слава для меня, — говорила Мэрилин Монро, — безусловно, лишь временное и неполное счастье. Слава, на самом деле, не для повседневного питания, она не то, чем ты живешь… По-моему, когда ты известна, каждая твоя слабость прямо-таки выпирает наружу. Эта индустрия должна вести себя по отношению к своим звездам как мать, чей ребенок только что чудом выскочил из-под колес автомобиля. Но вместо того, чтобы прижать его покрепче к своей груди, она начинает его наказывать».
Киносообщество оказалось ныне под атакой телевидения и набрасывается на всякого со всей своей беспорядочной раздражительностью. Эти слова великой кинокуклы, сыгравшей свадьбу с мистером Бейсболом и мистером Бродвеем, поистине знамение. Даже если бы многие из богатых и удачливых фигур в Америке публично поставили под вопрос абсолютную ценность денег и успеха как средств достижения счастья и человеческого благополучия, они не создали бы более разрушительного прецедента, чем Мэрилин Монро. Около пятидесяти лет Голливуд предлагал «падшей женщине» путь к вершине и дорогу к сердцам всех. Внезапно богиня любви издает ужасающий вопль, кричит о том, что есть людей нехорошо, и выступает с осуждением всего образа жизни. Это точь-в-точь настроение пригородных битников. Они отвергают фрагментированную и специалистскую жизнь потребителя ради всего, что предложит им покорное вовлечение и глубокую привязанность. Это то самое настроение, которое не так давно отвратило девушек от специалистских карьер и заронило в них интерес к раннему браку и большим семьям. Они переключаются с рабочих мест на роли.
То же новое предпочтение, отдаваемое глубокому участию, разбудило в молодежи неудержимое стремление к религиозному опыту с богатыми литургическими обертонами. Литургическое возрождение эпохи радио и телевидения оказывает воздействие даже на самые суровые протестантские секты. Хоровое пение и богатые одеяния появились в каждом квартале.[420] Экуменическое движение синонимично электрической технологии.
Как не благоприятствует телевизионная мозаичная сетка перспективе в искусстве, так не благоприятствует она и линейности в жизни. С приходом телевидения из промышленности исчезла конвейерная линия. Из сферы менеджмента исчезли штабные и линейные структуры. Остались в прошлом линия партии, линейная цепочка встречающих на официальных приемах, шовная линия на изнаночной стороне нейлоновых чулок.
С пришествием телевидения настал конец блоковым голосованиям в политике; как только появляется телевидение, эта форма специализма и фрагментации перестает работать. Вместо избирательного блока мы имеем теперь икону, инклюзивный образ. Вместо политической точки зрения, или платформы, — инклюзивную политическую позицию или установку. Вместо продукта — процесс. В периоды нового и быстрого роста происходит размывание контуров. В телевизионном образе мы имеем верховенство размытых очертаний, которые сами по себе являются максимальным стимулом к росту и новому «заполнению», или довершению; особенно это верно для потребительской культуры, которая долгое время была связана с четкими визуальными ценностями, отделенными от других чувств. Изменение, происходящее в американской жизни вследствие потери лояльности к потребительской упаковке в сфере развлечений и коммерции, настолько велико, что каждое предприятие — от Мэдисон Авеню и «Дженерал Моторс» до Голливуда и «Дженерал Фудс» — испытало глубокое потрясение и было вынуждено искать новые стратегии действия. То, что электрическая имплозия, или сжатие, совершила в межличностном и международном плане, телевизионный образ делает во внутриличностном, или внутричувственном плане.
Не составит большого труда объяснить эту революцию в чувствах художникам и скульпторам, ибо еще с тех пор, как Сезанн избавился в живописи от иллюзии перспективы, отдав предпочтение структуре, они стремились вызвать то самое изменение, которое в наше время рождено в фантастических масштабах телевидением. Телевидение — это баухаузская программа дизайна и жизни, или педагогическая стратегия Монтессори,[421] получившая тотальное технологическое расширение и коммерческую поддержку. Агрессивный выпад художнической стратегии преобразования западного человека стал в американской жизни при посредстве телевидения вульгарной небрежной позой и всепоглощающим бахвальством.
Невозможно переоценить, насколько этот образ предрасположил Америку к европейским моделям чувства и чувственности. Америка ныне так же неистово европеизируется, как Европа американизируется. Во время второй мировой войны Европа существенно развила промышленную технологию, необходимую для ее первой стадии массового потребления. С другой стороны, Америку к такому же потребительскому «прыжку» подготовила первая мировая война. Нужен был электронный взрыв вовнутрь, чтобы уничтожить националистическую пестроту расщепленной Европы и совершить для нее то, что сделал для Америки промышленный взрыв. Промышленный взрыв, сопровождавший фрагментирующую экспансию письменности и промышленности, мог оказать очень малое объединяющее влияние в европейском мире с его многочисленными языками и культурами. Наполеоновский натиск использовал комбинированную силу новой письменности и раннего индустриализма. Но у Наполеона набор материалов, с которыми можно было работать, был даже менее гомогенизирован, чем сегодня у русских. К началу XIX века гомогенизирующая власть письменного процесса зашла в Америке дальше, чем где бы то ни было в Европе. Америка с самого начала приняла всем сердцем технологию печати для решения своих задач в образовательной, промышленной и политической жизни; и она была вознаграждена беспрецедентным фондом стандартизированных рабочих и потребителей, какого раньше не было ни в какой другой культуре. То, что наши историки культуры не обращают внимания на гомогенизирующую власть книгопечатания и непреодолимую силу гомогенизированных населений, не прибавляет доверия к ним. Ученые-политологи совершенно не сознают воздействий, оказываемых всегда и везде средствами коммуникации, и все потому, что ни у кого не возникает желания изучить личностные и социальные последствия средств коммуникации отдельно от их «содержания». Америка давно пришла к своему Общему Рынку благодаря механической и письменной гомогенизации социальной организации. Европа ныне обретает единство под воздействием электрического сжатия и взаимосвязи. Какая степень гомогенизации посредством письменности нужна для того, чтобы создать в постмеханическую эпоху, или эпоху автоматизации, эффективную производительско-потребительскую группу — таким вопросом еще никто не задавался. Ибо до сих пор не была до конца осознана базисная и архетипическая роль письменности в формировании индустриальной экономики. Письменность всегда и везде незаменима для привычек единообразия. Прежде всего, она необходима для работоспособности систем ценообразования и рынков. Этот фактор игнорировался точно так же, как в настоящее время игнорируется телевидение, ведь телевидение способствует закреплению многочисленных предпочтений, полностью противоречащих письменному единообразию и повторяемости. Оно побудило американцев к поиску всякого рода странностей и эксцентричностей в объектах своего легендарного прошлого. Многие американцы не пожалеют теперь усилий и денег, чтобы попробовать на вкус какое-нибудь новое вино или кулинарное новшество. Единообразное и повторяемое должно теперь уступить место уникально искривленному, и этот факт приводит во все большее отчаяние и замешательство всю нашу стандартизированную экономику.
Способность телевизионной мозаики вне зависимости от своего «содержания» трансформировать американскую невинность в глубокую изощренность не составляет тайны, если внимательно к ней приглядеться. Этот мозаичный телевизионный образ уже был в общих чертах намечен в популярной прессе, выросшей вместе с телеграфом. Коммерческое использование телеграфа началось в 1844 году в Америке и еще раньше в Англии. Много внимания уделялось электрическому принципу и его применениям в поэзии Шелли.[422] Эвристический метод художника обычно на целое поколение или больше опережает в этих вопросах науку и технологию. Смысл телеграфной мозаики в ее журналистских проявлениях не ускользнул от внимания Эдгара Аллана По. Он использовал ее при создании двух своих потрясающе новых изобретений: символистского стихотворения и детективной истории. Обе эти формы требуют от читателя самодеятельного участия. Предлагая незавершенный образ или процесс, По настолько вовлекал своих читателей в творческий процесс, что Бодлер, Валери,[423] Т. С. Элиот и многие другие пришли в восхищение и последовали его примеру. По моментально уловил в электрической динамике динамику публичного участия в творчестве. Тем не менее гомогенизированный потребитель до сих пор продолжает жаловаться, когда от него требуют участия в сотворении или довершении абстрактной поэмы, живописного полотна или любого рода структуры. Между тем, По еще тогда знал, что из телеграфной мозаики незамедлительно вытекает глубинное участие. Более прямолинейно и письменно мыслящие из литературных браминов «просто не могли этого увидеть». Они до сих пор не могут этого увидеть. Они предпочитают не участвовать в творческом процессе. Они приспособились к завершенной упаковке в прозе, в стихе и в пластических искусствах. Именно эти люди в каждой учебной аудитории нашей страны вступают в конфронтацию со студентами, которые благодаря телевизионному образу приспособились к тактильным и неизобразительным моделям символистских и мифических структур.
В журнале «Лайф» от 10 августа 1962 года была помещена статья о том, что «Очень многие десятилетние дети взрослеют слишком быстро и слишком скоро». В этой статье совершенно не был отмечен тот факт, что подобная скорость роста и преждевременное развитие всегда были нормой в племенных культурах и бесписьменных обществах. Англия и Америка взрастили институт затяжного полового созревания за счет отрицания того тактильного участия, каковым является секс. Здесь не было никакой осознанной стратегии; скорее, это было следствие общего принятия последствий первичного акцента на печатном слове и визуальных ценностях как средствах организации личной и социальной жизни. Этот акцент увенчался триумфом промышленного производства и политической конформности, которые были сами для себя достаточными гарантами.
Респектабельность, или способность поддерживать визуальный контроль над собственной жизнью, стала доминирующей. Ни одна страна Европы не дала печати такого верховенства. Визуально Европа всегда была в глазах американцев насквозь фальшивой. С другой стороны, американские женщины, которые еще ни в одной культуре не были так уравнены в визуальных манерах, всегда казались европейцам абстрактными, механическими куклами. Тактильность — вот высшая ценность в европейской жизни. Поэтому на Европейском континенте и нет подросткового периода, а есть только прыжок из детства во взрослые манеры поведения. Таково нынешнее состояние Америки после появления телевидения, и это состояние отсутствия подросткового периода будет сохраняться дальше. Интроспективная жизнь с далеко улетающими мыслями и отдаленными задачами, выполнение которых растягивается на манер сибирской железной дороги, не может сосуществовать с мозаичной формой телевизионного образа, которая требует непосредственного глубинного участия и не принимает никаких отсрочек. Полномочия этого образа настолько разнообразны и в то же время настолько согласованны, что даже простое их упоминание уже есть описание той революции, которая произошла в последнее десятилетие.
Феномен книги в мягкой обложке — книги в ее «холодвой» версии — может возглавить этот список телевизионных полномочий, так как именно здесь проявляется телевизионная трансформация книжной культуры в нечто другое. У европейцев книги в бумажных обложках были с самого начала. Они с первых дней существования автомобиля отдавали предпочтение облегающему пространству маленького салона. Картиночная ценность «огороженного пространства» книги, автомобиля или дома никогда не находила в них отклика. В Америке издание книг в мягкой обложке, особенно в высоколобой их форме, было опробовано в 20-е годы, потом в тридцатые и сороковые. Но только в 1953 году они вдруг были встречены доброжелательно. Ни один издатель не знает толком, почему это произошло. Дело не только в том, что мягкая обложка скорее тактильная, а не визуальная упаковка, но и в том, что такая книга одинаково легко может быть посвящена как глубоким вопросам, так и пустому вздору. С тех пор, как появилось телевидение, американец утратил предубеждение и невинность в отношении глубокой культуры. Читатель книг в мягких обложках обнаружил, что путем простого замедления чтения может наслаждаться Аристотелем и Конфуцием. Старая письменная привычка нестись вскачь по единообразным печатным строчкам внезапно уступила место глубокому чтению. Чтение в глубину, разумеется, не свойственно печатному слову как таковому. Глубинное прощупывание слов и языка — обычная черта устных и рукописных культур, но никак не печатных. Европейцы всегда считали, что англичанам и американцам недостает глубины в их культуре. С тех пор, как появилось радио, и особенно после того, как пришло телевидение, английские и американские литературные критики превзошли в глубине и тонкости европейских. Битник, потянувшийся к дзэну, всего лишь переносит полномочия телевизионной мозаики в мир слов и восприятия. Сама мягкая обложка стала обширным мозаичным глубинным миром, выразившим изменившуюся чувственную жизнь американцев, для которых глубинный опыт в словах, как и в физике, стал в полной мере приемлемым и даже желанным.
С чего начать исследование трансформации американских установок после появления телевидения — вопрос выбора и личного вкуса, что можно увидеть на примере такого крупного изменения, как внезапный упадок бейсбола. Переезд «Бруклин Доджерс» в Лос-Анджелес был сам по себе знаменателен. Бейсбол двинулся на Запад, пытаясь сохранить свою аудиторию после того удара, который нанесло ему телевидение. Специфическая модель, характерная для игры в бейсбол, состоит в том, что в ней предусматривается одна-вещь-в-один-момент. Это линейная, экспансивная игра, так же идеально, как и гольф, приспособленная к мировоззрению индивидуалистического и внутренне-управляемого общества. Самую ее суть составляют хронометраж и ожидание, когда все поле напряженно ждет, пока сыграет отдельный игрок. В отличие от бейсбола, футбол, баскетбол и хоккей на льду являются играми, в которых одновременно происходит много событий и в действие вовлечена вся команда сразу. С приходом телевидения такое обособление индивидуальной игры, какое имеет место в бейсболе, стало неприемлемо. Интерес к бейсболу упал, и его звезды во многом так же, как звезды кино, обнаружили, что слава имеет некоторые очень щемящие измерения. Как и кино, бейсбол был горячим средством коммуникации, выводящим на передний план индивидуальную виртуозность и выдающихся игроков. Настоящий бейсбольный фанатик — это кладезь статистической информации о прежних достижениях игроков с битой и питчеров в многочисленных играх. Ничто не могло бы нагляднее показать то особое удовольствие, которое доставляла игра индустриальному метрополису с его непрерывно разраставшимися населениями, капиталами и связями, а также производственными и торговыми документами. Бейсбол принадлежал эпохе первого натиска горячей прессы и кино. Он навсегда останется символом эры горячих мамаш, джазовых бейби, шейхов и цариц савских, роковых женщин, золотоискателей и шальных денег. Словом, бейсбол — это горячая игра, которая остыла в новом телевизионном климате; и то, что произошло с ним, произошло также с большинством горячих политиков и горячих проблем первого телевизионного десятилетия.
В наше время не найти более холодного средства коммуникации и более горячей проблемы, чем маленький автомобиль. Он словно плохо спаянный репродуктор в цепи класса hi-fi, днище которого производит ужасающий шум и дребезжание. В этом отношении маленький европейский автомобиль, как и европейская книга в мягкой обложке и европейская красавица, не был визуально упакованным рабочим местом. С визуальной точки зрения, все без исключения европейские автомобили выглядят настолько скверно, что становится очевидно: в головы их создателей никогда не закрадывалась мысль о том, что кто-то будет на них смотреть. Они принадлежат к разряду вещей, которые надевают, как штаны или свитер. Их пространство — такое пространство, к какому стремятся аквалангист, воднолыжник и лодочник. В непосредственном осязании это новое пространство сродни тому, созданию которого способствовали причуды венецианского окна. С точки зрения «вида», венецианское окно не имело никакого смысла. С точки зрения попытки открыть новое измерение внешнего двора, притворившись золотой рыбкой, венецианское окно имеет смысл. То же самое относится к консервативным попыткам огрубить внутренние стены и текстуры дома, как если бы они были на улице. Этот же импульс к переживанию внешнего как внутреннего выносит внутренние пространства дома и домашнюю мебель в патио. Телезритель все время находится в такой роли. Он субмарина. Он подвергается бомбардировке атомами, открывающими ему внешнее как внутреннее в его нескончаемом приключении среди расплывчатых образов и таинственных контуров.
В свою очередь, американский автомобиль был смоделирован в соответствии с визуальными требованиями образов книгопечатания и кино. Американский автомобиль был не тактильным, а огороженным пространством. Огороженное же пространство, как было показано в главе, посвященной печати, — это пространство, в котором все пространственные качества сведены к визуальным. Таким образом, в американском автомобиле, как еще несколько десятилетий назад подметили французы, «человек находится не на дороге, он находится в автомобиле». Европейский автомобиль, напротив, нацелен на то, чтобы волочить вас по дороге и обеспечивать солидную вибрацию в районе днища. Брижит Бардо попала в выпуски новостей, когда выяснилось, что она любит водить босиком, чтобы максимально чувствовать вибрацию. Даже английские автомобили, как бы они ни были визуально убоги, провинились в рекламе того, что «на скорости шестьдесят миль в час все, что вы можете услышать, — это тиканье ваших часов». Это была бы, на самом деле, очень скверная реклама для телевизионного поколения, которому нужно быть вместе со всем в мире и копать в глубину, дабы докопаться до сути вещей. Телезритель настолько жаден до богатых тактильных эффектов, что на него можно твердо положиться в том, что он вновь встанет на лыжи. По его мнению, колесу недостает требуемой шероховатости.
Одежда в это первое телевизионное десятилетие повторяет ту же историю, которая произошла со средствами передвижения. О революции возвестили юные модницы, сбросившие с себя весь груз визуальных эффектов ради того, чтобы отдаться эффектам тактильным, причем столь радикально, что создалось однообразие решительной бесчувственности. Частью холодного измерения телевидения является холодная, отрешенная гримаса, проникшая туда вместе с тинэйджером. В эпоху горячих средств коммуникации, радио и кино, а также в эпоху древней книги юность была временем свежих, вдохновенных и выразительных выражений лица. Ни один государственный деятель или крупный чиновник старой закалки не рискнул бы в 40-е годы надеть на себя такую безжизненную и скульптурную рожу, какую носит ребенок телевизионной эпохи. Танцы, проникшие в нашу жизнь вместе с телевидением, должны были полностью соответствовать твисту, который является не более чем формой весьма неодушевленного диалога, жесты и гримасы которого указывают на вовлечение в глубину, при котором, однако, «нечего сказать».
Манера одеваться и стилистика одежды стали в последнее десятилетие настолько тактильными и скульптурными, что представляют собой своего рода преувеличенное свидетельство новых качеств телевизионной мозаики. Телевизионное расширение наших нервов в щетинистый образец обладает силой пробуждать поток родственных изобразительных средств в одежде, прическе, походке и жестикуляции. Все это вносит свой вклад в компрессиональный взрыв вовнутрь — в возвращение к неспециализированным формам одежды и пространств, в поиск многофункционального использования помещений, вещей и объектов, одним словом, в иконическое. В музыке, поэзии и живописи тактильное сжатие означает настойчивое утверждение качеств, близких к спонтанной речи. Так, Шёнберг, Стравинский, Карл Орф[424] и Барток, вовсе не будучи продвинутыми искателями эзотерических эффектов, как кажется с высоты сегодняшнего дня, вплотную подвели музыку к состоянию обыденной человеческой речи. Именно этот разговорный ритм казался некогда столь немелодичным в их сочинениях. Каждый, кто послушает средневековые сочинения Перотина[425] или Дюфаи,[426] найдет в них много общего с тем, что писали Стравинский и Барток. Великий взрыв эпохи Возрождения, оторвавший музыкальные инструменты от пения и речи и наделивший их специалистскими функциями, ныне, в эпоху электронного сжатия, отыгрывается назад.
Один из самых красноречивых примеров тактильности телевизионного образа обнаруживается в медицинском опыте. Студенты-медики сразу после проведения первых закрытых телезанятий по хирургии сообщали о странном эффекте: им казалось, что они не смотрят на операцию, а выполняют ее. Они чувствовали, как держат в руке скальпель. Таким образом, телевизионный образ, подстегивающий страсть к глубинному вовлечению в каждый аспект опыта, создает одержимость физическим благополучием. Внезапное появление телевизионного медика и больничной палаты в программе, соперничающей с вестерном, совершенно естественно. Можно было бы перечислить еще дюжину пока не опробованных типов программ, которые бы немедленно завоевали популярность по тем же самым причинам. Том Дули и его эпопея о бесплатной медицинской помощи для отсталого общества были естественным детищем первого телевизионного десятилетия.
Теперь, когда мы рассмотрели силу подпорогового воздействия телевизионного образа на достаточно большом количестве примеров, видимо, должен возникнуть вопрос:
«Каким может быть возможное средство защиты от под-порогового воздействия такого нового средства коммуникации, как телевидение?» Долгое время люди предполагали, что бульдожья невосприимчивость, подкрепленная твердым осуждением, служит достаточно адекватной защитой от любого нового опыта. В этой книге речь идет о том, что даже самое ясное понимание специфической силы средств коммуникации не может воспрепятствовать обычному «замыканию» чувств, заставляющему нас приспосабливаться к образцу представленного нам опыта. Высшая чистота души не является защитой от микробов, пусть даже собратья по цеху и исключили Луи Пастера из медицинской профессии за его основополагающие предположения о невидимой деятельности бактерий. Чтобы сопротивляться телевидению, необходимо, стало быть, принять противоядие родственных ему средств коммуникации, таких, как печать.
Есть одна особенно деликатная область, заявляющая о себе вопросом: «Какое воздействие оказало телевидение на нашу политическую жизнь?» Тут, по крайней мере, великие традиции критического сознания и осторожности свидетельствуют о тех охранительных гарантиях, которые мы воздвигли на пути подлого злоупотребления властью.
Когда исследователь телевидения открывает книгу Теодора Уайта[427] «Как сделать президента: 1960»[428] в том месте, где располагается параграф «Теледебаты», он испытывает недоумение. Уайт приводит статистические данные о количестве телевизоров в американских домах и количестве часов, ежедневно проводимых людьми у телеэкранов, но ни единым намеком не раскрывает природу телевизионного образа или его воздействий на кандидатов и зрителей. Уайт рассматривает «содержание» дебатов и умение кандидатов держать себя, но ему ни разу не приходит в голову задать вопрос, почему телевидение неизбежно становится катастрофой для четко прочерченного образа — например, Никсона — и благом для размытой, шероховатой текстуры Кеннеди.
По завершении дебатов Филип Дин из лондонской «Обсервер» изложил мою идею о грядущем влиянии телевидения на исход выборов в «Торонто Глоб энд Мейл» (15 октября 1960 г.) в статье под названием «Шериф и адвокат».
Идея была в том, что Кеннеди должен выиграть выборы, потому что телевидение целиком и полностью на его стороне. Без телевидения победил бы Никсон. В заключении статьи Дин писал: «Теперь пресса склонна говорить, что мистер Никсон выиграл в двух последних дебатах и неважно выступил в первых. Профессор Маклюэн считает, что образ мистера Никсона становился все более и более определенным; вице-президент, независимо от ценности его взглядов и принципов как таковых, отстаивал их с излишней для телевидения напыщенностью. Довольно резкие ответы мистера Кеннеди были ошибкой, но все же он представляет образ, более близкий к телевизионному герою — а именно, как говорит профессор Маклюэн, к образу застенчивого молодого шерифа, — тогда как мистер Никсон с его очень темными глазами, имеющими склонность пристально фиксироваться на чем-то, больше напоминал железнодорожного адвоката, подписывающего договоры об аренде, не соответствующие интересам простых жителей маленького городка.
Своими контратаками и выраженными в теледебатах притязаниями на те же цели, которые ставят перед собой демократы, мистер Никсон, на самом деле, возможно, помогает своему оппоненту, делая образ Кеннеди размытым и затушевывая то, что мистер Кеннеди собственно собирается изменить.
Таким образом, мистеру Кеннеди нисколько не мешают острые темы; зрительно он представляет менее резко очерченный образ и выглядит более беззаботным. Его как будто меньше тревожит, как себя преподнести, в отличие от мистера Никсона. Поэтому в данный момент профессор Маклюэн отдает лидирующие позиции мистеру Кеннеди, хотя не склонен недооценивать внушительный призыв мистера Никсона к широким консервативным силам Соединенных Штатов».
Еще один способ объяснить приемлемую телевизионную личность, в отличие от неприемлемой, — заявить, что каждый, чья внешность открыто декларирует его роль и статус в жизни, не подходит для телевидения. Каждый, кто выглядит так, словно он мог бы одновременно быть и учителем, и врачом, и бизнесменом, и вообще кем угодно, подходит для телевидения. Когда представленный человек выглядит поддающимся классификации, как это было с Никсоном, телезрителю нечем его дополнить. Он чувствует себя в связи с таким телевизионным образом дискомфортно. Он говорит с нелегким сердцем: «Что-то с этим парнем не то». Такое же чувство зритель испытывает, когда видит на телеэкране слишком приятную девушку или любые «высокоопределенные» образы или сообщения от спонсоров. Не случайно реклама с приходом телевидения стала новым неисчерпаемым источником комических эффектов. Мистер Хрущев обладает очень насыщенным, или законченным, образом и выглядит на телеэкране как комическая карикатура. В фототелеграфе и телевидении мистер Хрущев — веселый комик, совершенно обезоруживающий персонаж. Аналогичным образом та самая формула, которая рекомендует человека на роль в кино, дисквалифицирует этого же человека для телевидения. Ибо такому горячему средству коммуникации, как кино, нужны люди, которые вполне определенно выглядят типажами. Такое холодное средство, как телевидение, терпеть не может типичное, поскольку оно оставляет зрителя разочарованным, не дав ему поработать над «замыканием», или довершением образа. Президент Кеннеди не выглядел ни богатым человеком, ни политиком. Он мог быть кем угодно — от бакалейщика и профессора до футбольного тренера. Он не был настолько резко очерчен или слишком готов к речи, чтобы испортить приятно непритязательную размытость своего выражения лица и контуров. Он переходил из дворца в бревенчатую хижину, из роскоши в Белый дом по образцу телевизионного обращения и опрокидывания.
Те же компоненты можно найти в любом популярном телевизионном персонаже. Эд Салливан[429] — «великое каменное лицо», в качестве какового он с самого начала и прославился, — в полной мере обладает необходимой грубостью текстуры и общей скульптурностью, которые требуются от человека, чтобы телевидение восприняло его всерьез. Джек Паар совершенно другой — не шероховатый и не скульптурный. Но, с другой стороны, его присутствие на телевидении совершенно приемлемо благодаря его подчеркнуто холодному и небрежному владению словом. Шоу Джека Паара выявило внутреннюю потребность телевидения в спонтанном разговоре и диалоге. Джек открыл, как можно расширить телевизионный мозаичный образ в целостный формат своего шоу, создав видимость того, что каждый участник выхватывается совершенно случайно. На самом деле, однако, он прекрасно понимал, как создать мозаику из других средств, из мира журналистики и политики, книг, Бродвея и искусств вообще, пока не стал грозным конкурентом самой мозаике прессы. Как «Амос и Энди»[430] в первые дни существования радио уменьшили посещаемость воскресных вечерних богослужений, так и Джек Паар своим поздним шоу определенно урезал финансовую поддержку ночных клубов.
А как насчет Образовательного Телевидения? Когда трехлетний малыш сидит у телевизора рядом с папой и дедушкой и смотрит президентскую пресс-конференцию, это служит иллюстрацией серьезной просветительной роли телевидения. Если спросить, какова связь телевидения с образовательным процессом, ответ, разумеется, будет таков: своим акцентом на участии, диалоге и глубине телевизионный образ принес Америке новый спрос на срочное создание образовательных программ. Будет ли когда-нибудь телевизор стоять в каждом классе — это неважно. Революция уже произошла дома. Телевидение изменило нашу чувственную жизнь и наши умственные процессы. Оно развило вкус к переживанию всего в глубину, который сказывается на преподавании языка так же сильно, как и на стилях автомобилей. С тех пор, как появилось телевидение, никто не довольствуется простым книжным знанием французской или английской поэзии. Сейчас звучит единодушный крик: «Давайте говорить по-французски», — или: «Дайте барду быть услышанным». И, что весьма странно, вместе со спросом на глубину растет и спрос на создание срочных программ. Обычным массовым требованием со времени появления телевидения стало не просто более глубокое познание, но познание всего. Возможно, уже достаточно сказано о природе телевизионного образа, чтобы объяснить, почему так и должно быть. Как он мог бы проникнуть в нашу жизнь еще больше, чем сейчас? Простое применение в школьном классе не смогло бы расширить его влияние. Разумеется, в школе его роль заставляет перегруппировывать предметы и подходы к предметам. Просто передать текущее занятие по телевидению было бы все равно что передать по телевидению кинофильм. Результатом был бы гибрид, который ничего не дает. Правильным подходом будет спросить: «Что телевидение может сделать для французского языка или физики такого, чего не может сделать занятие в классе?» Ответ: «Телевидение, как ничто другое, способно проиллюстрировать процесс и развитие всякого рода форм».
Другая сторона медали связана с тем, что в визуально организованном образовательном и социальном мире телевизионный ребенок является бесправным калекой. Косвенное указание на это поразительное обращение дано в романе Уильяма Голдинга[431] «Повелитель мух».[432] С одной стороны, очень заманчиво рассказать, что как только орды послушных детей оказываются вне поля зрения своих воспитательниц, бурлящие внутри них дикие страсти тут же вырываются наружу и сметают с лица земли детские коляски и площадки для игр. С другой стороны, маленькая пасторальная притча мистера Голдинга имеет вполне определенный смысл в контексте психических изменений, произошедших в телевизионном ребенке. Этот момент настолько важен для всякой будущей стратегии культуры или политики, что требует вынесения в заголовок и сжатого резюме:
ПОЧЕМУ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕБЕНОК НЕ УМЕЕТ ЗАГЛЯДЫВАТЬ ВПЕРЕД?
Погружение в глубинное переживание под влиянием телевизионного образа можно объяснить только через разницу между визуальным и мозаичным пространством. Способность проводить различие между этими радикально разными формами очень редко встречается в нашем западном мире. Указывалось, что в стране слепых одноглазый человек — не король. Его принимают за погруженного в галлюцинации лунатика. В высокоразвитой визуальной культуре передать невизуальные свойства пространственных форм так же трудно, как объяснить слепым, что такое зрительный образ. Бертран Рассел начинает свою книгу «Азбука относительности»[433] с объяснения того, что в идеях Эйнштейна нет ничего сложного, но они требуют полной реорганизации нашего воображения. Именно эта реорганизация воображения и произошла под воздействием телевизионного образа.
Обычная неспособность провести различие между фотографическим и телевизионным образом — не просто парализующий фактор сегодняшнего процесса обучения; она есть симптом векового дефекта западной культуры. Письменный человек, привыкший к среде, в которой визуальное чувство расширяется во все вокруг как принцип организации, предполагает иногда, что мозаичный мир примитивного искусства или даже мир византийского искусства отличается от нее лишь в степени, будучи своего рода неумением вывести визуальные изображения на уровень полной визуальной эффективности. Нет ничего более далекого от истины. На самом деле это ошибочное представление, и на протяжении многих веков оно мешало достичь понимания между Востоком и Западом. Сегодня оно портит отношения между цветными и белыми обществами.
Технология чаще всего производит усложнение, в котором открыто явлено разделение чувств. Радио — это расширение акустической, высокодостоверной фотографии визуального. Телевидение, в свою очередь, — прежде всего расширение осязания, заключающего в себе максимальное взаимодействие всех чувств. Для западного человека, однако, всеобъемлющее расширение произошло с помощью фонетического письма, представляющего собой технологию, расширяющую зрение. Все нефонетические формы письма, напротив, суть художественные модели, сохраняющие в себе значительную часть многообразия чувственной оркестровки. Только фонетическое письмо обладает властью разделять и фрагментировать чувства и отбрасывать прочь семантические сложности. Телевизионный образ обращает вспять этот письменный процесс аналитической фрагментации чувственной жизни.
Визуальный акцент на непрерывности, единообразии и связности, почерпнутый из письменности, сталкивает нас с великими техническими средствами внедрения непрерывности и линейности через фрагментированное повторение.
Древний мир нашел такое средство в кирпиче, используемом для строительства стены или дороги. Повторяющийся, единообразный кирпич, незаменимый агент дороги и стены, городов и империй, является расширением зрения через буквы. Кирпичная стена — не мозаичная форма, как не является мозаичной формой любая визуальная структура. Мозаику можно видеть, как можно видеть танец, но она не структурирована визуально; не является она и расширением зрительной способности. Ибо мозаика не единообразна, не непрерывна и не повторяема. Она прерывна, асимметрична и нелинейна, как осязаемый телевизионный образ. Для осязания все вещи внезапны, противоположны, оригинальны, лишни, чужды. «Пятнистая краса» Дж. М. Хопкинса[434] представляет собой каталог тональностей осязания. Это стихотворение является манифестом невизуального и так же, как Сезанн, Сера или Руо, дает незаменимый подход к пониманию телевидения. Невизуальные мозаичные структуры современного искусства, как и аналогичные структуры, присутствующие в современной физике и формах электрической информации, почти не допускают безучастности. Мозаичная форма телевизионного образа требует участия и глубинного вовлечения всего существа, как требует того же осязание. Письменность, напротив, психически и социально расширила зрительную способность в единообразную организацию времени и пространства, дав тем самым способность к безучастности и невовлеченности.
Расширенное фонетической письменностью, зрение воспитывает аналитическую привычку воспринимать в жизни форм обособленные грани. Зрительная способность позволяет нам изолировать единичное событие во времени и пространстве, как это делается в репрезентационном искусстве. В визуальной репрезентации человека или объекта отдельная сторона, момент или аспект отрываются от множества известных и ощущаемых сторон, моментов и аспектов того же человека или объекта. Иконографическое искусство, напротив, использует глаз, как мы свою руку, стремясь создать емкий образ, составленный из многих моментов, сторон и аспектов человека или вещи. Таким образом, иконическая модель — не визуальная репрезентация и не специализация визуального акцента, определяемого рассматриванием с какой-то единичной позиции. Осязательный способ восприятия является внезапным, но не специалистским. Он тотален, синестетичен, вовлекает все чувства. Насквозь обработанное мозаичным телевизионным образом, дитя телевидения встречается с миром в духе, противоположном письменности.
Иначе говоря, телевизионный образ даже еще больше, чем икона, есть расширение осязания. Там, где он сталкивается с письменной культурой, он непременно сгущает чувственную смесь, преобразуя фрагментированные и специалистские расширения в цельносплетенную паутину опыта. Для письменной, специалистской культуры такая трансформация, разумеется, становится «катастрофой». Она размывает многие дорогие ее сердцу установки и процедуры. Она ослабляет действенность базисных педагогических методик и релевантность учебного плана. Уже хотя бы поэтому было бы полезно понять динамическую жизнь этих форм, вторгающихся в нас и друг в друга. Телевидение рождает близорукость.
Молодые люди, пережившие первое телевизионное десятилетие, естественным образом впитали в себя неудержимую страсть к глубокому вовлечению, заставляющему все отдаленные визуализируемые цели обычной культуры казаться не только нереальными, но и нерелевантными, и не просто нерелевантными, а безжизненными. Именно тотальное вовлечение во всепоглощающую сейчасность появляется в жизни молодежи благодаря мозаичному образу телевидения. Это изменение установки никак не связано с содержанием программ и было бы точно таким же, даже если бы программы были целиком наполнены высшими достижениями культуры. Изменение в установке, происходящее вследствие связывания человека с мозаичным телевизионным образом, произошло бы в любом случае. Наша задача, разумеется, не только в том, чтобы понять это изменение, но и в том, чтобы воспользоваться им ввиду его педагогической значимости. Дитя телевидения ждет вовлечения и не желает специалистского рабочего места в будущем. Он жаждет роли и глубокой привязанности к своему обществу. Не укрощенная и не понятая, эта очень человеческая потребность может проявиться в искаженных формах, изображенных в «Вестсайдской истории».[435]
Телевизионный ребенок не умеет заглядывать вперед, поскольку хочет вовлечения, и не способен принять фрагментарную и просто визуализируемую цель или судьбу ни в обучении, ни в жизни.
УБИЙСТВО ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ
Джек Руби застрелил Ли Освальда, когда тот стоял в тесном кольце телохранителей, парализованных телевизионными камерами. Чарующая и увлекающая сила телевидения вряд ли нуждалась в этом дополнительном доказательстве своего особого воздействия на человеческие восприятия. Злодейское убийство Кеннеди позволило людям непосредственно ощутить способность телевидения создавать глубокое вовлечение, с одной стороны, и эффект оцепенения — столь же глубокого, как и горе, — с другой. Большинство людей поразились глубине значения, открывшегося им благодаря этому событию. Но еще больше людей были удивлены холодностью и спокойствием массовой реакции. В руках прессы или радио (при отсутствии телевидения) это же событие обеспечило бы совершенно иное переживание. Национальную «крышу» «сорвало бы напрочь». Возбуждение было бы гораздо выше, а глубинного участия в общем осознании было бы значительно меньше.
Как уже ранее было объяснено, Кеннеди обладал превосходным телевизионным образом. Он пользовался этим средством коммуникации с такой же эффективностью, какой научился достигать Рузвельт с помощью радио. В условиях расцвета телевидения Кеннеди счел естественным вовлечь нацию в президентскую работу — как функциональную деятельность и как образ. Телевидение тянется к корпоративным атрибутам этого поста. Оно потенциально способно преобразовать президентство в монархическую династию. Институт избираемых президентов вряд ли может дать ту глубину преданности и верности, которой требует телевизионная форма. На телевидении, похоже, даже преподавателей студенческие аудитории наделяют харизматическим или мистическим качеством, намного превосходящим те чувства, которые развиваются в классе или лекционном зале. В ходе многочисленных исследований реакций аудитории на телевизионное преподавание из раза в раз повторяется этот озадачивающий факт. Зрители чувствуют, что преподаватель обладает едва ли не сакральностью. Это чувство коренится не в понятиях или идеях; оно словно прокрадывается откуда-то, незваное и необъяснимое. Оно сбивает с толку и самих студентов, и аналитиков их реакций. Разумеется, не может быть более красноречивого опыта, предупреждающего нас о характере телевидения. Это не столько визуальное, сколько тактильно-слуховое средство коммуникации, втягивающее в глубокое взаимодействие все наши чувства. Что касается людей, давно привыкших к простым книгопечатным и фотографическим разновидностям визуального опыта, то, видимо, именно синестезия, или осязательная глубина телевизионного опыта, выбивает их из обычных для них установок пассивности и безучастности.
Банальное и ритуальное замечание типично письменного человека, что телевидение предлагает опыт, предназначенный для пассивных зрителей, бьет мимо цели. Телевидение является, прежде всего, средством коммуникации, требующим творческой и участной реакции. Охранники, не сумевшие уберечь Ли Освальда, не были пассивны. Они были настолько увлечены самим видом телевизионных камер, что утратили ощущение своей чисто практической и специалистской задачи.
Быть может, именно похороны Кеннеди сильнее всего впечатлили аудиторию способностью телевидения наполнить событие корпоративным участием. Еще ни одно национальное событие, за исключением спортивных, не получало такого широкого освещения и такой огромной аудитории. Оно открыло непревзойденную способность телевидения добиваться вовлечения аудитории в сложный процесс. Похороны как корпоративный процесс заставили даже образ спорта померкнуть и съежиться до скромных пропорций. Короче говоря, похороны Кеннеди явили способность телевидения вовлечь все население страны в ритуальный процесс. На фоне телевидения пресса, кино и даже радио — не более чем упаковочные средства для потребителей.
Но прежде всего, это событие предоставляет возможность заметить одну парадоксальную особенность такого «холодного» средства коммуникации, как телевидение. Оно вовлекает нас в движение вглубь, но не возбуждает, не агитирует и не воодушевляет. Можно предположить, что это особенность любого глубинного опыта.
ГЛАВА 32. ОРУЖИЕ ВОЙНА ИКОН
Когда русская девушка Валентина Терешкова, не имевшая никакой летной подготовки, 16 июня 1963 года отправилась на орбиту, ее акция — в реакции прессы и других средств массовой информации — была своего рода вымарыванием образов космонавтов-мужчин, особенно американцев. Держась в стороне от компетентности американских астронавтов, среди которых все были квалифицированными летчиками-испытателями, русские как будто не чувствуют, что космическое путешествие достаточно прочно связано с самолетом, чтобы требовать от пилота «крыльев». Поскольку наша культура запрещает посылать в космос женщину, единственным остроумным ответом для нас был бы запуск на орбиту группы космических детишек с тем, чтобы показать, что все это, в конце концов, не более чем детская игра.
Первый спутник, или «маленький братишка-путешественник», был остроумной насмешкой над капиталистическим миром с помощью нового вида технологического образа, или иконы, для которого группа детей на орбите могла, тем не менее, стать красноречивым ответом. Ясно, что первая женщина-космонавт преподносится Западу как маленькая Валентина, как биение сердца, приспособленное к нашей сентиментальности. Фактически война икон, или подтачивание коллективного самообладания соперников, идет уже давно. На место солдат и танков пришли типографская краска и фотография. Перо день ото дня становится могущественнее, чем шпага.
Французское выражение guerre des nerfs,[436] родившееся двадцать пять лет назад, стало с тех пор обозначать то же самое, что и «холодная война». Это настоящая электрическая битва информации восходит в глубине и одержимости старые горячие войны индустриального железа.
«Горячие» войны прошлого использовали оружие, выводившее врага из строя по очереди, одного за другим. Даже идеологическое противоборство восемнадцатого и девятнадцатого столетий строилось на принуждении индивидов к принятию новых точек зрения — одной точки зрения в один момент. Электрическое убеждение с помощью фотографии, кино и телевидения работает, напротив, за счет того, что окунает все население в новый мир воображения. Полное осознание этого технологического изменения снизошло на Мэдисон Авеню десять лет назад, когда оно поменяло свою тактику и переключилось с продвижения индивидуального продукта на коллективное вовлечение в «корпоративный образ», на смену которому ныне пришла «корпоративная позиция».
Аналогом новой холодной войны информационного обмена служит ситуация, прокомментированная Джеймсом Рестоном в сообщении «Нью-Йорк Таймс» из Вашингтона:
«Политика вышла на международный уровень. Лидер британских лейбористов ведет у нас кампанию за избрание на пост премьер-министра Великобритании, и явно недалек тот день, когда Джон Ф. Кеннеди будет вести борьбу за свое переизбрание в Италии и Германии. Каждый теперь совершает предвыборные турне по чьей-то стране, обычно нашей.
Вашингтон еще не приспособился к этой роли третьего лица. Он начисто забывает, что все, сказанное здесь, может быть использовано той или другой стороной в какой-то избирательной кампании и, по стечению обстоятельств, стать решающим элементом итогового голосования».
Если в 1964 году холодная война ведется с помощью информационной технологии, то это потому, что войны всегда велись с помощью самой передовой технологии, которой располагала соответствующая культура. В одной из своих проповедей Джон Донн[437] с благодарностью комментировал благословенный дар тяжелого огнестрельного оружия:
«И вот, ведомые светом разума, изобрели они нашу Артиллерию, благодаря которой войны стали заканчиваться быстрее, чем прежде…»
Научное знание, необходимое для использования оружейного пороха и просверливания отверстия в пушке, казалось Донну «светом разума». Он не смог разглядеть другого достижения этой же технологии — ускорения и расширения масштабов массового человекоубийства. На него указывает Джон У. Неф в книге «Война и человеческий прогресс»:
«Постепенное упразднение доспехов как части воинского оснащения, происходившее на протяжении семнадцатого века, создало свободный запас металла для производства огнестрельного оружия и метательных снарядов».
Здесь можно легко обнаружить цельносплетенную паутину взаимно связанных друг с другом событий, если обратить взор на психические и социальные последствия технологических расширений человека.
Еще в 20-е годы нашего столетия король Аманулла,[438] казалось, ткнул пальцем в эту паутину, когда сказал, выпустив снаряд из орудия:
— Я уже чувствую полангличанина.
Тот же смысл неумолимо взаимопереплетенной текстуры человеческой судьбы уловил один школьник отказавший:
— Папа, я ненавижу войну.
— Почему, сынок? — спросил отец.
— Потому что война делает историю, а я терпеть не могу историю.
Разрабатываемые на протяжении многих веков технические способы высверливания ружейных стволов дали средства, сделавшие возможным паровой двигатель. Поршневый стержень и ружье ставили одни и те же проблемы, связанные со сверлением прочной стали. Ранее именно линейный акцент перспективы направил восприятие по пути, приведшему к созданию огнестрельного оружия. Задолго до того, как появились ружья, оружейный порох использовали во взрывном, динамитном стиле. Применение оружейного пороха для запуска метательных снарядов по траектории ждало появления перспективы в искусствах. Эта событийная связь между технологией и искусствами может объяснить проблему, над которой долгое время бились антропологи. Они снова и снова пытались объяснить факт, что бесписьменные люди обычно являются скверными стрелками из ружей, опираясь на то, что в случае лука и стрелы важнее была близость к игре, а не отдаленная точность, достичь которой было почти невозможно; отсюда, говорят некоторые антропологи, и проистекает их обычай подражать животным, на которых они охотятся, переодеваясь в шкуры, дабы поближе подкрасться к стаду. Указывается также, что луки беззвучны, и когда выпускается стрела, животные редко убегают.
Если стрела есть расширение руки и кисти, то ружье — это расширение глаза и зубов. Быть может, уместно будет заметить, что именно письменные американские колонисты первыми настоятельно востребовали нарезной ствол и усовершенствовали прицельную мушку. Они улучшили старые мушкеты, создав винтовку «Кентукки». Высокограмотные жители Бостона превосходили в стрельбе солдат британской регулярной армии. Туземцу и лесному жителю не дано метко стрелять; это дар письменного колониста. Таковы аргументы, связывающие огнестрельное оружие как таковое с развитием чувства перспективы и расширением визуальной способности в письменность. В морской пехоте была выявлена вполне очевидная корреляция между уровнем образования и меткостью в стрельбе. Легко дающееся нам выделение обособленной, изолированной мишени в пространстве, да к тому же с помощью винтовки как расширения глаза, — все это не для бесписьменного человека.
Оружейный порох был известен намного раньше, чем нашел применение в ружьях; то же самое можно сказать об использовании магнитного железняка, или магнита. Его применение в компасе для линейной навигации тоже должно было дожидаться открытия линейной перспективы в — искусствах. Прошло много времени, прежде чем штурманы смогли принять возможность того, что пространство единообразно, связно и непрерывно. Сегодня прогресс в физике — так же, как в живописи и скульптуре, — требует отказа от идеи единообразного, непрерывного и связного пространства. Визуальность утратила свой приоритет.
Во Второй мировой войне на смену снайперу пришло автоматическое оружие, вслепую обстреливающее так называемый «периметр огня», или «сектор обстрела». Люди старой закалки боролись за сохранение винтовки «Спрингфилд» затворного действия, поощрявшей прицеливание и точность одиночных выстрелов. Поливание воздуха свинцом на манер осязательного объятия доказало свою эффективность как в ночных, так и в дневных условиях; прицеливание было уже не нужным. На нынешней стадии развития технологии письменный человек находится примерно в таком же положении, что и консерваторы, противопоставлявшие огню по периметру винтовку «Спрингфилд». Именно эта же визуальная привычка сдерживает и парализует письменного человека в современной физике, как объясняет в работе «Философское влияние современной физики» Милич Чапек.[439] В старых устных обществах Центральной Европы люди более приспособлены к пониманию невизуальных скоростей и отношений субатомного мира.
Наши высокоразвитые письменные общества теряются, сталкиваясь с новыми структурами мнений и ощущений, возникающими из мгновенной и глобальной информации. Они все еще в плену «точек зрения» и привычек работать с вещами по одной в каждый момент времени. Такие привычки совершенно парализующи в любой электрической структуре движения информации, и все же их можно бы было поставить под контроль, если бы мы знали, откуда мы их приобрели. Однако письменное общество мыслит о своем искусственном визуальном уклоне как о вещи естественной и врожденной.
Письменность даже сейчас остается основой и образцом всех программ промышленной механизации; но в то же время она запирает умы и чувства своих пользователей в механическую и фрагментарную матрицу, которая так необходима для поддержания механизированного общества. Поэтому переход от механической к электрической технологии и является для всех нас таким травматическим и суровым. На протяжении долгого времени мы пользовались механическими методами с их ограниченными возможностями как оружием. Электрические методы не могут быть использованы агрессивно, кроме как для того, чтобы покончить со всей жизнью сразу на манер выключения света. Жить одновременно с обеими этими технологиями — специфическая драма двадцатого века.
В книге «Автоматизация образования»[440] Р. Бакминстер Фуллер отмечает, что вооружение было источником технологического развития человечества, поскольку требовало постоянного повышения эффективности с помощью все более мелких средств. «Когда мы перешли от морских судов к воздушным, сумма выполняемой работы, приходящейся на фунт оборудования и топлива, приобрела еще большее значение, чем на море».
Именно эта тенденция ко все большей и большей власти при все меньшем и меньшем материальном оснащении характеризует электрическую эпоху информации. По оценке Фуллера, за первые полвека существования самолета мировые нации вложили в развитие самолета как оружия два с половиной триллиона долларов. При этом он добавил, что эта сумма в 62 раза превышает стоимость всего мирового запаса золота. Его подход к этим проблемам более технологичен, чем подход историков, зачастую склонных считать, что война не создает в сфере изобретений ничего нового.
«Этот человек научит нас, как его побить», — заметил, говорят, Петр Великий после того, как его войско проиграло сражение шведскому королю Карлу XII. Сегодня отсталые страны могут научиться у нас, как нанести поражение нам. В новую электрическую эпоху информации отсталые страны обладают рядом специфических преимуществ над высокоразвитыми письменными и индустриализованными культурами. Ибо в отсталых странах есть привычка и понимание устной пропаганды и убеждения, тогда как в индустриальных обществах они давно уже выветрились. Русским достаточно адаптировать свои традиции восточной иконы и построения образа к новым электрическим средствам коммуникации, чтобы быть агрессивно эффективными в современном мире информации. Идея Образа, которую с огромным трудом пришлось осваивать Мэдисон Авеню, была единственной идеей, которой располагала русская пропаганда. Русские не проявили в своей пропаганде никакой изобретательности и работы воображения. Они просто делали то, чему их учили религиозные и культурные традиции, а именно — строили образы.
Сам по себе город традиционно является боевым оружием и, будучи коллективным щитом или коллективной кольчугой, представляет собой расширение наших кожных оболочек. До городского столпотворения была собирательская стадия человека-охотника; сегодня, в электрическую эпоху, люди и психически, и социально возвратились в кочевое состояние. Теперь, однако, это называется сбором информации и обработкой данных. Это глобальное состояние; оно игнорирует и вытесняет форму города, которая, стало быть, все более устаревает. С появлением мгновенной электрической технологии земной шар уже никогда не сможет стать более чем деревней, и сама природа города как формы основных параметров неизбежно должна раствориться в небытии, подобно затемнению в кинокадре. Первое кругосветное путешествие, совершенное в эпоху Возрождения, дало людям чувство, будто они заключили в свои объятья всю землю и овладели ею; это чувство было абсолютно новым, и так же сегодня астронавты вновь изменили отношение человека к своей планете, уменьшив ее до масштабов праздной вечерней прогулки.
Город, как и корабль, есть коллективное расширение замка наших кожных оболочек, также как одежда есть расширение нашей индивидуальной кожи. Оружие же, в собственном смысле слова, является расширением рук, ногтей и зубов и возникает в качестве орудий, необходимых для ускорения обработки материи. Сегодня, когда мы живем в эпоху внезапного перехода от механической к электрической технологии, нам легче увидеть характер всех прежних технологий, так как с течением времени мы от всех них отделились. Поскольку наша новая электрическая технология расширяет уже не наши тела, а наши центральные нервные системы, мы видим теперь во всей технологии, в том числе в языке, средства обработки опыта, средства хранения и ускорения информации. И в такой ситуации всю технологию вполне можно рассматривать как оружие.
Прежние войны могут рассматриваться теперь как обработка трудных и сопротивляющихся материалов с помощью самой последней технологии, как стремительное обрушивание индустриальных продуктов на вражеский рынок вплоть до его полного социального насыщения. Войну, фактически, можно рассматривать как процесс достижения равновесия между неравными технологиями, и этот факт объясняет загадочное замечание Тойнби, что каждое изобретение нового оружия становится для общества катастрофой, а милитаризм как таковой есть обычная причина краха цивилизаций.
Благодаря милитаризму Рим распространил цивилизацию — то есть индивидуализм, письменность и линейность — на многочисленные устные и отсталые племена. Даже сегодня сам факт существования письменного и индустриального Запада совершенно естественно кажется бесписьменным обществам ужасной агрессией, и точно так же само по себе существование атомной бомбы кажется состоянием всеобщей агрессии индустриальным и механизированным обществам.
С одной стороны, новое оружие (или технология) появляется как угроза всем, у кого его нет. С другой стороны, когда каждый располагает одними и теми же технологическими средствами, начинается состязательная лихорадка гомогенизированного и эгалитарного образца; в прошлом против нее часто применялась стратегия социального класса и касты. Ибо каста и класс — это методы социального замедления, тяготеющие к созданию статичного состояния племенных обществ. Сегодня мы словно зависли между двумя эпохами — эпохой детрайбализации и эпохой ретрайбализации.
Меж выполненьем замыслов ужасных И первым пробужденьем промежуток Похож на призрак иль на страшный сон: Наш разум и все члены тела спорят, Собравшись на совет, и человек Похож на маленькое государство, Где вспыхнуло междуусобье.[441] У. Шекспир. Юлий Цезарь, Брут II, iМеханическая технология как расширение частей человеческого тела оказывала психически и социально фрагментирующее воздействие, и нигде этот факт не проявляется так наглядно, как в механическом вооружении. С расширением же центральной нервной системы посредством электрической технологии даже оружие делает более наглядным факт единства человеческой семьи. Сама инклюзивность информации как оружия становится ежедневным напоминанием о том, что политика и история должны быть переведены в форму «конкретизации человеческого братства».
Эту дилемму вооружения очень ясно понимает Лесли Дьюарт в книге «Христианство и революция»,[442] указывая на устаревание фрагментированных техник равновесия сил. Как инструмент политики, современная война стала означать «существование и конец одного общества ценой исключения другого». В этой точке оружие становится самоликвидирующимся фактом.
ГЛАВА 33. АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧИТЬСЯ ЖИТЬ
Недавно один газетный заголовок сообщил: «Маленькое школьное здание из красного кирпича умирает, когда строится хорошая дорога». Однокомнатные школы, в которых все предметы преподаются всем классам одновременно, просто исчезают, когда улучшение транспортного обслуживания делает возможными специализированные пространства и специализированное преподавание. Однако на крайнем пределе ускорения движения специализм пространства и предмета снова исчезает. С автоматизацией не только исчезают рабочие места, но и вновь появляются комплексные роли. Многовековое торжество специалистского акцента в педагогике и упорядочении данных теперь, со стремительным возвращением информации, ставшим возможным благодаря электричеству, подходит к своему концу. Автоматизация — это информация, и она не только ставит крест на рабочих местах в мире работы, но и кладет конец предметам в мире обучения. Она не уничтожает мир обучения. В будущем сама работа будет состоять в обучении тому, как жить в эпоху автоматизации. Это известный образец электрической технологии как таковой. Она кладет конец старым дихотомиям культуры и технологии, искусства и коммерции, работы и досуга. Если в механическую эпоху фрагментации досуг состоял в отсутствии работы, или простом праздном времяпрепровождении, то для электрической эпохи верно обратное. Поскольку эпоха информации требует одновременного использования всех наших способностей, мы открываем для себя, что более всего отдыхаем тогда, когда сильнее всего вовлечены, почти так же, как это во все времена было у художников.
Взглянув на суть дела в контексте индустриальной эпохи, можно сказать, что разница между прежней механической и новой электрической эпохой проявляется в разных типах каталогов. С тех пор, как пришло электричество, каталоги состоят не столько из названий товаров, хранящихся на складе, сколько из названий материалов, находящихся в непрерывном процессе переработки в пространственно удаленных местах. Ведь электричество не только отдает приоритет процессу, будь то в производстве или обучении, но и делает источник энергии независимым от пространственного местонахождения процесса. В сфере развлекательных средств коммуникации мы говорим об этом факте как о «масс-медиа», поскольку источник программы и процесс ее переживания в опыте независимы друг от друга в пространстве, хотя и одновременны во времени. В промышленности этот основополагающий факт вызывает научную революцию, называемую «автоматизацией» или «кибернетизацией».
В сфере образования принятое разделение учебного плана на предметы уже устарело точно так же, как с наступлением эпохи Возрождения устарели средневековые тривиум и квадривиум.[443] Любой учебный предмет, воспринимаемый в глубину, сразу связывается с другими предметами. Арифметика для третьего или девятого класса, если преподавать ее в терминах теории чисел, символической логики и культурной истории, перестает быть простой практикой решения задач. Продолжая развиваться в духе нынешних образцов фрагментированной бессвязности, наши школьные учебные планы будут гарантированно поставлять нам граждан, неспособных понять тот кибернетизированный мир, в котором они живут.
Большинство ученых вполне сознают, что с тех пор, как мы приобрели некоторые познания в электричестве, уже не представляется возможным говорить об атомах как о частицах материи. И, опять-таки, чем больше мы узнаем об электрических «разрядах» и энергии, тем меньше мы склонны говорить об электричестве как о вещи, которая «течет» подобно воде по проводам или «содержится» в батарейке. Скорее, мы склонны говорить об электричестве, как художники говорят о пространстве, а именно, что это изменчивое состояние, заключающее в себе особые положения двух или более тел. Нет более тяги говорить об электричестве как о «содержащемся» в чем-то. Художникам давно известно, что объекты не содержатся в пространстве, а рождают свои собственные пространства. Именно забрезжившее столетие тому назад осознание этого в математическом мире позволило оксфордскому математику Льюису Кэрроллу сочинить «Алису в Стране чудес», где времена и пространства не являются ни единообразными, ни непрерывными, какими они казались со времен появления ренессансной перспективы. Что до скорости света, то это просто скорость тотальной причинности.
Главная особенность электрической эпохи состоит в том, что она создает глобальную сеть, во многом похожую по своему характеру на нашу центральную нервную систему. Наша центральная нервная система не просто представляет собой электрическую сеть, но и конституирует единое поле опыта. Как отмечают биологи, мозг — это место взаимодействия, где все виды впечатлений и переживаний могут взаимно обмениваться и переводиться друг в друга, позволяя нам реагировать на мир как единое целое. И, естественно, когда в игру вступает электрическая технология, самые разные и самые масштабные операции, протекающие в промышленности и обществе, быстро принимают единую позу. Тем не менее, это органическое единство интерпроцесса, инспирируемое в самых разнообразных и специализированных областях и органах действия электромагнетизмом, есть полная противоположность организации в механизированном обществе. Механизация любого процесса достигается за счет фрагментации, начиная с той механизации письма при помощи съемных наборных литер, которую мы назвали «моно-фракцией мануфактуры».
Электрический телеграф, скрестившись с книгопечатанием, породил причудливую новую форму современной газеты. Любая страница телеграфной прессы являет нам сюрреалистическую мозаику элементов «человеческого интереса», пребывающих в живом взаимодействии. Такой же была художественная форма Чаплина и раннего немого кино. Здесь крайнее ускорение механизации — конвейерной линии кадров, запечатленных на целлулоиде, — тоже привело к странному обращению. Прибегнув к помощи электрического света, механика кино создала иллюзию органической формы и органического движения, подобно тому, как пятью столетиями раньше фиксированная позиция создала иллюзию перспективы на плоской поверхности.
То же самое, хотя не столь заметно, происходит при скрещивании электрического принципа с механическими линиями индустриальной организации. В автоматизации механический принцип сохраняется не более, чем формы лошади и экипажа в автомобиле. Тем не менее люди рассуждают об автоматизации так, словно мы до сих пор не переступили барьер овса и словно голосование за лошадь в очередном опросе может смести с лица земли автоматический режим.
Автоматизация не является расширением механических принципов фрагментации и разделения операций. Скорее это вторжение в механический мир мгновенного характера электричества. Именно поэтому те, кто вовлечен в автоматизацию, настаивают, что это не только способ делания, но и в не меньшей степени способ мышления. Мгновенная синхронизация множества операций положила конец старому механическому образцу расположения операций в линейную последовательность. Конвейерная линия канула в прошлое, как и прочие проявления линейности. Так что не только линейный и последовательностный аспект механического анализа был стерт электрическим ускорением и той точной синхронизацией информации, коей является автоматизация.
Автоматизация, или кибернетизация, поступает со всеми единицами и компонентами промышленного и рыночного процесса так же, как радио или телевидение комбинируют во взаимный процесс составляющих аудиторию индивидов. Новый тип взаимосвязи как в промышленности, так и в сфере развлечений является результатом электрической мгновенной скорости. В настоящее время наша новая электрическая технология выносит наружу ту мгновенную обработку информации посредством взаимного связывания, которая долгое время происходила внутри нашей центральной нервной системы. Именно эта скорость утверждает «органическое единство» и кладет конец механической эпохе, развернувшейся в полную силу с открытием Гутенберга. Автоматизация несет нам настоящее «массовое производство» — массовое не с точки зрения размера, а в плане мгновенного инклюзивного охвата. Таков же характер «средств массовой информации». Они являются массовыми не из-за размера их аудиторий, а в силу того факта, что в одно и то же время каждый становится в них вовлеченным. А посему товарное производство в условиях автоматизации приобретает такой же структурный характер, что и индустрия развлечений, причем настолько, что они в равной степени приближаются к состоянию мгновенной информации. Автоматизация оказывает воздействие не только на производство, но и на все фазы потребления и маркетинга; ибо в цепи автоматизации потребитель становится производителем подобно тому, как читатель мозаичной телеграфной прессы делает собственные новости или даже сам является собственной новостью.
Между тем, в истории автоматизации есть один компонент, столь же основополагающий, как и тактильность для телевизионного образа. Это тот факт, что в любой автоматизированной машине — или галактике машин и функций — генерирование и передача энергии полностью отделены от трудового процесса, потребляющего эту энергию. Это касается также всех сервомеханических структур, заключающих в себе обратную связь. Источник энергии отделен от процесса перевода информации, или применения знания. Это очевидно в случае телеграфа, где энергия и канал передачи совершенно не зависят от того, является ли письменный код французским или немецким. Такое же разделение энергии и процесса достигается в автоматизированной промышленности, или в «кибернетизации». Электрическая энергия может индифферентно и быстро применяться для решения самых разных задач.
В механических системах такого никогда не было. Энергия и выполняемая работа всегда были напрямую связаны друг с другом, были ли это рука и молот, вода и мельничное колесо, лошадь и телега или пар и поршень. Электричество принесло в этом плане неведомую гибкость, подобно тому, как свет сам по себе освещает тотальное поле и не диктует того, что будет сделано с его помощью. Один и тот же свет может делать возможным решение множества задач; точно так же и электрическая энергия. Свет — это неспециалистский вид энергии или силы, тождественный информации и знанию. Такая же связь существует между электричеством и автоматизацией, ибо как энергия, так и информация могут быть применены огромным множеством способов.
Постижение этого факта является необходимым условием понимания электронной эпохи и, в частности, автоматизации. Энергия и производство тяготеют ныне к смешению с информацией и обучением. Маркетинг и потребление тяготеют к слиянию с обучением, просвещением и поглощением информации. Все это часть электрического сжатия вовнутрь, которое в наше время приходит на смену, или заступает на место, многовекового взрыва и возрастающего специализма. Электронная эпоха — в буквальном смысле эпоха освещения. Как свет есть одновременно энергия и информация, так и электрическая автоматизация объединяет в единый и неразрывный процесс производство, потребление и обучение. По этой причине учителя уже сейчас стали в американской экономике крупнейшей группой служащих и вполне могут, в конце концов, остаться единственной такой группой.
Именно этот процесс автоматизации, вызывающий отток нынешней рабочей силы из промышленности, ведет к превращению самого обучения в главный вид производства и потребления. Отсюда вся безрассудность тревоги по поводу безработицы. Уже сейчас оплачиваемое обучение становится в нашем обществе как преобладающей сферой занятости, так и источником нового богатства. Это новая роль для людей в обществе, тогда как старая механистическая идея «рабочих мест», или фрагментированных задач и специалистских ячеек для «рабочих», в условиях автоматизации становится бессмысленной.
Инженеры часто говорили, что по мере возрастания информационных уровней почти любой род материала может быть приспособлен к любому роду применения. Этот принцип служит ключом к пониманию электрической автоматизации. В случае электричества по мере того, как энергообеспечение производства становится независимым от самого процесса работы, не только появляется скорость, создающая тотальное и органическое взаимодействие, но и обнаруживается, что электричество есть чистая информация, которая в реальной практике освещает все, к чему бы она ни прикасалась. Любой процесс, приближаясь к мгновенной взаимосвязи тотального поля, стремится выйти на уровень осознанного понимания, вследствие чего возникает иллюзия, что компьютеры «мыслят». На самом деле они в настоящее время в высокой степени специализированы, и им еще недостает того полного процесса взаимодействия, которым создается сознание. Очевидно, их можно заставить симулировать процесс сознания так же, как ныне начинают симулировать состояние нашей центральной нервной системы наши электрические глобальные сети. Однако сознательным был бы, все-таки, только тот компьютер, который служил бы таким же расширением нашего сознания, каким является телескоп для наших глаз или «болван» чревовещателя для чревовещателя.
Автоматизация определенно предполагает сервомеханизм и компьютер. Иначе говоря, она предполагает электричество как хранилище и ускоритель информации. Эти характеристики хранилища, или «памяти», и ускорителя являются основными чертами любого средства коммуникации вообще. Но в случае электричества хранится или перемещается не телесная субстанция, а восприятие и информация. Что же касается технологического ускорения, то ныне оно приближается к скорости света. Все неэлектрические средства коммуникации лишь немного поторапливали вещи. Колесу, дороге, кораблю, самолету и даже космической ракете явно недостает характера мгновенного движения. И что тогда странного в том, что электричество должно придать всей прежней человеческой организации совершенно новый характер? Сам тяжелый труд становится отныне для человека своего рода просвещением. Адаму до грехопадения, когда он был еще в Эдемском саду, было поручено подумать и дать тварям имена. Так же обстоит дело с автоматизацией. Теперь нам нужно лишь назвать и спроектировать процесс или продукт, чтобы они осуществились. Не слишком ли это похоже на эл-капповских Трепалок? Достаточно было взглянуть на Трепалку и страстно подумать о свиной отбивной или икре, как Трепалка тут же экстатически превращалась в вожделенный объект. Автоматизация ведет нас в мир Трепалки. На смену массово-произведенному приходит сделанное-на-заказ. Давайте, как говорят китайцы, подвинем свои стулья поближе к огню и увидим, что мы говорим. Электрические изменения, связываемые с автоматизацией, не имеют ничего общего с идеологиями или социальными программами. Если бы они имели с ними что-то общее, их можно было бы отложить или поставить под контроль. Но то технологическое расширение нашей центральной нервной системы, которое мы именуем электрическими средствами коммуникации, началось более столетия назад без всякого сознательного плана. Его воздействия не достигали порога осознания. И не достигают до сих пор. Не было еще ни одного периода в истории человеческой культуры, когда бы люди понимали психические механизмы, заключенные в изобретении и технологии. Сегодня именно мгновенная скорость электрической информации впервые позволяет нам легко разглядеть образцы и формальные очертания изменения и развития. Весь мир, прошлый и нынешний, открывается теперь перед нами, словно растущее растение в безумно ускоренном кинофильме. Электрическая скорость синонимична свету и пониманию причин. Так, с применением электричества в ранее механизированных ситуациях люди легко находят причинные связи и образцы, которые были совершенно не наблюдаемыми при меньших скоростях механического изменения. Если мы отмотаем назад долгий процесс развития письменности и печати и их воздействия на социальный опыт и организацию, то сможем легко увидеть, каким образом эти формы произвели ту высокую степень социального единообразия и гомогенности общества, которая необходима для механической промышленности. Стоит отыграть назад этот процесс, и мы испытаем тот шок столкновения с неизвестностью в известном, который необходим для понимания жизни форм. Электричество заставляет нас отыграть назад наше механическое развитие, ибо обращает значительную часть этого развития в его противоположность. Механизация держится на разбиении процессов на гомогенизированные, но не связанные друг с другом элементы. Электричество вновь воссоединяет эти фрагменты, ибо скорость его действия требует высокой степени взаимозависимости между всеми фазами любого процесса. Именно это электрическое ускорение и взаимозависимость положили конец сборочной линии в промышленности.
Та же потребность в органической взаимосвязи, рожденная электрической скоростью синхронизации, требует ныне от нас осуществить — в одной отрасли промышленности за другой, в одной стране за другой — точно такое же органическое взаимосвязывание, какое впервые произошло в индивидуальной автоматизированной единице. Электрическая скорость требует органического структурирования глобальной экономики точно так же, как ранняя механизация, обусловленная печатью и дорогой, привела к принятию национального единства. Не будем забывать, что национализм был могущественным изобретением и революцией, приведшей в эпоху Возрождения к стиранию границ между многочисленными локальными регионами и местностями. Это была революция, совершенная почти целиком за счет ускорения информации при помощи единообразных съемных наборных литер. Национализм полностью противоречил традиционной власти и культурным группировкам, которые мало-помалу складывались в разных регионах. Многонациональность долгое время лишала Европу экономического единства. Общий Рынок вошел в нее только со Второй мировой войной. Война есть ускоренное социальное изменение, подобно тому, как взрыв есть ускоренная химическая реакция и движение материи. С электрическими скоростями, управляющими промышленностью и социальной жизнью, взрыв — в смысле катастрофического развития — становится нормой. С другой стороны, старомодный тип «войны» становится таким же неосуществимым, как игра в классики с бульдозерами. Органическая взаимозависимость означает, что разрушение любой части организма может оказаться смертельно опасным для всего него в целом. Каждой отрасли промышленности пришлось, функция за функцией, «заново продумать» (неуклюжесть этой фразы выдает мучительность процесса) свое место в экономике. Но автоматизация заставляет не только промышленность и градопланировщиков, но также государство и даже образование войти в ту или иную связь с социальными фактами.
Очень быстро пришлось приспособиться к автоматизации различным военным отраслям. Громоздкие механические формы военной организации ушли в прошлое. Маленькие команды экспертов пришли на смену гражданским армиям вчерашнего дня даже еще быстрее, чем занялись реорганизацией промышленности. Единообразно обученные и гомогенизированные граждане, так долго подготавливаемые и так необходимые для механизированного общества, становятся для автоматизированного общества обузой и проблемой, ведь автоматизация и электричество требуют всегда и везде глубинных подходов. Отсюда внезапный отказ от стандартизированных товаров, обстановок, образа жизни и образования в Америке после второй мировой войны. Это было переключение, навязанное электрической технологией в целом и телевизионным образом в частности.
Впервые ощутили и увидели автоматизацию в широких масштабах химические отрасли, производящие газ, уголь, нефть и металлическую руду. Крупные изменения в этих производственных процессах, ставшие возможными благодаря электрической энергии, стали теперь благодаря компьютеру проникать во все сферы деятельности белых воротничков и менеджеров. Вследствие этого многие люди стали смотреть на общество в целом как на единую машину для производства богатства. Таким стало обычное мировоззрение брокера, манипулирующего акциями и информацией при содействии электрических средств коммуникации — прессы, радио, телефона и телетайпа. Между тем, специфическое и абстрактное манипулирование информацией как средство создания богатства не является более монополией биржевого игрока. Теперь им занимаются в такой же степени каждый инженер и вся коммуникационная индустрия. С приходом электричества как источника энергии и синхронизатора все аспекты производства, потребления и организации стали вторичны по отношению к коммуникациям. Сама идея коммуникации как взаимодействия заложена в электричестве, которое совмещает энергию и информацию в своей интенсивной многогранности.
Каждый, кто начинает исследовать образцы автоматизации, сразу обнаруживает, что совершенствование отдельной машины путем превращения ее в автоматическую предполагает «обратную связь». Это означает введение информационной петли, или цепи, туда, где прежде был односторонний поток, или механическая последовательность. Обратная связь — это конец линейности, вошедшей в западный мир с алфавитом и непрерывными формами евклидова пространства. Обратная связь, или диалог между механизмом и его средой, вызывает далее вплетение отдельных машин в целую галактику таких машин в масштабах предприятия. Затем следует дальнейшее вплетение отдельных заводов и фабрик в целостную индустриальную матрицу материалов и услуг культуры. Естественно, эта последняя стадия сталкивается с целостными миром политики, поскольку оперирование всем индустриальным комплексом как органической системой влияет на занятость, безопасность, образование и политику, требуя заблаговременного полного понимания грядущего структурного изменения. В таких электрических и мгновенных организациях нет места бездумным допущениям и подпороговым факторам.
Как художники столетие назад стали конструировать свои произведения в обратном порядке, начиная с эффекта, так теперь обстоит дело с промышленностью и планированием. Вообще говоря, электрическое ускорение требует полного знания конечных результатов. Механические ускорения, как бы радикально они ни реформировали личную и социальную жизнь, все еще могли происходить последовательно. Люди, по большей части, могли пройти нормальный жизненный путь на основе единичного набора навыков. В случае электрического ускорения дело обстоит совершенно иначе. Приобретение управленцами высшего звена в среднем возрасте новых базисных знаний и умений — одна из самых обычных потребностей и один из самых душераздирающих фактов электрической технологии. Управленцы высшего звена, или «большие шишки», как их архаично и иронично называют,[444] представляют собой одну из групп, находящихся под самым жестким давлением и в состоянии самой тяжелой непрерывной измотанности в человеческой истории. Электричество не только потребовало от них еще более глубокого знания и еще более быстрого взаимодействия, но и сделало гармонизацию их производственных графиков такой же жесткой, как и требуемая от членов большого симфонического оркестра. Наряду с этим, и удовлетворение, получаемое крупным управленцем от своей работы, так же невелико, как и у исполнителей симфонии, ибо, играя в большом оркестре, музыкант не может слышать той музыки, которая доходит до слуха аудитории. Он слышит только шум.
Результатом электрического ускорения в промышленности в целом является создание необычайной восприимчивости к взаимосвязи и взаимному процессу целого, которая требует все новых типов организации и таланта. Рассматриваемая через призму старых перспектив машинной эпохи, эта электрическая сеть заводов и процессов кажется хрупкой и плотной. Она на самом деле не механична, и в ней начинает развиваться чувствительность и пластичность человеческого организма. Но вместе с тем она требует такого же разнообразного питания и ухода, как и живой организм.
Вместе с мгновенными и сложными взаимосвязующими процессами органической формы автоматизированная промышленность приобретает также способность приспосабливаться ко множественным целям. Машина, созданная для автоматического производства электроламп, представляет собой комбинацию процессов, которые прежде выполнялись несколькими машинами. При единственном обслуживающем лице она может работать на входе и выходе так же непрерывно, как и дерево. Однако, в отличие от дерева, она имеет встроенную систему зажимов и креплений, которые можно снять, дабы заставить машину переключиться на производство широчайшего ассортимента продукции — от радиоламп и стеклянных тумблеров до рождественских игрушек. Хотя автоматизированное предприятие почти подобно дереву с точки зрения непрерывающегося входа и выхода, это такое дерево, которое может по требованию превращаться из дуба в клен, а из клена в грецкий орех. Частью автоматизации, или электрической логики, является то, что специализация не ограничивается более одной-единственной специальностью. Автоматическая машина может работать специалистским образом, но не ограничивается одной линией продукции. Как наши руки и пальцы способны выполнять множество задач, так и автомат инкорпорирует способность адаптации, которая начисто отсутствовала в доэлектрической и механической стадии технологии. По мере того как что-либо становится более сложным, оно становится и менее специализированным. Человек более сложен и менее специализирован, чем динозавр. Старые механические операции задумывались как более эффективные и вместе с тем становились более крупными и более специализированными. В случае электрической и автоматизированной единицы, однако, все обстоит иначе. Новая автоматическая машина для производства автомобильных выхлопных труб обладает размером примерно в два-три офисных стола. Компьютерная панель управления имеет размеры пюпитра. Она не содержит в себе никаких штампов, никаких креплений, никаких насадок, а только некоторые детали общего назначения, такие, как зажимы, искривители и ускорители. На этой машине можно последовательно изготовить, начиная с обычных труб разной длины, восемьдесят разных видов трубок, причем так же быстро, легко и дешево, как и в случае, если бы изготавливались восемьдесят трубок одного типа. Для электрической автоматизации вообще характерно это направление возврата к общецелевой ремесленной гибкости, которой обладают наши руки. Программирование может включать в настоящее время возможность бесконечного изменения программ. И именно электрическая обратная связь, или диалогический образец, присущий автоматической и компьютерно-программируемой «машине», составляет ее отличие от старого механического принципа одностороннего движения.
Этот компьютер предлагает модель, обладающую характеристиками, общими для всей автоматизации. От точки входа материалов до точки выхода конечного продукта операции имеют тенденцию быть независимо друг от друга — но в то же время и взаимозависимо — автоматическими. Синхронизированный концерт операций находится под контролем рычагов и инструментов, могущих быть отделенными от панелей управления, которые сами по себе являются электронными. Материал на входе относительно единообразен по форме, размеру и химическим свойствам, как и материал на выходе. Но обработка в таких условиях позволяет обеспечить наивысший уровень производительности на любой необходимый период. Разница между автоматом и старыми машинами такая же, как между звучанием гобоя в оркестре и тем же звучанием на электронном музыкальном инструменте. С появлением электронного музыкального инструмента можно произвести любой звук в любой интенсивности и любой длительности. Заметьте, что, в отличие от него, старый симфонический оркестр был машиной, составленной из отдельных инструментов, которая создавала эффект органического единства. В случае электронного инструмента музыкант начинает с органического единства как непосредственного факта совершенной синхронизации. Попытка создать эффект органического единства становится при этом совершенно бессмысленной. Электронная музыка должна искать другие цели.
Такова также грубая логика индустриальной автоматизации. Все, чего мы прежде механически достигали посредством великого напряжения и координации, теперь может быть сделано электрически без всяких усилий. Отсюда призрак безработицы и лишения собственности в электрическую эпоху. Богатство и работа стали информационными факторами, и теперь нужны совершенно новые структуры для ведения бизнеса или связывания его с социальными потребностями и рынками. С электрической технологией новые виды мгновенной взаимозависимости и взаимного процесса, захватившие производство, входят также в рыночные и социальные организации. А потому рынки и образование, нацеленные на работу с продуктами тяжелого рабского труда и механического производства, не являются более адекватными. Наше образование давно приобрело фрагментарный и осколочный характер механизма. Ныне оно находится под все более возрастающим давлением, подталкивающим его к обретению глубины и взаимосвязи, без которых никак нельзя обойтись в мгновенном всеобъемлющем мире электрической организации.
Парадоксально, но автоматизация делает обязательным либеральное образование. Электрическая эпоха сервомеханизмов внезапно освобождает людей от механического и специалистского рабства предшествующей машинной эпохи. Как машина и автомобиль освободили лошадь и перевели ее в сферу развлечения, так и автоматизация делает то же самое с людьми. Над нами вдруг нависла угроза освобождения, подвергающая испытанию наши внутренние способности к самостоятельному нахождению для себя занятий и творческому участию в обществе. Казалось, это была судьба, призвавшая людей на роль художника в обществе. В итоге большинство людей осознало, насколько зависимы они стали от фрагментированных и повторяемых рутин механической эры. Тысячи лет назад человек — кочевой собиратель пищи — взял на себя позиционные, или относительно постоянные, задачи. Он начал специализироваться. Основными стадиями этого процесса были развитие письма и печати. Они имели в высшей степени специ-алистский характер, отделяя роли знания от ролей действия, хотя временами могло казаться, что «перо могущественнее шпаги». Но с пришествием электричества и автоматизации технология фрагментированных процессов внезапно слилась воедино с человеческим диалогом и потребностью во всепоглощающем внимании к человеческому единству. Люди вдруг превратились в кочевых собирателей знания, кочевых, как никогда раньше, информированных, как никогда раньше, свободных от фрагментарного специализма, как никогда раньше, — и вместе с тем, как никогда раньше, вовлеченных в тотальный социальный процесс. Ибо с пришествием электричества мы осуществляем глобальное расширение нашей центральной нервной системы, мгновенно взаимосвязывая любой человеческий опыт. Давно привыкшие к такому положению дел в новостях с фондового рынка и в сенсациях на первых полосах газет, мы можем постичь смысл этого нового измерения с большей готовностью, если сослаться на возможность «испытания» непостроенных самолетов на компьютерах. Можно запрограммировать технические характеристики самолета, а затем испытать этот самолет в самых разных экстремальных условиях, прежде чем он покинет стены конструкторского бюро. Так же обстоит дело со всевозможными новыми продуктами и новыми организациями. Теперь мы можем благодаря компьютеру подойти к сложным социальным потребностям с такой же уверенностью архитектора, какой мы ранее достигли в частном жилищном строительстве. Промышленность как единое целое стала признанной единицей, и то же самое можно сказать об обществе, политике и образовании.
Электрические средства, позволяющие хранить и перемещать информацию с огромной скоростью и точностью, делают самые крупные единицы такими же управляемыми, как и малые. Так, автоматизация завода или целой отрасли дает маленькую модель тех изменений, которые должны произойти под влиянием той же электрической технологии в обществе. Тотальная взаимозависимость — исходный факт. Тем не менее диапазон выбора замыслов, акцентов и целей в тотальном поле электромагнитного взаимного процесса несоизмеримо шире, чем когда-либо был в условиях механизации.
Поскольку электрическая энергия независима от места выполнения и типа рабочей операции, она создает образцы децентрализации и разнообразия в выполняемой работе. Эта логика представляется достаточно ясной, если в качестве примера взять разницу между светом от огня и электрическим светом. Люди, собравшиеся вокруг костра или свечи ради тепла или света, менее способны к развитию самостоятельных мыслей или даже задач, нежели люди, снабженные электрическим светом. Точно так же социальные и образовательные образцы, латентно присутствующие в автоматизации, являют собой образцы свободного выбора занятий и художественной автономии. Паника вокруг автоматизации как угрозы единообразия в мировом масштабе — это проекция в будущее механической стандартизации и специализма, время которых теперь прошло.
O M. МАКЛЮЭНЕ
Герберт (в старо-английском звучании: Джильберт) Маршалл Маклюэн родился 21 июля 1911 г. в канадском городе Эдмонтоне (округ Альта). Его отец был продавцом страховок и недвижимости, а мать — актриса Элси Холл (Hall) — зарабатывала пением в церковных хорах разных храмов. За все то доброе, что было вложено в душу маленького Маршалла, он остался навсегда благодарным матери, считая, что почти все, чего он достиг в течение своей плодотворной творческой деятельности, являлось ее заслугой.
Юный Маршалл был любознательным, но весьма независимым и легко возбудимым ребенком. Обладая уникальными природными дарованиями, он, тем не менее, не отличался усидчивостью и не очень хорошо учился. В 1928 г. он поступил в Университет Манитоба (Manitoba), где с усердием взялся за изучение теологии, экономики, психологии, истории, астрономии, а также литературы и языков: в первую очередь латинского и английского. В 1933 г. ему была присуждена степень бакалавра и вручена золотая медаль по науке и искусствам.
В 1934 г. Маклюэн приехал в Англию — в Тринити Холл Кэмбриджского университета. Позднее он говорил, что Кембридж того времени был наполнен гомосексуалистами, и тем не менее вспоминал эти годы как лучшие и наиболее плодотворные в научном отношении годы своей жизни.
В 1937 г. Маклюэн перешел в римо-католическую церковь, чем шокировал мать. Примерно с этого времени в жизни молодого филолога начинается период, в течение которого он переходит из одной учебно научной католической организации в другую, нигде не задерживаясь на достаточно длительный срок. Он работал в Университете Сент-Луиса Джесьют, который затем приобрел репутацию самого лучшего католического университета Америки, в Assumption Колледж в Канаде и других. Работу над диссертацией («Риторика Томаса Нэша») Маклюэн завершил в 1942 г. В 1939 г. Маклюэн женился на преподавательнице словесности и риторики (drama and speeech) Карине Эллер (Carina Eller). У них родилось шестеро детей. Маклюэн оказался довольно требовательным отцом, уверенным в пользе телесных наказаний и широко практиковавшим их в процессе воспитании собственных детей (кстати, его сын Эрик был платным ассистентом у отца с 1965 г.).
В последний год пребывания Маклюэна в Сент-Луисе стали появляться его культурно-критические работы. В 1943 г. Маклюэн познакомился с английским художником, писателем и критиком — Уиндхэмом Льюисом (позже Маклюэн неоднократно говорил о том, что знакомство с последним сильно повлияло на его мышление).
В 1946–1977 гг. Маклюэн был членом Департамента английского языка в Колледже святого архистратига Михаила Универститета Торонто. Следует отметить, что ближайшие коллеги не могли его терпеть, а остальные профессора отговаривали своих студентов от посещения читаемых им курсов. В результате за все эти годы под его непосредственным научным руководством было защищено только семь (!) диссертационных работ. Ситуацию усугубляла еще и весьма своеобразная маклюэновская манера излагать свои мысли, благодаря которой люди зачатую не могли понять о чем он говорит и о чем заговорит в последующий момент. Незнакомые люди чаще всего считали, что Маклюэн просто «немет какую-то чушь». Томас Вулф сказал как-то, что Маклюэн — это «Льюис Керролл с серьезным лицом».
В 1953 г. Маклюэн вместе с антропологом Эдмондом Карпентером учредил журнал «Explorations Исследования» (журнал выходил до 1959 г.). Затем он стал директором media'тивного проекта Национальной Ассоциации образовательных программ на каналах ТВ- и радиовещания (broadcast) Министерства Образования США (Office of Education) В 1967 г. Маклюэн удостоился кресла (почетной кафедры) Альберта Швейцера в области гуманитарных дисциплин в Fordham University. С 1950 г. с Маклюэном стали происходить случаи отключения и полной потери сознания. В 1967 г. была проведена сложнейшая операция, в результате которой у Маклюэна была удалена опухоль под мозгом размером с тенистый мяч. Хотя Маклюэн выздоровел удивительно быстро, его послеоперационное состояние сильно изменило его жизнь. Будучи впечатлительным и легковозбудимым и до операции, теперь он стал (как отмечали все, кто хорошо его знал) просто сверхчувствительным (hyper-sensetive). Кроме того, Маклюэн обнаружил, что из его памяти бесследно стерлось то, о чем он читал последние несколько лет. В 1979 г. в результате случившегося инсульта Маклюэна разбил паралич, что повлияло на его способность читать и писать и вынудило оставить преподавательскую работу.
31 декабря 1980 г. в Торонто Маклюэн скончался.
Михаил Константинович Вавилов
Примечания
1
В книге Маклюэна нет аппарата примечаний. Все примечания и комментарии принадлежат переводчику
(обратно)2
Маклюэн активно использует парные понятия explosion (взрыв) и implosion (имплозия, направленный внутрь взрыв, схлопывание, интеграция), а также производные от них, не всегда поддающиеся в контексте последовательно единообразному переводу. Под «взрывом» понимается формально-структурный процесс дифференциации, фрагментации, специализации элементов и функций. Под «имплозией» подразумевается обратный процесс интеграции, стирания границ и различий, снятия фрагментации и специализации, собирания целого из осколков, причем процесс, который не заключает в себе централизации (это нецентрированный «взрыв вовнутрь»); здесь это понятие передается такими словами, как «сжатие», «схлопывание», «взрыв во-внутрь». Соответствующие прилагательные explosive и implosive переводятся здесь как «взрывной» и «имплозивный»; соответствующие гла-голы — «взрываться» и «взрываться вовнутрь» («сжиматься», «уплотняться»). Эта маклюэновская дихотомия почти полностью совпадает по смыслу с библейской метафорой «время разбрасывать камни, и время собирать камни» (Еккл. 3, 5).
(обратно)3
Слово inclusive («инклюзивный») не имеет полноценного аналога в русском языке, заключая в себе целый ряд смыслов (включительный, вмещающий, обобщенный, целостный, емкий, не состоящий из отдельных и обособленных элементов, а схватываемый целиком и тем самым близкий к гештальту).
(обратно)4
Кушетка — необходимый элемент обстановки психоаналитического сеанса, введенный в конце XIX века 3. Фрейдом.
(обратно)5
Тиболд (Theobald) Роберт (р. 1929) — американский экономист, автор теории «кибернетической революции», оказавшей влияние на социологические теории постиндустриального общества.
(обратно)6
Термин medium имеет в английском языке очень широкое и общее значение, для передачи которого в русском языке нет равноценного аналога. Понятие «посредник», более всего подходящее по степени абстрактности и применяемое, например, в ранних русскоязычных работах П. Сорокина («проводник»), не привилось у нас в качестве устойчивого элемента социологического лексикона. (Перевод этого термина словом «посредник» используется только в имеющихся русских версиях работ Т. Парсонса.) Исходя из этого, мы будем переводить этот термин как «средство коммуникации», а в ряде случаев, когда это необходимо, использовать такие варианты перевода, как «средство сообщения» и «средство (массовой) информации». (Кроме того, данный термин имеет такое общее значение, как «средство связи», и более частное значение «средства общения».)
(обратно)7
У Маклюэна во второй строке местоимение «она», стоящее в оригинале, заменено на «оно». Вторая шекспировская строка (в переводе Т. Щепкиной-Куперник) звучит так: «Она заговорила? Нет, молчит». Цит. по: Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии. Сонеты. Т. 2. М.: РИПОЛ, 1994. С. 41–42.
(обратно)8
Приводится в пер. В. Пастернака по изданию: Шекспир В Трагедии. M: РИПОЛ, 1993. С. 513.
(обратно)9
Приводится в пер. Л. Некора по изданию: Шекспир У Собр. соч. в 8-ми т. Т. 5. М.: Интербук, 1993. С. 296.
(обратно)10
Селье (Selye) Ганс (1907–1982) — канадский патолог. Известен своей теорией неспецифического реагирования и прежде всего теорией стресса (общего состояния, возникающего под влиянием сильных воздействий среды и сопровождающегося мобилизацией всех защитных систем организма).
(обратно)11
Selye H The Stress of Life N Y, Toronto, L McGraw-Hill Book Co, Inc, 1956.
(обратно)12
Сарнофф (Sarnoff) Давид (1891–1971) — американский промышленник русского происхождения. С 1922 г. вице-президент Американской радиокорпорации (RCA). Руководя корпорацией, уже в 1923 г. предсказал, какую огромную роль в будущем будет играть телевидение. Активно пропагандировал необходимость размещения радиоприемников и телевизоров в каждом доме. Во время второй мировой войны служил консультантом по коммуникациям, за что в 1944 г. получил звание бригадного генерала.
(обратно)13
Термин reversal, который переводится здесь как «обращение», является одним из ключевых понятий в концепции Маклюэна и означает радикальное изменение природы (или направленности) процесса, развития, средства коммуникации, его воздействий и т. д., превращение их в собственную противоположность, диалектическое возвращение в прошлое состояние на новом этапе развития; по сугубо формальному значению этот термин близок к гегелевско-марксистскому понятию «отрицание отрицания».
(обратно)14
Gombrich E.H. Art and Illusion A Study in the Psychology of Pictorial Representation N Y Pantheon, 1960.
(обратно)15
Ньюмен (Newman) Джон Генри (1801–1890) — английский теолог, публицист и церковный деятель. В 1854–1858 гг. ректор католического университета в Дублине; с 1879 г. — кардинал. Главное произведение: «Грамматика согласия» (1870).
(обратно)16
Арнольд (Arnold) Мэтью (1822–1888) — английский поэт, критик, педагог и искусствовед. Из поэтических произведений наиболее известны поэма «Эмпедокл на Этне» и сборник «Новые стихотворения». С 70-х годов занимался в основном литературной критикой; идеализировал античную культуру и противопоставлял ее буржуазной действительности, которую считал глубоко враждебной искусству. Основные критические работы: «Культура и анархия» (1869), «Литература и догма» (1873), «Опыты о критике» (1865, 1888).
(обратно)17
Гиббон (Gibbon) Эдуард (1737–1794) — английский историк. Его основной труд «История упадка и разрушения Римской империи» получил широкую известность и был переведен на многие языки, в том числе на русский.
(обратно)18
Форстер (Forster) Эдуард Морган (1879–1970) — английский писатель. Роман «Поездка в Индию» («А Passage to India») считается одним из лучших его произведений (рус. пер. — 1937).
(обратно)19
Уитмен (Whitman) Уолт (1819–1892) — американский поэт.
(обратно)20
В работе Маклюэна используются несколько соотносимых категорий, производных от слова «племя» (tribe): «трайбализм» (племенное состояние), «детрайбализация» (выход из племенного состояния) и «ретрайбализация» (повторное возвращение в племенное состояние, которое трактуется как «обращение» и связывается с электрическими средствами коммуникации). «Племенное» состояние рассматривается Маклюэном как некое исторически исходное социальное состояние человечества.
(обратно)21
Carothers J. С. The African Mind in Health and Disease. Geneva: World Health Organization, 1953.
(обратно)22
Carothers J. С. The Culture, Psychiatry, and the Written Word // Psychiatry. November, 1959.
(обратно)23
Льюис (Lewis) Уиндхем (1884–1957) — английский писатель и художник, основоположник абстракционистского течения в английской живописи.
(обратно)24
Синг (Synge) Джон Лиллингтон (1871–1909) — ирландский драматург, поэт, эссеист, сыгравший важную роль в развитии национальной ирландской словесности. Самое известное его произведение — пьеса «Плейбой западного мира» (1907). Первые постановки этой пьесы в Ирландии и США вызвали бурю протеста, якобы содержа в себе «клевету на ирландский характер».
(обратно)25
В более целомудренном советском переводе название пьесы передается как «Удалой молодец — гордость Запада». Пьеса была переведена на русский язык К. Чуковским («Герой», 1923).
(обратно)26
Дагвуд Бамстед (Dagwood Bumstead) — один из главных героев популярного семейного комикса «Блондинка» художника Чика Янга. Этот персонаж был настолько популярен, что в английский язык вошло новое выражение, связанное с ним, «дагвудские сэндвичи» (Дагвуд имел привычку готовить себе перед сном огромные многослойные бутерброды).
(обратно)27
Тесты проверки интеллекта.
(обратно)28
Rowse A. L All Souls and Appeasement. A Contribution to Contemporary History. L.: Macmillan, 1961. Рецензия Сноу помещена в The New York Times Book Review. December 24, 1961.
(обратно)29
Добровольная просветительская ассоциация в Великобритании, занимавшаяся организацией и осуществлением специальных учебных программ для повышения уровня грамотности и образованности среди рабочих.
(обратно)30
Somervell D. С. (ed.). A Study of History, by A. J. Toynbee. Abridgement… Vol. I. Oxford: Oxford University Press, 1947. P. 267.
(обратно)31
Sansom C. B. Japan. L.: Cresset Press, 1931.
(обратно)32
«Этерификация» (от греч. aither — «эфир») понимается Тойнби как свойственный цивилизации процесс все большего упрощения, происходящий путем перехода от мускульной силы к «энергиям все более элементарным, тонким и постигаемым лишь при помощи абстрактных категорий, как бы эфирным» (от мускульной энергии к механической, от воды к пару, от пара к электричеству, от передачи электрических волн по проводам к передаче их через «эфир» и т. п.). Феномен этерификации, по мнению Тойнби, проявляется в самых разных сферах человеческой жизни, в частности, находит отражение в развитии техники письма по пути упрощения формы и достижения максимальной экономии визуальных символов. См.: Тойнби А. Постижение истории. Сборник. М.: Прогресс, 1991. С. 234–241.
(обратно)33
Имеется в виду библейский царь Давид.
(обратно)34
Шрамм (Schramm) Уилбур Лэнг (1907–1987) — американский исследователь, один из основоположников коммуникативистики как самостоятельной отрасли науки. Испытал сильное влияние Г. Ласуэлла, П. Ф. Лазарсфельда, К. Левина и К. Ховленда. Сторонник междисциплинарного подхода в коммуникативистике. Считал, что коммуникации играют центральную роль в обществе на всех его уровнях, от межличностного и группового до социетального и международного.
(обратно)35
Schramm W., Lyle J., Parker E. В. Television in the Lives of Our Children. Toronto: University of Toronto Press, 1961.
(обратно)36
Doob L. Communication in Africa. A Search for Boundaries. New Haven; L.: Yale University Press, 1961.
(обратно)37
Lam B. The Art of Speaking. London, 1696.
(обратно)38
Liebling A. J. The Press. N. Y.: Balantine Books, 1961.
(обратно)39
Nef J. U. War and Human Progress. An Essay on the Rise of Industrial Civilization. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1950.
(обратно)40
Jung С. G. Contributions to Analytical Psychology. L.: K. Paul, Trench, Tribner & Co., Ltd., 1928.
(обратно)41
Закс (Sachs) Курт (1881–1959) — немецкий музыковед; перед второй мировой войной эмигрировал в США. Широкую известность получили его фундаментальные труды по музыкальному инструментоведению, истории музыкальной культуры, истории танца.
(обратно)42
Sachs С. World History of the Dance. N. Y.: Bonanza Books, 1937.
(обратно)43
Трупное окоченение (лат.)
(обратно)44
Theobald R. The Rich and the Poor. A Study of the Economics of Rising Expectations. N Y.: Potter, 1960.
(обратно)45
Имеется в виду стихотворение У. Блейка «Грозный Лос», написанное в 1801 г., в котором есть такие строки:
…От единого зренья нас, Боже,
Спаси, и от сна Ньютонова тоже!
(Пер. В. Потаповой. Приводится по изданию: Поэзия английского романтизма. М.: Художественная литература, 1975. С. 97.)
Блейк крайне отрицательно относился к механистической философии, считая ее плодом однобокого рассудка (Призрака), и выводил И. Ньютона, Ф. Бэкона и Дж. Локка — которые были для него олицетворением такой философии — в образе адской троицы.
(обратно)46
Как известно, из ребра Адама, первого мужчины, Бог, согласно Библии, сотворил первую женщину, Еву; кроме того, из бока (ребер) Христа, когда он был распят на кресте, истекла вода (Иоан. 19, 34), являющаяся в христианском символизме символом женского начала. И наконец, сама прядильная машина, упоминаемая в стихотворении Йейтса, носит женское имя.
(обратно)47
Райт Фрэнк Ллойд (1869–1959) — американский архитектор, основатель школы «органической архитектуры». В своих архитектурных творениях он пытался воплотить представление об архитектуре как связующем звене между природой и человеком. Один из самых известных его проектов — здание Музея Гуггенгейма в Нью-Йорке.
(обратно)48
Боулдинг (Boulding) Кеннет (р. 1910) — американский экономист. Автор работ по экономической теории, системному анализу и конфликту.
(обратно)49
Boulding К. The Image. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1956.
(обратно)50
Аллюзия к пьесе А. Миллера «Смерть коммивояжера».
(обратно)51
Оден (Auden) Уистен Хью (1907–1973) — английский поэт, драматург, публицист и критик. С 1939 г. жил в США. Для поэзии Одена характерно чрезвычайное жанровое разнообразие. Отдавая предпочтение классическому стиху, он вместе с тем активно экспериментировал в области техники стихосложения.
(обратно)52
Бетжемен (Betjeman) сэр Джон (1906–1984) — английский поэт. В 1960 г. за поэтические достижения был награжден Королевской золотой медалью. Автор ряда работ по английской архитектуре.
(обратно)53
Герои трагедии У. Шекспира «Гамлет».
(обратно)54
Яго — герой трагедии У. Шекспира «Отелло»; завистливый и лицемерный злодей, цинично предавший беспредельно доверявшего ему Отелло.
(обратно)55
Мэмфорд (Mumford) Льюис (1895–1990) — американский философ и социолог. Автор работ, посвященных социальным проблемам техники, истории городов, процессам урбанизации, утопической традиции в общественной мысли. Взгляды Мэмфорда оказали значительное влияние на Маклюэна.
(обратно)56
Mumford L. The City in History: Its Origins, Its Transformations, and Its Prospects N. Y.: Harcourt, Brace & World, 1961.
(обратно)57
Cater D. The Fourth Branch of Government. N. Y.: Vintage Books, 1959.
(обратно)58
Кулидж (Coolidge) Калвин (1872–1933) — американский политический деятель. Вице-президент США в 1921–1923 гг.; с 1923 по 1929 г. — президент США от Республиканской партии. Кулидж пользовался специфической популярностью и был героем многочисленных анекдотов, в которых выступал в качестве недалекого и мрачного человека, начисто лишенного чувства юмора. (См.: Народ, да! Из американского фольклора. М.: Правда, 1983. С. 451–454.)
(обратно)59
Сокращенный вариант имени, Cal (употребляемый Маклюэном в этом предложении), созвучен слову cool («холодный»); кроме того, слово cool, так сказать, встроено в саму фамилию Coolidge (Кулидж).
(обратно)60
Франклин Делано Рузвельт.
(обратно)61
Ван Дорен (Van Doren) Карл (1885–1950) — американский писатель и редактор. Специалист по американской литературе, истории американской словесности и истории американской революции.
(обратно)62
Суть так называемого «театра жестокости» — одного из направлений в театральном искусстве ХХ в., — проповедником которого был Антонен Арто, состояла в достижении катартического очищения посредством оказания на зрителя эмоционально-шокового воздействия. В трактовке Арто, однако, это не предполагало прямой демонстрации физического насилия. Сторонником же обильной демонстрации насилия на театральной сцене был, в числе первых, французский драматург Альфред Жарри (пьесы «Король Убю» и т. д.).
(обратно)63
Гульд (Gould) Глен (1932–1982) — выдающийся канадский пианист и композитор. Уже в возрасте 12 лет стал сотрудником Королевской музыкальной консерватории в Торонто; с 14 лет — солист Торонтского симфонического оркестра. С 1951 г. начал концертные туры по Канаде. Часто выступал на радио и телевидении. Наиболее известны сделанные им записи сочинений И. С. Баха.
(обратно)64
Стравинский Игорь Федорович (1882–1971) — великий русский композитор и дирижер.
(обратно)65
Бэкон Ф. Опыты или наставления нравственные и политические Ф. Бэкон. Сочинения. Т. 2. М.: Мысль, 1972. С. 359.
(обратно)66
Непереводимая игра слов. Парадоксальность фразы достигается Джойсом за счет того, что во вполне привычном выражении «Who gave you that name?» («Кто дал тебе это имя?») слово пате («имя») заменено близким по звучанию numb («оцепенение», «окоченение», «ошеломление», «онемение»), отчего звучащее имя семантически превращается в нечто незвучащее или навсегда зависшее в своем звучании, как окаменевшее вечное эхо, или отзвук, его первого непреложного и окончательного произнесения.
(обратно)67
Rourke С. American Humor: A Study of the National Character. N. Y.: Harcourt, Brace and Company, 1931.
(обратно)68
Английское слово literary («грамотный») в переводе на русский теряет свою многозначность. Когда у Маклюэна речь идет о «грамотном» человеке, имеется в виду человек «письменный» (принадлежащий к письменной культуре, т. е. культуре, построенной на письме, грамоте, письменности), «литературный», «педантичный», «буквенный», «мыслящий буквально» («мыслящий буквами»), а здесь, кроме того, еще и воспринимающий «буквально» шутки.
(обратно)69
Около 30 см.
(обратно)70
Поуп (Pope) Александр (1688–1744) — английский поэт. Основные произведения: поэма «Опыт о критике» (1711), ставшая манифестом английского просветительского классицизма, сатиры «Дунсиада» (1728) и «Новая Дунсиада» (1742), философские поэмы «Опыты о морали» (1731–1735) и «Опыт о человеке» (1732–1734).
(обратно)71
Фрагмент поэмы «Опыт о человеке» (эпистола II: V). Приводится в пер. В. Микушевича по изданию: Поуп А. Поэмы. М.: Художественная литература, 1988. С. 161.
(обратно)72
Буквально это можно было бы перевести так: «Запад, встряхнув, разбудит Восток, И будет у тебя ночь вместо утра». Однако, если учесть одинаковое звучание слова morn (утро) и mourn (оплакивать, скорбеть), то вторая строка при устном ее произнесении может быть услышана и так: «И будет у тебя ночь для скорбных плачей».
(обратно)73
В романе имя Finnegan всячески обыгрывается и переиначивается Джойсом: «Mr Finnagain» («Мистер Опятьфинн»), «Finn, again!» («Финн, опять!») (см.: Joyce J. Finnegans Wake N Y The Viking Press, 1974. P. 5, 628). Слово wake в заглавии романа обозначает, помимо «поминок», или «бдения у гроба» (как оно употребляется в Ирландии), «бодрствование», а как глагол — «просыпаться», «бодрствовать». Так что название романа может быть прочтено как «Опять просыпается финн», или «Финн опять бодрствует».
(обратно)74
В полном объеме (лат.)
(обратно)75
Венда (Benda) Жюльен (1867–1956) — французский писатель и философ, лидер антиромантического течения во французской литературной критике. Основная работа — «Предательство интеллектуалов» (1927), в которой интеллектуалы, отвернувшиеся от истины из расовых и политических соображений, определены как моральные изменники. Кроме того, перу Бенда принадлежат статьи о деле Дрейфуса (1898), работа о философии Бергсона (1912), художественные произведения.
(обратно)76
Benda J. Le trahison des clercs Paris В Grasset, 1928 В английском переводе: Benda J. The Great Betrayal L G. Routledge & Sons, Ltd, 1928
(обратно)77
«Сердитые молодые люди» — литературное течение, сложившееся в 50-е годы в Великобритании.
(обратно)78
См.: Тойнби А. Постижение истории. Сборник. М.: Прогресс, 1991. С. 306–310.
(обратно)79
Фрагмент 24-го чжана трактата «Даодэцзин». Приводится в пер. Б. Б. Виногродского по изданию: Антология даосской философии. М.: Товарищество «Клышников-Комаров и К0», 1994. С. 35.
(обратно)80
Карлейль (Carlyle) Томас (1795–1881) — английский философ, историк и публицист. Наиболее известные сочинения: «Французская революция» (1837) и «Герои, почитание героев и героическое в истории» (1842).
(обратно)81
Прерафаэлиты — группа английских художников и писателей второй половины XIX в., ставивших своей целью возрождение «искренности» и «наивной религиозности» средневекового и ренессансного искусства. «Братство прерафаэлитов» было основано в 1848 г. Д. Г. Россетти, Дж. Э. Миллесом и X. Хантом. Позднее в ним присоединились Ф. М. Браун, Э. Берн Джонс, У. Крейн, Ф. Уэбб и др. Деятельность прерафаэлитов была поддержана Дж. Рескином.
(обратно)82
Рескин (Ruskin) Джон (1819–1900) — английский теоретик искусства, художественный критик, историк и публицист; последователь Карлейля. В его работах «Современные живописцы» (1843–1860), «Политическая экономия искусства» (1857) и других дается критика буржуазной цивилизации как силы, враждебной искусству. Призывал к возрождению средневекового физического труда и коллективных форм художественного творчества. Преподавал в первом Рабочем колледже; пользовался большой популярностью среди рабочих.
(обратно)83
Моррис (Morris) Уильям (1834–1896) — английский художник, писатель, теоретик искусства, общественный деятель. По эстетическим воззрениям близок к Карлейлю, Рёскину, прерафаэлитам; критиковал буржуазный образ жизни, рассматривал искусство как средство преобразования действительности и эстетического воспитания масс; противопоставлял обезличенному машинному производству индивидуальное творчество, выступал за возрождение ремесел. В 1861–1862 гг. организовал Художественно-промышленную компанию. В 80-е годы играл важную роль в английском социалистическом движении.
(обратно)84
Лир (Lear) Эдвард (1812–1888) — английский писатель, путешественник и художник. Был в свое время популярнейшим детским писателем; прославился как «лауреат небылиц».
(обратно)85
Джилберт (Gilbert) сэр Уильям Швенк (1836–1911) — английский драматург и юморист. Наиболее известен своим сотрудничеством с А. Салливаном. Салливан (Sullivan) сэр Артур Сеймур (1842–1900) — английский композитор. Встреча Джилберта и Салливана в 1870 г. привела к установлению между ними долговременного плодотворного сотрудничества, результатом чего стало рождение специфически английской формы оперетты («комической оперы»). Ими написано в соавторстве несколько оперетт.
(обратно)86
Когда какая-то функция выносится из системы вовне, в системе образуется своего рода «брешь» и нарушается внутреннее равновесие; под «замыканием» (closure) у Маклюэна понимается процесс восстановления равновесия в системе, в результате которого возвращается ее целостность и относительная самодостаточность. «Замыкание» базируется на определенных предпосылках, в частности на вынесении соответствующих функций вовне и выполнении их технологическими средствами. Кроме того, «замыкание» закрывает вынесенной (вытесненной) вовне функции доступ внутрь системы.
(обратно)87
Пс. 113, 12–16.
(обратно)88
Философская поэма У. Блейка «Иерусалим» была опубликована в 1820 г.; на русский язык не переводилась.
(обратно)89
Имеются в виду психоаналитические исследования, в центре которых стояла проблема мотивации (влечений).
(обратно)90
Фуллер (Fuller) Ричард Бакминстер (1895-?) — американский архитектор и инженер. Выступил с технократической теорией «тотального дизайна», т. е. переустройства всей жизни на основе рациональной технологии.
(обратно)91
«Опасные связи» (фр.) — название известного романа в письмах французского писателя П. А. Ф. Шодерло де Лакло (1782), одно из самых значительных произведений французской литературы XVIII в.
(обратно)92
Здесь у Маклюэна игра слов: выражение «East side story» перефразирует название знаменитого кинофильма «Вестсайдская история».
(обратно)93
Генерал Американский Лось (General Bull Moose) — персонаж комикса. Образ американского лося нагружен для американцев рядом глубоких коннотаций. В Америке действует «Орден американского лося», программа которого зиждется на таких принципах традиционного индивидуализма, как самостоятельность, опора на собственные силы, упорство в продвижении к цели и т. п. Кроме того, в конце первого десятилетия ХХ в. Теодором Рузвельтом была создана Прогрессивная партия (получившая название «Партия американского лося»), отстаивавшая аналогичные принципы.
(обратно)94
Эл Kann (Al Сарр), наст. имя Альфред Джерард Кэплин (1909–1979) — американский художник-карикатурист, создатель знаменитого комикса «Лил Абнер». Комиксы Эла Каппа сатирически изображали человеческое поведение, нравы эпохи и текущие политические события.
(обратно)95
Общество Джона Берча (John Birch Society) — консервативная антикоммунистическая организация в США, основанная в 1958 г. Робертом Уэлчем Младшим. Свое название получила от имени капитана Дж. Берча, баптистского миссионера, выполнявшего во время второй мировой войны разведывательную миссию в Китае и казненного в 1945 г. китайскими коммунистами; общество считает его первым героем холодной войны. В официальной программе общества ставится задача «улучшить мир» посредством ограничения функций государства и развития индивидуальной ответственности. Более всего эта организация прославилась тем, что в 1961 г. объявила бывших президентов Эйзенхауэра, Трумэна и Рузвельта «агентами Коммунистической партии».
(обратно)96
Бурстин (Boorstin) Дэниэл Джозеф (р. 1914) — американский историк и общественный деятель; в 1975 г. назначен директором Библиотеки Конгресса. Автор книг «Американцы: колониальный опыт» (1958, рус. пер. — 1993), «Образ, или что случилось с американской мечтой?» (1962), «Американцы: национальный опыт» (1965, рус. пер. — 1993), «Краеугольные события истории американского народа» (2 т., 1968, 1970), «Американцы: демократический опыт» (1973, рус. пер. — 1993).
(обратно)97
Boorstin D. J. The Image, or What Happened to the American Dream. N. Y.: Atheneum, 1962.
(обратно)98
Круглый театр — театр со сценой или ареной в центре зала.
(обратно)99
О'Хара (О'Наrа) Джон Генри (1905–1970) — американский писатель.
(обратно)100
«Пэл Джоуи» (Pal Joey) — музыкальная комедия Роджерса и Харта по мотивам одноименного сборника новелл О'Хары, опубликованного в 1940 г.
(обратно)101
Элиот (Eliot) Томас Стернз (1888–1965) — англо-американский поэт и литературный критик.
(обратно)102
Поэма Т. С. Элиота, опубликованная в 1915 г. См.: Элиот Т. С. Избранная поэзия. СПб.: Северо-Запад, 1994. С. 150–161.
(обратно)103
См.: там же, с. 107–137, 361–395.
(обратно)104
Блум — главный герой романа «Улисс».
(обратно)105
Переделанное имя Chorney Choplain содержит в себе множество самых разных созвучий и аллюзий: chorus (хор), chorea (виттова пляска), Chopin (Шопен, упоминаемый далее в тексте Маклюэна), chop (резко меняться, изменяться, пререкаться; клеймо, марка, штамп; говорить неразборчиво, бормотать), chop-chop (одна нога здесь, другая там!), to chop in (вмешиваться, ввязываться, вклиниваться), choplogic (софистика, крючкотворство), choppy (часто меняющий направление, порывистый), chaplain (капеллан, священник). Некоторые из этих смыслов обыгрываются Маклюэном в других местах книги, где говорился о Чаплине.
(обратно)106
Буайе (Boyer) Шарль (1899–1978) — американский актер французского происхождения. В 1920–1930 гг. выступал на сцене, с 1930 г. стал сниматься в кино. В 1932 г. эмигрировал в США. Выразительный взгляд и обходительные манеры сделали его в свое время одним из самых популярных актеров.
(обратно)107
Клее (Klee) Пауль (1879–1940) — швейцарский живописец и график, один из лидеров экспрессионизма; в 1921–1930 гг. профессор «Баухауза».
(обратно)108
Брак (Braque) Жорж (1882–1963) — французский художник, график и скульптор, один из основателей кубизма в живописи (наряду с Пикассо). В скульптурных работах использовал имитацию архаических стилей. Считается одним из основоположников современного искусства.
(обратно)109
Братья Маркс (Юлиус, или «Граучо», 1890?-1977; Леонард, или «Чико», 1887?-1961; Артур, или «Харпо», 1888?-1964; Герберт, или «Зеппо», 1900–1979; Милтон, или «Гуммо», 1901–1977) — семья американских актеров комедийного жанра. В 20-е годы играли на сцене, в 30е-40е годы в кино.
(обратно)110
Медисон-авеню — проспект в Нью-Йорке, где сосредоточены офисы крупнейших рекламных фирм и средств массовой информации США.
(обратно)111
Росс (Ross) Лилиан (р. 1927) — американская писательница и журналистка. С 1948 г. сотрудничала в журнале «Нью Йоркер»; ее репортажи 50-х — 60-х годах пользовались популярностью среди читателей.
(обратно)112
Ross L. Picture. N. Y.: Rinehart, 1952.
(обратно)113
Экранизация одноименной повести американского писателя Стивена Крейна (1871–1900), опубликованной в 1895 г. (рус. пер. — 1961). В романе дается реалистическое изображение войны и ее рядового участника.
(обратно)114
Название сборника содержит едва ли не прямую отсылку к двенадцати подвигам Геракла; имя Эркюль (Hercules) — французская версия имени Геркулес, или Геракл.
(обратно)115
В целях сохранения в русском переводе книги единой логики маклюэновских толкований глагол to translate передается здесь словом «переводить» (а производные от него — соответственно, например: «перевод», «переводчик»), хотя в ряде случаев (особенно применительно к телевидению, радио и т. п.) более привычны для русского уха и глаза слова «транслировать», «трансляция», «транслятор» (или другой ряд: «передавать», «передача», «передатчик»), в которых, однако почти полностью теряется такой важный смысл, как метаморфоза, происходящая с материей и информацией при прохождении через соответствующие средства коммуникации, или посредники.
(обратно)116
Брисон (Bryson) Лайман (1888–1959) — американский педагог, антрополог и коммуникативист.
(обратно)117
Браунинг (Browning) Роберт (1812–1889) — английский поэт. Писал в основном в жанре драматического монолога; одна из главных тем его поэзии — назначение искусства. Вершиной его творчества считается роман в стихах «Кольцо и книга» (1868–1869).
(обратно)118
Герберт (Herbert) Джордж (1593–1633) — английский религиозный поэт, один из самых ярких «поэтов-метафизиков», друг Джона Донна. Известен чистотой и звучностью слога. Некоторые его стихотворения («Алтарь», «Пасхальные крылья») считаются образцами стихосложения.
(обратно)119
Приводится в пер. Т. Щепкиной-Куперник по изданию: Шекспир У. Собр. соч. в 8-ми т. Т. 5. М.: Интербук, 1993. С. 131.
(обратно)120
Хаксли (Huxley) Джулиан Сорелл (1887–1975) — выдающийся английский биолог, мыслитель, гуманист, популяризатор науки, один из основоположников «эволюционной этики», один из создателей и первый генеральный директор ЮНЕСКО.
(обратно)121
В английском выражении I'll take a rain-check on that («Приду как-нибудь в другой раз») слово rain-check означает как обещание принять приглашение в другой раз, так и корешок билета на стадион, дающий право прийти на перенесенный из-за дождя матч.
(обратно)122
Цитата из сочинения «О мудрости древних» (глава VI «Пан, или Природа»). Приводится в пер. Н. А. Федорова по изданию: Бэкон Ф. Сочинения в 2-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1972. С. 246.
(обратно)123
Модель компьютера.
(обратно)124
Boorstin D. Ор. cit. Р. 141 Исходный текст был, вероятно, такой: «Война и мир… Но тем не менее культура не стоит на месте. Что-то переводят. Что-то печатают».
(обратно)125
Любопытно в данном случае заметить, что в буквальном переводе common sense («здравый смысл») означает «общее чувство», или «обычное чувство»; этот буквальный смысл Маклюэн здесь отчасти и обыгрывает.
(обратно)126
В английском языке, на особенностях которого в значительной степени строится в этом абзаце аргументация Маклюэна, в самом слове rationality («рациональность») заключено слово ratio («пропорция»). В русском слове «рациональный» смысловой оттенок «меры», или «пропорции», в какой-то степени присутствует, но не выражен столь явно.
(обратно)127
В качестве подзаголовка Маклюэн использует название одной из глав труда А. Тойнби «Исследование истории».
(обратно)128
В книге «Наука и современный мир». См.: Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М.: Прогресс, 1990. С. 154–173, особенно с. 156.
(обратно)129
Heisenberg W. The Physicist's Conception of Nature. N.Y.: Harcourt, Brace, 1958 Оригинальное немецкое название работы — «Das Naturbild der heutigen Physik».
(обратно)130
Фрагмент главы 12 трактата «Чжуанцзы». Приводится в пер. Л. Д. Позднеевой по изданию: Мудрецы Китая. СПб.: Петербург— XXI век, Лань, 1994. С. 197–198.
(обратно)131
Jonas A. Irritation and Counter-Irritation, a Hypothesis about the Autoamputative Property of the Nervous System; a Scientific Excursion into Theoretical Medicine. N.Y.: Vantage Press, 1962.
(обратно)132
Милтаун (Miltown) — одно из названий мепробамата, седативного препарата, применяемого в психиатрии. По своему воздействию близок к барбитуратам.
(обратно)133
Cheyney P. You Can't Keep the Change. L: Collins, 1956.
(обратно)134
В оригинале неологизм improverishment, образованный из соединения слов improvement (улучшение, усовершенствование) и impoverishment (обеднение).
(обратно)135
Маколей (Macaulay) Томас Бабингтон (1800–1859) — английский историк, публицист и государственный деятель. Главное сочинение: 5-томная «История Англии от воцарения короля Якова II» (1848–1861).
(обратно)136
По-английски mono-fracture, что почти созвучно идущему следом слову manufacture. Непереводимая игра слов.
(обратно)137
Аллюзия к названию стихотворного сборника Ш. Бодлера «Цветы зла».
(обратно)138
В английском языке слова «грамотный» и «письменный» передаются одним словом, literate. В связи с этим можно упомянуть о былой синонимичности слов «грамота» и «письмо» (например, «китайская грамота»); в современном русском языке эти слова претерпели некоторое семантическое расхождение.
(обратно)139
Бергсон А. Творческая эволюция. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1997.
(обратно)140
Согласно «Деяниям святых апостолов» (2, 1-8), в день Пятидесятницы произошло сошествие Святого Духа: «При наступлении дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося ветра… И явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать… Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились».
(обратно)141
Перефразированное ветхозаветное правило «око за око», данное Богом Моисею (Ис. 21, 24; Лев. 24, 20; Мат. 5, 38). У Маклюэна это выражение лишено кровожадного смысла и означает всего лишь замену уха (слухового восприятия) глазом (зрительным восприятием), прежде всего вытеснение устного слова письменным.
(обратно)142
Modupe I was a Savage L Museum Press, 1958
(обратно)143
См.: Канетти Э. Масса и власть. М.: Ad Marginem, 1997. С. 225–227.
(обратно)144
Эти рассуждения Маклюэна, возможно, нуждаются в комментарии. В качестве исходной модели Маклюэн берет непосредственную коммуникацию (например, вербальную) в устных культурах, которая строится на возможности немедленного реагирования каждого из ее участников на каждое действие любого другого участника; в этом смысле говорится об одновременности действия и реакции. В письменных культурах, где коммуникация является опосредованной (например, письменным текстом), действие (изготовление и отправление сообщения) и реакция (восприятие сообщения и ответное действие) могут быть разнесены во времени; в силу этого человек обретает возможность действовать без оглядки на последствия, или «вслепую», чувственно не воспринимая и иногда не понимая последствий своих действий.
(обратно)145
Здесь уместно было бы использовать в переводе слово «сообщение» (как оно употребляется в выражениях «средства сообщения», «пути сообщения»); но во избежание путаницы термин communication переводится как «коммуникация», поскольку здесь же Маклюэн использует термин message («сообщение», в смысле передаваемой информации), с которым его не следует путать.
(обратно)146
Хайку — японские пятистишия.
(обратно)147
Первая книга Царств, 8, 11-15.
(обратно)148
Ростра (лат. rostra, мн. число от rostrum — нос корабля) — в древнем Риме ораторская трибуна на форуме, украшенная носами вражеских кораблей, захваченных в 338 г. до н. э. римлянами в ходе Латинской войны.
(обратно)149
Приводимое здесь образное выражение rat race обозначает ожесточенную конкуренцию, безоглядную погоню за богатством, успехом и т. д., в которой каждый готов уничтожить соперника ради достижения цели.
(обратно)150
Греческое слово ponoz семантически многозначно; в новогреческом оно означает также «боль», «страдание». Примечательно, что такая семантическая двойственность «труд/страдание» свойственна также английским словам labour («труд», «чрезмерное усилие», «роды», «родовые муки»), travail («тяжелый труд», «острая боль», «мука», «родовые муки»), work («труд», «работа», в более редком диалектном употреблении означает также «боль»), французскому travail («работа», «труд», «роды», «родовые схватки»; прилагательное travaille имеет также значение «измученный»), и др. Ассоциативная связка «тяжелый труд — страдание (боль) — роды — отделение (вынесение вовне) — освобождение от бремени (страдания) — изобретение» активно используется Маклюэном в этом абзаце. Греческое ponoz интерпретируется здесь семантически более бедным английским словом toil («тяжелый труд»).
(обратно)151
Маклюэн обыгрывает здесь буквальный смысл выражения body politic («государство»).
(обратно)152
«Телстар» (Telstar) — американский коммуникационный спутник.
(обратно)153
Хлеба и зрелищ! (лат.)
(обратно)154
Хандлин (Handlin) Оскар (р. 1915) — американский историк; с 1958 г. директор Центра изучения истории свободы в Америке, с 1966 г. директор Центра исследований американской истории Чарлза Уоррена.
(обратно)155
Handlin О. Boston's Immigrants, 1790–1865; A Study in Acculturation. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1941.
(обратно)156
Кунард (Cunard) сэр Самюэл (1787–1865) — английский купец и судовладелец, впервые открывший регулярное пароходное сообщение между Англией и Америкой. Кроме того, наладил почтовое сообщение между Англией и Северной Америкой, основав в 1839 г. «Британско-североамериканскую королевскую почтово-пароходную компанию», получившую известность как «Линия Кунарда» (Cunard Line).
(обратно)157
Ср.: «На театральном представлении, на балу каждый услаждает себя всеми». (Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки. Парижский сплин. Искусственный рай. Эссе, дневники. Статьи об искусстве. М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 1997. С. 405.)
(обратно)158
1 Пар. 21, 1.
(обратно)159
Гропиус (Gropius) Вальтер (1883–1969) — немецкий архитектор и теоретик архитектуры, один из основоположников функционализма в архитектуре.
(обратно)160
Сезанн (Cezanne) Поль (1839–1906) — французский живописец, один из ведущих мастеров постимпрессионизма. Ранние работы 60-х годов, еще импрессионистские, характеризуются тяжелой вещественностью письма. С 70-х годов он отходит от импрессионизма, и его творчество отмечено поиском устойчивых закономерностей цветовых соотношений, материальной насыщенности и осязаемой предметности природы.
(обратно)161
Здесь при переводе неизбежно ускользает важный смысловой пласт оригинального текста, связанный с особенностями английского языка, на которые Маклюэн в своих рассуждениях часто опирается. Суть в том, что в английском языке, в отличие от русского, слово touch («осязание») имеет также значение «общения», «связи», «контакта», «знания», «понимания», а такое, например, выражение, как to be in touch, означает «быть в контакте», «быть в курсе», «поддерживать связь», «знать», «владеть (например, методами или информацией)», и т. п. Таким образом, в самом слове touch заключен смысл целостного контакта с воспринимаемым объектом.
(обратно)162
В английском тексте, где возраст обозначается просто цифрами («John Jameson, 12»), то, о чем говорит Маклюэн, выглядит более очевидным.
(обратно)163
Мохой-Надь (Moholy-Nady) Ласло (1895–1946) — венгерский скульптор, дизайнер, фотограф. Работал в основном в Германии (1920–1933) и США (после 1937 г.). В 1937 г. основал в Чикаго «Новый Баухауз». Оказал огромное влияние на развитие художественной фотографии.
(обратно)164
«7-Up» («Севен-Ап») — название карточной игры («семь очков»), также название известного безалкогольного напитка. Выражение «behind the 8-ball» означает «быть в затруднительном (опасном) положении».
(обратно)165
Маклюэн приводит здесь запись из «Дневников» Бодлера. Цит. по изданию: Бодлер Ш. Цветы зла. Обломки… М.: РИПОЛ-КЛАССИК, 1997. С. 405.
(обратно)166
Даршан, или дарсана (санскр. darsana — благосклонное видение) — в индуистском культе созерцание доброго божества, человека или объекта, приводящее видящего в состояние блаженства. Во время праздника Ратхаятра устраиваются многолюдные процессии, участники которых могут лицезреть вынесенные из храма изображения добрых божеств и тем самым приобщиться к общему состоянию даршана.
(обратно)167
Danzig Т. Number: The Language of Science. A Critical Survey Written for the Cultured Non-Mathematician. 2d ed., rev. N. Y.: Macmillan, 1933.
(обратно)168
Конрад (Conrad) Джозеф [наст. имя — Юзеф Теодор Конрад Коженёвский] (1857–1924) — английский писатель польского происхождения. Здесь Маклюэн намекает на повесть Конрада «Сердце тьмы», одно из самых известных его произведений.
(обратно)169
Литературный образ из романа Дж. Беньяна «Странствования паломника».
(обратно)170
Приводится в пер. К. А. Свасьяна по изданию: Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. 1. Гештальт и действительность. М.: Мысль, 1993. С. 214.
(обратно)171
«Большие ожидания» (1861) — один из последних романов Ч. Диккенса (1812–1870). Пип — главный герой романа.
(обратно)172
Буквально: «положить палец на».
(обратно)173
Буквально: «число».
(обратно)174
Биржевой термин odd lot означает количества, меньшие по сравнению с принятыми единицами расчета или обмена.
(обратно)175
Вильгельм I Завоеватель (William the Conqueror) (1028–1087) — с 1035 г. герцог Нормандии, с 1066 г. король Англии.
(обратно)176
В 1086 г. по приказу Вильгельма Завоевателя в Англии была проведена земельная перепись, в результате которой многие свободные крестьяне были переведены в разряд крепостных. Итоги переписи были подведены в 2-томной кадастровой книге «Domesday Book» (или «Doomsday Book» — «Книга страшного суда»), которая стала первой государственной переписью в истории Европы и содержала исключительно полные сведения о размерах земельных вотчин, распределении пахотных земель, скота и инвентаря, о количестве и категориях держателей и т. д.
(обратно)177
Абак (лат. abacus — доска, счетная доска) — счетная доска, применявшаяся для осуществления арифметических вычислений в древней Греции, Риме, а затем вплоть до XVIII в. в Западной Европе. Доска делилась на полосы, и счет велся путем перемещения находившихся в полосах костяшек, камешков и т. п.
(обратно)178
Батлер (Butler) Самюэл (1835–1902) — английский писатель. Наибольшую известность приобрели его сатирические романы «Едгин» (1872) и «Возвращение в Едгин» (1901). «Едгин» (Erewhon, название фантастической страны, где происходит действие этих романов) представляет собой анаграмму слова «нигде» (nowhere).
(обратно)179
Отчеты Кинси (Kinsey Reports) — популярное название двух знаменитых книг, в которых впервые был представлен научный анализ сексуального поведения американцев, основанный на нескольких тысячах живых интервью. Первая книга («Сексуальное поведение мужчины») вышла в 1948 г., вторая («Сексуальное поведение женщины») — в 1953 г. Отчеты названы по имени их основного автора, Альфреда Чарлза Кинси (1894–1956), возглавлявшего тогда Институт сексуальных исследований при университете Индианы. Публикация отчетов получила в США широкий резонанс, вызвав волну возмущения и обвинение авторов в ненаучности и аморальности. Результаты исследований показывали, что реальное сексуальное поведение американцев совершенно расходится с общепринятыми представлениями о нормальном сексе.
(обратно)180
В подзаголовке присутствует смысловой подтекст, исчезающий при переводе. Слово outlook («мировоззрение») можно буквально передать как «взгляд-из». Тем самым проводится непрямое сопоставление плоскостного взгляда-на (когда смотрят на что-то, когда глаза направлены на изображение на плоской поверхности) и объемного взгляда-сквозь (когда взгляд направлен сквозь что-то, когда что-то выглядывает, проглядывает, просматривается). Аналогичное сопоставление проводится в конце главы между «освещением» (внешним освещением изображения на плоской поверхности) и «просвечиванием», или «высвечиванием» (когда изображение как бы проступает, высвечивается изнутри); таково, например, различие между освещенным изображением на стене и телевизионным изображением. В первом случае изображения просто выглядят, во втором — проглядывают. В первом случае город освещается, во втором — сам светится, создавая тот новый «ландшафт», о котором в конце главы говорит Маклюэн.
(обратно)181
«Цветы зла» (фр.).
(обратно)182
Одна из возможных трактовок этого многозначного названия, которую имеет в виду Маклюэн, — «конечности, или члены тела».
(обратно)183
Решение Бодлера отказаться от названия «Les limbes» было вызвано сугубо внешними обстоятельствами: в 1852 г., когда он уже собирался выпустить книгу в свет, был опубликован сборник стихотворений некоего Т. Верона под таким же названием. См.: Балашов Н. И. Легенда и правда о Бодлере Ш. Бодлер. Цветы зла. М.: Наука, 1970. С. 256, 259–260.
(обратно)184
Мифос (muqoz) — предание, сказание, миф (греч.)
(обратно)185
Марки автомобилей.
(обратно)186
Кепеш (Kepes) Дьердь (р. 1906) — американский художник, дизайнер, фотограф, педагог и писатель венгерского происхождения. В 1930–1936 гг. работал в Берлине и Лондоне, в 1937 г. эмигрировал в США, где возглавил факультет цвета в Новом Баухаузе (Чикаго). Автор книг «Язык зрения» (1944), «Новый ландшафт в искусстве и науке» (1956). Оказал значительное влияние в разных областях дизайнерского искусства, особенно в понимании возможностей использования света и цвета.
(обратно)187
Ференци (Ferenczi) Шандор (1873–1933) — психоаналитик, известный своим вкладом в основы психоаналитической теории и экспериментами в области психотерапии. Один из ближайших сподвижников 3. Фрейда. Основные труды: «Развитие психоанализа» (совместно с О. Ранком, 1924), «Таласса: теория генитальности» (1924).
(обратно)188
См.: Э. Канетти. Указ. соч. С. 229–231.
(обратно)189
См. конец главы 1.
(обратно)190
Пер. М. Шишмаревой. Цит. по: Дефо Д. Робинзон Крузо. Диккенс Ч. Приключения Оливера Твиста. М.: Детская литература, 1980. С. 63.
(обратно)191
В этом абзаце Маклюэн обыгрывает двусмысленность английского слова currency («валюта»), буквально означающего то, что в текущий момент в ходу, в обращении, в обороте. Такая ходкость валюты (в буквальном смысле) роднит ее с модой. В обиходном русском в силу исторических обстоятельств «валюта» прочно ассоциируется с «твердой валютой» и на уровне коннотаций не связывается с «текущим обращением».
(обратно)192
Heynes J. M. A Treatise on Money 2 vols. L Macmillan, 1958–1960.
(обратно)193
Лидийцы — жители Лидии, древней страны на западе Малой Азии. Известно, что лидийцы уже в VII–IV вв. до н. э. пользовались буквенным письмом, а примерно в VII в. до н. э. впервые в мировой истории начали чеканить металлические деньги.
(обратно)194
См.: Канетти Э. Указ. соч. С. 199–205.
(обратно)195
Пенфилд (Penfield) Уайлдер Грейвз (1891–1976) — канадский невролог и нейрохирург. Его основные научные работы посвящены эпилепсии, опухолям мозга и проблеме локализации органических функций.
(обратно)196
Аббревиатура выражения bad odour — «дурной запах», «вонь».
(обратно)197
Йoc (Joos) Мартин (p. 1907) — американский лингвист. Главной своей работой считал книгу «Пять часов» (The Five Clocks Indiana University Press, 1962), в которой рассматриваются виды английского языка, используемые для разных целей, от интимной беседы до литературного творчества. Об этой книге и идет речь у Маклюэна.
(обратно)198
Холл (Hall) Эдвард Туитчелл (р. 1914) — американский антрополог. Изучая в кросс-культурной перспективе пространственное поведение людей во взаимодействии лицом к лицу, создал новую науку, «проксимику» (в 1963 г. сам ввел этот термин). Автор книг «Безмолвный язык» (1959), «Скрытое измерение» (1966), «По ту сторону культуры» (1976), «Танец жизни» (1983), «Понимание культурных различий» (1990), «Антропология обыденной жизни» (1992).
(обратно)199
E Т The Silent Language N Y Doubleday & Co, 1959 Фрагменты этой работы в вольном русском переводе можно найти в книге: Фаст Д. Язык тела. Холл Э. Как понять иностранца без слов. М.: Вече, Персей, АСТ, 1995.
(обратно)200
Фаст Д. Язык тела… С. 337–338.
(обратно)201
Young J. Z. Doubt and Certainty in Science A Biologist's Reflections on the Brain Oxford Clarendon Press, 1951
(обратно)202
В этом абзаце (как и в других местах) непроизвольно обыгрывается слово power, которое в русском переводе приходится передавать, в зависимости от контекста, словами «власть», «сила», «могущество», «энергия». Следует иметь в виду, что для Маклюэна это одно и то же.
(обратно)203
Приводится в пер. С. Маршака по изданию: Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии. Сонеты. Т. II. М.: РИПОЛ, 1994. С. 650–651.
(обратно)204
Приводится в пер. Ю. Корнеева. См.: Там же. С. 634–635.
(обратно)205
Приводится в пер. В. Брюсова по изданию: Английский сонет XVI–XIX веков. М.: Радуга, 1990. С. 205. Ср. также перевод С. Маршака (Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии. Сонеты. Т. II. М.: РИПОЛ, 1994. С. 672–673), где передан ярче смысл последних двух строк:
Но время не сметет моей строки,
Где ты пребудешь смерти вопреки!
(обратно)206
Приводится в пер. Г. Кружкова по изданию: Европейская поэзия XVII века. М.: Художественная литература, 1977. С. 53.
(обратно)207
Марвелл (Marvell) Эндрю (1621–1678) — английский поэт. В ранний период творчества находился под влиянием «метафизической школы», однако постепенно в его творчестве возобладал классицизм.
(обратно)208
Приводится в пер. Г. Кружкова по изданию: Европейская поэзия XVII века. М.: Художественная литература, 1977. С. 128.
(обратно)209
Боччони (Boccioni) Умберто (1882–1916) — итальянский художник и скульптор.
(обратно)210
Grazia S. de. Of Time, Work and Leisure. N. Y.: Twentieth Century Fund, 1962.
(обратно)211
Паркинсон (Parkinson) Сирил Норткот (1909–1993) — английский историк и писатель. Больше всего прославился как юморист и автор книги «Закон Паркинсона» (1957), сатирической пародии на методы управления в бизнесе.
(обратно)212
М. Элиаде. Священное и мирское. М.: Изд-во Московского унта, 1994.
(обратно)213
Фердинанд II (Fernando) Арагонский, Фердинанд V Католик (1452–1516) — король Арагона с 1479 г., Сицилии с 1468 г., Кастилии в 1474–1504 гг. В период правления Фердинанда была открыта Америка и началась испанская колониальная экспансия.
(обратно)214
Изабелла (Isabel) (1451–1504) — королева Кастилии с 1474 г. Ее брак с Фердинандом, заключенный в 1469 г., привел к объединению Испании.
(обратно)215
Плиний Старший (р. 23 или 24 гг. — ум. 79) — римский писатель, ученый и государственный деятель. Автор труда «Естественная история» (в 37 книгах), энциклопедического свода естественнонаучных знаний античности, который до конца XVII в. использовался в европейских учебных заведениях как источник знаний о природе.
(обратно)216
Biblia Pauperum — обобщенное название голландских и немецких изданий XV в. Эти книги состояли из 40–50 страниц и, помимо текста, включали иллюстрации. Из семи опубликованных изданий до настоящего времени сохранились копии только пяти. Название «Библия для бедных», отразившее их относительную дешевизну, вошло в употребление в XVI в.
(обратно)217
Мантенья (Mantegna) Андреа (1431–1506) — итальянский живописец и гравер периода раннего Возрождения.
(обратно)218
Майc (Meiss) Миллард (1904–1975) — американский искусствовед, профессор Гарвардского и Колумбийского университетов. Автор книг об итальянской и французской живописи эпохи Возрождения.
(обратно)219
Речь идет о сонете «Гласные». См.: Рембо А. Озарения. СПб.: «Искусство-СПб», 1994. С. 87.
(обратно)220
Часослов (Book of Hours) — богослужебная книга, содержащая молитвы. В средние века изготавливались роскошные иллюстрированные часословы для личного пользования (нередко карманного формата), которые были популярны среди состоятельных людей. Эта форма появилась в XII в.; лучшие ее образцы, выполненные в основном во Франции и Голландии, относятся к XIV–XV вв.
(обратно)221
Максвелл (Maxwell) Джеймс Клерк (1831–1879) — английский физик, создатель классической электродинамики.
(обратно)222
«Дунсиада, героическая поэма» (1728) — сатирическая поэма, в которой А. Поуп выступил против своих литературных противников (которых называл «тупицами»), а также в целом против невежества и глупости, грозящих Разуму и Просвещению. В 1742 г. Поуп опубликовал продолжение поэмы под названием «Новая Дунсиада».
(обратно)223
MAD — название рекламного журнала; в буквальном прочтении значит «безумный», «сумасшедший».
(обратно)224
«Желтый крошка» (Yellow Kid) — популярный комикс, созданный американским карикатуристом Р. Ф. Оутколтом (Outcault, 1863–1928). Его публикация в газетах началась в 1896 г. Этот комикс принес широкую известность автору и фактически положил начало жанру комикса как таковому. Кроме того, данный комикс знаменит тем, что именно из его названия родилось выражение «желтая пресса».
(обратно)225
«Лил Абнер» (Li'l Abner) — юмористический комикс Эла Каппа. Публикация его началась в 1934 г., а пик популярности пришелся на 40-е — 50-е годы.
(обратно)226
Дик Трейси (Dick Tracy) — сыщик, герой одноименного детективного комикса художника Честера Гулда, очень популярного в послевоенные годы.
(обратно)227
Собачий Закуток (Dogpatch) — место действия комикса «Лил Абнер».
(обратно)228
«Сиэрз Робак энд Компани» (Sears Roebuck & Company) — одна из крупнейших американских компаний, владеющая общенациональной сетью магазинов. Считается образцовым примером сетевой торговли, отражающим общую тенденцию к децентрализации бизнеса и делегированию полномочий в региональные штаб-квартиры.
(обратно)229
«Блондинка» (Blondie) — комикс Чика Янга, первоначально выходил под названием «Дагвуд и Блондинка». Этот комикс лидировал по популярности около 40 лет и считается «самым успешным семейным комиксом всех времен и народов». Потребителями этого комикса были, по приблизительным оценкам, от 40 до 50 миллионов читателей ежедневных газет.
(обратно)230
«Воспитание отца» (Bringing Up Father) — комикс художника Джорджа МакМануса, выходивший с 1913 г. и имевший феноменальный успех. Вошел в историю жанра как «архетипический комикс»; был переведен на многие языки и получил мировую известность; на его основе было снято несколько фильмов и осуществлен ряд сценических постановок. Главными персонажами были супруги Мэгги и Джиггс, самые популярные персонажи в истории комикса (их прототипом были дети из «Аллеи Хогана» Эла Каппа).
(обратно)231
«Евангелие из Келса» (Book of Keils) — богато иллюминированная пергаментная рукопись Евангелия, созданная в VIII–IX вв. шотландскими и ирландскими монахами; памятник ирландской культуры. В 1007 г. рукопись была похищена, но впоследствии найдена и восстановлена. В настоящее время хранится в Дублине.
(обратно)232
Рабле (Rabelais) Франсуа (1494–1553) — французский писатель, автор знаменитого романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».
(обратно)233
Mop (More) Томас (1478–1535) — английский гуманист, государственный деятель и писатель; автор одной из первых социальных утопий. Наиболее известны его незаконченная «История короля Ричарда III» (1531) и диалог «Утопия» (1516).
(обратно)234
Милль (Mill) Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ, экономист и общественный деятель. Основные произведения: «Система логики» (2 т., 1843), «Утилитаризм» (1863), «Основания политической экономии и некоторые приложения их к социальной философии» (1848).
(обратно)235
На цыпочках, на носочках (фр.)
(обратно)236
Слово disinterested означает как «беспристрастный» (в негативном смысле — «бесстрастный», «безучастный», «не проявляющий интереса», «равнодушный»), так и «бескорыстный».
(обратно)237
Скрипторий — помещение для переписывания рукописей в средневековых монастырях.
(обратно)238
Барток (Bartok) Бела (1881–1945) — венгерский композитор, пианист и музыковед-фольклорист. Сочинениям Бартока присущи чрезвычайно сложный музыкальный язык и тенденция к коренному обновлению средств музыкальной выразительности.
(обратно)239
Шёнберг (Schonberg) Арнольд (1874–1951) — австрийский композитор; в середине 30-х годах эмигрировал в США. Основоположник атональной музыки и виднейший представитель музыкального экспрессионизма. Разработал особую систему сочинения музыки (додекафонию). Кроме того, широко использовал в своих сочинениях стихи, речитативы и т. п.
(обратно)240
Приводится в пер. Б. Пастернака по изданию: Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии. Сонеты. Т. 2. М.: РИПОЛ, 1994. С. 418–419.
(обратно)241
Приводится в пер. Л. Некора по изданию: Шекспир У. Собрание сочинений в 8-ми т. Т. 5. М.: Интербук, 1993. С. 294–295.
(обратно)242
Челлини (Cellini) Бенвенуто (1500–1571) — итальянский скульптор, ювелир и писатель; один из известнейших мастеров маньеризма.
(обратно)243
Уайт (White) Линн Таунсенд, младший (р. 1907) — американский историк, автор ряда работ, посвященных жизни средневекового монашества, а также истории развития знания и технологии в средние века и эпоху Возрождения, в том числе книг «Границы знания» (1956), «Средневековая технология и социальное изменение» (1962).
(обратно)244
White L Medieval Technology and Social Change. Oxford. Clarendon Press, 1962.
(обратно)245
Карл Великий (лат. Carolus Magnus, фр. Charlemagne) (742–814) — король франков с 768 г., император с 800 г. По его имени названа правившая после него династия Каролингов.
(обратно)246
Mumford L. Technics and Civilization N. Y. Harcourt, Brace & World, 1963
(обратно)247
«Сумасшедший Кот» (Krazy Kat) — популярный комикс художника Джорджа Херримана. Главный образ (Сумасшедшего Кота) был создан в 1910 г.; публикация комикса началась в 1913 г. и продолжалась около 30 лет. В 20-е годы этот комикс был самым популярным среди интеллектуалов; ходят легенды, что президент США В. Вильсон любил рассматривать его перед заседаниями кабинета. В 1926 г. по мотивам комикса был поставлен балет (автор — Дж. О. Карпентер). Издание комикса в твердой обложке сопроводил предисловием известный поэт-авангардист Э. Э. Каммингс. Игнац — герой комикса, мышонок.
(обратно)248
Мибридж (Muybridge) Эдвард (1830–1904) — американский фотограф. После спора, описываемого Маклюэном, Мибридж, оттачивая технику, продолжал исследовать движения животных и человека и изобрел специальный прибор для проекции изображения на экран («зоопраксископ»), ставший предшественником современного кинопроектора.
(обратно)249
Райт (Wright) братья: Уилбер (1867–1912) и Орвилл (1871–1948) — американские изобретатели, авиаконструкторы и летчики. В молодости содержали небольшую типографию в Дейтоне, потом открыли мастерскую по ремонту велосипедов. В конце XIX в. увлеклись идеей создания летательных аппаратов, а в 1903 г. совершили первый в мире успешный полет продолжительностью 59 секунд на сконструированном ими самолете. В последующие пять лет усовершенствовали конструкцию самолета, совершили первый полет по кругу продолжительностью 38 минут, а затем первый полет с пассажирами на борту. В 1909 г. организовали первую в США компанию по производству самолетов.
(обратно)250
Дарвиновская теория эволюции, изложенная в «Происхождении видов» (1859) оказала огромное влияние на интеллектуальное развитие С. Батлера, подвигнув его, в частности, отказаться от сана священника. Хотя позднее он отверг и дарвинизм (из-за упразднения им идеи Бога), эволюционные идеи получили в его творчестве весьма неожиданное продолжение. В статьях, опубликованных в 60-е годы в новозеландской газете «Пресс», Батлер развил эти идеи в контексте взаимоотношений между механизмом и жизнью. В статье «Дарвин среди машин» (1863) машины рассматривались как живые организмы, соревнующиеся с человеком в борьбе за существование. В статье «Lucubratio Ebria» (1865) была высказана противоположная идея, что машины — это внетелесные расширения человека, развитие которых увеличивает мощь и совершенство человеческого организма. Эти идеи, сложившиеся в конце концов в альтернативную дарвиновской теорию эволюции, получили более детальную разработку в романе «Едгин», а также научных работах Батлера: «Жизнь и привычка: очерк о более полном взгляде на эволюцию» (1878), «Эволюция, старая и новая» (1879), «Бессознательная память» (1880), «Удача или коварство: основные средства органического видоизменения?» (1887).
(обратно)251
Беккет (Beckett) Самюэл (1906–1989) — драматург, писатель, поэт. Один из самых ярких и оригинальных представителей «театра абсурда». Нобелевский лауреат по литературе (1969). В числе наиболее известных его произведений — пьесы «В ожидании Годо» (1952), «Последняя лента Крэппа» (1959), романы «Моллой» (1951), «Мэлон умирает» (1951) и др.
(обратно)252
Непереводимый неологизм, представляющий собой герундий от выражения stone age («каменный век») и связанный с рядом трудно передаваемых отсылок и аллюзий. В частности, в данном контексте, помимо указания на родство электрической эпохи с эпохой каменного века, намекается на своего рода «застывание в камне», связанное по смыслу со скульптурой и вообще пластическими искусствами. Также этот неологизм близок по звучанию к прилагательному astonishing («удивительный», «изумительный»).
(обратно)253
В известном русском варианте этой прибаутки о Шалтай-болтае, которым мы вынуждены здесь пользоваться ввиду его популярности, допущено серьезное смысловое искажение, которое следует иметь в виду, чтобы правильно оценить мысль Маклюэна в этом абзаце: на самом деле Шалтай-болтая не могут собрать (couldn't have put back together again).
(обратно)254
При прочих равных условиях (лат.)
(обратно)255
Ср. перевод В. С. Колоколова: «Покоряющему людей силой не покорить их сердца. На это у него не хватит никаких сил. Покоряющему людей добродетелями удастся вызвать радость из самых глубин их сердец, все покорятся ему со всей искренностью». (Мэн-цзы. СПб.: «Петербургское Востоковедение», 1999. С. 53.)
(обратно)256
В диффузионизме, одном из направлений этнологической мысли конца XIX — начала ХХ вв., сходство внешних элементов (или комплексов элементов) в разных культурах объяснялось наличием прямых культурных влияний и заимствований, и задача науки сводилась к тому, чтобы выявить изначальную локализацию данного элемента (или комплекса элементов), а затем проследить его историческое распространение (диффузию).
(обратно)257
Штрохейм (Stroheim) Эрих фон (1885–1957) — американский режиссер и киноактер. В своих актерских работах — фон Рауффенштейн («Великая иллюзия», 1937), Шпион («Гибралтар», 1938), генерал Роммель («Пять гробниц на пути в Каир», 1943), дворецкий («Сансет-бульвар», 1950) — создал отточенный образ жестокого, циничного аристократа. Из режиссерских работ особо выделяется картина «Алчность» (1923).
(обратно)258
Жене (Genet) Жан (1910–1986) — французский писатель и драматург. Детские и юношеские годы провел в тюрьмах и колониях. Наиболее известные его произведения: пьеса «Служанки», романы «Богоматерь цветов», «Дневник вора», «Кэрель». Пьеса «Балкон» была опубликована в 1956 г.
(обратно)259
Пуантилизм (от фр. pointiller — писать точками) — система письма мелкими мазками правильной формы (в живописи).
(обратно)260
Сера (Seurat) Жорж Пьер (1859–1891) — французский живописец и график, основатель и ведущий представитель неоимпрессионизма в изобразительном искусстве (дивизионизма, пуантилизма).
(обратно)261
Толбот (Talbot) Уильям Генри Фокс (1800–1877) — английский химик, лингвист, археолог и пионер фотографии. Наиболее известен открытием такого способа фотографирования, как калотипия (этот процесс включал использование негатива). Толбот подал заявку на патент почти одновременно с Дагером (патент был выдан в 1841 г.); если бы заявка была подана чуть раньше, изобретателем фотографии считался бы он.
(обратно)262
Дагер (Daguerre) Луи Жак Манде (1787–1851) — французский изобретатель, по профессии художник. Считается изобретателем фотографии. В 30-е годы XIX в. впервые разработал способ получения неисчезающих изображений (дагерротипов). Сообщение об изобретении им фотографии (способом дагерротипии) было опубликовано в 1839 г.; этот год считается годом рождения фотографии. Дагерротипия стала первым способом изготовления фотографий, получившим широкое распространение.
(обратно)263
Морзе (Morse) Сэмюэл Финли Бриз (1791–1872) — американский художник и изобретатель в области телеграфии. В 1837 г. изобрел электромагнитный телеграфный аппарат, в 1838 г. разработал для него телеграфный код («азбуку Морзе»). Аппараты Морзе были впервые установлены на первой американской коммерческой телеграфной линии Вашингтон—Балтимор, открытой в 1844 г.
(обратно)264
Камера-обскура (лат.).
(обратно)265
Лаборатория, основанная американским психологом Адельбертом Эймсом, проводившим в 40-е — 50-е годы новаторские исследования зрительного восприятия. Многие его открытия стали хрестоматийными.
(обратно)266
Здесь содержится игра слов, не поддающаяся эквивалентному переводу. В джойсовском выражении allnights newsery reel слово allnights означает «идущий (продолжающийся) всю ночь напролет», с намеком на регулярные «ночные (всенощные) бдения»; выражение newsery reel означает что-то вроде «непрекращающегося фильма, со все новыми и новыми сериями» и представляет собой несколько искаженное newsreel («кинохроника», «обзор текущих событий» или «блок новостей» на телевидении). Созвучные reel и real означают соответственно «кинофильм» (короткометражный фильм или серия фильма) и «реальный».
(обратно)267
Этот «непрозрачный» по смыслу тезис требует небольшого пояснения. Фрейд изначально строил психоанализ на объяснении невротических симптомов (истерических параличей и подобных телесных проявлений); одна из первых ключевых идей, полученных Фрейдом в этой области и легших впоследствии в основу его теории, состояла в том, что патологические телесные жесты являются символами (или внешними проявлениями) скрытых патологических идей. Отсюда родилась гипотеза о существовании бессознательного. Объяснение невроза строилось как интерпретация, т. е. расшифровка «языка» патологической невротической жестикуляции посредством перевода телесных высказываний (объясняемого) на язык бессознательного (объясняющего). Потом эта общая модель была применена Фрейдом для анализа сновидений и психопатологии обыденной жизни, где явное содержание сновидения и ошибочные жесты таким же образом стали рассматриваться как требующий истолкования язык и переводиться в объясняющие категории бессознательной душевной жизни.
(обратно)268
тексте стоит выражение «pop kulch» (искаженное pop-culture). Передать по-русски ироничную, даже издевательскую, тональность такого написания (и произнесения) данного слова, пожалуй, невозможно.
(обратно)269
Буквально: «читаешь ли ты меня, Мак?»
(обратно)270
«Семья человеческая» (Family of Man) — одна из самых крупных и популярных выставок в истории фотографии, организованная в 1955 г. американским фотографом Эдвардом Штайхеном (Steichen, 1879–1973). Концепция выставки базировалась на идее человеческой солидарности. На ней были представлены 503 фотографии, отобранные из 2 миллионов снимков, присланных со всех концов мира. Первоначально фотографии были выставлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке; затем выставка отправилась в тур по музеям мира. Ее увидели более 9 миллионов зрителей.
(обратно)271
Труд, особенно тяжелый (фр.). Здесь непереводимая игра слов: французское travail созвучно английскому travel («путешествие»).
(обратно)272
Опять непереводимая игра слов: по-английски «групповая туристическая поездка», о которой здесь идет речь, — package tour, что буквально означает «тюковой (или упаковочный) тур». Конец же предложения в оригинале выглядит так: «потребности открыть который у них никогда не возникает». Члены туристической группы как бы остаются «упакованы» и, не испытывая потребности «распаковаться», на протяжении всей поездки не видят ничего вокруг себя, как если бы были упакованы в тару не в метафорическом, а в прямом смысле.
(обратно)273
Обычно рядом с крупным торговым центром имеется автостоянка.
(обратно)274
Найтингейл (Nightingale) Флоренс (1820–1910) — английская сестра милосердия и общественный деятель. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. наладила полевое обслуживание раненых в английской армии. В 1860 г. организовала в Лондоне первую в мире школу медсестер. До 1872 г. была экспертом английской армии по вопросам медицинского обследования больных и раненых. Написала ряд работ о системе ухода за больными и ранеными.
(обратно)275
Веблен (Veblen) Торстейн Бунд (1857–1929) — американский социолог и экономист, создал теорию праздного класса и демонстративного потребления. Автор знаменитой книги «Теория праздного класса».
(обратно)276
Первая опубликованная книга Маклюэна, принесшая ему известность. См.: MacLuhan G. M The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. L.: Routledge & Paul, 1962.
(обратно)277
Hussey C. The Picturesque: Studies in a Point of View. N. Y.: G. P. Putnam's Sons, 1927.
(обратно)278
Внутренний мир, или внутренний ландшафт (фр.).
(обратно)279
Бернар (Bernard) Клод (1813–1878) — французский физиолог и патолог, один из основоположников современной физиологии и экспериментальной патологии.
(обратно)280
Работа была написана в 1854–1855 гг. (в 1866 г. переведена на русский язык).
(обратно)281
Внутренняя среда (фр.).
(обратно)282
Пастер (Pasteur) Луи (1822–1895) — французский микробиолог и химик, основоположник современной микробиологии и иммунологии. В 1857 г. изобрел метод «пастеризации» для предохранения продуктов от порчи. В 70-е — 80-е годы исследовал заразные заболевания и их возбудителей; разработал метод предохранительных прививок, в т. ч. вакцинацию против сибирской язвы и прививку против бешенства.
(обратно)283
Ламартин (Lamartine) Альфонс Мари Луи де (1790–1869) — французский поэт-романтик, политический деятель, историк.
(обратно)284
Аддисон (Addison) Джозеф (1672–1719) — английский писатель, просветитель. Совместно с Р. Стилом издавал журналы «Спектейтор» («The Spectator», 1711–1714), «Гардиан» («The Guardian», 1713) и др. Также писал в журнал «Тэтлер» («The Tatler», 1709–1711), издаваемый Стилом.
(обратно)285
Стил (Steele) Ричард (1672–1729) — английский писатель и журналист.
(обратно)286
Бейсбольная команда.
(обратно)287
Аретино (Aretino) Пьетро (1492–1556) — итальянский писатель и памфлетист эпохи Возрождения. Писал сатирические комедии в прозе, в которых давал циничную критику общественных нравов того времени. В 1558 г. его сочинения были внесены Ватиканом в список запрещенных книг.
(обратно)288
Нэш (Nash, Nashe) Томас (1567–1601) — английский писатель, писавший памфлеты в раблезианской манере. Наиболее полно его сатирический дар выразился в пьесе «Собачий остров» (1597), обернувшейся для автора тюремным заключением. Нэш написал первый английский плутовской роман «Злосчастный путешественник, или Жизнь Джека Уилтона» (1594).
(обратно)289
В целом (лат.).
(обратно)290
Уорд (Ward) Артемус (настоящее имя — Чарлз Фаррар Браун, 1834–1867) — американский юморист. С 1857 г. регулярно публиковал очерки в кливлендской газете «Плейн Дилер», сделавшие его одним из самых популярных юмористов в США середины XIX в. В этих очерках язвительно критиковались тогдашние события и учреждения, высмеивалось людское лицемерие и напускная сентиментальность. В 1859 г. писал в нью-йоркский журнал «Вэнити Фэйр», в 1866 г. — в лондонский журнал «Панч».
(обратно)291
USO (United Service Organizations) — частное благотворительное независимое агентство, предоставляющее страховые, социальные и духовные услуги, а также организующее отдых и развлечения для американских военнослужащих и членов их семей. Агентство учреждено в 1941 г.
(обратно)292
Херст (Hearst) Уильям Рэндольф (1863–1951) — американский газетный магнат. Его финансовое могущество и используемые им методы воздействия на читательскую аудиторию стали одним из ключевых факторов в становлении «желтой прессы». Пик его деятельности в индустрии новостей пришелся на конец XIX — 30-е годы ХХ в.
(обратно)293
Харрис (Harris) Бенджамин (1673–1716) — книгопродавец, издатель, писатель, первый американский журналист. 25 сентября 1690 г. опубликовал в Бостоне «Publick Occurences Both Forreign and Domestick», первую газету, напечатанную в Америке. Газета включала 3 страницы новостей.
(обратно)294
Барнем (Barnum) Финеас Тейлор (1810–1891) — известный американский антрепренер. Известен как ловкий делец, не гнушавшийся жульничеством, сенсационностью и сомнительным юмором (в этом качестве его имя стало нарицательным). Более всего известен организацией передвижного Музея диковинок, в котором показывал «кормилицу Вашингтона, старую негритянку, так называемую морскую женщину, охоту индейцев на буйволов и карлика Тома Пуса». Всю жизнь его преследовали обвинения в мошенничестве.
(обратно)295
Ленин В. И. С чего начать? // Полн. собр. соч., 5-е изд. Т. 5. М.: Госполитиздат, 1959. С. 11.
(обратно)296
«Квартеты» — четыре поэмы Т. С. Элиота («Бёрнт Нортон», «Ист Коукер», «Драй Сэлвейджез» и «Литтл Гиддинг»), написанные им в 1934–1942 гг. и объединенные в единый цикл. Впервые были опубликованы в 1943 г. См.: Элиот Т. С. Избранная поэзия. СПб.: Северо-Запад, 1994. С. 41–105.
(обратно)297
«Стэнли Стимер» (Stanley Steamer) — легкий автомобиль с паровым двигателем, впервые собранный в 1897 г. в Ньютоне, штат Массачусетс, американскими изобретателями братьями Ф. Э. и Ф. О. Стэнли. В 1898 г. этот автомобиль достиг головокружительного успеха на автомобильных состязаниях в Бостоне. В 1906 г. на автогонках во Флориде «Стэнли Стимер» развил скорость 205 км в час.
(обратно)298
«Форд Мотор» (Ford Motor) — автомобильная монополия в США, одна из крупнейших в мире автомобильных компаний.
(обратно)299
В тексте непереводимая ироничная игра слов: «рекламное объявление» по-английски ad, «Оно» в латинском написании — id.
(обратно)300
Keats J. Insolent Chariots. Philadelphia Lippincott. 1958.
Китс (Keats) Джон (p. 1920) — американский писатель, публицист, юморист, сатирик. Автор ряда книг о современной американской культуре и влиянии технологии на современную жизнь: «Трещина в венецианском окне» (1956), «Школы без педагогов» (1958), «Наглые колесницы» (1958), «Пергаментный психоз» (1965), «Новые римляне: американский опыт» (1967).
(обратно)301
Packard V. The Hidden Persuaders. N. Y.: D McKay Co., 1957.
(обратно)302
Пакард (Packard) Вэнс (p. 1914) — американский журналист, редактор, социолог. Основным предметом его интереса были процессы, происходящие в индивиде под воздействием новых давлений, рождаемых быстро меняющимся современным миром. Автор книг «Тайные увещеватели» (1957), «Искатели статуса» (1959), «Бесплодные производители» (1960), «Взбирающиеся на пирамиду» (1962), «Обнаженное общество» (1964).
(обратно)303
Джеймс (James) Генри (1843–1916) — американский писатель, классик американской литературы. Брат психолога У. Джемса. Автор многих известных романов: «Женский портрет», «Американец», «Бостонцы», «Трагическая муза», «Священный источник», «Послы», «Письма Асперна», «Еще один поворот винта» и др. Поздние романы Джеймса отмечены тонким психологизмом.
(обратно)304
Верность старых консервативных аристократий этим предметам быта и высмеивание ее новым поколением американцев анализируются, в частности, в книге: Warner W. L. The Living and the Dead. New Haven, 1959.
(обратно)305
Уорнер (Warner) Уильям Ллойд (1898–1970) — американский социолог и социальный антрополог, сторонник структурно-функционального и системного подхода в изучении общества. Вдохновитель, организатор и руководитель знаменитого исследования «Янки-Сити», в рамках которого, в частности, была разработана теория статуса и класса, процедуры исследования классовой стратификации и известная 6-членная модель классового деления (от низшего низшего до высшего высшего класса).
(обратно)306
Брогам (brougham) — четырехколесный однолошадный экипаж, впервые разработанный Г. Брогамом. Когда лошадную тягу заменил мотор, автомобиль соответствующей формы еще какое-то время носил старое название.
(обратно)307
Помпадур (Pompadour) Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де (1721–1764) — фаворитка французского короля Людовика XV (с 1745 г.), известная покровительница литературы и искусств. Покровительствовала писателям, была редактором знаменитой «Энциклопедии», в 40-е годы устраивала в Версальском дворце любительские спектакли и сама в них играла.
(обратно)308
Приводимое Маклюэном выражение science of man embracing woman крайне двусмысленно, что связано с двусмысленностью слова man («человек», «мужчина») и слова embracing («обнимающий», «заключающий в объятия»; «включающий в себя», «в том числе»). Таким образом, по смыслу оно означает «наука о человеке, в том числе женщине», но в буквальном прочтении может означать «наука о мужчине, обнимающем женщину».
(обратно)309
Роджерс (Rogers) Уилл (наст. имя Уильям Пени Эдейр Роджерс, 1879–1935) — американский юморист и актер, известный своим непритязательным юмором. Писал юмористические колонки в газеты, снимался в кино. Погиб в авиакатастрофе.
(обратно)310
Берроуз У. Голый завтрак. М.: Журнал «Глагол», 1993.
(обратно)311
Шутка строится на многозначности слова rattle, обозначающего как детскую погремушку, так и издаваемые автомобилем грохот и дребезжание.
(обратно)312
«Смерть коммивояжера» (Death of a Salesman) — пьеса А. Миллера (1949). Считается одним из лучших его произведений; в 1956 г. была отмечена Пулитцеровской премией. По пьесе поставлен кинофильм.
(обратно)313
Миллер (Miller) Артур (1915-?) — известный американский драматург.
(обратно)314
PR — «паблик рилейшнз», «связи с общественностью».
(обратно)315
Ллойд (Lloyd) Гарольд (1893–1971) — американский киноактер, в основном комедийного жанра, режиссер и продюсер. В 1962 г. на экраны вышла сборная программа его кинофильмов под названием «Мир комедий Гарольда Ллойда».
(обратно)316
Страна небесной радости (Beulah) — сказочная страна из аллегорического романа английского писателя Дж. Беньяна «Странствования паломника» (1678–1684; в рус. пер. — «Путешествие пилигрима»). Эта страна описывается как место, где человеку ничто не досаждает и все пребывает в гармоничном созвучии.
(обратно)317
Волстед (Volstead) Эндрю Дж. (1860–1947) — американский юрист и законодатель. Член палаты представителей Конгресса с 1902 г. Известен главным образом как автор антиалкогольного закона (Volstead Prohibition Act), запрещавшего производство, продажу и транспортировку спиртных напитков. Закон был принят в 1919 г.
(обратно)318
Deane P. Captive in Korea L: H. Hamilton, 1953. (Под псевдонимом Филип Дин писал Герассимус Гигантес.)
(обратно)319
У Маклюэна в этой главе, особенно в первой ее половине, речь идет главным образом об организованной игре, или игре по правилам (game), а не о спонтанной игровой деятельности (play).
(обратно)320
Поттер (Potter) Стивен (1900–1969) — английский сатирик, романист и критик.
(обратно)321
Potter S. Gamesmanship (The Theory and Practice of Gamesmanship; or, The Art of Winning Games without Actually Cheating). N. Y.: Holt, 1947.
(обратно)322
Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М.: Прогресс, 1990.
(обратно)323
Теория игр — раздел математики, изучающий формальные модели принятия оптимальных решений в условиях конфликта. Систематическая математическая теория игр была разработана в 1944 г. американскими учеными Дж. фон Нейманом и О. Моргенштерном как средство изучения конкурентного поведения в экономике.
(обратно)324
Теория информации — математическая дисциплина, изучающая процессы хранения, преобразования и передачи информации; часть кибернетики. Основы теории информации были заложены в 1948–1949 гг. американским ученым К. Шенноном.
(обратно)325
В стандартной английской версии Библии выражение, приведенное здесь Маклюэном, в буквальном виде найти не удалось.
(обратно)326
Бергсон А. Смех. М.: Искусство, 1992.
(обратно)327
Маркони (Marconi) Гульермо (1874–1937) — итальянский радиотехник и предприниматель, один из основоположников радиотелеграфии, сыграл важную роль в распространении радио как средства связи. В 1897 г., после успешных опытов по сигнализации при помощь электромагнитных волн, получил патент на аппарат электросвязи без проводов и организовал крупное акционерное общество «Маркони K°». В 1901 г. впервые осуществил радиосвязь через Атлантический океан. В 1909 г. ему была присуждена Нобелевская премия.
(обратно)328
Тейяр де Шарден (Teilhard de Chardin) Пьер (1881–1955) — французский ученый-палеонтолог, философ и теолог. Основное произведение: «Феномен человека».
(обратно)329
Young J. Z. Doubt and Certainty in Science: A Biologist's Reflections on the Brain. N Y.: Galaxy, Oxford University Press, 1960.
(обратно)330
Моне (Monet) Клод Оскар (1840–1926) — французский художник-пейзажист, один из основоположников импрессионизма.
(обратно)331
Ренуар (Renoir) Пьер Огюст (1841–1919) — французский живописец, график и скульптор, один из основоположников импрессионизма.
(обратно)332
Гильдебранд (Hildebrand) Адольф фон (1847–1921) — немецкий скульптор и теоретик искусства.
(обратно)333
Беренсон (Berenson) Бернард (1865–1959) — американский художественный критик литовского происхождения, специалист по искусству эпохи Возрождения. Жил в основном в Италии; многие шедевры живописи, хранящиеся в американских музеях, были куплены по его рекомендации. Автор ряда книг, в том числе книги «Эстетика и история визуальных искусств» (1948) и монументального труда «Итальянские художники эпохи Возрождения» (1952).
(обратно)334
Слово Stationmaster («начальник станции») в американском варианте английского языка имеет также значение «начальник радиостанции».
(обратно)335
Аретино называли за едкий язык «Бичом государей»; во многом по этой же причине его считают отцом современной журналистики.
(обратно)336
8 (20) сентября 1854 г. в ходе Крымской войны на реке Альме произошло сражение между русскими войсками и высадившимися в Евпатории соединенными силами французов, англичан и турок. Русские войска потерпели поражение и отошли к Севастополю. В сражении погибло около 10 тысяч человек, в том числе 5700 русских и 3000 англичан.
(обратно)337
Балаклавский бой между русскими и англо-турецкими войсками произошел 13 (25) октября 1854 г. неподалеку от Балаклавы. Русские войска отразили атаку английской кавалерии, но не смогли развить успех из-за недостаточности имевшихся в их распоряжении сил и ресурсов.
(обратно)338
Cecil Woodham-Smith. Lonely Crusader: The Life of Florence Nightingale, 1820–1910. N. Y.: Whittlesey House, 1951.
(обратно)339
Бичер-Стоу (Beecher Stowe) Гарриет (1811–1896) — американская писательница, автор известного романа «Хижина дяди Тома» (1852), сыгравшего важную роль в борьбе за отмену рабства в США.
(обратно)340
Hэмир (Namier) Льюис Бернстейн (настоящая фамилия Намеровский, 1888–1960) — английский историк. Основным предметом его интереса была политическая история Великобритании XVIII в.
(обратно)341
Олсон (Olson) Чарлз Джон (1910–1970) — американский поэт-авангардист, оказавший влияние на послевоенную американскую поэзию. Пик его славы пришелся на конец 40-х годов, когда он был преподавателем и ректором колледжа Блэк Маунтин, где выросла целая плеяда выдающихся поэтов. Издал сборник «The Maximus Pems», включающий 38 стихотворений (1960), и сборник более коротких стихотворений «The Distances» (1960).
(обратно)342
Нора Хельмер — главная героиня пьесы «Кукольный дом» (1879) великого норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828–1906). В конце пьесы Нора Хельмер уходит от мужа в поисках новой жизни. Последняя ремарка пьесы: «Снизу раздается грохот захлопнувшихся ворот».
(обратно)343
Ускользающая тонкая ироничность этого замечания состоит в том, что на смену диктату пришла диктовка.
(обратно)344
Bosanquet T. Henry James at Work. L.: Hogarth Press, 1924.
(обратно)345
«Ремингтон» — одна из первых пишущих машин; ее серийное производство было налажено фирмой «Ремингтон» (США) с 1873 г.
(обратно)346
Свободный стих, верлибр (фр.)
(обратно)347
Каммингс (Cummings) Эдвард Эстлин (1894–1962) — американский поэт, писатель и художник. Свои произведения экстравагантно подписывал: «э. э. каммингс». Активно использовал в своей поэзии опыт авангардистских школ европейской живописи (дадаизма, кубизма, футуризма). Главной задачей головоломных типографических экспериментов Каммингса было заставить читателя не только читать стихотворение, но и «видеть» его. Каммингс опубликовал несколько стихотворных сборников, в том числе: «Тюльпаны и печные трубы» (1923); «И» («&», 1925); «Равняется 5» («=5», 1926); «caire: 71 стихотворение» (1950).
(обратно)348
Нижинский Вацлав Фомич (1889–1950) — русский артист балета, балетмейстер-новатор. Кроме всего прочего, известен «высокой техникой прыжка и пируэта», на которую здесь ссылается Маклюэн.
(обратно)349
Хопкинс (Hopkins) Джерард Мэнли (1844–1889) — английский поэт, близкий к прерафаэлитам. В 1866 г., став католическим священником, сжег все написанные им к тому времени стихотворения, но все равно всю жизнь продолжал писать. Впервые его стихи были опубликованы в 1918 г.; в дальнейшем они оказали большое влияние на английскую поэзию. Хопкинс уделял большое внимание мелодии стиха, использовал инверсии, эллипсы, вводные предложения и т. п.
(обратно)350
Паунд (Pound) Эзра Лумис (1885–1972) — американский поэт, историк, теоретик искусства; критик западной цивилизации. Один из теоретиков имажизма.
(обратно)351
Образ «кареты из тыквы» взят из известной сказки про Золушку.
(обратно)352
«Пустозвонство» передается словом phony (или phoney), этимологически родственным слову «телефон» (telephone, сокращ. phone).
(обратно)353
Шеннон (Shannon) Клод Элвуд (р. 1916) — американский ученый и инженер, один из создателей математической теории информации. В 1941–1957 гг. сотрудник математической лаборатории компании «Белл Систем».
(обратно)354
Уивер (Weaver) Уоррен — американский математик. В 40 e годы совместно с К. Шенноном разработал динамическую модель коммуникации.
(обратно)355
Моргенштерн (Morgenstern) Оскар (1902–1977) — американский экономист. С 1938 г. руководил программой эконометрических исследований в Принстонском университете, занимался разработкой приемов и методов статистического и математического анализа экономических проблем. Известен как один из создателей (наряду с Дж. фон Нейманом) теории игр.
(обратно)356
Белл (Bell) Александр Мелвилл (1819–1905) — шотландско-американский педагог. Еще в Англии занимался разработкой метода «видимой речи» для обучения глухонемых; метод включал разработку графических схем, которые служили символическими алфавитными знаками, представлявшими положения и движения голосовых органов. В 1881 г. переехал в Вашингтон, где впервые успешно применил этот метод в преподавании.
(обратно)357
Белл (Bell) Александр Грэхем (1847–1922) — один из изобретателей телефона. В 1876 г. получил в США патент на изобретенный им телефонный аппарат, а в 1877 г. дополнительный патент на мембрану и арматуру. В 1884–1886 гг. получил (совместно с другими) еще несколько патентов в области записи и воспроизведения звука.
(обратно)358
Bell M Visible Speech The Science of Universal Alphabetics, or Self-Interpreting Physiological Letters, for the Wrighting of All Languages in One Alphabet. L. Simpkin, Marshall & Co, 1867
(обратно)359
Брайль (Braille) Луи (1809–1852) — французский тифлопедагог. В 1829 г. разработал известный до сих пор во всем мире рельефно-точечный шрифт для слепых («шрифт Брайля»). Кроме того, Брайль был талантливым музыкантом, преподавал музыку слепым.
(обратно)360
Свенгали — зловещий гипнотизер, герой романа Джорджа дю Морье «Трильби» (1894).
(обратно)361
Грей (Gray) Илайша (1835–1901) — американский изобретатель. Увлекался электричеством; получил около 70 патентов на изобретения, в том числе «телаутограф» (1888), электрическое приспособление для воспроизведения письма на расстоянии. Независимо от Белла изобрел телефон, но подал заявку на патент на два часа позже (14 февраля 1876 г.). Позднее выяснилось, что аппарат, описанный Беллом, не может работать, тогда как аппарат Грея вполне работоспособен; после многолетней судебной тяжбы изобретателем телефона был признан Белл. В 1872 г. Грей основал компанию «Вестерн Электрик Мэньюфэкчеринг», из которой родилась нынешняя «Вестерн Электрик».
(обратно)362
Уайт (Whyte) Уильям Холлингсворт (р. 1917) — американский журналист и социолог. Наиболее известен своей работой «Организационный человек» (1956), где был сделан вывод о формировании современными американскими организационными структурами автоматического типа личности.
(обратно)363
Whyte W H The Organization Man N Y Simon & Schuster, 1956
(обратно)364
Филдс (Fields) Уильям Клод (настоящая фамилия Дьюкенфилд, 1880–1946) — американский актер комик. Его тонкий юмор в сочетании с непроницаемо серьезным выражением лица, медлительно-вальяжной речью и отточенной жестикуляцией принес ему славу одного из величайших комедийных актеров Америки. С 1931 г. работал в Голливуде, снимал фильмы, писал сценарии.
(обратно)365
Брехт (Brecht) Бертольд (1898–1956) — немецкий писатель, театральный деятель, теоретик искусства. По его произведениям — «Трехгрошовый роман» (1934), «Добрый человек из Сезуана» (1938–1940), «Мамаша Кураж и ее дети» (1939) и др. — сделаны многочисленные театральные постановки.
(обратно)366
Гельмгольц (Helmholtz) Герман Людвиг Фердинанд (1821–1894) — немецкий физик, математик, физиолог и психолог.
(обратно)367
«Безработные» в смысле «находящиеся вне системы специализированных рабочих мест».
(обратно)368
Соуса (Sousa) Джон Филип (1854–1932) — американский капельмейстер и композитор, сочинитель военных маршей. Сочинил около 140 военных маршей, отличающихся своими ритмическими и инструментальными эффектами, в том числе таких, как «Звезды и полосы навсегда» (1896), «Semper Fidelis» (1888), «Вашингтонский пост» (1889), «Колокол свободы» (1893). Также писал оперетты, из которых наибольший успех имела в свое время оперетта «Эль-Капитан» (1896).
(обратно)369
Эдисон (Edison) Томас Алва (1847–1931) — американский изобретатель в области электротехники и предприниматель. В 1869–1876 гг. разработал ряд приборов, в том числе прибор для передачи на расстоянии информации (биржевых курсов), усовершенствовал пишущую машинку. В 1877 г. изобрел фонограф. По проекту Эдисона в Нью-Йорке была построена первая в мире электростанция постоянного тока общего пользования. В 1887 г. возглавил созданный им собственный изобретательский центр.
(обратно)370
Липпс (Lipps) Теодор (1851–1914) — немецкий философ, психолог, эстетик. Сыграл важную роль в систематизации немецкой психологии конца XIX в. В последние годы жизни разрабатывал психологию искусства, в основу которой было положено понятие «вчувствования».
(обратно)371
Сеннетт (Sennett) Мак (наст. имя и фамилия — Майкл Синнотт, 1880–1960) — американский режиссер и актер. С 1902 г. работал комедийным актером, певцом, танцором в театрах Нью-Йорка. С 1908 г. киноактер; с 1910 — режиссер. В 1912 г. основал собственную киностудию «Кистон», на которой впервые снимались Ч. Чаплин, М. Норман, Г. Ллойд и другие блестящие актеры. С 1916 г. выступал главным образом продюсером. Сеинетта по праву считают основоположником американской кинокомедии, основанной на нагромождении абсурдных ситуаций и остроумных трюков; одним из первых образцов этого жанра стала снятая на студии Сеннетта серия короткометражных фильмов «Кистонские полицейские».
(обратно)372
Лафорг (Laforgue) Жюль (1860–1887) — французский поэт. За свою недолгую жизнь написал несколько сборников стихов: «Жалобы» (1885), «Подражание государыне нашей Луне» (1885), «Последние стихи» (1891).
(обратно)373
Сати (Satie) Эрик Альфред Лесли (1866–1925) — французский композитор. В начале века сочинил несколько сборников пьес для фортепиано («3 пьесы в форме груши», «В лошадиной шкуре», «Спорт и развлечения» и др.). В 1916 г. написал первое произведение для театра — балет «Парад». Лучшим его сочинением признана симфоническая драма с голосом «Сократ» (1918) на текст одноименного диалога Платона.
(обратно)374
Blues в английском языке означает как «блюз», так и «печаль».
(обратно)375
Ламберт (Lambert) Констант (1905–1951) — английский композитор, дирижер и музыкальный критик; сыграл ключевую роль в становлении английского балета. Основные музыкальные произведения: балет «Гороскоп» (впервые поставлен в 1938 г.), песенный цикл «Восемь китайских песен» (1926). Его критическая работа «Музыка, эй! Исследование музыки в период упадка» (1934) — блестящее исследование музыки ХХ в.
(обратно)376
Lambert С. Music Но! A Study of Music in Decline. L.: Faber and Faber, Ltd., 1934.
(обратно)377
Дебюсси (Debussy) Клод Ашиль (1862–1918) — французский композитор, основоположник музыкального импрессионизма.
(обратно)378
Делиус (Дилиус, Delius) Фредерик (1862–1934) — английский композитор. Его ранние оркестровые пьесы («Флорида», 1886–1887; «Над холмами и далеко-далеко», 1895; и др.) и многие поздние экспрессионистские сочинения («Летний вечер у реки», 1911; «Весной услышав первый крик кукушки», 1913) являют собой мелодически богатые и гармонически сложные лирические пьесы. Также он писал камерную музыку, хоровые сочинения, песни и оперы. Наиболее известна его опера «Сельские Ромео и Джульетта» (1900–1901).
(обратно)379
Фрагмент поэмы «Бесплодная земля». Приводится в пер. С. Степанова по изданию: Элиот Т. С. Избранная поэзия. СПб.: Северо-Запад, 1994. С. 125. Для лучшего прояснения мысли Маклюэна уместно будет привести буквальный перевод последних двух строк: «Она приглаживает свои волосы автоматической рукой и ставит пластинку на граммофон».
(обратно)380
Синкопа, или усечение — сокращение слова вследствие выпадения промежуточного гласного (термин фонетики).
(обратно)381
Как известно, Ж.-Ж. Руссо придерживался точки зрения, что человек по своей природе добр, и усматривал в образе первобытного дикаря идеал естественного человека, не испорченного влиянием цивилизации, которая является, по его мнению, источником всякого зла.
(обратно)382
В строфах 17–45 песни третьей «Паломничества Чайлд Гарольда», которые были написаны Байроном под впечатлением посещения поля битвы при Ватерлоо, описывается вечер 15 июня 1815 г. В этот вечер в Брюсселе с ведома командования союзных войск был дан бал, на котором присутствовала значительная часть офицеров английской и голландской армий; на рассвете 16 июня началась битва при Катр-Бра, ставшая прологом Ватерлоо. Байрон так описывает этот бал, внезапно переходящий в кровопролитное сражение:
«В ночи огнями весь Брюссель сиял,
Красивейшие женщины столицы
И рыцари стеклись на шумный бал.
Сверкают смехом праздничные лица.
В такую ночь все жаждет веселиться,
На всем — как будто свадебный наряд,
Глаза в глазах готовы раствориться,
Смычки блаженство темное сулят.
Но что там? Странный звук! —
Надгробный звон? Набат?
Ты слышал? — Нет! А что? — Гремит карета,
Иль просто ветер ставнями трясет.
Танцуйте же! Сон изгнан до рассвета,
Настал любви и радости черед.
Они ускорят времени полет…»
Далее слышатся звуки орудий и начинается бой. (Байрон Дж. Г. Избранное / Пер. В. Левика. М.: Правда, 1982. С. 186.)
(обратно)383
Все коннотации, содержащиеся в указанных созвучиях, передать по-русски невозможно. Absent minded, созвучное джойсовскому неологизму ABCED-minded, означает «рассеянный», а также намекает на «отсутствие ума» (в разных его проявлениях); установление связи всех этих качеств с влиянием алфавита и книжной культуры представляется в данном выражении Джойса достаточно очевидным.
(обратно)384
Клер (Clair) Рене (настоящая фамилия Шометт, 1898–1981) — французский кинорежиссер и кинодраматург. Расцвет его творчества пришелся на 20-е — 30-е годы. Наиболее известны его фильмы «Под крышами Парижа» (1930) и «Большие маневры» (1955).
(обратно)385
«Бродяга» («The Tramp») — один из ранних фильмов Чаплина, вышедший на экраны в 1915 г.
(обратно)386
Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953) — советский кинорежиссер, теоретик кино. Наиболее выдающиеся работы в кино: «Мать» (1926), «Возвращение Василия Бортникова» (1953). Автор ряда теоретических трудов, получивших мировую известность: «Кинорежиссер и киноматериал» (1926), «Киносценарий. Теория сценария» (1926), «Актер в фильме» (1934) и др.
(обратно)387
Поэма «Убийство в соборе» (Murder in the Cathedral, 1935) — первое завершенное драматическое произведение Элиота и единственное его произведение в жанре трагедии.
(обратно)388
Гриффит (Griffith) Дэвид Уорк (1875–1948) — американский режиссер. Начинал свою кинематографическую деятельность в 1907 г. на киностудиях «Эдисон» и «Байограф» в Нью-Йорке; в 1913 г. перебрался в Голливуд, где в качестве независимого продюсера стал снимать фильмы для прокатной фирмы «Юнайтед Артистс», созданной им в 1919 г. сообща с Чаплином, М. Пикфорд и Д. Фэрбенксом. Внес значительный вклад в развитие мирового киноискусства; разработал множество профессиональных приемов, обогативших кинематограф новыми средствами выразительности.
(обратно)389
Грей (Gray) Томас (1716–1771) — английский поэт, представитель английского сентиментализма. «Элегия, написанная на сельском кладбище» (1751) — самое известное его стихотворение, содержащее сентиментальные размышления о равенстве людей перед лицом неизбежной кончины; это яркий образец т. н. «кладбищенской поэзии». В XIX в. два перевода «Элегии» на русский язык были сделаны В. А. Жуковским (в 1802 и 1839 гг.). См.: Английская поэзия в русских переводах (XIV–XIX века). Сборник. М.: Прогресс, 1981. С. 154–163, 639–642.
(обратно)390
Бернс (Burns) Роберт (1759–1796) — шотландский поэт, классик шотландской и английской литературы.
(обратно)391
Уордсворт, или Вордсворт (Wordsworth) Уильям (1770–1850) — английский поэт, один из основателей и видный представитель «озерной школы».
(обратно)392
«Сверчок за печкой» (1846) — рождественская сказка Диккенса.
(обратно)393
«Новые времена» («Modern Times») — фильм 1935 года.
(обратно)394
«Призрак розы» — балет на музыку Вебера, в котором сыграл в свое время одну из своих блистательных ролей В. Нижинский.
(обратно)395
«Великий Гэтсби» (1925) — роман американского писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда (1896–1940). Гэтсби и Дэйзи — главные герои романа.
(обратно)396
«Комната наверху» («Room at the Top»; в советской литературе встречается и другая версия перевода названия, «Путь в высшее общество», 1958) — фильм английского режиссера Дж. Клейтона; экранизация одноименного романа английского писателя Дж. Дж. Брейна, изданного в 1957 г. и считающегося типичным образцом послевоенной английской литературы. Основу сюжетной линии составляет неудачный брак молодого рабочего с дочерью богатого бизнесмена. Фильм известен главным образом тем, что в нем снялась актриса Симона Синьоре; эта роль принесла ей приз за лучшую женскую роль на Каннском фестивале, а также призы Американской и Британской киноакадемий.
(обратно)397
«Лолита» — фильм Стэнли Кубрика (1962), экранизация одноименного романа В. Набокова (1955; русская версия — 1957).
(обратно)398
«Падение королей» (The Fall of Princes) — английская версия названия трактата Джованни Боккаччо «О несчастиях знаменитых людей» (De casibus virorum), написанного на латыни.
(обратно)399
«Записки Пиквикского клуба» были опубликованы в 1837 г.
(обратно)400
Роман «Дэвид Копперфилд» вышел в свет в 1850 г.
(обратно)401
Лазарсфельд (Lazarsfeld) Пол Феликс (1901–1976) — американский социолог австрийского происхождения. Внес очень важный вклад в развитие методов социологического исследования. Проводил многочисленные исследования средств массовой коммуникации и их влияния на формирование общественного мнения.
(обратно)402
Жизненное пространство (нем.).
(обратно)403
Маккарти (McCarthy) Джозеф Реймонд (1908–1957) — американский политический деятель, в 1946–1957 гг. сенатор-республиканец от штата Висконсин. Известен своим истеричным антикоммунизмом; выступал за усиление холодной войны, эскалацию гонки вооружений, инициировал ряд антидемократических законов. Проводимая им и его сторонниками политика получила название «маккартизм».
(обратно)404
Аллен (Allen) Фред (настоящие имя и фамилия Джон Флоренс Салливан, 1894–1956) — американский юморист. С 1932 г. вел многочисленные передачи на радиостанции Си-Би-Эс. Наибольшую популярность завоевала его программа «Шоу Фреда Аллена», выходившая в эфир с 1934 до 1949 г., к которой он сам сочинял сценарии. Также снимался в кино. Его лаконичный стиль и тонкий юмор оказали большое влияние на целое поколение радио- и телеведущих.
(обратно)405
Уэллс (Wells) Орсон (1915–1985) — известный американский кинорежиссер, актер, писатель. Его фильмы «Гражданин Кейн» (1941), «Макбет» (1948), «Мистер Аркадии» (1955), «Отелло» (1952), «Процесс» (1962) и др. вошли в сокровищницу мирового киноискусства. В 1998 г. его картина «Гражданин Кейн» была признана Американской киноакадемией лучшим американским фильмом в истории кино.
(обратно)406
Ле Корбюзье (Le Corbusier) Шарль Эдуард (настоящая фамилия Жаннере, 1887–1965) — французский архитектор и теоретик архитектуры.
(обратно)407
Ирландское восстание 1916 г. (или «восстание на пасхальной неделе») — национально-освободительное восстание ирландцев против господства британской короны (24–30 апреля). Эпицентром восстания стал Дублин, где повстанцы провозгласили Ирландскую республику и создали Временное правительство. После шести дней боев восстание было подавлено.
(обратно)408
Аналогичной точки зрения на идеальную величину государства придерживался Аристотель. См.: Аристотель. Собр. соч. в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 597–598.
(обратно)409
Около 16,5 см.
(обратно)410
Смит (Smith) Говард Кингсбери (р. 1914) — американский журналист. До войны сотрудничал с «Нью Орлеанс Таймс-Трибюн» и ЮПИ; после войны работал в Си-Би-Эс, был корреспондентом на Нюрнбергском процессе 1945 г. Автор нескольких книг.
(обратно)411
Имеется в виду общий элемент «шероховатости»: шероховатость произношения в диалекте и шероховатость поверхности гетров.
(обратно)412
Шульц (Szulc) Тэд (р. 1926) — американский журналист польского происхождения, с 1953 г. работал в «Нью Йорк Таймс» (сначала в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке корреспондентом, затем в Вашингтонском бюро газеты). Также вел передачи на радио и телевидении. Автор ряда книг о политической ситуации в Латинской Америке.
(обратно)413
Перри Мейсон — литературный персонаж, детектив, главный герой романов и рассказов популярного американского писателя Эрла Стэнли Гарднера. Первые детективные произведения о Перри Мейсоне были опубликованы в 1933 г. По мотивам этих произведений были поставлены кинофильмы, сняты телесериалы, записаны радиоспектакли.
(обратно)414
Выражение Charge of the Light Brigade имеет также и другой смысл: «атака легкой кавалерии» (или «атака Летучей бригады»). В этом смысле данное выражение имеет устойчивую историческую коннотацию с военной операцией английской армии у Балаклавы во время Крымской войны.
(обратно)415
Руо (Rouait) Жорж (1871–1958) — французский живописец и график, один из основателей фовизма, близок к экспрессионизму. В живописи Руо воплотилось его общее восприятие ХХ в. как мрачной и зловещей трагикомедии; для его произведений характерна гротескная острота форм (резкий контурный рисунок, контрасты светлых и сумрачных цветовых пятен и т. п.), болезненный характер образов.
(обратно)416
Патер (Pater) Уолтер Горацио (1839–1894) — английский литературный критик, эссеист и гуманист, страстный защитник «искусства ради искусства». Автор ряда работ об античности, искусстве эпохи Возрождения, философии Платона. В 1873 г. опубликовал сборник критических работ «Штудии по истории Возрождения». Наиболее важное сочинение — философский роман «Мариус Эпикуреец» (1885), где подробно разрабатывается патеровский идеал эстетической и религиозной жизни. Воззрения Патера оказали большое влияние на движение эстетизма, О. Уайльда, Дж. Мура и др.
(обратно)417
Эрп (Earp) Уайатт (настоящее имя Берри Стэпп, 1848–1929) — легендарный пионер американского Запада, герой фронтира. За свою жизнь перепробовал множество занятий; был трактирщиком, вышибалой, играл в азартные игры. В середине 70-х годов служил в полиции в Вичита и Додж-Сити, после чего переезжал с места на место, пока наконец не обосновался в Аризоне. Заслужил славу меткого стрелка и бесстрашного защитника закона.
(обратно)418
Келли (Kelly) Уолт (настоящее имя Уолтер Кроуфорд Келли, 1913–1973) — американский карикатурист; автор комикса «Пого», прославившегося утонченным юмором и ненавязчивыми элементами политической сатиры. Публикация этого комикса началась в 1948 г. в нью-йоркской газете «Стар». Персонажами были животные (опоссум Пого, сыч Ховленд Оул, крокодил Альберт де Аллигатор, черепаха Чёрчи ла Фам и др.). В 50-е годы многие комиксы Келли были изданы отдельными книгами, в том числе «Пого» (1951).
(обратно)419
Смысловой переход от предыдущего предложения к этому строится всецело на особенностях английского языка. Выражение Let's make a town, имеющее смысл «давайте устроим заварушку» (или «давайте покутим»), буквально переводится как «давайте сделаем город».
(обратно)420
О литургическом возрождении в протестантизме см.: Warner W. L. The Living and the Dead New Haven, 1959 P 331–352.
(обратно)421
Монтессори (Montessori) Мария (1870–1952) — итальянский педагог. Резко критиковала традиционную школу за муштру и подавление естественных потребностей и способностей ребенка; в противовес ей разработала собственную оригинальную систему сенсорного развития детей в специальных дошкольных учреждениях и начальной школе, построенную на идее свободного воспитания.
(обратно)422
Шелли (Shelley) Перси Биши (1792–1823) — английский поэт-романтик и теоретик поэтического искусства. Поэзия Шелли характеризуется редкостным многообразием стилей и интонаций. Он разработал многочисленные новые средства художественной выразительности, возродил народную традицию тонического стихосложения.
(обратно)423
Валери (Valéry) Поль (1871–1955) — французский поэт, литературный и художественный критик, теоретик искусства. Поэтический мир Валери насыщен емкими образами, символами, изощренными метафорами. Его перу принадлежат сборник стихов «Юная Парка» (1917), поэма «Морское кладбище» (1920), сборник стихов и поэм «Очарования», неоконченная поэма «Мой Фауст» (опубл. в 1941 г.) и др
(обратно)424
Орф (Orff) Карл (1895–1982) — немецкий композитор. Приобрел известность в 30-е годы как автор крупных сценических произведений синтетического плана, сочетающих элементы драмы, пения, декламации, пантомимы, хореографии, а также оригинально истолкованный состав оркестра с преобладанием ударных инструментов. Наибольшей известностью пользуется его сочинение «Carmina Burana».
(обратно)425
Перотин (Perotinus) (год рождения неизвестен, умер предположительно в 1238 г.) — французский церковный композитор. О его жизни неизвестно ничего. Считается, что именно он ввел в западную музыку четырехголосную полифонию; его четырехголосные сочинения стали революцией в западной музыке, поскольку почти вся религиозная музыка XII в. писалась в форме двухголосного органума. Известны две его четырехголосные работы: «Viderunt» и «Sederunt». Также ему приписывают еще одно четырехголосное сочинение, «Mors».
(обратно)426
Дюфаи (Dufay) Гийом (1400–1474) — франко-фламандский композитор, один из родоначальников нидерландской школы. Работал в Италии и во Франции. Искусство Дюфаи оказало большое влияние на развитие европейской полифонической музыки.
(обратно)427
Уайт (White) Теодор Гарольд (1915–1986) — американский писатель и журналист. Более всего известен серией книг о подробностях проведения президентских кампаний в США. Книга «Как сделать президента, 1960», посвященная предвыборным кампаниям Дж. Ф. Кеннеди и Р. Никсона, получила Пулитцеровскую премию.
(обратно)428
White Th H The Making of the President 1960 N Y Atheneum Publishers, 1961
(обратно)429
Салливан (Sullivan) Эд (полное имя Эдвард Винсент Салливан, 1901–1974) — популярный американский телеведущий. Вел на канале Си Би-Эс программу «Любимец города» (1948–1955), переименованную позже в «Шоу Эда Салливана» (1955–1971). Знаменит лаконичной манерой представления гостей программы и сдержанными манерами ведения передачи, за что получил прозвище «Великое Каменное Лицо».
(обратно)430
«Амос и Энди» (Amos 'n' Andy) — популярная радиопрограмма, ставшая первым огромным успехом радио как средства массовой информации. Начала выходить в эфир в 30-е годы; сначала выходила только в Чикаго на радиостанции WMAQ, потом стала транслироваться в записи еще 30 станциями В 1929 г. программа была куплена Эн Би-Си и стала выходить по вечерам, с 1900 до 1915. Популярность передачи была исключительно велика: на протяжении нескольких лет на нее были настроены более половины приемников в США; предприятия по всей стране изменили рабочие графики, чтобы служащие могли слушать очередные выпуски; рестораны в эту четверть часа переставали обслуживать клиентов; и т. п.
(обратно)431
Голдинг (Golding) Уильям Джералд (р. 1911) — английский писатель, мастер притчи и гротеска, лауреат Нобелевской премии 1983 г. Наиболее известен своим романом «Повелитель мух».
(обратно)432
Голдинг У. Повелитель мух. М.: Педагогика, 1990.
(обратно)433
Russell В The ABC of Relativity L. Allen & Unwin, 1958
(обратно)434
См.: Прекрасное пленяет навсегда: Из английской поэзии XVIII–XIX веков: Сборник. М.: Московский рабочий, 1988. С. 347.
(обратно)435
«Вестсайдская история» (West Side Story) — знаменитая экранизация одноименного мюзикла Леонарда Бернстайна 1961 г. Сюжет фильма строится на перенесении в гангстерский мир Манхэттена истории Ромео и Джульетты.
(обратно)436
Война нервов (фр.).
(обратно)437
Донн (Donne) Джон (1572–1631) — английский поэт, религиозный философ и проповедник. В юности писал элегии, песни, сонеты, эпиграммы, сатиры, эпиталамы; в поздний период творчества (после принятия духовного сана) — проповеди, религиозно-философские поэмы, гимны. Оказал влияние на многих поэтов ХХ в. (Т. С. Элиота, И. Бродского и др.). Будучи настоятелем собора Св. Павла (с 1621 г.), прославился как блестящий проповедник.
(обратно)438
Аманулла хан (1892–1960) — король Афганистана в 1919–1929 гг. Придя к власти, провозгласил 21 февраля 1919 г. независимость Афганистана.
(обратно)439
Capek M The Philosophical Impact of Modern Physics Princeton, N. J. Van Nostrand, 1961
(обратно)440
Buckminster Fuller R Education Automation Freeing the Scholar to Return to His Studies Carbondale Southern Illinois University Press, 1962
(обратно)441
Приводится в пер. М. Зенкевича по изданию: Шекспир В. Комедии. Хроники. Трагедии. Т. 1. М.: РИПОЛ, 1994. С. 479.
(обратно)442
Dewart L Christianity and Revolution The Lessons of Cuba N Y Harder, 1963.
(обратно)443
Тривиум (лат. trivium) — цикл из трех основных дисциплин (грамматики, логики и риторики) в средневековой школе; отсюда слово «тривиальный». Квадривиум (лат. quadnvium) — университетский курс наук в средние века, включавший арифметику, геометрию, астрономию и музыку.
(обратно)444
Big wheels — букв. «большие колеса».
(обратно)

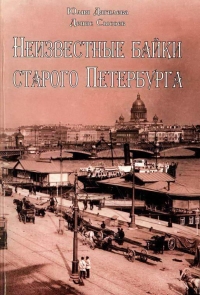
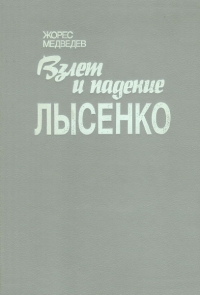

Комментарии к книге «Понимание медиа: Внешние расширения человека», Герберт Маршалл Маклюэн
Всего 0 комментариев