Домой возврата нет
Рано или поздно это случается с каждым домом. Вот и нашему пришла пора ремонта. Узнав, что прораб родом из Аргентины, я приложил все усилия, чтобы в поисках общего языка не заговорить с ним о Борхесе.
- Марадона! - закричал я вместо этого.
- Что - Марадона?
- Наше все. Вернее - ваше все.
Хозе вяло кивнул и перешел к смете. Чтобы покрасить стены, пришлось вынести книги в гараж. На второй день Хозе не выдержал:
- Вы - священник? - спросил он.
- Почему?! - опять закричал я.
- О чем еще можно написать столько книг, если не о Боге, - веско сказал Хозе, и я подумал, что все-таки надо было спросить его о Борхесе.
Впрочем, когда маляры ушли, выяснилось, что книги на полки засунуты без всякого понятия - австрийских авторов перепутали с немецкими. Спасая их от второго аншлюса, я расставлял тома в правильном порядке, пока один не упал на пол. Книга раскрылась на фотографии. Черно-белый снимок - ослепленное вспышкой смутно знакомое лицо с острым носом, длинное старомодное пальто, шляпа, которых вообще не носят. Косо в угол уходят библиотечные полки, набитые пухлыми книгами в неярких по нынешним временам переплетах.
- Конец тридцатых, - навскидку определил я и поднял книгу, чтобы прочесть, кого изображал снимок. Неожиданно фотография отделилась от листа. Она была не напечатана, а вложена между страницами - вместо закладки. Тут уж я и без очков узнал себя, только не вспомнил, где снимался. Зато памятной была книга.
В Америке мы с ней появились в одном и том же году. Я купил эту книгу на первую зарплату (грузчика), ибо она обещала предсказать будущее. Вряд ли автор угрюмой монографии о судьбе немецких писателей-антифашистов в изгнании думал, что его труд будут читать как Сивиллину книгу. Называлась она "Каменная скрипка".
Из них всех в Америке по-настоящему преуспел австрийский еврей Билли Уайлдер. Фамилию для Голливуда он себе выдумал сам, зато именем ему стала детская кличка - в честь Буффало Билла. Его мать обожала американское кино, но языка он все равно не знал. Добравшись до Калифорнии, Уайлдер принялся учить английский с истерическим усердием - по 300 слов в сутки, пока друзья и коллеги собирались на кухне за шнапсом, чтобы ругать Америку по-немецки. В результате он стал лучшим сценаристом Голливуда. Фразы из его фильмов вошли в идиоматическое сознание нации, причем не одной, - если вспомнить "В джазе только девушки".
Став звездой Нового Света, Билли Уайлдер отдал дань Старому, сняв по нему реквием - "Сансет бульвар". На самом деле, как все в Лос-Анджелесе, это не бульвар, а шоссе. Да и закат в фильме происходит внутри, а не снаружи. Под видом героини - сошедшей с экрана великой актрисы немого кино - Уайлдер изобразил своих соотечественников, оставшихся в Америке без языка той - предыдущей - культуры, что принесла им славу.
Нельзя сказать, чтобы Уайлдер недооценивал заблуждения своих соотечественников.
- Австрийцы, - говорил он, - замечательный народ, сумевший убедить мир в том, что Гитлер - немец, а Моцарт - австриец.
Уайлдер понимал, что Европа сама во всем виновата, в том числе и в том, что не хочет - в отличие от него - переучиваться. Он знал, что выхода нет, но он понимал, как много потерял мир с тех пор, как искусство перешло на доступный массам язык - вроде того, каким пользовалось звуковое кино.
В Америку немцы приезжали в ореоле культуры, которую они не без основания считали самой высокой в мире. Веря, что ей принадлежит будущее, Марк Твен учил своих детей немецкому, которым сам он безуспешно пытался овладеть 30 лет. Брехт, Фейхтвангер, Верфель, Стефан Цвейг, Генрих, но главное - Томас Манн привыкли к тому, чтобы их любили. До того, как нацисты запретили "Буденброков", роман выдержал больше 100 изданий.
- Где я, там Германия, - сказал Томас Манн.
В другой раз, посетив дом Фейхтвангера в его еще французском изгнании, Манн выразился яснее:
- Хорошо бы показать вашу виллу Геббельсу, чтобы тот лопнул от зависти.
В Новом Свете все быстро кончилось. Не все они бедствовали в Америке так страшно, как можно было того ожидать. Одних, правда, ненадолго, приютил Голливуд. Других поддерживала слава, третьих - связи, четвертого - ферма в Вермонте. Америка не мешала им писать. Среди сотни книг, выпущенных эмигрантами в годы фашизма, - "Иосиф и его братья" Манна, "Смерть Вергилия" Броха, брехтовский "Галилей". Но даже те, кому Америка ни в чем не отказывала, не могли с ней ужиться.
- Хорошо, что он вернулся в Европу, - сказал мне профессор, помнивший Томаса Манна по Принстону, - уж слишком он придирался к Америке.
И было за что! Америка, о чем ясно написано на цоколе статуи Свободы, привыкла видеть в эмигрантах отбросы, а не соль Старого Света. Второй шанс она обещала тем, у кого не было и первого. По отношению к остальным Америка позволяла себе быть высокомерной до глупости. Дочку Ферми не хотели пускать в страну из-за слабоумия: девочка не знала, кто такие скунсы, а эмиграционный чиновник не мог себе представить страну, где их нет.
Америка спасала жизнь эмигрантов за счет их статуса. Для авторов, успевших прославиться дома, эта, в сущности, честная сделка оказалась столь же безнадежной, как та, в которую ввязался их земляк Фауст. Их личность, как у всех настоящих писателей, исчерпывалась на бумаге. Все они (кроме того, Карла Цукмайера, что пахал в Вермонте) не умели делать ничего другого. В том числе - пользоваться английским, которого не признавали даже выучившие язык.
- Приблизительный английский, - жаловался Генрих Манн на своих более решительных коллег, - приблизительные мысли.
Чтобы писать на другом языке, надо стать другим человеком. Живые классики, киты пера и акулы мысли, они были слишком полны собой, чтобы второе "я" сумело потеснить первое.
Дело еще в том, что в другой язык, как в другую веру, переходят, расставаясь с родной средой, которую писатели зовут контекстом. Чем он шире и глубже, тем труднее без него обходиться, ибо вместе с контекстом исчезает почва для индивидуального творчества. Всякий писатель кормится - тайно и явно - цитатами. Но только зрелая, перенасыщенная культурой жизнь сплошь иронична, ибо она заключает себя в невидимые кавычки.
Опознанная цитата служит пропуском в стаю. Вот так псы - от дога до таксы - узнают, что принадлежат к одному собачьему семейству. Это, конечно, не мешает им драться, но лошади, скажем, их вообще не интересуют.
- "Только детские книги читать", - причитал я, потеряв очки, корректирующие возрастную дальнозоркость.
И гости сразу разделились на тех, кто узнал Мандельштама, и тех, кто помог найти очки.
- "Чому я не сокол?" - спросил я в другой раз.
И молодой москвич вежливо поправил:
- Теперь говорят - "почему".
Радость изощренного чтения в том, чтобы узнать неназванное, заметить спрятанное, развернуть укутанное. В этой - "бисерной" - игре писатель с читателем попеременно меняются местами, составляя замысловатые фигуры литературной кадрили.
Танцы, впрочем, бывают разными. В истории каждой культуры наступает золотая александрийская осень, пускающая в разлив накопленную летом страсть. Обыгранные цитаты составляют суть острословия от Диогена до Венички Ерофеева.
В Японии я видел, как такую манеру увековечили. В самых живописных местах страны стоят валуны с хокку, высеченными на них еще в средневековье. Пускаясь в дальние и мучительные странствия, великие поэты прошлого месяцами брели от одной цитаты к другой, стремясь постичь красоту, опосредованную чужим вдохновением.
- Эрос текста в контексте, - подстегивает себя стареющая культура. - Путь творчества - вообразить целое по части и воспламениться им.
- Зачем, - спрашивал поэт, - вся дева, раз есть колено?
Бродского, кстати, обременяла зависимость от контекста (от слова "текст" его просто тошнило). Поэтому он завидовал Фросту, который, в отличие от своих английских коллег, видел в дереве дерево, а не тех королей и монахов, что сидели под ним на всем протяжении утомительно долгой европейской истории.
Но и Бродскому жизнь вне контекста не давалась даром. Во всяком случае, он обрадовался цитате, которую мне однажды довелось ввернуть в беседу. Речь зашла о его любимом Овидии, слагавшем гекзаметры среди не знавших латыни варваров.
"Это все равно, - писал римский поэт в "Скорбных песнях", - что "миму мерную пляску плясать в темноте".
Беда эмигранта в том, что контекст нельзя перевести, его можно только освоить. Любовь космополита определяет произвольность выбора. Но это значит, что жить ему приходится внутри комментария.
Понятно, что в Америке бежавшим от нацистов авторам не хватало внимающих и понимающих поклонников. Хуже, что они исчезли навсегда. Когда кошмар кончился, выяснилось, что эмигранты и метрополия больше не нужны друг другу.
- Все вышедшие при нацистах книги, - объявил Томас Манн, - нужно пустить под нож - они запятнаны "стыдом и кровью".
- С ваших и начнем, - запальчиво ответили немцы, отказавшие в праве учить себя тем, кто не перенес фашизма на собственной шкуре.
Не только романы лучшего немецкого прозаика, вся эмигрантская литература вновь осталась без читателей, обвинивших изгнанников в ангажированности.
- Политика, - говорили им, - отравила ваши чернила, от ненависти окоченел язык.
Эмиграция состарила живших в изгнании писателей сразу на несколько поколений, превратив их из современников в классиков. Со всеми вытекающими из этого факта неприятностями: их язык стал казаться сухим и сложным, трезвым и холодным, ироничным и чужим.
К тому же за годы разлуки германская словесность заговорила на своем и тоже хорошем языке. После войны немцы понимали Генриха Белля лучше, чем Томаса Манна. Поэтому самый знаменитый, но отнюдь не самый любимый писатель Германии умер на ничьей земле - в Цюрихе.
"Домой, - писал даже не покидавший родину американский романист Томас Вулф, - возврата нет".
Раньше других это понял Стефан Цвейг, безбедно живший во время войны в Бразилии. Он покончил с собой в 42-м, не дождавшись, пока выйдет в свет его последняя книга - "Вчерашний мир".
- Это нам, - сказал другой изгнанник, - за то, что Бога забыли.
- Талибы вспомнили, - ответил наш общий знакомый Пахомов, не отрицая, впрочем, мужества вернувшегося в Россию Солженицына.
От того, что писатель изменился меньше своей родины, их первая встреча отдавала аттракционом. Уехав на Запад, Солженицын вернулся с Востока, вместе с солнцем, по пути, как оно, выслушивая жалобы и претензии. Так началась бодрая осень патриарха, живущего, как все мы, в той параллельной реальности, где ничего не меняется.
- Мало того, что Земля круглая, - поделился со мной Пахомов недавно приобретенными знаниями, - она еще вертится, и только мы стоим на месте, потому что нам не с кем идти в ногу.
27.04.2007
Карассы, дюпрассы, гранфаллоны
Памяти Воннегута
Мои сверстники вряд ли удивятся, если я сравню Воннегута с "Битлз". Мы находили у них много общего - свежесть чувств, интенсивность эмоций, напор переживания, духовный голод, а главное - анархический порыв со смутным адресом. Можно было бы сказать и проще: свободу. Как ей и положено, она не обладала содержанием, только - формой. Ею-то, свободной от потуг дубоватого реализма, Воннегут нас и взял, когда стал фактом русской литературы. В ее еще не написанном учебнике он станет рядом с другими иностранцами, экспро-приированными отечественной словесностью, - между Хемингуэем и Борхесом.
В отличие от американцев, прославивших Воннегута за его антивоенную "Бойню №5", резонировавшую с Вьетнамской эпохой, мы влюбились в другую книгу, написанную за шесть лет до этого, - "Колыбель для кошки". На русском она вышла в 1970-м. И вот, 37 лет спустя, в день смерти ее автора, я держу в руках рассыпающуюся книжку со все еще хулиганской обложкой Селиверстова. На ней ядерный гриб, но если перевернуть - вздымленный фаллос, смерть и жизнь, причем в шахматном порядке.
Еще более знаменит перевод Райт-Ковалевой. Довлатов считал, что по-русски она пишет лучше всех. Он же приписал знакомому американцу ядовитую фразу:
- Романы Курта сильно проигрывают в оригинале.
Воннегут знал о своей русской славе и был безмерно благодарен переводчице. Он даже просил конгресс официально пригласить ее в Америку.
"Райт-Ковалева, - писал Воннегут, - сделала для взаимопонимания русского и американского народов больше, чем оба наши правительства вместе взятые".
Теперь я в этом не так уверен, как раньше. Пожалуй, в книгах Воннегута мы искали - и находили - все-таки не то, что их американские читатели. Конечно, страх перед бомбой, безумные физики, оголтелая наука - магистральный сюжет того времени. Об этом писали и Дюрренматт, и Солженицын. Но нас у Воннегута интересовало другое: опыт современной мифологии, получившийся от комического скрещения высокой научной фантастики с философией скептика и желчью сатирика.
В "Колыбели для кошки", например, Воннегут придумал Бога, который не нуждается в том, чтобы в него верили, и религию, которая сама зовет себя ложной. И все же эта пародийная теология с ее "карассами, дюпрассами и гранфаллонами" вела наружу - к свободе от взрослой лжи и державной истины.
В Америке Воннегут был апостолом контркультуры, в России в нем видели своего, вроде Венички Ерофеева. Тем более что и Воннегут умел выпить. Особенно, как говорят сплетни, когда не получил Нобелевскую премию. Я не виноват: в Нью-Йорке про него все все знают - Воннегут слишком долго был незаменимой достопримечательностью. Частый гость литературных дискуссий и телевизионных перепалок, он даже в художественных фильмах играл самого себя. Но видел я его только на экране. Однажды, правда, напал на след.
Дело было на небольшом экскурсионном судне, курсирующем по Галапагосам. В дорогу я взял одноименный роман Воннегута. Расчет оказался верным: капитан рассказал мне, что книга написана на борту.
- Правда, на сушу, - признался шкипер без сожаления, - мы с ним так ни разу и не выбрались, предпочитая экзотике хорошо снаряженный бар.
Не удивительно, что этот самый капитан оказался самым ярким персонажем в книге. Воннегут изобразил его кретином, не умеющим пользоваться компасом. Но это и не важно, потому что, как всегда у Воннегута, герои все равно погибают.
"У нас, - объясняет в романе автор, - слишком большая голова, а выживают лишь те, у кого мозг с орех".
"Такие дела", - любят повторять знаменитую фразу из "Бойни" поклонники Воннегута.
В сущности, эти грустные слова, как дзенские рефрены, ничего не значат: смиренная констатация нашей беспомощности перед сложностью жизни.
"Не делать ее хуже, чем она есть, - всеми своими книгами говорил Воннегут, - единственная задача человека на земле, но как раз с этим мы никак не справляемся".
Прожив очень долгую жизнь, Воннегут так и не смог с этим примириться. Он вел себя, как придуманный им пророк Боконон, который "где только возможно становился на космическую точку зрения".
Последнюю книгу Воннегута, сборник эссе "Человек без страны", завершает "Реквием", написанный от лица Земли, окончательно опустошенной людьми.
"Видимо, - говорит планета, - им тут не понравилось".
20.04.2007
Война за австрийское наследство
Австрию я полюбил, как Платон - Атлантиду: за то, чем она могла быть, за то, что ее нет, за то, что ее, вероятно, никогда не было
- Прототип всемирного содружества народов, - говорится в лучшем романе этой страны, - Австрия - истинная родина духа.
У Музиля эту фразу, конечно, произносит напыщенная дура, но меня-то как раз всегда интересовало, куда деваются наши благие намерения. Что становится с нереализованными идеалами? Вскрывая подноготную, история обнаруживает неприглядную изнанку в парадных декларациях. Но что происходит с лицевой стороной? На какой архивной свалке хранят разоблаченные мифы - короля-философа, благородного дикаря, сталинскую Конституцию?
Державные идиллии - утиль-сырье истории, и в этом - залог их бессмертия. Исчезнув из учебников, идеалы ждут нового назначения, чтобы воскреснуть под иной широтой и другим именем. Круговорот идей, как всякая метаморфоза, являет собой увлекательную драму, жанр которой постоянно меняют время действия и точка зрения.
В молодости мы смотрели на эту империю с ее окраины - глазами двух не знавших друг друга пражан Гашека и Кафки. Первый ее разоблачил и высмеял, второй увековечил и осмеял. (Томас Манн упорно считал Кафку юмористом.) Для одного власть была чужой, для другого - общей, но абсурдной она казалась обоим. Сами живя в вечной провинции, мы не могли удержаться от параллелей, еще не подозревая, насколько провидческими они окажутся.
В 70-миллионной стране Габсбургов действительно было нечто комическое, начиная с названия, почти столь же невнятного, как СССР. Обитатели этой империи тоже не знали, как себя называть. В том просвещенном веке, когда национальность заменяла религию, австро-венгр был такой же химерой, как сунито-католик.
Сегодня, однако, дефисная национальность мне представляется не врожденным дефектом, а вырванным у истории преимуществом, предохраняющим нас от ветреной любви к родине. Вы замечали, что, завоевав в кровавой борьбе независимость, алжирцы любят жить во Франции, индонезийцы в Голландии, индусы - в Англии, и все остальные - в Америке?
Опередив свой век, австрийцы, будучи столь же умозрительным народом, как советский или американский, сами решали, кем и когда они были. В казенном обиходе их страна обходилась пространным титулом, в частном - географическим эвфемизмом, который не означал ничего определенного. Кафка хотя бы пользовался немецким, служившим империи общим (но не универсальным) "языком удобства". Зато Бруно Шульц, писавший по-польски и живший на улице Крокодилов города Дрогобыч, был таким же австрийцем, как Рабиндранат Тагор - англичанином.
Если австрийцев, строго говоря, вообще не существовало, то, бесспорно, были австрийская музыка, кухня, литература. В совокупности они создавали этой великой, но второстепенной державе уникальную ауру, которую, как это с нею всегда бывает, невозможно не почувствовать, но нельзя и описать.
В Первую мировую, когда после Брусиловского прорыва союзная Германия объявила себя "прикованной к трупу", окончательно выяснилось, что Габсбургов никто не любил. Когда-то Австрия считалась колыбелью наций, потом - их школой, затем - университетом, наконец - тюрьмой. Не удивительно, что у нее не было патриотов: в лучшем случае она была меньшим злом, в худшем - исторической фикцией.
Вот тогда, когда, откровенно говоря, было уже поздно, Гофмансталь решил, наконец, создать национальную идею, благодаря которой его родина смогла бы осуществить тогдашнюю мечту измученного Старого Света и стать новой Америкой. В трактовке прославленного поэта эта идея ничего не говорила народам империи - она им пела, ибо была австрийской музыкой, которую, впрочем, сперва пришлось отлучить от немецкой:
- Величие без титанизма, - перечислял лучший венский либреттист, - приветливая ясность, блаженство без экстаза.
Другими словами: не опера, а оперетта.
- Австрия, - писал злой Музиль, - улыбалась, потому что у нее не осталось лицевых мышц.
Я, конечно, понимаю, что опера значительней оперетты, но уверен, что бОльшая часть человечества предпочитает быть персонажем второй, а не героем первой.
Австрию я полюбил, поняв, что сам на нее похож, когда мне, уроженцу другой исчезнувшей империи, пришлось столкнуться с общей для них национальной проблемой. Окончательно оставшись наедине с собственной судьбой, я заменил бессознательную родину ее осмысленной концепцией.
- Родину, - решил я, - не выбирают, а собирают, как это делали Габсбурги: из всего, что плохо лежит.
Ребенку родиной служит мать, мягкая, как сыра земля, взрослому - отец, суровый, как закон. Мне - язык, единственное, что я могу без обиняков назвать родным.
Английский я люблю, латыни завидую, русский знаю. Я не умею вбить гвоздя, зато умею делать вещи из языка, но только из своего. Тем, кто берет выше, все равно, на каком наречии излагать свои идеи. Тем, кто исчерпывается сюжетом, все равно, на какой язык их экранизуют. Но у меня - непереводимое ремесло, невыгодное, как всякая штучная продукция, требующая ручного труда и полной отдачи.
Делается это, например, так. Заготовка-идиома разминается до нужного именно тебе размера. В процессе обработки она теряет первоначальный, а иногда и любой другой смысл, заменяя его, если крупно повезет, тем, что Мандельштам называл "диким мясом поэзии".
И еще. Когда полируешь уже готовое изделие, главное - остановиться вовремя, преодолев соблазн функциональной краткости, которая перевозит читателя от одного абзаца к другому, надежно, как простодушный джип. Тогда уж лучше телега.
Ранний Витгенштейн утверждал, что если деталь машины не работает, она не деталь машины. Поздний в этом сомневался. Средний построил сестре дом, без всяких, мягко говоря, архитектурных излишеств. С окружающим миром этот элегантный дзот (здесь теперь болгарское посольство) говорит только пропорциями и специальными оконными шпингалетами, изобретенными для этого случая венским философом.
- Искусство, - говорил его практичный соратник Адольф Лоос, - выводит нас из себя, поэтому дом должен быть таким, чтобы нам было куда вернуться.
Устав от лишнего, Лоос написал программную статью "Орнамент и преступление".
- Одно, - говорилось в знаменитом среди зодчих манифесте, - не отличается от другого.
Но без орнамента все равно не обошлось, ибо дизайн австрийского зияния сложился в неповторимый и мгновенно узнаваемый узор венского модерна, стиль, который Музиль описал, словно нимфетку: "По-весеннему тощие формы тринадцатилетней девочки".
Аристократическая худоба этого функционализма катастрофически не идет тем, кто ее не заработал эклектикой безмерно долгой истории. Она собралась на венских бульварах, чья архитектура выглядит, как хотелось бы ленивому школьнику - все сразу, чтобы не листать страницы. Последнее завоевание старого мира, эклектика называла себя историческим стилем, который уже не творил историю, а учил ее, вроде нашего постмодернизма, только лучше.
Меня эклектика не пугает, потому что я сам такой, но дом Хундертвассера, главная достопримечательность послевоенной Вены, ставит в тупик любого. Отделавшись от назойливого в этих краях прошлого, художник заменил историческую фантазию экологической и построил сумасшедший дом веселой расцветки, где удобно жить только деревьям. У каждого из них есть право, которому мы можем лишь завидовать, - расти, как хочется. В том числе - наискосок из окна или поперек с балкона. С трудом найдя кассиршу в джунглях небольшой закусочной, я поинтересовался и ее мнением.
- Зеленая мечта идиота, - объявила она, - попробуйте каждый день поливать сто горшков.
- Ничего удивительного, - сказал мне старожил, - согласно анекдотам, в странах немецкого языка глупость распространяется не по широте (как у вас - вплоть до чукчей), а по долготе: с Севера на Юг. Жители Кельна, скажем, считаются хитрее баварцев, которые, в свою очередь, превосходят сметкой тирольцев.
- А венцы?
- Мазохисты. Мы либо читаем романы Елинек и ставим пьесы Сорокина, либо ставим пьесы Елинек и читаем романы Сорокина.
Австрию я полюбил за то, что она соединяла сразу две небезразличные мне части света.
- Азия, - говорил Меттерних, - начинается с Ландштрассе.
Поэтому страна Габсбургов считала себя евразийской державой. Как, впрочем, всякая порядочная империя - от Pax Romana до Pax Americana. В сущности, всю западную историю легко представить расширением пограничной зоны, объединяющую Европу с Азией и лежащую между двумя океанами - Атлантическим и Тихим. Как все соблазнительные гипотезы, эта не зависит от географических координат - сегодня она верна как для восточного, так и для западного полушария.
Перебравшись в последнее, я сразу обнаружил в нем австрийские реликвии. На моей окраине Манхэттена тогда еще жили венские евреи. Здесь вырос Генри Киссинджер. На нашем углу стояла мясная лавка Гарри, которого никто не видел без бабочки. Мою столетнюю соседку звали фрау Шпигель. Сквозь жидкую стенку было слышно, как она поет Шуберта, моя посуду.
- Нью-Йорк, - с далеко не заслуженным апломбом решил я, - реинкарнация Вены.
Первое впечатление оказалось и преждевременным, и верным. Нынешняя Вена - имперская столица без империи. Непомерный город для живописной страны, помещающейся на рождественской открытке. Подобная ошибка в масштабе отличает и другие города, изменившие истории: Стокгольм, Лиссабон, Петербург, но главный из них - Нью-Йорк. Ни он, ни Америка никогда не верили, что принадлежат друг другу. Жертва мезальянса между Старым и Новым Светом, Нью-Йорк так и остался столицей самого себя. Город, лишенный как генетической, так и кармической зависимости, сам выбирает, на кого стать похожим и кем быть в предыдущем рождении.
Чем дольше я здесь живу, тем чаще думаю, что австрийская утопия не умерла, а переехала в Америку. Окончательно я в этом убедился, когда к нам из Вены перебрался климтовский портрет Адели, окрещенный с присущей Нью-Йорку скромностью нашей "Моной Лизой". Самая дорогая (из тех, что продаются) картина изображает утонченную до болезненности деву с прозрачным лицом и изломанными руками. Климт видел в ней новую Венеру, а вышла старая Европа, умирающая от пресыщенности. Не зря ее худое тело укутывает шлейф прежних увлечений, убранный символами полузабытых вер и царств, - Крит, Египет, Византия, Габсбурги…
Влюбившись в эту декадентскую икону, Нью-Йорк решительно вступил на тропу войны за
06.04.2007
По пути в Венецию
Мировая история с Генисом
Первый раз я попал сюда из Рима, где начинающие эмигранты ждали визы в Америку и обживали Италию с помощью пообтершихся товарищей, устраивавших экскурсии на Юг или Север. Я выбрал последнее направление, хотя, казалось бы, недавно оттуда приехал.
Путь к Сан Марко лежал через барахолку с обманчивым названием "Американо". Русские всех национальностей торговали здесь скарбом, напоследок вырванным из империи. Хуже всего шли матрешки. Даже мы не знали, что с ними делать. Зато, как это повелось с древности, римляне ценили варяжский янтарь. И еще - ленинградский фотоаппарат "Смена", с цейссовской оптикой.
Держа в одной руке камеру, а в другой - бусы, я, приплясывая от нетерпения, торопился втюрить свой товар недоверчивым прохожим. Торговля шла вяло. Твердо по-итальянски я знал только одно слово - "Чипполино". Зато говорил на латыни:
- Exegi monumentum aere perennius.
Дальше никто не слушал. Спас меня пожилой священник, решивший, что я учился в иезуитской школе.
Вооруженный барышом в 35 тысяч лир, которые можно было обменять на ящик сомнительного бренди, десяток замороженных кур или одну Венецию, я отправился на экскурсию с автобусом себе подобных.
К путешествию я готовился долго, точнее - сколько себя помню. Поэтому сперва я не увидел ничего, кроме чужих метафор. Но когда они стали складываться в город, неисчерпаемый, словно язык, и компактный, как словарь, я понял, что мне его хватит навсегда.
Между тем пришло время обедать.
- "Флориан" или "Квадри"? - спросил опытный вожатый.
Выбор был непростым: перед каждым кафе стояло по белому роялю, и музыка звучала одна и та же - из "Крестного отца".
Как это водится у русских, за нас решили писатели. Я вспомнил, что во "Флориане" сидел Гете. Вслед за ним мы перешли площадь и, устроившись в тени колоннады, чтобы не лишать себя звуков и запахов, открыли по банке "Завтрака туриста", сопровождавшего нас от Бреста до Форума.
Примерно так я себе представлял переход Суворова через Альпы. В отличие от него, я решил сюда вернуться.
В этот раз я начал добираться к Венеции с тех ее колониальных окраин, что раньше назывались Далмацией.
На этом побережье любил отдыхать Тито - во дворце Карагеоргевича. Вышло так, что мы все трое жили в его доме, но в разных странах. Генералиссимус - в Югославии, мы с королем - в Черногории. Ее заново открыли всего за месяц до нашего визита, но марки новорожденной страны уже напечатали. Жалко, что невзрачные. Помимо них, Черногорию выделяли три непроизносимые, но, видимо, незаменимые буквы в алфавите. К сожалению, я так и не выяснил - какие, потому что об этом горячо спорили все, кого я спрашивал. Несмотря на лишние буквы, меня читали здесь не меньше, чем в Сербии, так что от раскола я ничего не проиграл, но и не выиграл. Как обычно, моих читателей можно было собрать под одной крышей. На этот раз она была XII века.
Встреча началась с дипломатических даров. Хозяева принимали меня как образованного скифа. Чтобы поразить мою и впрямь восприимчивую фантазию, в соответствии с еще живыми в этих краях византийскими традициями мне преподнесли ископаемую диковину - двуглавого орла.
- Отечественная разновидность этой державной птицы, - уверяет Татьяна Толстая, - носит на одной голове тюбетейку, а на другой - кепку.
В Черногории, однако, орла венчала корона.
- Неужели так и летает? - спросил я приветливого бургомистра.
- Только на парадах, - успокоил он меня.
Теперь на вопросы предстояло отвечать мне. Сидя в прохладной часовне, история которой была существенно длиннее американской, я купался во внимании черногорцев, путавших меня с кем-то куда более значительным, чем мне удавалось казаться.
Чтобы не растерять благодушия, публика стремилась найти общий язык, помимо славянского. Я предложил грибы, которые заметил с утра на базаре. Затем, борясь за внимание и привыкнув считаться с национальными чувствами, особенно - молодыми и ранимыми, я уверял хозяев, будто вижу разницу между ними и остальными югославами. Они в ней, впрочем, не сомневались.
- Мы, - без затей объявил мне директор музея, - выше всех в мире.
- Это потому, что не сдались туркам?
- Да, нет, просто длиннее.
- Рост был наиболее ценным, чтобы не сказать - единственным, приданым наших бедных принцесс. Они улучшали породу выродившихся монархов всей Европы. Итальянский, скажем, наследник был таким шпендриком, что его чуть не застрелили на свадьбе.
В черногорской воинственности не приходилось сомневаться - музей устилали простреленные в боях знамена.
- В Вене флагов, может, и больше, но они в них сами дырки вертели, а у нас - от турецких пуль.
Я, конечно, не спорил, тем более что директор вел себя по-европейски. В графе "национальность", поспешно введенной в анкеты юной страны, он честно написал: "Не колышет".
- А где, собственно, Черногория? - спросил я, когда мы с ним поднялись на заповедную вершину.
- От горизонта до горизонта, - показал рукой директор, - если, конечно, не смотреть на юг - там, за озером, уже Албания. Ну и равнина - не в счет. Зато горы наши. Тут уж точно ничего не растет. Бедность - лучшая крепость.
Моря отсюда видно не было, но раньше оно тоже было чужим. В древнем городе Будва пролегала граница между Турцией и Венецией. В сущности, так оно и осталось, но теперь границу между Востоком и Западом отмечали русские. Они стремительно скупали недвижимость, ибо, потеряв одну империю, торопились сколотить другую, обойдя на этот раз проклятые проливы.
- Splendid! - сказал мне местный, тыча в поросший пиниями берег.
- Да уж, красотища.
- Да нет, отель так называется. Говорят, жена Лужкова строит.
Не зная, что сказать, я извинился.
- Ничего, эти хоть не бомбят, как янки.
Я опять извинился.
- Но пляж подчистую скупили. У нас ведь можно до ноября купаться. Русским, конечно.
- Лучше моржи, чем медведи.
- Тем более что охоту запретили.
Убедившись, что в новой стране по-прежнему удобно быть русским, я отправился в Котор, расположенный в устье самого южного фьорда Европы. Закрученный, словно на бигуди, залив ввинтился в черные горы, расступившиеся у пристани. В этом углу кончалась Венецианская империя. С другой - исторической - стороны она завершилась моим нью-йоркским знакомым. Он вырос на Гранд-канале в семейном палаццо, говорил на венецианском диалекте, носил фамилию дожа и оказался мелким жуликом, утаившим часть моей зарплаты.
Проведя меня сквозь крепостную стену Котора, мой гид обвел рукой карликовую площадь и процитировал с эмфазой:
- "Вечного обилья почиет тень над мирными краями, где новый Феникс расширяет крылья". Кто это?
- НАТО?
- Если верить Гоцци, вам бы отрубили голову. Это - загадка принцессы Турандот. Вот он - венецианский Лев Адрии.
Только тут я заметил над воротами дружелюбную дворнягу с застенчивой улыбкой. Присобаченные известкой крылья указывали на геральдическое происхождение зверя, мирно воплощавшего мечту просветителей.
- Чтобы смирить природу, - сказал гид, - надо научить ее читать.
- И голосовать.
- Именно. Венецианская республика прожила тысячу лет, чего уже не скажешь об Афинах или еще об Америке. А все потому, что лев с книгой - это и есть цивилизация.
- Тогда лев в очках - культура.
- Это когда ничего другого не осталось.
"Чтобы быть счастливым, - писал состарившийся Казанова, - довольно хорошей библиотеки". Кроме мемуаров он оставил нам энциклопедию сыров и труд об удвоении куба. Однако его превзошел соотечественник, опубликовавший в Венеции бестселлер "Учение Ньютона для женщин".
- Надо быть кретином, - вежливо сказал Умберто Эко, - чтобы провести в Венеции больше двух дней. Там же нет ни одного дерева.
Спорить со знаменитостью у меня не хватило наглости еще и потому, что я уже испортил ему настроение, угостив щами. Откуда мне было знать, что, женившись на немке, писатель невзлюбил квашеную капусту?
Надо, однако, признать, что я уже сталкивался с латинским темпераментом сидя за столом, когда мы жили в Риме и собирались в Америку. Подружившись с соседом, я позвал его на гречневую кашу, контрабандой вывезенную с родины. Впервые попробовав это блюдо, итальянец схватил кастрюлю и опорожнил ее в унитаз.
- Ни одно разумное существо, - придя в себя, объяснил он, - не должно есть такую гадость.
- И он, бесспорно, прав, - выслушав меня, сказала венецианская славистка, преподававшая здешним студентам "Ночной дозор" и прочую классику. - Что касается Умберто Эко, то у нас принято бранить Венецию, как у вас - Диснейленд.
- Не вижу сходства.
- Китч, вроде венецианской люстры. Безнаказанно ее можно повесить только в Венеции.
- Ну, да. В ковбойских сапогах можно ходить только в Техасе.
- И только - Бушу.
- Но вы ж тут живете?
- Зимой. Это же не настоящий город. По вечерам горит одно окно на сто. Дворцы сдуру раскупили американцы и держат пустыми. Тут и школ почти не осталось, даже кинотеатра нет. У нас ничего не строили с XVIII века. Венеция - аппендикс истории. Как говорил Паунд - шелковые лохмотья.
- За это мы ее и любим.
- Еще бы не любить, - неожиданно быстро согласилась собеседница и указала на лавку гондольеров.
На витрине лежало все необходимое: золотые флажки со львом, канотье, тельняшки, презервативы.
- Вы же знаете, каждый гондольер - поэт, певец и сводник.
Мы не знали, но голос понизили: вокруг говорили по-русски. Что и понятно. Самая большая страна Европы, вернувшись в нее после нелепой разлуки, не может наглядеться. Особенно зимой, когда дни короче, а цены ниже.
Присматриваясь к приезжим, я сунулся за одной в магазин. Продавщица участливо, как в разговорнике, обратилась к вошедшей:
- Вы говорите по-немецки? Французски? Английски?
- Нет, - взвесив, ответила женщина по-русски.
- Вот и хорошо, я сама из Молдавии.
- Даки, - с умилением, вспомнил я любимую книгу школьных лет "История СССР с глубокой древности". - Не зря у них гостил Овидий.
Ночью выпал туман, и в лагуне отменили навигацию. До вокзала добрались на водном такси. С катера даже в самых узких каналах не видно было домов. Венеция исчезла, как женщина под одеялом. Но я знал, что она там есть, и жадно смотрел в мокрую тьму, не желая расставаться.
Не удивительно, что домой я приехал простуженный. Звоню врачу и шепотом спрашиваю:
- Доктор, как же мне работать?
- Молча.
- Но я на радио работаю.
- Well…
Послушав врача, я сел к столу, чтобы рассказать, где был, не открывая рта.
02.03.2007
Урок немецкого
"Возможно, другим евреям это покажется странным, но именно немецкую книгу я прикладываю к больному месту, как подорожник к ранке"
Знакомство началось с порога, которым книге служит - форзац. На черном развороте играл чужой праздник. Кокетливая дама машет с качелей ногой в белом чулке. Неизвестно кому учтиво кланяется статный кавалер. Бродячие музыканты в средневековых костюмах поют серенады под лютню. С неба в нас целится купидон, на тротуаре сидит торговка яблоками, обыватель с зонтиком под мышкой любуется луной, под фонарем спит пьяный. Сквозь цветущий сад просвечивает силуэт летнего дворца. Балюстрада выходит на бюргерскую улицу.
Пренебрегая всякой, а не только повествовательной логикой, белый штрих с беглой уверенностью очерчивает пойманное внутренним взором. Экономный рисунок белилами дополняют несколько оранжевых пятен. Лучшее - окно едва намеченного дома. Таким оно бывает зимой в незнакомом городе, когда кажется, что только ты в нем чужой.
Боясь спугнуть тайну, я долго сидел над открытой книгой, твердо зная, что такого не может быть нигде, а главное - никогда. Поженив эпохи, как календарь - сезоны, художник изобразил роман с историей. Хотя стили безнадежно перемешались, а фигуры возникали урывками и невпопад, изображение обладало бесспорной - подсмотренной - реальностью. Воображению немало помогал черный фон. Белая бумага заменяет свет дня, черная - в цвет ночи: тут можно что-нибудь увидеть только во сне.
- Человек спящий, - говорил философ,- и человек бодрствующий - разные люди.
Я не уверен, что они между собой знакомы. У того, что спит, слишком много преимуществ: он хоть что-то знает наверняка. Сон - отмычка гносеологии. А то наяву все - параноики.
- Жизнь моя, - причитаем мы вместе с поэтом, - иль ты приснилась мне?
Зато во сне никто не сомневается в подлинности происходящего. Удивить нас оно способно только поутру. Во сне, как в окопах, нет агностиков. Что покажут, в то и верим: сплю - значит, существую.
И еще как! Сны не бывают скучными, если их не пересказывать. Но как раз от этого художника трудно удержать. Рано или поздно он норовит подменить портрет действительности ее дремой, как это случилось на черных форзацах, где романтическая Европа увидела себя во сне.
Книга была Гофманом, иллюстратором - Свешников.
Намного позже я узнал, что Борис Свешников почти 10 лет сидел при Сталине. Уже в Америке мне довелось увидеть его лагерные рисунки и прочесть, что о них написал Синявский:
- Существа, живущие на рисунках, снятся сами себе.
Тут сюжеты были другими - зона, конвой, зэки, один уже повесился. Но манера та же: "фантазии в стиле Калло". Мелкие фигурки, замысловатый рисунок, анахронизм, гротеск, вид сверху, точнее - ниоткуда. И вместо щедрой тьмы ночи слепящая белизна снега. Опять Синявский:
- Его рисунки положены на партитуру истории, графика ведь все равняет - белым полем.
Такими, наверное, и должны быть сны наяву - дневные кошмары. Поразительно другое: волшебство осталось. Насытив лагерный пейзаж чужой, не пережитой им историей, художник вывел свой опыт из зоны страдания, снабдив жизнь сюрреальной изнанкой.
В темном процессе изготовления шедевра обратная сторона служит проявителем сна, закрепителем фантазии и смягчителем реальности. Рабски следуя покрою, изнанка радикально отличается материалом: снаружи - дерюга, внутри - волшебный шелк. Не замахиваясь на внешний облик, она прячет нас от него - будучи ближе к телу.
Искусство проверяет себя в кризисе. Особенно в лагере, где оно конспиративно золотится на подкладке ватника. Написавший свои лучшие книги в письмах на волю, Синявский выше всего ценил спасительную потенцию вымысла. Этого писателя зэки уважали за артистичность натуры. Чтобы он не делил со всеми общую скамью на киносеансах в лагерном клубе, они сколотили для Синявского персональную табуретку.
- Ты - царь, - сказал поэт, - сиди один.
Возможно, другим евреям это покажется странным, но именно немецкую книгу я прикладываю к больному месту, как подорожник к ранке. Германские авторы чаще других учили меня тому, как примириться с жизнью.
Дело в том, что отвращение к окружающему, как и вера в его монопольную власть над душой, - бесплодные эмоции. Но достаточно намека на спрятанную под штукатуркой параллельную вселенную, чтобы судьба стала терпимой, а книга - убежищем. По-моему, это и имела в виду самая богатая - немецкая - ветвь романтизма, чьими плодами я пользуюсь добрых полвека, если считать с братьев Гримм.
Сегодня, однако, в обильном вымыслом сюжете меня интересует лишь то, что он существует. Главное - не перипетии магических превращений, а их возможность. Сказка декларирует: то, что есть, не все, что есть. Примерно это же я вынес из идеалистической философии, не забывшей присовокупить неожиданный совет:
- Счастье, - заодно со всем остальным учил Гегель, - составляют жена и служба.
Конечно, из романтических фантазий можно сделать и другие выводы.
- Под Сталинградом, - написал во время войны британский журналист, - левое гегельянство сражалось с правым.
Но если романтизм, как не без оснований утверждают историки, ведет к фашизму всякого толка, то тем больше оснований любить немецкий дух молодым и практически беспомощным.
- Кант, - говорил бургомистр Кенигсберга, - не мог бы управлять и курятником.
Зато его земляк Гофман с выгодой для себя сменил карьеру музыканта на службу чиновника - превосходного, но не безобидного. Работая в канцелярии тогда еще прусской Варшавы, Гофман выполнял предписание начальства, повелевшего раздать всем местным евреям фамилии. В хороший день от него выходили Апфельбаумы, в плохой - Каценеленбогены.
Жизнь Гофмана пришлась на лучшие годы в немецкой культуре, которые вовсе не совпадали с периодом исторического величия и военной мощи. Напротив, тевтонский гений чахнет от побед и возрождается от поражений. Так было с Веймаром - и с тем, в котором жил Гете, и в том, где возникла республика.
Третий Веймар мне довелось увидеть не вовремя - то ли поздно, то ли рано. ГДР была уже бывшей, но в ней еще ничего не успело измениться. Упраздненную границу можно было увидеть невооруженным глазом. Особенно в Берлине, где я гостил у дальновидного историка, за бесценок купившего квартиру на улице, упиравшейся в исчезнувшую, как он и предсказывал, Стену. По ее западную сторону безалаберно жили турки, за восточной начиналась бледная немочь социалистической архитектуры.
Впервые попав на Восток с Запада, я отправился в город, всех жителей которого я знал из Эккермана. Как все индустриальные монстры, Веймар начинался задолго до того, как хотелось бы. Уродливая незрелость рабочих кварталов казалась издевательской бестактностью в центре ветхой Европы. Новостройки ведь не стареют, а разрушаются, как мертвые дети. Зато центральная площадь с гостиницей "Белый слон" не позволила себе измениться, потому что на ней стоял дом Гете. Меня всегда волновал географический адрес эстетической утопии, доказывающий возможность ее воплощения. Но мне еще не приходилось встречать такую скромную обитель для столь глобальных амбиций. Веймар всегда был маленьким, но не случайно именно из захолустья открывался вид на изобретенную Гете "мировую литературу": отсюда, в общем-то, и смотреть больше не на что.
- Провинция - думаю я, разделяя наши с ней закоренелые убеждения, - рождает самоучек, мечтателей и космополитов. Чаще столичного жителя провинциал мечтает стать гражданином мира, надеясь, что чужая культура компенсирует ему дефицит своей.
Самые витиеватые письма от своих слушателей я получаю из мест, которые не могу найти на карте. На днях одно такое послание пришло из казахской деревни: "Трудно согласиться, - писал корреспондент, - с вашей трактовкой Витгенштейна…".
Не Борат.
Немецкий (как, впрочем, и любой другой) золотой век мог бы уложиться в одну человеческую жизнь - вряд ли счастливую, точно, что не спокойную. В разгар наполеоновских войн Гофман пробирался по Берлину мимо телег с трупами, чтобы дирижировать "Волшебной флейтой". Ему помогал Моцарт, другим - Кант.
"Дела мои идут не хуже, чем раньше, - в августе 14-го писал с фронта немецкий студент философии. - Хотя из-за грохота 24 орудий у меня чуть не лопнули барабанные перепонки, я и сейчас полагаю, что важнее всей мировой войны третья антиномия Канта".
Ее составляет противоречие между рабством природы и свободой духа. Справиться с этой антиномией нельзя, но очень хочется, ибо иначе нам не добиться независимости второго от первой. И ведь действительно нет задачи важнее в жизни философа.
- Его удел, - говорят скептики, - жить в хижине, примостившейся к возведенному им воздушному замку.
На мой взгляд, это - преимущество, ибо безопасным может быть только тот храм, который нельзя построить. Собственно, вся культура состоит из воздуха - мираж, за которым, однако, можно спрятаться. И уж тут немецкая культура - пример остальным. Ей так не повезло с поклонниками, что она научилась стойко отстаивать свою независимость от выходок истории. В результате ее не скомпрометировали трагические катаклизмы. Во всяком случае - в моих глазах. Хотя Вуди Аллена я тоже люблю. Помните, как он себя спрашивал:
- Кем бы я был тогда в Германии? Абажуром.
Но это ничего не меняет. За историю нельзя расплачиваться культурой. Если сын не отвечает за отца, то и отец за сына, хотя бы - взрослого. Поэтому я не слишком удивился, узнав из тюремных дневников Шпеера, что разделяю любовь Гитлера к маленьким городам с фахверковыми домами, оставляющими балки нагими. На открытках эта конструкция лучится добродушием, как буржуй в подтяжках, снявший пиджак после обеда.
В таком доме жил Гофман. Мне он сразу понравился, потому что очень похожий стоял у нас с XVI века в переулке Живописцев. Друзья занимали в нем квартиру с покатым полом и косыми дверьми. Одну комнату, в которой все равно не закрывалось окно, отвели под бочку с брагой. Во вторую я затащил по средневековой лестнице холодильник "Саратов". За его белой дверцей хозяева хранили писчую бумагу и пивные дрожжи - с продуктами были перебои.
Может быть, поэтому Гофмана больше любят в России, чем на родине. Немцы в нем ценят сказку, мы еще и быль. Это - тоска по устоявшемуся осмысленному быту, освещенному бесконечной историей и вечной музыкой.
Приобщение к немецкому уюту бывает пронзительным, как просветление. Со мной такое случилось в Мюнхене. Лежа на той бесценной перине из пуха серых гусей, что позволяла хозяину скромного отеля экономить на отоплении, я смотрел на белесое небо, укрытое тюлевой фатой занавески. Сквозь форточку вползал запах воскресного - свежесмолотого - кофе. По булыжникам к Старому рынку шлепали хозяйки с корзинами. На башне причудливо били городские часы. Важно, конечно, что была зима, когда время никуда не торопится. Наверное, поэтому в одном мгновении, будто пинцетом вынутом из вечности, сконцентрировалась такая блаженная безмятежность, которую только безнадежный атеист мог бы назвать пошлой.
Я всегда с удивлением читал про то, что Гофман высмеивал филистерские будни. По-моему, он их еще и воспевал. Его вышедшим за грани правдоподобия героям всегда было куда вернуться. У Достоевского истина способна раздавить героя, подбивая его убить себя или товарища. Романтикам проще. Когда персонажу из комедии Тика надоела его роль, он кончает с собой, уходя со сцены в партер.
Хитрость германского романтизма в том, что он вырос дома. Его нерв был укутан бытом. Магическая реальность служила продолжением обыкновенной. Простые вещи оказывались сложными, знакомое - непонятным, мертвое - живым. Сила германской музы в прищуре, открывающем читательскому взору иное измерение не отходя от кассы. Минимальный сдвиг создает убежище, подвигая банальное к метаморфозе.
Дороже всего мне те авторы, кто во всем обнаруживает тайную энергию роста, спрятанную от посторонних жизненную силу вещи, прикидывающейся трупом.
Как-то в тропическом аэропорту я купил запаянную в полиэтилен палку, которая, обещала инструкция, вырастет в пальму, если ее опустить в воду. Посмеявшись над собственной наивностью, я все-таки сунул в стакан мертвую деревяшку, чтобы на следующий день обнаружить у нее белые хвостики. К лету пальма, уже захватив спальню, так рвалась наружу, что ее пришлось расчленить специально купленной пилой. С тех пор я с надеждой смотрю на всякую чурку.
Очень долго я жил в живописном углу, образованном двумя культурами, бесцеремонно игнорирующими третью, ту, что случилась на окраине посторонних ей миров - славянского и немецкого. Наша столица была глухой провинцией, и этим она еще больше походила на классическую, то есть - раздробленную - Германию. "Русскими" в Риге были мы, "немецким" - окрестности. Ревнуя к чужой и длинной истории, советская власть справлялась с городской стариной испытанным способом: не снести, так замазать.
Попав недавно в Таллин, я обедал с краеведом в лучшем ресторане города - только из его окна открывался вид на всю кафедральную площадь.
- А знаете, - спросил меня собутыльник, дождавшись десерта, - что здесь было раньше?
- Райком? - прикинул я на себя.
- Ремонт обуви.
Что говорить, я сам работал на самой узкой улочке Риги. Когда-то здесь располагались мастерские оружейников, но моя контора называлась комитетом по госнадзору, правда, всего лишь - за измерительными приборами.
Власть прятала красивое, как школа - литературу: не запрещая, а смешивая - высокое с глупым и ценное с никаким. От тевтонского средневековья Риге оставили ровно столько, чтобы хватило на съемки фильма про Штирлица.
Красивое, однако, как выяснили маловеры, можно срыть, скрыть, но не уничтожить. Поэтому любимым зрелищным спортом всей новой Европы стала регенерация истории, которая, как ящерица - хвост, восстанавливает все, что того стоит.
Только сегодня мой город оказался таким, каким я его представлял, сочиняя себе мировоззрение. Тогда, в еще детской погоне за сверхъестественным, я придумал себе религию. Не в силах поверить в одного Бога, я разменял Его на мириады идолов. Как всякий политеизм, мою веру определяла терпимость, ведущая к экспансии. Я всегда был готов присоединить новых кумиров, не забывая кадить старым. Толерантность, которую легко назвать обратной стороной всеядности, не давала скучать. Я даже бросил преферанс, отвлекающий от культа.
Его центральная и вовсе не новая доктрина зиждилась на компромиссе между небом и землей: божественным я решил считать культуру. Пользоваться ею совсем не то же самое, что поклоняться. Меня охватывала радость от самого присутствия в нашей жизни того необязательного, что оказывается нотой, мыслью, словом, но не делом.
Решающее преимущество моей веры заключалось в том, что она исключала сомнения в существовании потусторонней - нематериальной - реальности. Чтобы убедиться в этом, не надо было верить на слово, крутить столики или ждать смерти, хватало библиотеки или концерта. В остальном моя религия не слишком отличалась от других.
Правда, вместо вечной жизни она обещала сомнительную посмертную славу, надежда на которую грела меньше, а доставалась труднее. Зато не хуже конкурентов моя вера справлялась с посюсторонней задачей религии - наполнять наши будни восторгом и трепетом.
Сфера ее действия была необъятной, но обозримой. Она учила почитать святых и искать у них защиты. Она служила всем, кто ее принимал, и оставалась мертвой буквой для двоечников. И в ней точно не было ничего естественного - начиная с рифмы и кончая оперой.
Конечно, я не надеялся постичь предмет своего поклонения, да и не стремился к этому. Мне нравилось составлять мысленный ландшафт из нагло выбранных фрагментов, которые лепились друг к другу, подчиняясь тем правилам избирательного сродства, что коренились в нашем с историей подсознании. Понятно, что "Игра в бисер" была моей настольной книгой, пока я не сообразил, что под видом магистров Игры Гессе вывел своих - слишком много знающих немецких писателей.
Это навело меня на очевидную мысль: поклоняясь культуре, я творил себе кумира из конечного и смертного, но я и тут не раскаялся, решив, что на мой век хватит. Я верил в культуру, как верят в любовь, зная, что она не бывает вечной.
Догадываясь, что в чужих глазах твои боги кажутся раскрашенными идолами, я отправлял свой культ в одиночку и тихо. Но однажды, чтобы приобщиться соборности, которой хвалятся другие религии, я заперся от кота в ванной, залез, чтобы не мешало земное притяжение, в воду, включил девятую симфонию и, подвывая хору этой единственной, как сказал Ницше, мистерии нашего времени, фальшиво и искренне стал выводить слова полупонятного гимна:
Freu-de, scho-ner Gotter-funken
To-chter aus Ely-sium.
ЗИМОЙ В ГОРАХ
- Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
- Китайцем.
- Тогда не спрашивай о Дао, пока не будет седины.
Дождавшись ее, я решил учиться на китайца, но не нашел - у кого. Знатоков отталкивал мой азарт неофита. Слишком хорошо зная свой предмет, чтобы любить его, они презирают дилетантов, не разделяя их молодое чувство.
- Восток, - сурово объясняли они мне, - еще хуже Запада.
Но мне хватало того, что он был другим, ибо я всегда был падок на экзотику, потому что считал ее ключом к неведомому.
- Скорее - отмычкой, - говорят эстеты, отводящие экзотике низшую (мальчишескую) ступень в эволюции культуры.
Так, презирающий всякую этнографию Набоков ненавидел фольклорное искусство, как оперный дирижер - колхозную самодеятельность.
- Я не могу себе представить ничего страшнее Гоголя, - напрасно пугал он читателя, - без конца сочиняющего малороссийские повести.
Вынужденный стать гражданином мира Набоков поднимался над национальными различиями, считая художников всех стран в одинаковой степени разными. Видовую принадлежность он прощал бабочкам, но не писателям.
- На послевоенном курсе в Корнеле, - рассказывал мне его бывший студент, - Набоков охотнее всех обижал тех, кто надеялся найти у Льва Толстого объяснение победам Красной армии. «Может, Вам лучше жениться?» - спрашивал он их на экзамене.
Истребляя туземную локальность у любимых авторов и добавляя ее ненавистным, Набоков тайно вел превентивную войну за надежное место в мировой, а не в русской литературе. В этой идиосинкразии чувствуется вечный страх эмигранта, который выделяется именно тем, что боится выделиться.
Господи, как это понятно! Разве я не приходил в бешенство, когда слышал о себе «певец Брайтон-Бич»? Каждый автор хочет запомниться своей формой, а не чужим содержанием.
Однако, приспособив этот благородный тезис к себе, я не спешу поделиться им с другими и всегда ищу в стране, книге, блюде или зрелище невольный - и потому бесценный - отпечаток экзотического мышления и постороннего опыта. Возможно, виной тому пионерский позитивизм, в котором нас бездумно воспитывали взрослые.
Мое детство пришлось на викторианский период советской власти, когда она в самонадеянной простоте еще верила в себя, прогресс и окружающее. Все тайны тогда казались секретами, которые стерег КГБ и раскрывал Солженицын. В том непрозрачном, но отчетливом мире непознаваемое считалось всего лишь непознанным, вроде Человека-Амфибии.
Эта оптимистическая посылка обрушилась, как переполненная книгами этажерка, когда меня осенила оскорбительно простая мысль:
- Ничего нельзя придумать, - догадался я, - ибо новому просто неоткуда взяться. Фантазия, как сон, всего лишь - ночная комбинация дневных впечатлений.
Разочаровавшись в фантастическом будущем, я принялся искать чуда в прошлом. Назначив историю метафизикой, я сделал ее своей религией. Веря в древность, я охочусь за ее пережитками, которые, собственно говоря, и являются экзотикой. Конкретная, штучная, нерастворенная в смутном потоке времени, она демонстрирует нам альтернативу, освобождая из плена реальности. Мир может быть другим, потому что он уже был другим, и ты можешь меняться вместе с ним, выбрав себе историю по вкусу, возрасту, времени дня или года. Стать китайцем, например, меня подбила интимная география: живя на востоке, я мечтал о Западе, живя на западе - о Востоке.
Судьба долго отказывала мне в этом удовольствии. Пожилой китаец, выловленный в нью-йоркском Чайнатауне, учился в Москве и видел Хрущева. Шанхайская поэтесса с лаконичным именем Эр, которую мне удалось залучить на обед, оказалась в прошлой жизни пионеркой, а в новой - программисткой. По воскресеньям она переводила Ахмадулину по английскому подстрочнику.
В Китае было не лучше. Попав туда на заре их перестройки, я не нашел для себя ничего особо нового.
- Солзеницына читаем, - тихо сказал мне ученый славист с непечатной по-русски, но тем не менее напечатанной на визитной карточке фамилией.
Он же познакомил меня с молодежным писателем, который жаждал правды и находил ее у Гладилина с Хемингуэем. В его популярном романе стиляги разбавляли джин квасом, прожигая жизнь в пекинском ресторане «Красная площадь». Советское посольство, как Второй Запретный город, занимало огромный квартал, но свет горел в считанных окнах. Телевизор в отеле уже показывал рекламу, но еще про турбины. В кино уже шли красивые фильмы о мелкой частной собственности, но в финале еще побеждал социализм. У мавзолея еще выстраивался длинный хвост, но иностранцев уже пускали без очереди.
Покойник с бабьим лицом лежал в светлой бетонной беседке, из которой открывался вид на неоновую рекламу жареных цыплят полковника Сандерса. На просторных, как Садовое кольцо, проспектах шуршали шины восьми миллионов велосипедов. Машин я видел две и катался на обеих. В национальном музее не было картин - Чан Кай-Ши увез их на Тайвань. Вместо бесценной восточной живописи редким туристам показывали западные часы с хитроумным боем. Императрица Цы Си любила игрушки и велела построить крейсер из мрамора в натуральную величину. Осмотрев ее потемкинский флот и почувствовав себя обманутым, я уже в одиночку отправился на поиски Китая и нашел его, как говорится, на столичных задворках, которые, собственно, ими и были.
Начиненные соседями проходные дворы хутонгов напоминали наши коммунальные квартиры, у которых сняли переднюю стену. Распахнутая жизнь - с котлами, кроватью и швейной машинкой - ничуть не стеснялась своей наготы. Но это я тоже видел - в театре, «На дне». Как, впрочем, и то, что пришло на смену, когда в Пекине снесли хутонги, а Шанхай вышел по небоскребам на первое место. С тех пор, как Китай больше походит на мою «новую» родину, чем на старую, я не вижу смысла туда ездить. Тем более, что и не очень-то ждут, как это выяснилось на конференции в Саппоро, где я привычно распинался в любви к Востоку.
- Восток - это Чечня, и мы знаем, что вы с ней делаете, - закричал на меня темпераментный японский студент, принимая за другого.
Надо признать, что дома было не лучше. БОльшая часть моих знакомых видит в увлечении Востоком заразную болезнь духа и модную маету нечистоплотной души.
- Рерихнутые, - говорят они о таких, бесцеремонно сваливая лам, бонз и «Кама-сутру» в болото нью-эйджа.
Это мне понятно. В Нью-Йорке глиняных Будд не меньше, чем гипсовых мадонн. Восток стал запасным амулетом Запада, исчерпавшим собственные спиритуальные резервы. Агностику проще войти в чужой храм, чем в тот, что он оставил.
- Я - буддист, - говорил Ален Гинсберг, - потому, что я - еврей.
Это мне тоже понятно. Я и сам такой - в дальней перспективе. Но пока - в этом рождении - с меня хватит Китая. Он - мой компромисс с абсолютом.
Отчаявшись найти учителей и союзников, я решил обойтись без внешней действительности.
- У Пелевина была «внутренняя Монголия», - заносчиво объявил я, - у меня будет частный Китай: не страна, а состояние духа.
Взявшись создать себе Китай по месту жительства из подручного материала, я сперва купил пижаму в драконах, потом шелковый жакет с белыми отворотами, как у Сунь Ят-Сена, затем палочки для курений и восхитительно шершавую рисовую бумагу. Освоившись с приобретенным настолько, чтобы не чувствовать себя идиотом, я натер в бледное блюдце черную плитку туши и взялся за кисть с обманчиво твердым концом. Имея дело с гигантской страной, населенной разными, часто непохожими друг на друга народами, традиция считала китайцами всех, кто знает иероглифы. С них, естественно, я и решил начать.
Держа кисть, словно змею за хвост, я провел робкую линию, тут же по-хамски расплывшуюся на хищной бумаге. Китайское чистописание не прощает промедления. Это как дрова рубить: думать надо было раньше. Испортив весь альбом, я сумел нарисовать сносную точку. От нашей ее отличал характер. Профилем точка походила на головастика - в ней была голова, хвост и стремление.
Справившись с первым из 24 элементов, необходимых для написания упрощенных иероглифов, я перевел дух на теории:
- «Горизонтальные черты, - писал классик, - выгнуты, как рыбья чешуя, вертикальные прогибаются, как поводья».
- Это значит, - перевел я себе, слабо разбираясь в конской сбруе, - что китайское письмо не терпит прямого.
Тушь оживает, когда кисть, направляясь в сторону, противоположную нужной, ударяет с разбегу, оставляя на бумаге след взрыва. Это - корень черты, ее свернувшаяся в клубок энергия. Иссякая, она ставит предел движению руки, но не раньше, чем сила замаха исчерпает себя до конца. Прощаясь с бумагой, кисть танцует с бытием, продлевая переход из нечто в ничто.
Удачный иероглиф требует участия каждой мышцы. Поэтому, как показывают нам китайские боевики, понаторевший в письме ученый может увернуться от стрелы и убить соперника беглым движением пальца. Я, конечно, не рассчитывал стать мастером, мне хотелось узнать его при встрече.
Изведя бумагу с целого рисового поля, я понял одно. Чтобы подделать работу китайского писца, надо стать таким, как он. Словно непроизвольный жест, вырвавшийся возглас или получившееся стихотворение, каллиграфия передает всего человека, а не его вменяемую часть.
Полностью выразить себя на бумаге, пожалуй, надежнее, чем оставить потомство, и вряд ли проще. Но о том и другом можно узнать, лишь попробовав. Не доверяя умозрительным навыкам, я учусь, чтобы нащупать границы своей пригодности и описать все, что находится по ту сторону. Говорить можно только о том, чего сам не умеешь. Попробуйте объяснить, как мы ходим, футбол - дело другое.
Понятно, что первого иероглифа мне хватило надолго. Напоминая нашу «Ф», он изображал Китай со всей доступной пиктограмме наглядностью. Квадратную землю пересекала черта, указывающая центральное место Поднебесной империи. За ее пределами люди становились животными. Одни теряли речь, другие не умели спать, третьи - просыпаться.
Космогонией китайские мифы не интересовались. Мир вечен, он был всегда, поэтому у него нет естественной истории - только наша, человеческая, точнее - китайская, ибо варвары не в счет.
Китай резко континентальная страна, как Россия. Но в отличие от нее он, владея морями, к ним не стремился. Конфуций упоминает море однажды, угрожая в случае провала своего педагогического проекта сесть на плот и отправиться в безвозвратное плавание. Другими словами, море - не стихия свободы, а приют отчаяния. И в стихах море почти никогда не вспоминают. Зато реки текут по всей классической поэзии.
Проведя у моря первую половину жизни, во второй, чтобы было, с чем сравнивать, я перебрался к Гудзону. Если глядеть на него с прибрежных утесов, то даже в штиль гладь реки покрывают необъяснимые узоры. Не добившись разгадки, я решил считать их иероглифами природы, которая на поверхности вод чертит стихи для своего, а не нашего удовольствия. Подражая ей, Хан Шань, любимый поэт американских битников, писал стихи на скале и посвящал их ветру.
- Мудрые, - говорил Конфуций, - наслаждаются водой, благородные горами.
Их союз порождает совершенного человека и исчерпывает китайский пейзаж. Величие этого искусства в том, что на тысячу лет непревзойденной живописи хватило одного сюжета. К истине ничего нельзя добавить, не исказив ее.
Пределом фантазии китайский художник считал камни небывалой формы.
- Демонов, - говорил он же, - рисовать легче всего: их никто не видел.
Разнообразие претило их эстетике, как нам - рюшки на гардинах. Минимум больше максимума, потому что он включает все, вычитая лишнее: ночью все кошки серы. Как монохромная живопись, которая заменяет палитру черно-белой игрой кисти с пустотой.
Когда одного чудака спросили, почему он нарисовал бамбук красной тушью, он удивился:
- А какого же, по-вашему, цвета бамбук?
- Конечно - черного.
Чтобы так писать, надо забыть все, чему я учился. Пастернак считал стихи губкой мира, Бродский - ускорителем мысли, Хармс - вещью из языка, которой можно разбить окно. Но, чтобы полюбить китайцев, нужно ценить пресную кухню. Их стих невзрачен. Их слог вторичен. Их афоризм цвета воды. Их словесность бедна, банальна, бессвязна. Но лишь потому, что она сразу темна и прозрачна. Доверяя читателю больше, чем словам, китайцы даже не потрудились изобрести пунктуацию. Оставшись без синтаксиса, мы сами должны связать мысли мудреца, который предпочитает системе самые простые и потому бездонные примеры.
Читать такое почти то же самое, что писать. Поэтому чаще, чем Библию, переводят книгу Лао-цзы, перекладывая его, кто как на душу положит. Одни - для других, я - для себя:
Тот, кто стоит на цыпочках,
Нетвердо держится на ногах.
Тот, кто блещет,
Приглушает свой собственный свет.
Тот, кто ищет себе определения,
Не узнает, кто он.
Тот, кто цепляется за свою работу,
Не создаст ничего долговечного.
Если ты хочешь быть в согласии с Дао,
Сделай свое дело и иди.
- Китайцы, - пишет исследователь их древностей, - чрезвычайно высоко ценили попугаев, потому что видели в них полезный урок: слишком умную - говорящую! - птицу первой сажают в клетку.
- Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
- Китайцем.
Но теперь, когда и седых-то волос осталось немного, цель моя все еще смутна, как горы в снегопад. И все же в каждую новогоднюю ночь, когда все бросают пить, курить и есть сладкое, я обещаю сделать новый шаг в прежнем направлении. Для радикальных решений эта пора кажется самой подходящей, потому что Новый год - допотопное исключение.
Дело в том, что обычным сырьем наших праздников служит история. Наш календарь - сплошные крестины. Отмечая дни рождения стран, богов и кумиров, мы возвращаемся к неповторенному мгновению. Но в природе все повторимо, и Новый год не дает нам об этом забыть.
Этот праздник пришел к нам из другого - циклического - времени. Произвольно выделив из бесспорно круглого года одну ночь, мы, назначив ее новогодней, создали обряд и украсили его литургией - конфетти и куранты, оливье и шампанское. Попав в календарь, природа, не изменив себе, превратилась в культуру. А культура - всегда ритуал, превращающий вещи в символы, пространство - в зону, время - в праздник. Повторение создает смысл, и прошлое становится настоящим, продлевая историю в вечность. Без ритуала мы не можем ни поцеловаться, ни чокнуться, ни выпить.
Я видел, как японцев учили рукопожатию. Они трясли чужую ладонь с тем же нелепым усердием, с которым мы у них без разбору кланяемся, не догадываясь, что спектр наклонов иерархичен, как статус волков в стае. Ритуал трудно зачать, но легко умертвить. Он умирает, как первомайская демонстрация - когда его начинают рассматривать. Сила ритуала - в бессознательном импульсе. Лишь заменив инстинкт, он становится непреодолимым. Поэтому нам проще убить человека, чем не дать ему на чай.
- Нет ничего важнее невидимого и незаметного, - говорил Толстой, пересказывая крестьянским детям Конфуция.
Собственно, к этому сводилось учение обоих, обещавших улучшить нашу породу и обрадовать ее. По Конфуцию благородный всегда счастлив, низкий - всегда удручен. Чтобы изменить человека, нужно срастить в нем природу с культурой.
Я верю в этот проект с тех пор, как научился читать, особенно - китайцев. Их история и впрямь не лучше нашей, но меня в ней волнуют лишь те ритуалы, которым стоит подражать. Поэтому я часто ухожу в горы, даже зимой. Тем более - зимой.
- Какая непередаваемая красота жить зимой в лесу, - писал Пастернак, - когда есть дрова.
В мороз природа не дает себя забыть, как это с ней случается в нежаркие летние сумерки. Зимой ты нутром ощущаешь свою уязвимость: угроза лишена лица, как старость.
И горы зимой охотнее демонстрируют свое черно-белое устройство. Непостижимо сложное, оно все-таки есть. Ты чувствуешь внутреннюю логику скалы и распадка. Камни громоздятся, подчиняясь правилу, исключающему, как закон всемирного притяжения, исключения. Этот непоколебимый порядок китайцы называли «ли». Он - внутренняя организация вещей, которую нам не дано постичь, но мы все равно стараемся, ибо культура всему учится у природы, чтобы стать ее частью.
Чуть-чуть не добравшись до вершины (из уважения к ней), я усаживаюсь лицом к Гудзону. Отсюда не видно ни труб, ни заводов, только - горы и реки. Природа одолжила пейзаж, завершить его - наша задача. Трудясь над ней, я однажды так долго сидел зажмурясь, что из кристального воздуха материализовался запах сухого помета, которым топили фанзы в безлесном Китае.
25.12.2006
ТАНГО С ГОВЯДИНОЙ
Глава из книги кулинарных путешествий «Колобок»
В Бразилии, как и в России, Новый год - любимый праздник. Но отмечают его совсем иначе. В ночь на первое января празднуют день рождения Иеманьи - главной богини того африканского культа, что мы знаем под именем Вуду, а бразильцы зовут Макумбой. Иеманья - богиня воды. Когда рабов привозили в Бразилию, большая часть погибла в пути. Те, кто добрались живыми, воздали благодарность морской богине за это чудо. С тех пор новогоднюю ночь принято проводить на побережье, принося жертвенные дары богине-спасительнице. В праздник на лучших пляжах Рио - Копакабане, Ипанеме, Леблоне - собираются полтора миллиона человек, чтобы выполнить языческий ритуал очищения и получить благословение африканской богини на следующий год.
С приближением полуночи на пляже начинаются приготовления. На песке чертятся магические диаграммы. Каждому богу соответствует свой рисунок. Так, атрибуты речной богини Йанса - стрелы. Прародительницу богов Помбагиру сопровождают крест и звезды. Эта диаграмма украшает решку бразильской монеты в сто крузейро. Бога-воина Огуму символизируют две скрещенные шпаги. Это память о португальских конкистадорах. В обрядах макумбы шпаги (часто проржавевшие реликвии) играют важную роль: ими закалывают двуногую жертву - курицу или голубя. Когда диаграммы готовы, в небольших ямках у самого моря готовят жертвы богине Иеманье - дары, приятные каждой женщине: духи и косметику. Весь берег усыпан желтыми розами.
К одиннадцати часам улицы полностью пустеют. Все живое в городе перемещается к пляжу, где происходит самое важное таинство праздника: общение с богами. Мне повезло занять место в первом ряду - прямо у веревки, которая ограждает большие круглые площадки. В центре круга стоит сама мать богов - черная, сморщенная от старости женщина в белом тюрбане. В губах у нее дымится толстая черная сигара. По знаку матери богов барабанщики приступают к делу. Ритм самый простой и очень монотонный. Через веревку перешагивают люди и становятся в круг. Большинство танцоров - с черной кожей, но есть и белые, хорошо одетые, с дорогими украшениями. Минут через десять верховная жрица подает знак барабанщикам, и ритм меняется. Теперь хоровод пошел быстрее. И вдруг в центр круга выскочила молодая белая женщина. Она страшно вскрикнула и начала метаться, наступая на свечи голыми ступнями. Глаза впавшей в транс женщины широко открыты, но совершенно пусты, как у спящей. За ней из круга выбежало еще несколько людей. Некоторые, упав на песок, дергались в конвульсиях. У первой девушки на губах появилась обильная пена. Скоро на песке извивалось уже человек десять. Я сидел совсем близко к веревке, так что мог всмотреться в лица беснующихся, вглядеться в их невидящие глаза. Через полчаса мать богов вынула из складок одежды колокольчик и принялась трясти им возле упавших танцоров, отчего они переставали биться. Чуть позже некоторые встали и побрели в сторону. Один старик прошел так близко от меня, что я дотронулся до его руки. Он не остановился, сделал еще несколько шагов и устало повалился на песок.
Я встал и огляделся. Шесть миль пляжа мерцали свечами. Повсюду в освещенных кругах двигались белые фигуры и гремели барабаны. То там, то здесь пронзительно звенел колокольчик. За несколько минут до Нового года все смолкло. В ритуальной тишине на берегу выстроились полтора миллиона человек. Ровно в двенадцать ночь огласилась общим криком. Весь пляж хором считал волны. Первая… вторая… третья… Эта была огромной. В безветренной ночи она обрушилась на песок - как во время шторма. Вода разом слизнула все жертвы богине Иеманье и загасила свечи. Прямо в одежде люди бросились в море. В жуткой давке каждый торопился окунуться именно в эту - новогоднюю - волну.
Медленно и беззвучно на пляж опускалась летающая тарелка. Это было уже слишком. Но тут же выяснилось, что богиня ни при чем. Городские власти отмечают Новый год, выпуская над Рио воздушный шар, заполненный светящимся газом. Макумба кончилась. Около отеля «Шератон» зажглась пятиэтажная проволочная елка - для хвойных не те широты. На набережной появился потный Санта-Клаус в компании темнокожего Деда Мороза - Черного Питера. Откуда-то появились футболисты. И на исчерченном магическими диаграммами песке почти в полной темноте пошла азартная игра. Прямо на улицах Рио спали измученные танцоры. На прибрежном проспекте появился автобус. Постепенно город возвращался в банальный XXI век, и я отправился в соседнюю, но совсем не похожую на Бразилию Аргентину.
2
- Аргентинцы, - предупредил меня случайный попутчик еще в самолете, - это итальянцы, которые говорят по-испански и делают вид, что они англичане.
Но я и ему не поверил, потому что, помимо Борхеса, читал Жюля Верна и хотел в пампасы. Небрежно оглядев более чем европейские авениды Буэнос-Айреса, я покинул столицу, отправившись к югу верхом на милосердной лошади. Пампасы начинались за околицей и простирались до Антарктиды, но я быстро удовлетворился малой частью бескомпромиссно двумерного пейзажа, единственным украшением которого были коровы.
В виду них наши проводники устроили бивак. Подражая гаучо, которые осторожно вытащили меня из седла и уложили на землю, я отходил от езды, потягивая обжигающий чай мате через серебряную трубочку похожего на чернильницу прибора. На вкус напиток не отличался от знаменитого местного сена, которое мне, впрочем, не приходило в голову попробовать. Зато оно нравилось независимым, как их пастухи, коровам. Не зря девять из десяти лучших «стейк-хаусов» мира расположены к югу от Панамского канала.
Пикник начался мужской пляской у длинного костра и закончился танго (его поют, а не танцуют) под карликовую гармонь банделиона. В середине было главное угощение: филе бычка-трехлетки. Больше прочего поражала безукоризненно правильная, как на трапезе в свифтовской Лапуте, форма бифштекса. Кусок мяса, вырезанный из нерабочей - поясничной - части животного, представлял собой аккуратный шар размером с теннисный мяч. Зажаренное до черноты на гриле, внутри мясо алело первомайской гвоздикой. Я не большой поклонник надоедающих после третьего укуса американских стейков. Особенно меня раздражает та их массивная разновидность, что в Техасе не влезает в тарелку, а в Колорадо подается столь сырой, будто мясо, как говорят ковбои, «лишь пронесли над огнем». Однако в пампасах, где скотоводство еще не совсем отделилось от охоты, подается другая, как бы странно это ни звучало, - более мясистая говядина. Ее надо жевать долго и энергично, упиваясь соком вольного существа, прожившего свою жизнь на такой свободе, о которой нам приходится только мечтать.
3
Однако каким бы заманчивым ни был восток Латинской Америки, настоящие чудеса начинаются по другую сторону - на Тихом океане. Например, в Эквадоре, где разводят мелкие и пронзительно вкусные бананы, меня ждал гастрономический сюрприз по дороге к принадлежащим этой стране Галапагосским островам. Поскольку на необитаемом архипелаге зверей не едят, а осматривают, мы обедали на борту корабля, капитан которого всю неделю обещал нам редкое воскресное лакомство. Заинтригованные тайной и готовые ко всему, кроме каннибализма, мы сидели затаив дыхание, пока смуглые стюарды устанавливали на столе закрытый поднос. Сняв крышку, капитан наконец представил нам национальный деликатес Эквадора: Schweinshaxe mit Sauerkraut. В эмалированном корыте и правда лежали свиные ляжки с тушеной капустой, но это не так удивительно, если учесть, что нашего шкипера, как изрядную часть здешних белых, звали Мюллер.
С южной кромки континента до нас добирается более аутентичный ингредиент - самая модная сейчас рыба, которую в меню называют «чилийским басом». Ихтиологи зовут ее патагонской зубаткой, а рыботорговцы - белым золотом, хотя мне тяжелое белое мясо этой дивной рыбы скорее напоминает платину. Двухметрового хищника, обитающего в глубинах полярных вод, внешний мир открыл только 15 лет назад и с тех пор никак не может наесться. Его, мир, можно понять. Особенно если подать чилийского гостя запеченным с веточкой розмарина, которую для благоухания поджигают, как бенгальский огонь, уже на столе.
Но больше всего неожиданностей, отнюдь не только кулинарных, хранит самая необычная после Манхэттена окраина Западного полушария - Перу.
Уже в парадной, все еще имперской Лиме вас ждет севиш - молниеносно замаринованная в соке лайма сырая рыба, которая (в пику японцам) острее сашими и вкуснее суши.
За остальным нужно забраться в Анды. Куско, древняя столица инков, где до сих пор стоят их сложенные без цемента стены, расположена так высоко, что самолеты сюда летают, когда нет ветра (на рассвете), зажигалка не загорается, шариковая ручка не пишет, человек всегда хочет спать. Будит его безвкусная, но бодрящая кока, составляющая главный продукт высокогорной диеты. Европейцы заваривают коку в безобидных на вид, но нелегальных в Нью-Йорке пакетиках, индейцы жуют листья на ходу - расстояние до перевала носильщики меряют количеством сжеванного по пути.
Другая странность - маленькая фиолетовая, высушенная на морозе картошка, которая на своей родине вовсе не похожа на ту, что мы любим на нашей. За третьей надо отправиться еще дальше - на отвесный гребень забытого Богом плато, отделяющего горы от леса. Попав сюда одинокими постояльцами роскошного, но пустого отеля, мы с женой вышли перед ужином на прогулку. В дремучей тишине прямо над головой сияли театрального размера звезды, которым не приходилось конкурировать с фонарями, - электричество сюда еще придет не скоро. Когда взошла луна, оказалось, что по дороге безмолвно гуляет вся деревня. Друг другу индейцам сказать было нечего, а с нами у них не было общего языка (кечуа).
Вернувшись в работающую на генераторе гостиницу, мы заказали официанту блюдо, о котором нас предупреждали все, кто был в Перу: жаркое из морских свинок. Кишащие под ногами в каждой хижине, они вместе с ламами - единственный скот этого бедного края. Надо сказать, что распростертый на тарелке зверек неотличим от той «крысы на подносе», что выдавали за произведение искусства русские футуристы, если верить их критикам. Нам предстояло оценить это блюдо в жареном виде. Переборов отчаяние, я отломил ножку и представил, что ем курицу. Если судить по вкусу, то так оно и было, а на поднос можно не смотреть.
К завтраку, когда я думал, что приключения уже кончились, у нас был ягуар. Вместе с кофе официант, тот самый, что восторженно наблюдал вечернюю схватку с морской свинкой, принес в блюдце еще слепого ягуаренка, найденного ночью в сельве. Он грозно шипел, лизал молоко с пальца и пытался его укусить, но до зубов ему было так же далеко, как нам до дома.
19.01.2006
«А ТЫ ЧТО ПО ЖИЗНИ ДЕЛАЕШЬ?»
Собираясь в дальнюю дорогу, я позвонил друзьям и строго спросил:
- Осень - золотая?
- А какая же! - обиделись они, но веры им было мало.
Как-то в марте, убедившись (у них же), что грачи прилетели, я приехал в Москву без пальто, а меня встретила пурга, не прекращавшаяся все три недели.
Жизнь, однако, улучшается - вранья стало меньше. Осень оказалась теплой, лето - бабьим, и листья падали в тарелку. Но я все равно пошел в музей.
Дело в том, что в школе моим любимым предметом был «рассказ по картинке». Дополняя живопись словами, мы переводим явное в тайное, а очевидное - в невероятное. Так рождается критика, приписывающая свои намерения чужому - и беззащитному - автору.
Предвидя судьбу уже в детстве, я по-крупному играл в фантики, но их оригиналы полюбил лишь в разлуке. И, возвращаясь, не пропускал случая навестить Третьяковскую галерею.
Уже дорога сюда была поучительной, с тех пор как поумневшее метро украсило себя заемной мудростью.
«Любовь к родине начинается с семьи», - прочел я, коротая путь под землей. Изречение Фрэнсиса Бэкона иллюстрировала матрешка, некстати напомнившая мне начиненного бабушкой волка из «Красной Шапочки».
В Третьяковке, однако, свои сказки. Самая страшная - «Аленушка»: глаза дикие, сразу видно, что сейчас утопится. Зато пейзажи располагают к покою и, я бы сказал, к рыбалке. Чувствуется, что клюет - и у Поленова, и у Левитана.
У Верещагина еще и стреляют, причем прямо сейчас. Его картины напоминают актуальный комикс о террористах и называются в настоящем времени: «Высматривают», «Нападают врасплох», «Представляют трофеи». Возле знаменитого полотна с самаркандскими воротами гид широким жестом остановил экскурсию и объявил: Persia. Иностранцы согласно закивали.
Переключившись с нарисованной жизни на настоящую, я стал осматривать вместо экспонатов зрителей. Больше других мне понравился дородный мужчина, застрявший возле картины «Развал» какого-то другого, незнакомого мне Сорокина. На холсте изображалась барахолка: хомуты, иконы, кираса и портрет Суворова.
«Нет, - горько сказал сам себе зритель, - ничего в этой жизни не меняется».
Но это, конечно, неправда: Москва становится все менее понятной. Во всяком случае, для меня. На бульваре, например, висела вроде бы и незатейливая афиша: «Игорь Саруханов: 20 лет под парусом любви». Но я никогда не узнаю, как выглядит этот русский Арион, потому что прохожие пририсовали ему пейсы, крест и лозунг: «Долой правительство Ющенко».
Привычно почувствовав себя чужим на празднике, я отправился «наблюдать реализм жизни». Он не заставил себя ждать. У памятника Марксу, и впрямь похожего, как писал Довлатов, на кляксу, бездомный негр собирал окурки.
- Все, как дома, - слегка запутавшись, подумал я, но был не прав, потому что в Москве другая архитектура.
Краснокирпичная византийская готика - от Кремля до пивного завода в Хамовниках - в этом городе борется с античным ордером. Склонная к плодородию советская власть предпочитала кудрявые коринфские колонны с капустой капителей и рог изобилия, плавно переходящий в герб языческого гербария. Любуясь гранитным «Тяжмашстроем», я обнаружил, что слева от классического портика стоит шалман «Шварцвальд», а справа - «Акапулько».
Такая, прямо скажем, райская география сокращает и улучшает глобус. Скажем, в прошлый раз в моем любимом отеле «Пекин» располагался ресторан «Гонк-Конг», в этот раз его сменило казино «Нью-Йорк».
Расправившись с расстоянием, Москва взялась за время: здесь жить торопятся и чувствовать спешат.
- Особенно за рулем, - добавлю я, вспомнив красивую блондинку, которая ехала в своем «Мерседесе» по тротуару Садового кольца. Причем давно: кольцо большое, да и пробок не меньше. Как и все остальные, она не отрывалась от мобильника. Благодаря ему гость в Москве знает все о хозяевах. Иногда больше, чем хотелось бы, как это случилось на Пречистенке, когда идущий передо мной бизнесмен горячо и простодушно доверял телефону свои бескомпромиссно преступные планы.
«Славянская душа, - умилился я, - всегда нараспашку». И тут же убедился в этом за чашкой кофе в стоячем арбатском буфете, где рядом со мной, но не обращая на меня внимания завтракала девица в пронзительно короткой юбке. Биография ее была немногим длиннее, судя по тому, как быстро она ее выплеснула своему сотовому собеседнику. Исчерпав тему, девушка тревожно задала трубке встречный вопрос:
- А ты что вообще по жизни делаешь?
Задумавшись над ответом на чужой, но и мне не чуждый вопрос, я решил, что пора набраться мудрости. Спустившись в метро за очередным афоризмом, я с удивлением прочел его: «Будет богат, кто на поле своем трудов не жалеет». Катон.
- Это какой же - Старший или Утический? - спросил я спутника.
- Какая разница?
- Не скажи. Первый не советовал снимать с рабов цепи даже в праздники.
Мрачные мысли, впрочем, быстро покинули нас, потому что рядом с хозяйственным «Катоном» висела соблазнительная реклама женского (видимо, корсиканского) белья: трусы назывались «Вендетта».
26.12.2005
ИСТИНА В ТВОЕЙ ВИНЕ
Когда закон нарушают все, власть может выбирать виновного себе по вкусу
- Вы пьете? - спросил мужчина в форме.
- По праздникам, - уклончиво ответил я, зная, что правила запрещают приносить алкоголь на общественную лужайку, где мы так славно устроились с шашлыками.
Не удовлетворившись расплывчатым ответом, он залез в корзину, где стоял праздничный набор в разной степени початости. Конфисковав наш запас веселья, полицейский ушел, оставив меня в тревожной задумчивости.
Бывая в России, я давно заметил: единственный интересующий всех моих собеседников факт из жизни Америки сводится к справке о том, что распивать спиртное на открытом воздухе здесь можно, лишь спрятав бутылку в бумажном пакете.
- Полиция не станет в него заглядывать, - важно объяснял я, полагаясь на чужой разум и свой опыт, - чтобы не нарушить святую неприкосновенность вашей собственности.
Но после 11 сентября американские нравы, видимо, изменились, и войну с терроризмом власть начала с борьбы за мою трезвость.
Должен признаться, что произошедший инцидент поколебал основы моего американского мировоззрения, ибо на стороне зла была буква закона, а на моей - только его дух.
Дело в том, что я всегда нарушаю закон на досуге. Что и нормально, если вы не служите в мафии. Чаще всего я это делаю за рулем, увеличивая скорость до того разумного предела, за которым риск наказания превышает соблазн преступления. Бодрийяр, приводя в пример вождение машины в Америке, замечал, что страна способна функционировать лишь до тех пор, пока она уважает неписаный закон не меньше, чем писаный.
Другими словами, которыми меня еще в детстве воспитывал напуганный властью отец, главное - не высовываться. Конечно, если бы отец слушал собственные советы, он бы до сих пор жил в Рязани, вспоминая там, а не в Лонг-Айленде, как собирал авиационные локаторы на сверхсекретном заводе, замаскированном под мебельный комбинат и даже выпускавшем для конспирации каждый год по четыре стула. Усидеть на них отцу помешала унаследованная мною любовь к литературе, которую он пытался привить сотрудникам на открытых комсомольских собраниях. На беду, отцу, как и мне, часто нравились авторы, неадекватные историческому моменту: он хвалил Дудинцева так же некстати, как и я Сорокина.
Гений Америки в том, что она умеет использовать людей с непомерными амбициями, вместо того чтобы сажать их в тюрьму, но на шоссе таких нещадно штрафует. Тем более что обычно они ездят в красных машинах, что сильно упрощает жизнь дорожных патрулей. Похожие на щук, они, укрывшись за поворотом, сторожат автомобильный косяк, дружно превышающий скорость на те десять миль, на которые закрывает глаза закон. Дождавшись торопливого дурака в алом «Корвете», полиция садится ему на хвост и долго жует жертву, выписывая дикие штрафы. Во время этой процедуры несчастному водителю, как пескарю у Щедрина, положено сидеть, не поднимая глаз и не повышая голоса. А ведь как хочется вмешаться в собственную судьбу - укусить полицейского, сбежать в Мексику или выдать себя за Джеймса Бонда. Но так поступают только в Голливуде. Когда вы не на экране, то, чтобы не надели наручников, лучше держаться скромно, помня о своей неизбывной, как у Кафки, вине.
Подняв планку на недосягаемую для всех высоту, власть обрекает нас толпиться в тамбуре закона, уповая на ее милость, его недосмотр или слепую удачу. Плохо, когда черта, отделяющая правых от виноватых, произвольна. Еще хуже, когда она невидима. Но не легче и тогда, когда она у всех на виду, как дорожный знак или правила парковки. Зато власти удобно, когда мы, обманывая ее по мелочам, хитрим и мечемся - переходим на красный свет, курим в неположенных местах и уклоняемся от налога. Твердо помня, что грешниками управлять легче, чем праведниками, власть делает первых из вторых, настаивая на своем с усердием, недостойным и лучшего применения.
Когда закон нарушают все, власть может выбирать виновного себе по вкусу, который иногда, должен сказать, бывает весьма изощренным. Однажды я в этом убедился в заповедных лесах Северной Каролины, на берегу горного озера, где, ввиду отсутствия посторонних, я выкупался нагишом. Пока я, безгрешнее Адама, сох на ветру, мне пришло в голову забросить удочку. Вот тут (цитата из ненаписанной сказки) из чащи вышел инспектор рыбнадзора. Не выказав удивления моим внешним видом, что было даже обидно, он заставил меня достать из воды крючок, на котором желтела улика - нанизанное зерно кукурузы. (Ею кормят молодых форелей, которых именно поэтому можно ловить только на искусственную наживку.) Сперва я хотел плюнуть на штраф, но дело было в федеральном заповеднике, отчего бумага начиналась, как дипломатическая нота: «Соединенные Штаты Америки против Александра Гениса».
Не будучи Осамой, я сдался и заплатил.
27.06.2005
ЛЕТО НАШЕЙ СВОБОДЫ
Summer time and the livin' is easy.
Сям и там давят ливер из Изи.
(Пер. А. Хвостенко)
- Бог, - говорят англичане, - сотворил мир пополудни летом.
С ними трудно не согласиться. Во всяком случае, в тех неумеренных широтах, где я вырос. «Летом» здесь назывались каникулы, невзирая на градусник. Но меня все равно тянуло на Север. Возможно, потому, что Запад на нас кончался - пограничным катером на горизонте.
1970-му лето удалось. Страна дружно отмечала столетие Ленина и не выходила из дому: по телевизору показывали «Сагу о Форсайтах».
До всех них, впрочем, мне не было дела. Я еще не знал, что такое не повторится, но уже об этом догадывался: тем летом мне довелось познать свободу.
Как всякая революция, она застала меня врасплох и сделала ненадолго счастливым.
Свобода была в беззаконии. Отменяя пространство, время и участкового, она пьянила властью над обстоятельствами. Достигнув так и не повторившегося баланса, душа входила в тело без остатка. Бездумно радуясь успеху, я шагал с миром в ногу даже тогда, когда шел в другую сторону.
- Свобода, - бормотала интуиция, - это резонанс тебя со средой.
Однако и в остальные дни недели свобода не обходила меня стороной.
Закончив школу, оставшись без обязанностей, я не торопился с планами, ел через день, спал через два и пил, что льется. Но когда все смешно, не бывает похмелья. Стоя перед распахнутым настежь летом, я мог выбрать любое направление, потому что судьба, словно ливень, просто не могла промахнуться.
Но мне, как уже было сказано, нравился Север. Собрав на дорогу мелочь, друзей и палатку, я смело тронулся в путь. В те времена ритуал взросления завершал гран-тур по родной истории. Маршрут вел в обход столиц, на периферию нации. Теперь я уже сам не могу толком объяснить, чего мы ждали и искали в тех трудных, как паломничество, походах. Но с концом 60-х, когда метафизическим считался вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», популярные странствия по старинным русским монастырям стали дополнять образование и мешать ему.
В университете изо всех предметов мне труднее всего давался научный атеизм. Возможно, моему успеху в этой безбожной дисциплине мешали северные иконы, впервые открывшие мне странный - неантичный - идеал красоты. Мерой ее служил человек, все черты которого преобразила близость к Богу. В сущности, это тоже была утопия, но она призывала заменить пятилетний платоновский проект социальной гармонии платоновской же идеей совершенного в своей нетленности образа. В заколоченных (от греха подальше) монастырях стремились переделать не одну отдельно взятую страну, а каждого отдельно взятого человека. Мне, впрочем, больше нравились ангелы - чертеж перестройки, указующий на ее конечную цель.
У нас такой не было. Летняя свобода лишала жизнь зимнего смысла, меняя идеал на счастье, когда нам было по пути. Доверяя больше встречным, чем карте, мы тряслись в попутных грузовиках, останавливаясь там, где, как это часто бывает между Балтийским и Белым морями, кончался асфальт. Угодив в беспутную паузу, мы брели пешком, ждали подводу, вскакивали в товарняк или жили там, куда занесло, надеясь, что случай подвернется раньше, чем кончится тушенка.
Однажды на просеку вышел ражий медведь, в другой раз - цыганский табор, в третий - нас подобрал мятежный «газик», пробиравшийся домой на Север, не разбирая дороги. Его водитель пропил командировочные еще в Москве. В жилых местах он вел машину впроголодь, в лесу жил ухой (в Карелии без крючков не выходят из дому). За рулем шофер непрестанно матерился, но у костра, за нашей водкой, церемонно представился: «Анатолий Иваныч» - и тут же пояснил: «Толяныч».
В то лето мне встречались только необычные люди, но и виды были не проще, в чем я окончательно убедился на Соловках, когда пришел час полярного заката. Стоя по пояс в студеной воде (чтобы отвязалась мошка€), я смотрел, как вчера перетекало в завтра, лето отменяло зиму, день - ночь. Нежно, как в романсе, солнце коснулось моря и, мягко оттолкнувшись от него, пустилось обратно в небо.
Нам тоже пришла пора возвращаться, но из патриотизма мы еще дали крюк во Владимир, который неведомый мне тогда Бахчанян предложил к юбилею переименовать во Владимир Ильич. Знаменитая церковь закрылась на реставрацию, причем с размахом: на десять лет. Зато был открыт магазин «Соки - воды». В нем не было ни того, ни другого, но из вакантного конуса щедро текло плодово-ягодное. Окунувшись в море дефисов, смешавшись с местной толпой, мы до вечера не отходили от прилавка. Закуской служила горькая рябина с куста, неосторожно выросшего у порога.
- Пьяной горечью фалерна чашу мне наполни, мальчик, - говорил я тетке в легких валенках, но она терпеливо улыбалась, потому что за дверьми стояло то единственное лето, когда мне все прощалось.
16.06.2005
ТАВРОМАХИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
Прежде чем сразиться с быком, человек должен признать в нем равную себе личность
В Канаде интеллигентные люди не любят хоккей, в Англии - футбол, в Японии - сумо, в Италии - мафию, в Испании - корриду. Это и понятно. Мы тоже не желаем, чтобы иностранцы видели в нас медведей или космонавтов. Никому не хочется соответствовать национальному стереотипу. Гордые выделяются из толпы, остальные ценят то, что делает уникальным их культуру. Например, корриду.
Встав с Европой вровень, Испания еще не изжила провинциальных комплексов. Поэтому она прячет от иностранцев все, что отличает ее от них. В том числе - бой быков.
Коррида не подходит к круассанам. Она слишком вульгарна и простонародна. Ее слегка стесняются. Коррида - это атавизм вроде хвоста, киотских гейш, костоломного бангкокского бокса, карибских петушиных боев или чрезмерной волосатости.
Не то чтобы вас не пускали на корриду. Конечно, нет, тем более что ее не скроешь - о ней напоминает афиша на каждом столбе. Другое дело, что мадридские гиды предпочтут повести вас в оперу, барселонские - познакомить с современным искусством, остальные - отправить на пляж.
Но вы не даете себя провести. Вы знаете, что такое коррида, отличаете пикадоров от матадоров и даже немного говорите по-испански: мулета, колета, карамба. Вы держите в голове все ритуалы тавромахии, ибо выросли на Хемингуэе, смотрели Гойю, слушали «Кармен» и читали в отечественной прессе репортажи, начинающиеся словами, которыми св. Августин описывал гладиаторское сражение: «Сперва это жестокое зрелище оставляло меня равнодушным».
Короче, вы знаете все - но не себя. Вы не знаете, как отнесетесь к тому, что через полчаса на этой нарядной арене совершится зверское убийство, оплаченное, кстати сказать, и вашим билетом. Честно говоря, вы и пришли-то сюда только затем, чтобы это выяснить.
Дилетанту понять корриду проще, чем знатоку. Мы смотрим в корень, потому что видим происходящее незащищенными привычкой глазами. Новизна восприятия компенсирует невежество. Пусть мы неспособны оценить мужественную неторопливость вероники, пусть нас не трогает отточенность матадорских пируэтов, пусть мы только по замершему дыханию толпы судим о дистанции, разделяющей соперников.
Мы видим лишь то, чего нельзя не заметить: всадников на лошадях, милосердно одетых в ватные латы, и потешно наряженных пеших. Сверху они напоминают оживший набор оловянных солдатиков. Тем более что их оружие - крылатые бандерильи и пики с бантами - выглядит вопиюще несерьезно.
Самый невзрачный в этой компании - виновник происходящего. Не больше коровы, он выглядит не умнее ее. Лишь вдоволь упившись пестрой параферналией корриды, вы начинаете уважать компактную, как в 16-цилиндровом «Ягуаре», мощь быка. Равно далекий хищникам и травоядным, он передвигается неумолимо, как грозовая туча, видом напоминая стихию, духом - самурая. Что бы он ни делал - невозмутимо пережидал атаку или безоглядно бросался на врага, ярость в нем кипит, как свинец на горелке. Собаки нападают стаей, кошки - из-за угла, но бык - всегда в центре событий. Завоевав наше внимание, он постепенно подчиняет себе всех, превращая мучителей в свиту.
Только тот бык, который утвердился в царственном статусе, заслуживает право на поединок. Прежде чем сразиться с быком, человек должен признать в нем равную себе личность. Как и мы, бык не может избежать смерти, но, как и мы, он волен выбрать виражи, ведущие к ней.
Коррида - та же дуэль, где джентльмен не скрестит шпаги со слугой, ибо подневольный человек лишен достоинств свободного. Равноправным соперником быка делает свобода воли, а не тупая сила - никому ведь не придет в голову драться с трактором.
Животными, впрочем, тоже можно управлять - как лошадью. Их можно стричь, как овец, доить, как корову, есть, как свиней, и разводить, как кроликов. Однако высшее предназначение зверя состоит в том, чтобы с ним сражаться. Все наши битвы - междоусобицы, коррида - война миров.
Бык таинственен и непредсказуем, как природа, которую он воплощает. Это та же природа, что заключена в нас. Чтобы верно понять смысл поединка, представим себе, что бык - это рак, с которым надо бороться не в больничной койке, а на безжалостно залитой солнцем арене.
Сражаясь с быком, мы сводим счеты со своим прошлым. Бык - это зверь, которым был человек. Чтобы мы об этом не забывали, на арену выходит тореро.
Если угодно, матадор - это антибык: предел рафинированной цивилизации. С трибуны он выглядит аккуратной шахматной фигуркой. Сложный и дорогой наряд, доносящий до нас моду прекрасного просветительского века, символизирует красоту и порядок. Узорчатый жилет, белые чулки, тугие панталоны - от золотого шитья на матадоре нет живого места. Так выглядел Грибоедов в парадном мундире посланника. По песку, конечно, лучше бы бегать в трусах и кроссовках, но именно неуместность костюма оправдывает его старомодную роскошь. Мы не требуем фрака от футболиста, однако ждем его от гробовщика. Мистерия убийства достойна торжественных одежд. К тому же матадору должно быть не удобно, а страшно.
На арену матадор выходит не спеша, давая себя разглядеть и собой насладиться. Все мужчины ему завидуют, все женщины его любят. Он - избранник человеческого рода, честь которого ему предстоит защищать. Матадор должен показать, чего стоит не вооруженный наганом разум, когда он остается наедине с природой.
В такой перспективе коррида не имеет ничего общего со спортом - она глубже его. Говоря проще, коррида нас пугает: как романы Достоевского, она не может обойтись без убийства.
Тавромахия - это искусство парадной смерти. Без нее матадорские фуэте теряют смысл, как ласки без оргазма. Только смерть, наделяя инфернальной глубиной карнавальные шалости, придает корриде вес и значение. Но неуклюжее убийство - позорная казнь. Нет ничего страшнее неумелого палача. Мучая зрителей больше быка, он тычет врага, пока тот не истечет кровью, освободив нас от зрелища своих страданий. Бедная коррида, которой часто довольствуются в Латинской Америке, не имеет право на существование. Как всякая нищета, она унижает не только тех, кто от нее страдает. Удавшуюся корриду должен завершать удар, оправдывающий смерть.
Вы догадываетесь о том, что дело подходит к концу, по аскетической серьезности происходящего. На арене прекращается многолюдная суета. Кончилось время опасных игр. Сорвав овации, матадор уже показал себя, но лишь последнее испытание делает его достойным своей профессии. До сих пор он пленял выучкой, мастерством и смелостью, теперь он должен проявить характер. Отбросив эффектные позы, забыв о себе и зрителях, он стоит, как вкопанный, вызывая быка на атаку.
Бык не выдерживает первым. Нагнув рога, он бросается в бой со стремительностью ядра и инерцией поезда. Сдержать этот приступ может лишь то, что сделало нас царем природы: воля и интуиция. Первая нужна, чтобы не дрогнуть, дожидаясь нужного момента, вторая - чтобы выбрать его. В это единственное мгновение матадор должен нанести удар в уязвимое место размером не больше яблока. В момент высшей сосредоточенности все движения приобретают обманчивую замедленность. Кажется, что матадор остановил время. Вошедшая до рукояти шпага убивает быка раньше, чем он об этом узнает. Продолжая порыв, туша еще несется вперед, но это уже не крылатый порыв, а судорога трупа. Бой завершился смертью одного и победой обоих.
Трудно спорить с теми, кто считает корриду варварским зрелищем. Живая окаменелость, коррида - машина времени, переносящая к заре мира, когда люди боролись за существование не с собой, а с другими. Возвращаясь в эту героическую эпоху, коррида обнажает корни жизни и оголяет провода страсти.
Поэтому я всем советую побывать на корриде, хотя далеко не каждому стоит на нее возвращаться.
Я, например, не собираюсь.
Дело не в том, что мне больно смотреть на быка. Я даже не против поменяться с ним местами, чтобы умереть легко и разом, как перегоревшая лампочка. Мне не жалко рожденного для этого часа быка. Он уходит в разгаре сил, красоты и ярости, сполна прожив свою жизнь. У быка не осталось дел и долгов, и шпага принесет ему меньше мучений, чем старость.
Мне, повторяю, не жалко быка. И на корриду я не пойду, сочувствуя не ему, а матадору.
Каждый убийца наследует карму своей жертвы, и я слишком давно живу, чтобы выяснять отношения с природой. Ее голос звучит во мне все слабее. Мне б его не глушить, а расслышать.
26.05.2005
ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ
Кондолиза Райс отчитала Путина
Накануне юбилея Победы, репетируя новую «встречу на Эльбе», госсекретарь Америки посетила Россию. Рассказывая о визите, русская газета Нью-Йорка вышла с шапкой: «Кондолиза Райс отчитала Путина». Московская пресса исправила опечатку: «Кондолиза Райс отчиталась перед Путиным».
Как все ущемленные меньшинства вроде евреев, гомосексуалистов и женщин, наши соотечественники больше всего интересуются тем, что говорят они и о них.
- Провинциалы, - сказал я Пахомову, - всегда начинают с себя, причем дальше не идут. Между тем настоящий джентльмен ставит себя на второе место: «My dog and I».
- От собаки слышу, - ответил Пахомов.
- Да нет, я говорю, что англичане даже собаку пропускают вперед.
- И правильно! Они произошли от бульдога.
- А мы?
- Известное дело: «по образу и подобию». От обезьяны, - добавил он на тот случай, если я не понял.
В Америке, где эволюцию часто считают европейским извращением, это не совсем так. Русских тут производят напрямую от коммунистов. Поскольку последних тут никто толком не видел, то портрет получается произвольным: толстый с медалями. В фильмах про Джеймса Бонда злодеям для простоты давали имена писателей. Одного генерала звали Пушкин, другого - Чехов, Солженицын - уже не выговорить.
Америку понять нетрудно. Мои здешние ровесники еще помнят, как их учили прятаться под парты, когда начнут падать советские бомбы. В 50-е каждый американский ребенок носил на шее именной жетон, чтобы знали, кого хоронить. Любви такое не способствует, но и особой ненависти не было, скорее ленивое недоумение.
Четверть века назад, когда я приехал в Америку, чтобы открыть ей глаза, она ими смотрела потешную рекламу. На экране шел показ советских мод: дородная уборщица в балахоне. Пляжную версию костюма дополнял резиновый мяч, к вечернему наряду добавлялся фонарик.
- Что ты хочешь, - утешал меня Пахомов, бывший в прошлом рождении марксистом, - Америка - страна победившего пролетария.
- Как Россия?
- Ну да. Только там пролетариат проиграл.
Но и Пахомову стало не по себе, когда американцы принялись выливать безвинную «Столичную» за то, что русские сшибли корейский лайнер. Наши таксисты тогда выдавали себя за болгар, но только до тех пор, пока София не оказалась замешанной в покушении на Папу Римского. В своих знаменитостей американцы предпочитают стрелять сами, без подсказки органов.
Первую симпатию на брезгливом лице Америки я уловил, когда случился Чернобыль. Это все равно что заметить расстегнутую ширинку на штанах хулигана. Державная слабость располагает к сочувствию, особенно у американцев, которые предпочитают устраивать ядерные взрывы не на своей, а на чужой - японской - территории.
Америка впервые оттаяла с явлением Горбачева. Я до сих пор не знаю, чем он ее купил, но в честь непьющего генсека выпустили водку «Горбачев». Понятнее была бы водка «Ельцин», но вместо нее появилась плохо очищенная «Жириновская», и Америка вернулась к «Столичной». Что, в сущности, и не важно: водку тут все равно разбавляют - тем самым льдом, что растопил Горбачев.
Вторая оттепель оказалась еще короче первой. Если раньше русский экспорт ограничивался политически некорректным товаром - икрой и мехами, то теперь к ним прибавились татуированные бандиты и уступчивые блондинки. Недолгому взлету популярности мы обязаны Голливуду, которому русская мафия заменила уже отработанную сицилийскую. В одном из таких фильмов крестный отец излагает свое выстраданное кредо: «Где демократии справиться с теми, кого не раздавил Сталин!».
Популярный по обе стороны океана тезис не успел развиться, как грянуло 11 сентября, отменившее русских как класс, тему и проблему. Нашедшую себе надежного врага Америку сейчас интересуют в России только окраины, причем южные. До остального всем мало дела.
Я почувствовал это на себе. С тех пор как в жилетке Америки мы заняли свой этнический карман - между греками и корейцами, с нами перестали считаться - от нас перестали шарахаться.
Иногда быть не хуже и не лучше других удобно. Я это оценил, когда ломаным русским овладел стоящий по соседству банковский автомат. Теперь на его экране можно прочесть: «Дайте мне минуточку, чтобы закончить ваш запрос». Хорошо, что не «допрос», подумал я, но не обиделся, потому что мне всегда нравились эти голубоглазые машины денег. В Америке их зовут, как КГБ, аббревиатурой: АТМ. В России она называется иначе, о чем я узнал в Москве, когда мне понадобились наличные.
- Где у вас ближайший банкомет? - спросил я у человека с ружьем, который стоял то ли на страже, то ли на стреме.
- В казино «Чехов».
- Почему же это «Чехов», а не «Достоевский»? - заинтересовался я.
Но друзья уже тащили меня к банкомату, знаками показывая прохожим, что я не опасен для окружающих.
12.05.2005
66
К настоящему Западу ведет одна дорога - 66-я
К настоящему Западу ведет одна дорога - 66-я. Вдоль нее стоят кресты с жестяными цветами. О ней поют ковбойские барды: По дороге шестьдесят шесть Только в седле можно присесть.
Ее изображают на игральных картах, ножнах и галстуках (по ту сторону Скалистых гор их все равно никто не носит). Но главное - по ней до сих пор едут к Тихому океану. А навстречу, но уже по рельсам, несутся товарные составы: 30, 40, 100 вагонов, и на каждом написано: CHINA EXPORT. Знали бы китайские кули, строившие в XIX веке эту железную дорогу, что кладут шпалы для соотечественников.
В этих краях для всех, кроме тепловоза, дорога - не средство, а цель. В пути не бывает скучно, ибо аттракционом становится избыток пространства. Об этом догадываешься, когда возвращаешься на восток, к цивилизации, где теперь мне и двухэтажные дома кажутся излишеством.
На Западе нет ничего, кроме пустыни, перемежающейся плоскими холмами. Здесь их зовут по-испански: mesa, что означает «стол». В сущности, это сопка, с которой сняли скальп вместе с лучшей частью черепа. Такая операция и гористый пейзаж вытягивает по горизонтали. На Западе, где еще не знают, что земля - круглая, глаз видит на сто миль. Это как любоваться Кремлем из моей родной Рязани.
В отличие от Сахары, где я однажды пробовал заблудиться, эта пустыня кишит жизнью. По ней бродят независимые быки и скачут неоседланные кони. В камнях, предупреждают дорожные знаки, живут скорпионы, гремучие змеи и пауки «черные вдовы». Понятно, что меньше всего тут людей, во всяком случае, оседлых. Пустыня подразумевает перемещение. Даже флора тут легка на ногу. Сухие кусты перекати-поля колесят по красной земле, которая была бы уместнее на какой-нибудь другой, расположенной ближе к Солнцу планете.
В лишенном примет пейзаже путнику, как буриданову ослу, трудно выбрать место для привала. За него это делает закон, превращающий в казино каждый оазис. В резервациях можно играть, но нельзя распивать спиртное. Индейцам от этого не легче. Доходы от белого азарта (тысяча в неделю) пропиваются в красной столице Навахо.
Гэллап - странный город уже потому, что здесь больше всего миллионеров на душу крохотного населения. Улица (все та же 66-я дорога) уставлена ломбардами, где жаждущие закладывают фамильное серебро и племенную бирюзу. Универмаг предлагает товары повседневного спроса: седла по 400 долларов, волчьи шкуры - по 600, лассо - по 25, подержанные отдают за десятку.
Выйдя из магазина не сторговавшись, я оказался в центре внимания. Покрытый дорожной грязью, в малиновом шейном платке, с подобранным в пути орлиным пером за ухом, только я тут и походил на индейца. Мне даже похлопали прохожие братья, слонявшиеся большую часть своей жизни между бензоколонкой и кинотеатром Dreamcatcher. У шаманов это деревянный обруч с кожаной паутиной, в которой застревают сладкие сновидения, чтобы повторяться каждую ночь. Но в Гэллапе снами торговал Голливуд - без всякого успеха. Зал был закрыт до лета, когда сюда приедут «Солисты пустыни», чтобы сыграть индейцам Моцарта.
«Вот бы покойник обрадовался», - подумал я и отправился в Аризону.
Она, как стихи Цветаевой, открывалась верхним «до» - сразу за границей началась пыльная буря. Стойкий напор ветра поднял ландшафт за шиворот и вытряс его на нас. В красной пыли исчезли земля и небо. Тьма погрузила мир в транс, из которого нас вывел телефонный звонок.
- Ты хоть знаешь, - с упреком сказали в мобильнике, - что Папа умер?
- Все там будем, - искренне ответил я, ведя машину по наитию.
66-я, однако, не подвела. К вечеру, который мне уже казался вечным, она рванула в горы, перебравшись в знакомый климат. Первую сосну я встречал, как Шукшин - березу: из деревьев в пустыне - только телеграфные столбы.
Как всегда, приближение гор рождало аппетит - и такой, и духовный. Первый в безумно дорогой и такой же красивой Сидоне утоляют наспех, зато душой занимаются всерьез. На бензоколонке, отклонив предложение сфотографировать свою ауру, я купил карту благодатных «воронок», ради которых сюда стекаются паломники той кудрявой секты, что объявила о наступлении Нового Века и скомпрометировала его.
К колодцу веры мы брели гуськом и молча, оставив из благочестия бутерброды в багажнике. Согласно карте, путь к духовным сокровищам был несложным: идти, пока не упрешься. И действительно, тропа кончалась речной отмелью, которую украшали пирамидки из гальки, сложенные нашими благодарными предшественниками. Под алой, как знамя, скалой мы уселись дожидаться разряда духовной энергии.
Дело не в том, что я верю шарлатанам, я просто знаю, что они правы. В мире есть точки, где люди, а может, и звери чувствуют себя лучше, чем всюду. В таких местах устраивают капища, строят церкви, основывают монастыри. В Сидоне открыли «метафизический супермаркет».
Заправившись, мы отправились туда, куда все, - к Гранд-Каньону. Политически корректные гиды объясняют его происхождение двояко. Геологи утверждают, что полуторакилометровую пропасть миллионы лет рыла река Колорадо. Те, кто, как это водится в Америке, не верит в эволюцию, считают Каньон последствием библейского потопа.
Вторая версия мне нравится больше. Глядя с обрыва, понимаешь, откуда берется религия. У каждой обветрившейся скалы есть свое название, сравнивающее гору то с христианским, то с буддийским, то с языческим храмом. Но стоит опуститься солнцу, и каньон становится безымянным, как дао.
На заходе разноцветные утесы устраивают оптическую пляску. Обманывая зрение, смеясь над перспективой, они неслышно меняются местами, отменяя пространство, не говоря уже о времени. Каньон живет закатами и рассветами, старея на глазах одного Бога, в которого здесь легче верить: у такого зрелища должен быть автор.
Я убедился в этом тем же вечером, когда включил телевизор в мотеле. Молодой проповедник объяснял восторженной пастве, что каждый верующий разбогатеет, как Христос, который три года кормил апостолов, включая Иуду. Логика была на его стороне, но, не доверяя ни церкви, ни экономике, я остался при своих невыгодных заблуждениях.
Может, и зря: 66-я вела в Лас-Вегас.
21.04.2005
БЕГ С ЯЗЫКОВЫМИ БАРЬЕРАМИ
Ничто так не сближает чужестранцев, как чувство превосходства личности над ее государством
Самые опасные американцы - те, кто так хорошо говорит по-русски, что мы забываем, с кем имеем дело.
К счастью, это большая редкость. Даже слависты, читающие наизусть Евтушенко, любят перегибать палку. Сперва они называют по имени-отчеству домашнюю кошку, зато потом переходят на «ты» рюмкой раньше положенного и пользуются ненормативной лексикой чаще, чем следует замужней специалистке по ранней прозе Григоровича.
Труднее всего объяснить то, что и так всем понятно.
На этот раз, однако, все шло как по писаному. Мы встретились за чаем, к которому по диковинному, но американскому обычаю не подавали водки. Разговор тем не менее шел понятный: каждый по очереди хвастался глупостью своей родины.
Я давно заметил, что ничто так не сближает чужестранцев, как чувство превосходства личности над ее государством.
Как-то меня занесло в литературную колонию, любовно устроенную в живописном (когда там не идет война) уголке Восточной Европы. Проведя неделю среди уроженцев стран, которые раньше назывались братскими, я понял, что нас и правда объединяют кровные узы порочного круга. Каждому нашлось что рассказать о безумных проделках своего отечества. Молчал только экологически чистый поэт Норвегии, по ошибке затесавшийся в нашу компанию. Завидуя хохоту, он насупился и заносчиво спросил:
- Вы хоть помните, что учинили с Европой наевшиеся мухоморов викинги?
- Еще бы! - сказал я, предвидя оранжевую революцию. - Варяги основали Киев.
Думаю, дело в том, что всякая власть, будучи наименьшим знаменателем национального интеллекта, горазда громоздить глупости, над которыми ей потешаться нельзя, а нам можно и даже нужно, чтобы чувствовать себя умнее ее. Например, на выборах.
Вот и сейчас, посмеявшись над проделками сразу двух сверхдержав (бывшей и настоящей), я перешел на личности.
- Как это вы, типичная американка, так хорошо выучили наш язык?
Пропустив комплимент мимо ушей, собеседница, ядовито ухмыляясь, задержалась на другой части этой вроде бы безобидной реплики.
- Как и вы - типичный еврей.
Я поморщился от хамства. Меня не смущал еврейский вопрос (хотя это был уже не вопрос, а ответ). Раздражало другое. Изготовленный по индивидуальному проекту, я не хотел слыть типичным, считая, что такими бывают только шлакоблоки.
Отвечать за себя труднее, чем за державу, потому что ты один, а их много.
В Америке этот нехитрый силлогизм называется политической корректностью, которая на русский язык переводится описательно и матом. Я еще не встречал (по обе стороны океана) соотечественника, которого бы не бесила политкорректность, хотя как раз среди наших мало кто склонен ею злоупотреблять. Считая щепетильность барской, как подагра, болезнью, мы кроем чохом, не видя греха в обобщении. В том числе и тогда, когда к этому вынуждают обстоятельства. «Черная самка получила Нобелевскую премию», - весело написал мой коллега по эмигрантской прессе, узнав о награде, доставшейся американской романистке Тони Моррисон.
Справедливости ради надо сказать, что и русский язык знает недоступные переводу концепции. На это мне указала та же собеседница, работающая в свободное от разговоров со мной время синхронным переводчиком ООН.
- Конечно, - закивал я, - наши живописные идиомы: «красна девица», «бить баклуши», «закусить мануфактурой».
- Это еще что! Вот как вы скажете по-английски фразу, без которой на трибуне ООН уже 20 лет не обходится ни один делегат страны Пушкина: «Задействовать для целесообразности»?
Я горько задумался, но не смог перевести это выражение, хотя именно этому меня столько лет учили в школе. В старших классах мы шлифовали свой английский на «Московских новостях», всегда представлявших наиболее характерным образом и свою страну, и свою эпоху. От других печатных органов того метафорического времени эта газета отличалась тем, что умела говорить, ничего не сказав, на нескольких языках сразу. С тех пор я, объездив сорок стран четырех континентов, встречал все разновидности английского - от оксфордского до пиджин, но мне так и не пригодилась фраза из передовицы, которую я зубрил все школьные годы: «Наша бригада с честью боролась за переходящее красное знамя ударников социалистического соревнования».
Впрочем, однажды, еще в России, я воспользовался с трудом дававшейся мне наукой в разговоре с первым живым американцем.
- Где ты проводишь лето? - спросил он, не зная, чем занять малолетнего туземца.
- Pioneer сamp, - радостно ответил я точно так, как меня учила московская газета.
- Ишь ты, - удивился янки, - как и мы: ковбои, барбекю, индейцы…
Прошло много лет, но я по-прежнему млею от непереводимых тайн что родного, что чужого наречия. Только теперь я их часто путаю. Недавно московский приятель хвалил мне одну певицу.
- Она, - говорит он, - для Лужка пела.
- Романтично, - сдержанно отвечаю я, - но, наверное, все-таки правильно говорить «пела на лужке»?
- Ты думаешь? Во развратник.
07.04.2005
МИФ ПЛАСТИЛИНА
Обретшее свободный рынок общество рвется им управлять по рецептам, списанным из «Блокнота агитатора»
Я человек покладистый: и годы уже не те, и вкусы, и страсти. Мне нравится дремать после обеда. Матом ругаюсь редко и никогда - при дамах. Я люблю старых друзей, завожу новых и терплю всех остальных, включая тех, кто, придумав рифму «пенис» к слову «Генис», кричит: «Эврика!».
С тех пор как кончилась советская власть, я не вступаю с ней в полемику, а о другом и спорить нечего. «Пусть цветут сто цветов», - говорю я тем, кто голосует за Буша, Путина и Януковича. «Путь в 10 тысяч ли начинается с первого шага», - успокаиваю я писателя, дебютировавшего романом «Как убить Пушкина».
Однако всякому добродушию приходит конец, когда я слышу слово, от которого белки наливаются кровью, рука тянется к курку, перо - к бумаге: «Раскрутили!».
Все, кроме меня, знают, что это значит. Беда в том, что и я стал догадываться. В конце концов, мне выпало родиться в стране, где все наличные силы ушли на «раскрутку» режима. Я рос в пейзаже, где памятников Ленину было как грибов, а если подумать, то и больше. Над нашим воспитанием трудилась целая империя, которой так и не удалось нас ни в чем убедить. Безыдейного «Человека-амфибию» посмотрели 40 миллионов зрителей, а широкоформатный «Залп Авроры» - два.
Мы можем с гордостью сказать, что за всю историю рекламы никто, кроме коммунистов, не тратил на нее столько сил впустую. Их наследников, однако, непреложный исторический пример убедил в обратном. Действительность они по-прежнему полагают продуктом произвола, вторичным сырьем истории. Обретшее свободный рынок общество рвется им управлять по рецептам, списанным из «Блокнота агитатора».
Модные технологи успеха с наивностью провинциальных секретарей обкома верят в свою власть над окружающим. Достаточно, считают они, заменить ржавую марксистскую методику соблазнительной постмодернистской стратегией. Согласно догмам этого философского суеверия, все заметные фигуры в нашем пейзаже - от Путина до Гарри Поттера - мыльные пузыри, раздутые серыми кардиналами черного и белого пиара. «Все продается, - говорят они, набивая себе цену, - но только если мы продаем».
Так, совершив мировоззренческий кульбит, новая Россия осталась верна старому убеждению о пластилиновом характере реальности, которая послушно прогибается под каждым, кто на нее наступит, чтобы «раскрутить».
Чуткое к обману общественное мнение по старой памяти возненавидело рекламу еще до того, как появились товары, которые стоило бы рекламировать. Утратившие было идеологического противника сатирики стали кормиться слоганами, как раньше - лозунгами. Вездесущая реклама считается глупой, бессмысленной и непостижимым образом всемогущей.
Воочию я столкнулся с этим парадоксом, когда в наш дом, не снимая роликовых коньков, въехала московская певица с киприотской пропиской.
- Сколько у вас дают, - спросила она, подмигнув, - за рецензию в «Нью-Йорк таймс»?
- Заказную? - не сразу понял я. - Года два, если поймают.
Решив не связываться с идиотом, она выкатила за порог.
В простодушной, как арифметика для начинающих, коррупции сказывается архаическая вера в силу слов. Как магическое заклинание, тайная и явная реклама наделяется способностью творить гомункулов, миражную нечисть, пожинающую незаработанные славу и деньги. Такие магические махинации и называются «раскруткой».
Те, кто поплоше, хотят, чтобы их раскрутили. Те, кто похитрее, предпочитают раскручивать сами. Первые - оптимисты по натуре. Они живут со светлой верой в то, что и дар продается, и славу можно купить, если точно знать, кому дать по зубам, а кому - в лапу.
Если верить глянцевым журналам, то реклама - самая престижная профессия. В моем детстве все хотели быть космонавтами, футболистами или уж мясниками. Сегодня мечтают стать мастерами пиара, чеканщиками личин, технологами славы. Оно и понятно: делать королей даже интереснее, чем ими быть. Из этого, впрочем, ничего не выходит. Самозваные мэтры раскрутки создают свою ревнивую табель о рангах, в которую только они и верят.
Чтобы понять механизм этого обмана, надо искать сui prodest, ибо, как переводил Ленин, «кому выгодно, тот и виноват». Советская власть (а честно говоря, и вся русская традиция) была исключительно благоприятна для критиков, занимавших пост просвещенных соавторов. Падение цензуры, упразднив роль идеолога-толкователя, подорвало авторитет профессионалов. Надеясь вернуть себе утраченное влияние, они уверяют потенциальных заказчиков, что постигли законы создания успеха.
Свежий пример - составленный по опросам ведущих (точнее, каких есть) экспертов список пяти шедевров ХХ века. Начинается он «Черным квадратом», зато кончается Куликом. Это значит, что отечественное искусство, пропустив Серова, Врубеля и Филонова, завершило свою эволюцию Человеком-Собакой.
Я, кстати, познакомился с Куликом в Москве, когда он еще ходил без ошейника. Второй раз я зашел к нему поздороваться уже в Нью-Йорке, где он мне дружелюбно полаял из своей комфортабельной клетки. Поскольку Сохо удивить трудно, тем более старыми трюками, то особого впечатления Кулик на Америку не произвел, зато на родине он стал героем «кураторского искусства». Но это такая же глупость, как и все остальные попытки фальсификации реальности, которая упорно сопротивляется наскокам «раскручивающих» ее критиков тем, что не замечает их.
Все это вовсе не значит, что я не верю в рекламу. В конце концов, я четверть века живу в стране, которая ее изобрела. Но именно потому Америка лучше других знает и о границах ее могущества. Реклама - это искусство, а значит, она не может работать наверняка. Если бы существовали непреложные законы, гарантирующие успех любому товару - вещи, произведению, идее, образу жизни, - мы бы оказались в детерминированной Вселенной, подчиненной произволу тех, кто постиг ее правила. В России эта мрачная утопия однажды уже показала свою несостоятельность. И это - благая весть. Между чужой волей и нашей прихотью остается зазор свободы, где прячется от технологов славы неприкосновенный запас недоступных раскрутке ценностей.
31.03.2005
ОПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ
В других книгах эпоха говорит, у Конан Дойла - проговаривается
Развиваясь, эмбрион повторяет ходы эволюции. Поэтому всякое детство отчасти викторианское. Впрочем, ребенком я относился к Холмсу прохладно. Мне больше нравился Брэм. С ним хорошо болелось. Могучие фолианты цвета горького шоколада давили на грудь, стесняя восторгом дыхание. Траченый латынью текст был скучным, но казался взрослым. Зато он пестрел (как изюм в булочках, носивших злодейское по нынешним временам имя «калорийные») охотничьими рассказами. «С коровой в пасти лев перепрыгивает пятиметровую стену крааля». (О, это заикающееся эстонское «а», экзотический трофей - от щедрот. Так Аврам стал Авраамом и Сара - Саррой.) Но лучше всего были сочные, почти переводные, картинки. Они прикрывались доверчиво льнущей папиросной бумагой.
Холмса я полюбил вместе с Англией, скитаясь по следам собаки Баскервиллей в холмах Девоншира. Болота мне там увидеть не довелось - мешал туман, плотный, как девонширские же двойные сливки, любимое лакомство эльфов. Несколько шагов от дороги, и уже все равно куда идти. Чтобы вернуться к машине, мы придавливали камнями листы непривычно развязной газеты с грудастыми девицами. В сером воздухе они путеводно белели.
В глухом тумане слышен лишь звериный вой, в слепом тумане видна лишь фосфорическая пасть.
Трудно не заблудиться в девонширских пустошах. Особенно - овцам. Ими кормятся одичавшие собаки, небезопасные и для одинокого путника. В этих краях готическая драма превращается в полицейскую с той же естественностью, что и в рассказах Конан Дойля.
Его считали певцом Лондона, но путешествия Холмса покрывают всю Англию. Географические указания так назойливо точны, что ими не пренебречь.
Вычерчивая приключенческую карту своей страны, Конан Дойль исподтишка готовил возрождение мифа, устроенное следующим поколением английских писателей.
Как в исландских сагах, на страницы Холмса попадают только отмеченные преступлениями окрестности.
Преступление - мнемонический знак эпоса. Цепляясь за них, память становится зрячей. Ей есть что рассказать.
Срастаясь с судьбой, география образует историю. Топонимическая поэзия рождает эпическую.
Признание Холмса - «Я ничего не читаю, кроме уголовной хроники и объявлений о розыске пропавших родственников» - неплохо описывает «Илиаду» и «Одиссею».
Главное свойство гомеровского мира - фронтальная нагота изображенной жизни. У эпоса нет окраины. В его сплошной действительности все равно важно: и щит, и Ахилл, и прялка.
В пронзительном свете эпоса еще нет тени, скрывающей детали. Мир лишен подробностей, ибо только из них он и состоит. Неописанного не существует. Всякая деталь - часть организма, субстанциальная, как сердце.
Гомер не умел отделять частное от общего, Холмс - не хотел. Подробности наделяли его гомеровским - пророческим - зрением: он видел изнанку вещей, знал прошлое и предвидел будущее.
Однако жанров без подсознания не существует. У детективов оно разговорчивее других. Детектив напоминает сон. Те, кто толкуют его по Фрейду, успокаиваются, узнав убийцу. Приверженцам Юнга достается целина жизни - правдивые окраины текста.
Постороннее в детективе наливается уверенной ртутной тяжестью. Это - не наблюдения за жизнью, а ее следы. Как кляксы борща на страницах любимой книги, они - бесспорная улика действительности.
Велик удельный вес случайного на поля детективного сюжета. Самое интересное в детективе происходит за ойкуменой сюжета. Вопрос в том, сколько постороннего способны удержать силовые линии преступления - радиация трупа.
Мы читаем рассказы о Холмсе, выуживая не относящиеся к делу подробности. В них - вся соль, ради извлечения которой мы не устаем перечитывать Конан Дойля.
Обычные детективы, как туалетная бумага, рассчитаны на разовое употребление. Только Холмс не позволяет с собой так обходиться. У Конан Дойля помимо сюжета все бесценно, ибо бессознательно. В других книгах эпоха говорит, в этих - проговаривается. У XIX века не было свидетеля лучше Холмса - мы чуем, что за ним стоит время.
Холмс вобрал в себя столько повествовательной энергии, что стал белым карликом цивилизации, ее иероглифом, ее рецептом, формулой. Пытаясь расшифровать эту скоропись, мы следим за Холмсом с той пристальностью, которой он сам же нас и научил.
Самые истовые из его читателей - как новые масоны. Они назначили деталь реликвией, сюжет - ритуалом, чтение - обрядом, экскурсию - паломничеством. Так уже целый век идет игра в «священное писание», соединяющая экзегезу с клубным азартом.
В этой аналогии меньше вызова, чем смысла: Шерлок Холмс - библия позитивизма. Цивилизация, которая ненароком отразилась в сочинениях Конан Дойля, достигла зенита своего самоуверенного могущества. Ее сила, как всемирное тяготение, - велика, привычна и незаметна.
О совершенстве этой социальной машины свидетельствует ее бесперебойность. Здесь все работает так, как нам хотелось бы. Отправленное утром письмо к вечеру находит своего адресата с той же неизбежностью, с какой следствие настигает причину, Холмс - Мориарти, разгадка - загадку.
Эпоха Холмса - редкий триумф детерминизма, исторический антракт, счастливый эпизод, затерявшийся между романтической случайностью и хаосом абсурда.
Если преступление - перверсия порядка, то оно говорит о последнем не меньше, чем о первом. Читая Конан Дойля, мы подглядываем за жизнью в тот исключительный момент, который кажется нам нормой.
Криминальная проза - куриный бульон словесности.
Детектив - социальный румянец, признак цветущего здоровья. Он кормится следствием, но живет причиной. Он последователен, как сказка о репке. В его жизнерадостной системе координат жертва и преступник скованы каузальной цепью мотива: кому выгодно, тот и виноват.
Если есть злоумышленник, значит, зло умышленно. Что уже не зло, а добро, ибо всякий умысел приближает к Богу и укрывает от пустоты.
В мире, где жертву выбирает случай, детективу делать нечего. Когда преступление - норма, литературе больше удаются абсурдные, а не детективные романы.
Цивилизованный мир Британской империи - главный, но тайный герой Конан Дойля, о котором он сам не догадывался. Да и мы узнаем о нем только тогда, когда, собрав рассыпанные по тексту приметы, поразимся настойчивости их намека.
Как Ленин, Конан Дойль торопится захватить все, что нас связывает: телеграф, почту, вокзалы, мосты, но прежде всего - железную дорогу: Холмс никогда не отходит далеко от станции, Уотсон не расстается с расписанием.
Возможно, в авторе говорил цеховой интерес. Рассказы о Холмсе - первая классика вагонной литературы. Они, мерные, как гири, рассчитаны на недолгие пригородные переходы. Единица текста - один перегон. Сочетая стремительность фабулы с уютом повествования, они идеально дополняют меблировку купе.
Детектив - дом на колесах. Лучше всего читать его на ходу. Всякая дорога потворствует приключениям. Нанизывая на себя авантюры, она выпускает случай на волю. У Конан Дойля, однако, железная дорога не нуждается в оправдании. Она помогает не сюжету, а героям: в купе они набираются сил.
Железная дорога - кровеносная система цивилизации. Делая перемещение бесперебойным, а остановки предсказуемыми, она покоряет пространство и время, укладывая стихию в колею прогресса. Здесь не может случиться ничего непредвиденного. Сюда запрещен вход случаю, ибо он угрожает главной ценности XIX века - размеренности движения.
Английская железная дорога - перенесенное из истории в географию наглядное пособие по эволюции, страстную любовь к которой Конан Дойль разделял со своим временем.
Холмс - живая цепь умозаключений. Его сила в последовательности рассуждения. Педантично прослеживая путь от мелкой подробности к судьбоносной улике, сыщик подражает природе, превратившей амебу в венец творения. Как Дарвин, Конан Дойль демонстрирует скрытые от непосвященных ходы эволюции. Он устанавливает связь между низшим и высшим - фактом и выводом.
Самому Холмсу важен не результат, а метод: «Всякая жизнь, - пишет он, - это огромная цепь причин и следствий, и природу ее мы можем познать по одному звену».
Страж порядка, Холмс обладает профессией архангела и темпераментом антихриста: его скрытая цель - заменить царство Божье. Тайное призвание Холмса - демистифицировать мир, разоблачив попытки судьбы выдать себя за высший промысел. Защищая честь своего разумного века, Холмс разоблачает чудеса, делает невозможное понятным и странное - ясным.
Как всем богоборцам, Холмсу мешает случай. Песчинка в часовом механизме вселенной, случай угрожает ее отлаженному ходу. Срывая покров невозмутимости с высокомерного лица цивилизации, случайность выводит мир из себя.
Тут на охоту выходит Холмс. Он кормится неожиданностями, как мангусты кобрами. Отказывая провидению в праве на существование, Холмс признает случайность либо ложной, либо слепой.
Окружающее для Холмса - текст, который он предлагает читать «по ногтям человека, по его рукавам, обуви и сгибе брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательных пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки…».
Прочесть вселенную - старый соблазн. Новым его делает то, что Холмс читает мир не как книгу, а как газету. Газета - волшебное зеркало детектива. Склеенное из мириада осколков, оно отражает мир с угловатой достоверностью снимков.
Газета - любимица Конан Дойля. Соединяя его с Холмсом и Уотсоном, она предлагает каждому упомянутому свои услуги.
Конан Дойль на газетах экономит - они заменяют ему рассказчика. Излагая обстоятельства преступления, газета дает всегда подробную, обычно ясную и неизбежно ложную версию событий. Газета отличается поверхностным взглядом, самоуверенным голосом и нездравым смыслом. Принимая очевидное за действительное, она предлагает вульгарное и единственно правдоподобное объяснение происшедшего.
Газета - шарж на Уотсона. На ее фоне и он блестит. Как слюда.
Холмса газеты окружают, как воздух, и нужны ему не меньше. Он умеет пользоваться газетами с толком: Холмс «достал свой огромный альбом, куда изо дня в день вклеивал вырезанные из лондонских газет объявления о розыске пропавших, о месте встреч и тому подобное. - Боже мой! - воскликнул он, листая страницы. - Какая разноголосица стонов, криков, нытья! Какой короб необычайных происшествий!».
Оказавшись в тупике, Холмс часто обращается к газете, чтобы найти там разгадку. Печатая ее черным по белому, Конан Дойль открывает секрет своего мастерства: ключ к преступлению у всех на виду и никому не виден. Кроме Холмса, назвавшего своей профессией «видеть то, что другие не замечают».
Прошлому веку газеты заменяли Интернет - они были средством публичной связи. Газетные объявления позволяли вести интимную переписку тем, кто не мог воспользоваться почтой. От чужого глаза приватный диалог укрывала ссылка на понятные только своим обстоятельства.
Разбирая птичий язык объявлений, Холмс замыкает преступную цепь на себе. Дальний отпрыск Фауста, он унаследовал от предка дар чернокнижника: Холмс читает газету, как каббалист - Тору.
Если Холмс - критик гениальный, то Уотсон - добросовестный, как Белинский. В окружающем Холмс ценит вещное, штучное, конкретное. Для Уотсона частное - полуфабрикат общего. Все увиденное он подгоняет под образец. Холмс сражается с неведомым, Уотсон защищается от него штампами: «Вошел джентльмен с приятными тонкими чертами лица, бледный, с крупным носом, с чуть надменным ртом и твердым, открытым взглядом - взглядом человека, которому выпал счастливый жребий повелевать и встречать повиновение».
Уотсон - жертва психологической школы, которая думала, что читает в душе, как в открытой книге. Холмс, как мы знаем, предпочитал газету.
Отдав повествование в руки не слишком к тому способного рассказчика, Конан Дойль обеспечил себе алиби. Холмс не помещается в видеоискатель Уотсона. Он крупнее той фигуры, которую может изобразить Уотсон, но мы вынуждены довольствоваться единственно доступным нам свидетельством. О величии оригинала нам приходится догадываться по старательному, но неискусному рисунку.
В Уотсоне Холмс ценит не биографа, а болельщика, который охотно признается, что «не знал большего наслаждения, как следовать за Холмсом во время его профессиональных занятий и любоваться его стремительной мыслью».
Спортивные достижения Уотсона важнее литературных. Чтобы мы об этом не забыли, Конан Дойль не устает напоминать, что Уотсон играл в регби. Для англичанина этим все сказано.
Спорт - кровная родня закону. У них общий предок - общественный договор. Смысл всяких ограничений в их общепринятости. Спортивный дух учит радостно подчиняться своду чужих правил, не задавая лишних вопросов. Именно так Уотсон относится к Холмсу.
Спортивность Уотсона противостоит артистизму Холмса.
Играя на стороне добра, Холмс не слишком уверен в правильности своего выбора. «Счастье лондонцев, что я не преступник», - зловеще цедит Холмс, и ему трудно не верить. Лишенный нравственного основания, он парит в воздухе логических абстракций, меняющих знаки, как перчатки.
Холмс - отвязавшаяся пушка на корабле. Он - беззаконная комета. Ему закон не писан.
Уотсон - дело другое: он - источник закона.
Уотсону свойственна основательность дуба. Он никогда не меняется. Надежная ограниченность его здравого смысла ничуть не пострадала от соседства с Холмсом. За все проведенные с ним годы Уотсон блеснул, кажется, однажды, обнаружив уличающую опечатку в рекламе артезианских колодцев.
Уотсон сам похож на английский закон: не слишком проницателен, слегка нелеп, часто неповоротлив и всегда отстает от хода времени.
Холмс стоит выше закона, Уотсон - вровень с ним. Ценя это, Холмс, постоянно впутывающийся в нелегальные эскапады, благоразумно обеспечил себя «лучшим присяжным Англии». Уотсон - посредственный литератор, хороший врач и честный свидетель. Само его присутствие - гарантия законности.
Холмс - отмычка правосудия. Уотсон - его армия: он годится на все роли - вплоть до палача.
Холмсу Конан Дойль не доверяет огнестрельного оружия - тот обходится палкой, хлыстом, кулаками. Зато Уотсон не выходит из дома без зубной щетки и револьвера.
Впрочем, у Конан Дойля стреляют редко и только американцы.
Парные, как конечности, устойчивые, как пирамиды, и долговечные, как мумии, Шерлок Холмс и доктор Уотсон караулят могилу того прекрасного мира, в поисках остатков которого мы приезжаем в Англию.
10.02.2005
КАК Я ЗАКОНЧИЛ ВЬЕТНАМСКУЮ ВОЙНУ
В Большой советской энциклопедии об этом ни слова
Как все, собираться в Америку мы начали с книг. В однотонный контейнер, однако, не влезали журналы, начиненные гражданскими опусами. Пришлось вырывать самое дерзкое: Лакшин, Тендряков, «Уберите Ленина с денег». Ободранные, как норки, листы нуждались в защите, и нам пришлось освоить ремесло переплетчиков. На обложки шел украденный в одной доверчивой конторе дерматин таежного цвета. Клеем служил сваренный бабушкой мучной клейстер. Его-то и обнаружили голодные нью-йоркские тараканы, когда багаж прибыл по месту назначения. Годами мы боролись с их алчностью, пока не переехали в чистый пригород.
Теперь знакомый запах будит лишь мой аппетит, когда я Синей Бородой спускаюсь в подвал, чтобы выбрать на ночь очередную жертву. Я знаю, что у моногамии есть свои сторонники. В Северной Каролине мне приходилось видеть целые магазины, торговавшие одной Книгой. Сам я, однако, люблю гаремами, что не мешает мне быть одновременно всеядным и взыскательным. Придирчиво осмотрев спереди и сзади (чтобы познакомиться с тиражом и корректором), я пробую ее наугад. Впопыхах нельзя влюбиться, но можно узнать, стоит ли стараться.
Опыт помогает отличить ту, которая ломается, от той, что и сама бы рада, да не знает, как помочь. Так у меня вышло с «Поминками по Финнегану». Поверив на слово, я отдал им три месяца. В начале четвертого, уже дойдя до 11-й страницы, я решил разделить удовольствие с товарищами по несчастью. Они провели с книгой много лет, но проникли в нее не глубже моего. В определенном смысле я, зная, как и автор, русский, оказался в выигрышном положении. Это выяснилось, когда мне удалось расшифровать непонятное всему миру слово «MANDABOUT». Зардевшись, я перевел: «Про это».
Устав от триумфа, я отложил Джойса на потом. Судя по тому, сколько книг там скопилось, «потом» - верная гарантия бессмертия. В Риге у меня был знакомый старичок, замуровавший книгами свою квартиру. Войти в нее можно было не дальше прихожей, которую он делил с малогабаритными любимцами - угрем в узком аквариуме и собачкой без хвоста. Несмотря на преклонный возраст, а вернее ввиду его, он каждый день покупал по книге, рассчитывая с их помощью отдалить неизбежное.
Мне чуждо суеверие. Я знаю, что умру, но верю, что не раньше, чем полюблю каждую, как папаша Карамазов.
- Обратного пути нет, - говорю я жене, ревнующей к библиотеке и подбивающей избавиться от балласта.
Сама она ищет в книгах пользы, читая из экономии одну и ту же: «Как реставрировать старую мебель».
- Вам нравится, - спросил мой наивный приятель, - реставрировать старую мебель?
- Нет, - удивленно ответила она, - мне нравится читать книгу о том, как реставрировать старую мебель.
Это я как раз понимаю. У меня самого хранится «Товарищ юного снайпера». Всякий свод бесполезных знаний - как звездное небо, прекрасное и недостижимое. Не зря чаще всего я люблю энциклопедии. Большую советскую, правда, пришлось отдать в нехорошие руки, после того как там не нашлось статьи «Вьетнамская война». Она оказалась в томе на «А»: «Агрессия американской военщины против трудолюбивого вьетнамского народа». Зато мне достался в наследство от одной вовремя развалившейся организации Брокгауз. Хотите знать, как делается вобла? Кто же не хочет. Из-за этого я и держал все 90 томов под рукой, пока в кабинете не просели балки.
Воспользовавшись тревогой, жена бросилась в атаку. Я сопротивлялся, как мог:
- Что значит «читал»? Что значит «знаешь, чем кончится»? А родной изгиб сюжета? А то место, где Джордж уронил в Темзу свою рубашку, думая, что она чужая?
Но перед угрозой строительного коллапса жертвы были неизбежны. Прощаясь, я три дня составлял «список Шиндлера». Остудив сердце и спрятав от греха подальше любимый сталинский раритет - «В Нью-Йорке левкои не пахнут», я углубился в самые пыльные полки. Обреченных набралось с три сотни, в основном стихи.
Дело не в том, что я их не люблю, суть в том, что их мало надо. Хорошего стихотворения хватает надолго, в идеале - навсегда. Поэтому я беру стихи в горы: спрессованное, как гороховый концентрат (отрада пионерского туриста), чтение. Остальные читаю дома - даже во сне. Знающее грамоту подсознание Фрейд бы назвал инверсией природы, но мне нравится этот вывих души, позволяющий и ночью не расставаться с автором.
Новичком я презирал Белинского за то, что он, простодушно переписывая полюбившееся, еще кручинился: «всего пересказать нельзя». Сегодня я его понимаю. О книгах надо писать, как о людях. Лучше всего мы помним тех, кто подставил подножку, вывел из себя и привел к иному. Даже лишенная событий жизнь испещрена такими встречами.
Пожалуй, только это и называется критикой. Другим занимаются евнухи. Не в силах любить, они знают о книгах все, кроме главного. Еще глупее те, кто читает, чтоб стать умнее. Эрудиция? Есть чем хвастаться. Знания, подаренные любовью, не требуют усилий: найдите в мире мальчишку, который бы не знал, что такое угловой.
Поэтому из всех демократических свобод больше всего я ценю ту, что позволяет читать, что хочется. С тех пор как меня перестала мучить брошюра «Как нам реорганизовать Рабкрин», по нужде я прочел лишь одну книгу: «Правила вождения автомобиля», чтобы забыть их сразу после экзамена.
17.01.2005
ЗИМОЙ В ВЕНЕЦИИ
В декабре даже в Италии темнеет рано
В городе N не было ничего ни знакомого, ни нового. Мне показалось, что я уже здесь был. Обобщенный пейзаж не обещал приключений. Город со стертой индивидуальностью нерасчленим, как болото. Ты идешь по улице, которая ничем не кончается. Впечатления ограничиваются голодом и мозолями. Перестав смотреть по сторонам, глядишь под ноги, но там уж точно нет ничего интересного. В нудных краях приходится думать о себе больше, чем хотелось бы. Я предпочитаю живописные окрестности.
Живя в ганзейской Риге, я думал, что все города такие же, только больше. Вмешиваясь - сам того еще не зная - в вечный спор «реалистов» с «номиналистами», я отрицал существование реалий и не понимал, что значит город вообще. Анонимный населенный пункт - человек без лица. С ним нельзя общаться, выпивать, целоваться. Хорошо, что людей таких не бывает, но с городами это случается. Лишенные исторической, а значит, чужой памяти, они вынуждены ее себе создать сами. Постороннему в этом не разобраться, и он бредет между скучных домов, как мимо спящих, не догадываясь об их снах.
Как во всем важном, масштаб тут ни при чем. В Риге, скажем, мне не хватало пространства: свой город я знал слишком хорошо. Только попав в Бруклин, я впервые встретился с тупым избытком урбанистского простора. Прохожий знал названный мною адрес и даже сказал, как туда дойти, но делать этого не советовал. Я все же отправился в простой путь по незатейливому проспекту. Три часа спустя номера домов стали пятизначными, но в остальном ничего не изменилось. Перемещение без впечатлений - чистый ход времени, ведущий только к старости. С тех пор я редко бываю в Бруклине и отношусь настороженно к незнакомым городам. Но и знакомые ведут себя по-разному, как я узнал зимой в Венеции.
В декабре даже в Италии темнеет рано, а когда ночь прячет архитектуру от завистливого глаза, в городе остаются только луна, вода и люди. Молодых немного, разве что - гондольеры. Один обнимал красивую негритянку. Она могла бы быть правнучкой Отелло, если бы тот доверял Дездемоне. Но в основном на улицах старики. Мягкое время года они пережидают в недоступных туристам щелях. Но морозными вечерами старики выходят на волю, как привидения, в которые можно не верить, если не хочется. Живя в укрытии, они состарились, не заметив перемен. Дамы все еще ходят в настоящих шубах.
За одной (она была надета на пышную, как Екатерина Вторая, старуху) я ходил весь вечер. Роскошное манто ныряло в извилистые проходы, сбивая с толку лишь для того, чтобы призывно показаться на близком мостике. Я шел по следу с нарастающим азартом, пока старуха окончательно не исчезла в казино. Только тут мне удалось остановиться: я хорошо помнил, чем заканчивается «Пиковая дама».
Старики в Венеции носят пальто гарибальдиевского покроя. По странному совпадению я сам был в таком. Полы его распускаются книзу широким пологом, скрадывающим движения и прячущим шпагу, лучше - отравленный кинжал. Сшитый по романтической моде, этот наряд растворяется в сумерках без остатка. Чтобы этого не произошло, поверх воротника повязывается пестрый шарф. Нарушая конспирацию, он придает злоумышленникам антикварный, как все здесь, характер. Поэтому каждому встречному приписываешь интеллигентную профессию: учитель пения, мастер скрипичных дел, реставратор географических карт.
Одну из них я как следует рассмотрел во Дворце дожей. К северу от моря, которое мы называем Каспийским, простиралась пустота, не населенная даже воображением. Карта ее называла «безжизненной Скифией». На другом краю я нашел Калифорнию. За ней расстилалась другая пустыня: «земля антропофагов».
Не пощадив ни старую, ни новую родину, венецианская география предложила мне взамен такую версию пространства, которая лишает его здравого смысла. Здесь все равно - идти вперед или назад. Куда бы ты ни шел, все равно попадешь туда, куда собирался. Тут нельзя не заблудиться, но и заблудиться нельзя. Рано или поздно окажешься, где хотел, добравшись к цели неведомыми путями. Неизбежность успеха упраздняет целеустремленность усилий. Венеция навязывает правильный образ жизни, и ты, сдаваясь в плен, выбираешь первую попавшуюся улицу, ибо все они идут в нужном тебе направлении.
Отпустив вожжи, проще смотреть по сторонам, но зимней ночью видно мало. Закупоренные ставнями дома безжизненны, как склады в воскресенье. Редкое жилье выдает желтый свет многоэтажных люстр из Мурано. Просачивающийся сквозь прозрачные стекла (в них здесь знают толк), он открывает взгляду заросшие книгами стены и низкий потолок, расчлененный балками, почерневшими за прошедшие века. Видно немного, но и этого хватает, чтобы отравить хозяина и занять его место.
Я поделился замыслом с коренной венецианкой, но она его не одобрила.
- Знаете, сколько в этом городе стоит матрас?
Я не знал, но догадывался, что с доставкой по каналам обойдется недешево.
- В наших руинах, - заключила она, - хорошо живется одним водопроводчикам: тут ведь всегда течет.
10.01.2005
ОРАНЖЕВАЯ ЕЛКА
И мы не знаем, чем жизнь кончается
Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря.
И. Бродский
В нашем доме собралось слишком много елочных игрушек. Рискуя показаться сумасшедшим, я все же признаюсь, что они выдавили машину из теплого гаража под обледеневший снег. Извиняет меня лишь то, что многие из них пересекли океан вместе с нами. Хрупкие, как первые воспоминания, они были чересчур ценными, чтобы оставлять их на произвол застоя. В результате первый Новый год в Америке мы справляли под щедро украшенной елкой, сидя на шатких стопках из собраний сочинений. Мне, помнится, достался Герцен.
Пристрастившись к блестящей, но невинной игрушечной жизни, мы жадно копили стеклянное хозяйство, пока не стало ясно, что игрушек набралось на целый ельник. С кризисом перепроизводства могла справиться только ротация. Каждый год наша елка щеголяет убором другого цвета. Иногда его диктует мода, часто - настроение, в этом году - политика. На спиленном в лесу - чтобы дольше стояло - дереве висят жовтно-блакитные шары, революционно подсвеченные оранжевыми лампочками, оставшимися от потустороннего (Рождеству) хеллоуина.
- Ты еще повесь на ветку глобус «Украина»! - вскипел Пахомов, увидав мою недвусмысленную елку.
Будучи раскаявшимся великодержавным шовинистом, Пахомов уже презирает Отчизну, но еще огорчается, когда ее становится меньше, чем было. Украина казалась ему слишком большой, чтобы за просто так ее отдавать Европе. Тем более что у той уже есть нечто похожее: когда Украине хотят сделать приятное, ее сравнивают с Францией, имея, правда, в виду скорее Тартарена, чем Бонапарта. К тому же «Три мушкетера» похожи на «Тараса Бульбу». Завидуя сытому, жизнерадостному теплу, мы видим в соседях себя в кривом зеркале - толще и с улыбкой. Поэтому и делить нам вроде нечего - разве что Гоголя.
- А Крым, - сердится Пахомов, - кому будет принадлежать?
- Каждому, - предположил я, - у кого хватит денег, чтобы слушать там Пугачеву.
- Демократия, - кричит Пахомов, - чревата гражданской войной.
- А диктатура - диктатурой.
- Панславянизм, - не утихает Пахомов, - «хоть имя дико, но мне оно ласкает слух». Чем хохлы удивят Европу? Жвачкой на сале? Нет, пропадут, - кручинится он, - наши хлопцы на чужбине.
- Как ты?
- Как все. Будто не знаешь, чем жизнь кончается.
Против лома нет приема. Когда Пахомов философствует, я слушаю молча, а думаю про себя.
Дело в том, что Украина мне не чужая. В пестром букете стран, которые я могу считать родными (среди них есть даже Румыния), ей досталось больше, чем другим. Одна моя бабушка не отличала Украину от России, другая считала первую причиной второй. Обе ссорились по всем поводам, кроме этого, говорили на суржике и считали Хрущева своим.
Я сам вырос в Киеве и думал, что знаю украинский, пока меня не разубедил коллега из нью-йоркской типографии с темным именем и смутным прошлым.
- Жiнка, - сказал пан Чума при знакомстве, - лiкує.
- Мы тоже рады, - осторожно согласился я, - что выбрали свободу.
- She is a doctor, - перевел он для дураков.
Должен сказать, что не знавших русского украинцев я встречал только в Америке. Сплоченные историей с географией, они всегда держались вместе, пекли лучший в Манхэттене черный хлеб (в силу диких заблуждений он назывался «колхозным») и в годы холодной войны ставили антисоветский гопак «Запорожцы пишут письмо Андропову».
Среди моих друзей, однако, украинский знает лишь профессиональный одесский писатель Аркадий Львов. Рассказывая о своих успехах на родине, он так ловко смешивает языки, что его нельзя отличить от Тарапуньки и Штепселя.
Сегодня этот двухголовый, как герб, эстрадный гибрид представляет не столько прошлое, сколько будущее, ибо русские становятся двуязычным народом.
Что бы ни говорил Пахомов, я не вижу в этом большой трагедии. Возможно, потому что, безнадежный провинциал, я даже в Нью-Йорке умудряюсь обитать на окраине (русскоязычной) империи. Страшно молвить, но опыт подбивает меня сказать: человеку идет жить в меньшинстве. Каждая вывеска на неродном языке служит прививкой демократии даже тогда, когда язык кажется не чужим, а двоюродным (по-чешски «черствые окурки» значит «свежие огурцы»).
Встречая с Пахомовым американское Рождество под оранжевой елкой, я горячо его убеждаю в том, что Европа - густо пересеченная чужими местность. Она - как хрустальная ваза на кухне коммунальной квартиры. Поэтому в такой цене важнейшее из искусств XXI века - умение делиться площадью с соседями.
- Так что, может быть, и неплохо, - заканчиваю я свой предательский панегирик, - что, не дожидаясь, пока Россия отыщет свой, как это у нее водится, петлистый путь в Европу, миллионы русских пробираются туда - как могут и с кем попало.
- Et tu, Brute, за Ющенко, - устало ответил Пахомов.
27.12.2004
ДЕНЬ ИНДЕЙКИ
В США прошел праздник Благодарения
Чтобы полюбить индейку, надо ее увидеть - живую и дикую. Однажды в лесу я чуть не наступил на нее и рад, что этого не сделал. Возмущенная птица вскочила на могучие, как у страуса, ноги, вытянула шею, развернула крылья и с гневным клекотом бросилась в атаку. С испугу она мне показалась размером с лошадь. Но и потом, когда мы уладили отношения, я не переставал поражаться ее статью. В диком индюке нет ничего от курицы. Индейки быстро бегают, неплохо летают и часто дерутся. Особенно холостяки, которые размножились в нью-йоркских окрестностях и, чувствуя себя тут хозяевами, вовсю гоняют белок, канадских гусей и даже енотов.
На тот случай, если кто подумал, что я преувеличиваю героизм знакомых пернатых, упомяну эпизод, который произошел накануне Дня благодарения в штате Огайо, в не таком уж маленьком городе Оберлин, университет которого, кстати сказать, известен прекрасной славистской кафедрой.
В центре города объявилась дикая индейка. Заявив свои права на окружающую территорию, она нападает на детей, кошек и собак. Одну семью она загнала в машину, где люди прятались от взбешенной птицы, пока та не ушла. Полиция получила 20 жалоб на нападения, но поймать индейку до сих пор не смогла.
Думаю, что эта индейка пережила нынешний День благодарения, роковой для 50 миллионов ее сородичей.
Конечно, сегодня американцы обычно имеют дело с замороженными тушками из супермаркета. Но началось-то все как раз с диких птиц, спасших пилигримов от голодной смерти. Память об этом придает традиционной жареной индейке на праздничном столе ритуальное значение. Это - американская (мясистая) версия манны небесной: Бог, как считали благочестивые пуритане, послал ее праведникам, чтобы ободрить их в дни тяжелых испытаний.
В отличие от других мифов этот мы не должны принимать на веру. История сохранила документированные свидетельства о самом первом Дне благодарения. Его описание вошло в записки первого губернатора колонии Уильяма Брэдфорда.
Новая Англия, осень 1621 года, пуритане готовятся к неизбежно тяжелой, как они уже узнали на своем опыте, второй зиме в Новом Свете: «Кроме водоплавающих птиц много было диких индеек, которых добыли множество. Многие написали тогда друзьям о том, как сытно живут, и то была истинная правда».
Благодаря Новый Свет за гостеприимство, пилигримы решили устроить праздник. Сведения об этом сохранились в записях другого поселенца, Эдварда Уинслоу: «Четверо охотников убили столько дичи, что ее хватило и нам, и гостям-индейцам почти на неделю. Три дня мы посвятили играм, упражнениям и обильной трапезе». Сохранился список пилигримов, принимавших в ней участие: «Всего на обеде был 51 колонист». Известны имена и фамилии каждого: уже знакомые нам Брэдфорд и Уинслоу, а также Олден, Эллертон, Биллингтон, Брюстер, Браун и другие. Со временем их потомки стали американской знатью. Их имена мелькают на страницах исторических книг, встречаются на географической карте, в названиях прославленных университетов - например, род-айлендский «Браун».
Пилигримов принято называть духовными отцами нации, а их скромное торжество стало самым интимным праздником Америки. Уже четвертый век в четвертый четверг ноября в каждом американском доме разыгрывается мистерия на манер тех, что знала и любила средневековая Европа. Сходство идет дальше, ибо в День благодарения воспроизводится ключевой эпизод священной истории американского народа. В этот день выходцы из Европы заново скрепляют магическую связь с землей Нового Света.
Народы Старого Света растеряли свои корни в седой и легендарной древности. Их происхождение всегда находится за пределами документа, вне истории. Американцы же по именам знают своих предков, по дням и часам могут перечислить события своего прошлого. Нация, которая помнит свое рождение, так же необычна, как человек, вспоминающий обстоятельства своего появления на свет.
Приехав в Новый Свет, Набоков написал своей горячо любимой сестре письмо с признанием в любви к Америке. Кончалось оно так: «Страну эту я люблю. Наряду с провалами в дикую пошлость, тут есть вершины, на которых можно устроить прекрасные пикники».
Может быть, лучший из таких «пикников» - День благодарения. Я говорю так еще и потому, что из всех американских праздников лишь он стал моим. Я, конечно, люблю Рождество, но мы с семьей его отмечали еще в России. В этом была некая фронда, приближающая к Западу. Тем более что в Риге, где я вырос, рождественские традиции жили и в советское время. Языческий хеллоуин я научился праздновать уже в Нью-Йорке, но ничего специфически американского в нем нет: черти - везде черти. А вот 4 июля так и осталось для меня добавкой к уикенду - праздник чужой революции, день ненашей независимости.
Зато последний четверг ноября - уж точно красный день в календаре любого эмигранта. Этот интимный праздник будто специально приспособлен для выяснения личных отношений с Новым Светом. Что я, собственно, и делаю последние четверть века. Но опыт - серебряная свадьба с Америкой - не прибавил ясности моим ощущениям.
Дело в том, что об Америке очень трудно писать честно. Нам ведь только кажется, что искренность - продукт волевого усилия. Чаще добрых намерений ей мешают беспомощность, дефицит даже не опыта, а концептуальных конструкций, выстраивающих его в умопостигаемый и внятный отчет. То, что я живу в этой стране четверть века, скорее мешает, чем помогает.
Иногда мне кажется, что раньше я знал Америку лучше. Издалека она ничем не отличалась от всех стран, где я не бывал, - ведь я вычитал ее из книжек. У Романа Якобсона есть замечательно точная фраза: «Говорить о жизни на основании литературных произведений - такая благодарная и легкая задача: копировать с гипса проще, нежели зарисовывать живое тело».
Книги мало что говорят о жизни, потому что они не имеют с ней дела - писателей интересует не норма, а исключения - Отелло, Макбет, Моби Дик…
В сущности, переезд через океан изменил ситуацию меньше, чем должен был бы. Даже живя в стране, я чаще всего сужу о ней по отражениям. Иногда умным, как в «Нью-Йорк таймс», чаще простым, как Голливуд. Самое сложное - проникнуть в обычную жизнь. Прозрачная, как оконное стекло, она не оставляет впечатлений.
Вспоминая сотни страниц, которые я написал об Америке, я поражаюсь тому, как в них мало американцев. Все больше - география с историей. Моя Америка пуста и прекрасна, как земля на пятый день творения.
Философ Сантаяна говорил: «Америка - великий разбавитель». На себе я этого не заметил. Видимо, есть в нашей культуре нерастворимый элемент, который сопротивляется ассимиляционным потугам.
Америка, впрочем, никого не неволит. Она всегда готова поделиться своими радостями - от бейсбола до жареной индюшки, но и не огорчится, если мы не торопимся их разделить: свобода.
- Свобода быть собой, - важно заключил я однажды, выпивая в компании молодых соотечественников.
- Ну, это не фокус, - возразили мне, - ты попробуй стать другим.
Это и впрямь непросто, да и кому это надо, чтобы мы были другими? Меньше всего - Америке. Она уважает различия, ценит экзотику, ей не мешают даже те чужие, что не желают стать своими. Но вообще-то ей все равно. Она не ревнива.
Пожалуй, именно за это я ей больше всего благодарен: Америка не требует от меня быть американцем. У нее нет одной культуры, одной расы, одной традиции. Здесь нет общего знаменателя, без которого немыслима каждая страна Старого Света. Открытая для всех, Америка предоставляет каждому оставаться самим собой.
Конечно, быть собой можно везде, но, скажу я, суммируя 25-летний опыт, в Америке с этим все-таки проще. Только она дарит человеку высшую свободу - вежливое безразличие. Каждый пользуется Америкой как хочет, и как может, и как получится. Не она, а ты определяешь глубину и продолжительность связи - от полного растворения до абсолютного изоляционизма. Америка признает двойное гражданство души. И эта благородная терпимость оставляет мне право выбирать, когда, как и зачем быть американцем.
29.11.2004
БЛУДНЫЙ БУШ-СЫН ИЛИ КЕРРИ-ЗЯТЬ?
Если бы президент был вашим родственником
Демократия - темное дело. Она смешивает сознание с подсознанием в той пропорции, что делает ее скорее искусством, чем наукой. Чтобы понять, в какой мутной воде приходилось ловить рыбу кандидатам, возьмем, к примеру, одну семью - мою.
Отец, который ни от кого не скрывает своих убеждений (что, надо сказать, и довело его до Америки), - стойкий республиканец. Большой любитель поесть, он не снимает надписанную ему фотографию Рейгана с дверцы холодильника. Зная, что я не одобряю партийной принадлежности обоих, отец поклялся до выборов говорить со мной только о рыбалке.
С женой - сложнее. Предпочитая всем изданиям журналы мод, она всегда интересовалась нарядами первых леди, а не делами их скучных мужей. Все, однако, изменила война в Ираке. Следя за ней изо дня в день, жена заодно втянулась в предвыборную кампанию и стала столь азартным знатоком недостатков Буша, что решила отдать свой голос Керри.
Наслушавшись семейных споров, мой брат пошел другим путем. Сказав, как Шекспир, «чума на оба ваши дома», он пойдет голосовать за безнадежного кандидата от третьей партии - Нейдера. И только моя мудрая мать, решив не встревать в политические дрязги, приняла безответственное и всех примиряющее решение: она останется дома печь пироги. Таким образом, завтра наш небольшой, но вздорный клан исчерпает все варианты поведения в решающий вторник.
Если одной семье удается совместить такой пестрый пучок убеждений, то что говорить о целой стране, мучающейся альтернативой!
Выбирая себе президента, Америка, в сущности, голосует за чужого человека, с которым она будет вынуждена следующие четыре года делить гостиную. Чтобы впустить в нее постороннего, американцы должны увидеть в нем родственника.
Вопрос - какого?
Из всех президентов, которых я за четверть века застал в Новом Свете, самым необычным был Джимми Картер. По-моему, он приходился Америке дядей. Порядочный, интеллигентный, толковый (физик), но слегка чудаковатый (на инаугурацию пришел в джинсах), немного не от мира сего, симпатичный идеалист и, конечно, неудачник, Картер был тем любимым родственником, о ком не говорят с соседями. Рейган выбрал себе куда более выигрышную роль: румяный, бодрый дедушка, калифорнийский Санта-Клаус. Он очаровал Америку снисходительностью. Ему все прощалось, потому что и сам он готов был многое прощать. Деду строгость не положена: детей воспитывают, внуков балуют.
Старший Буш провел слишком много лет в тени Рейгана - под крышей Белого дома. Неудивительно, что, когда пришло его время, он устроил тихий бунт. Если вице-президентом Буш являл собой образец лояльности, то, оказавшись президентом, он стал тем, за кого Рейган себя выдавал. Один говорил о религии, другой ходил в церковь. Первый рассуждал о важности семейных уз, второй окружил себя любящей семьей. От Буша исходила эманация пуританской строгости, замешенной на новоанглийских добродетелях: терпении, настойчивости, трудолюбии, умеренности, хороших манерах, спортивной честности, джентльменской щепетильности. Что не помогло этому Бушу задержаться в Белом доме. Возможно, ему помешал образ сурового отца, всегда готового прочесть нотацию разбалованным Рейганом избирателям.
Так и не освоив «искусство быть дедом», Буш-старший уступил Клинтону, которому возраст и поведение (вроде игры на легкомысленном саксофоне) позволяли играть лишь одну роль - брата, кому - старшего, кому - младшего. О том, насколько удачен был этот образ, говорят два президентских срока. Вооруженный неумным либидо, хрипловатым голосом и мальчишеской улыбкой, Клинтон сохранил симпатии Америки, сказавшей в разгар знаменитого скандала: «Разве я сторож брату моему?».
С Бушем-младшим - все просто. Он так и называется - «Буш-сын», причем блудный сын. Пережив в молодости трудную борьбу с алкоголем, Буш нашел себе веру. Он не думает, а знает, что Бог есть. Убедившись на собственном опыте в том, что вера делает людей сильнее, а мир лучше, Буш сумел вернуться к семейному (президентскому) очагу другим человеком. И этого ему не забыла та - милосердная - часть избирателей, которая любит раскаявшегося грешника больше праведника, не знавшего искушения.
Если Джон Керри и станет президентом, то ему все равно не попасть в число кровных родственников Америки. Зная три языка, не считая немецкого, умея готовить буайбес, разбираясь в старых винах и еще более старых картинах, читая наизусть Киплинга и Элиота, Керри слишком не похож на рядового американца, чтобы быть им. Поэтому он может войти в семью избирателей только на правах зятя.
Если, конечно, большая часть Америки согласится отдать ему руку и сердце.
01.11.2004
ПРАВО УБЕЖИЩА
Уроки нечеловеческого бытия помогают склеить душу, расколотую страхом и сомнениями
Сегодня в Нью-Йорке не слишком уютно живется. Начатая террором война идет уже три года. Хуже всего, что никто не знает, где проходит линия фронта. Живя без тыла, мы уже привыкаем ждать удара всегда и отовсюду. Хотя этот повседневный, ежеминутный груз тревоги стал обычной ношей, не замечать его нельзя. Особенно в Нью-Йорке, который пострадал больше других, да и мишенью остается заметной - не промахнешься.
Зная о своей уязвимости, город снимает психологическую усталость по-своему. Никогда на моей памяти здесь не были так полны музеи и так пусты рестораны. Люди ищут утешения в кругу либо муз, либо семьи. Но есть еще один способ ненадолго вырваться из плена военных забот, чтобы забыть об окружающем…
Заповедник, где я лечусь от стрессов военного времени, расположен между двумя транспортными артериями - шумной автострадой, привозящей пригородных жителей на городскую работу, и трудолюбивым Гудзоном, тесным от бесконечных баржей, сухогрузов и танкеров. Трудно найти в Америке более густозаселенное место. Ведь этот пятачок зелени - часть того 14-миллионного Большого Нью-Йорка, который так привольно раскинулся на землях трех штатов, что никто толком не знает, где он кончается. До моста Джорджа Вашингтона, соединяющего Манхэттен с Америкой (или Америку с Манхэттеном, как считают обитатели последнего), отсюда всего пять миль. Даже на велосипеде - полчаса. Тем удивительнее контраст, покоряющий каждого, у кого есть ключ от ограды, охраняющей от внешней реальности эту часть нью-йоркской природы.
Проволочная сетка в два человеческих роста окружает кусок Америки размером в 60 футбольных полей (я специально перевел невнятные акры в более наглядные единицы). Забор нужен для того, чтобы не пускать посторонних внутрь, а своих (здешних зверей) - наружу. Вход только для членов клуба, которым в обмен за ежегодный взнос в 40 долларов торжественно вручаются ключ и правила поведения.
Строгий, как в монастыре, устав запрещает тут делать все, чем мы обычно занимаемся, когда выбираемся на природу. Здесь нельзя есть, пить, курить, лаять, сорить, загорать, слушать музыку, читать газеты, собирать флору и приставать к фауне. Категоричность запретов сводит наше воздействие на среду до того минимума, когда от человека остается одна тень. Даже следы не отпечатываются на каменистых тропах, заботливо проложенных так, чтобы не мешать птицам гнездиться, цветам - расти и зайцам - переходить дорогу.
Скромность, а точнее, смирение, которого требуют правила, радикально меняет наши отношения с природой. Не гордым хозяином, а робким гостем мы входим в чужой дом. Разницу чувствуем не только мы, но и они - звери. Дураков нет, во всяком случае в заповеднике. Поняв что к чему, сюда перебрался один Ноев ковчег животных. Только птиц - 245 видов, включая хлопотливую стаю диких индеек, выводок шумных дятлов, меланхолического аиста-холостяка и молодого белоголового орла, позволяющего фотографировать свой государственный профиль. В пруду живут карпы размером с ванну, верткие нутрии и кусачие (это порода, а не характер) черепахи, откладывающие мягкие яйца (сам видел) на маленьком пляже. А в соседнем болотце одной лунной ночью мне повезло стать свидетелем романтической сцены - любовного ритуала лягушек. Теперь я точно знаю, откуда берутся головастики. Такого вам в секс-шопе не покажут.
Есть в заповеднике и хищники - одичавшие собаки, которым ничего не стоит перебраться через забор, и семейство осторожных лис (весной их, как нас и тех же лягушек, обуревает любовь, и тогда в лесу пахнет ванилью, словно в пекарне). Но чаще всего мне встречаются в заповеднике олени. Многих я знаю в лицо, но они все еще не привыкли. Ходят за мной, как приклеенные, и рассматривают. Видимо, я им кажусь даже более интересным, чем они мне. Конечно, в этой идиллии, как и в нашем мире, не обходится без войн. То на кости наткнешься, то на перья. Как-то я даже видел змею, поглощающую угря. (Сюрреалистическое, надо сказать, зрелище: единоборство двух шлангов.) Но хоть в эти схватки мы не вмешиваемся. На чужой территории нам приходится воздерживаться от давней привычки - отделять зерно от плевел, защищать добро от зла и разнимать палача с жертвой.
Этот карликовый Эдем называется «Greenbrook Sanctuаry». Первое слово - название ручья, игривыми зигзагами пересекающего лес, чтобы обрушиться скромным водопадом со скал, украшающих нью-джерсийский берег Гудзона. Со вторым словом - сложнее. «Sanctuаry» - не просто заповедник, это - еще и «убежище», причем в том древнем, дохристианском смысле, о котором мы давно забыли, а сейчас так кстати вспомнили.
Первобытные народы отводили часть своей земли под заповедные участки, которые строго охранялись от всякого ущерба. Экологическую чистоту, за которой так свирепо следили, оправдывало присутствие духов, населявших отведенные - или захваченные ими - места. Человек сам себе ставил переделы в своем неостановимом преображении природы в культуру. Объявив определенную часть мира неприкосновенной, он назвал ее священным убежищем - от нас и для нас. Даже попавшие туда преступники оказывались в безопасности (потом это право убежища перешло к церкви, которая пользовалась им вплоть до XVIII века). Живущих в священной роще богов нельзя было раздражать видом кровопролития. Им не было дела до счетов, которые люди сводят друг с другом. Так, защищенную могучими табу природу не оскверняли ни корысть, ни трудолюбие, ни дрязги. Предоставленная самой себе, она жила по своим, а не нашим законам.
Именно такой - архаический - статус охраняет наш заповедник. Он служит убежищем не только для зверей, но и для людей, хоть на час убегающих сюда от культуры, которую они же и создали. Входя сюда, мы оказываемся по ту сторону цивилизации. И не только потому, что из всех ее примет здесь одна избушка натуралистки, следящей за не ею установленным порядком, но и потому, что соприкосновение с нетронутой природой меняет строй души, омолаживая ее на несколько тысячелетий.
Уроки нечеловеческого бытия помогают склеить душу, расколотую страхом и сомнениями. Природа - своего рода бомбоубежище, где можно перевести дух в безучастной среде, прежде чем вернуться в наш переполненный эмоциями мир.
Однако для такого терапевтического воздействия лучше всего подходит та часть природы, к которой мы не имеем отношения: не клумба, а лес, не курица, а чайка, не пляж, а болото, не прирученная, а дикая природа, которую с такой предусмотрительной заботой американские города спасли от одомашнивания.
Прекрасный австрийский писатель Йозеф Рот, чей сборник довоенных эссе только что вышел в Америке, очень точно определил, чего не хватает современному человеку в общении с природой: «Природа приобрела цель. Ее задача - развлекать и умилять нас. Она больше не существует сама для себя. Летом она представляет нам рощи для пикников, озера для гребли, поляны для загара, закаты для экстаза, горы для восхождений и пейзажи для загородных прогулок. Мы бедекеризовали природу».
«Бедекер», как всякий путеводитель, делает из природы достопримечательность. Он помещает ее в один разряд с музеями, дворцами и замками. Хотя, с точки зрения природы, достопримечательность - скорее мы.
Превращая лес и горы в объект осмотра, мы забываем, что она, природа, «не нашей работы», что главное ее свойство - нерукотворность. Она в отличие от нас была всегда. Мы для нее - случайная выходка эволюции. Может, она и не в силах исправить эту ошибку, но это еще не повод, чтобы нам об этом забывать.
Робко приходя к ней в гости, человек встречается с миром, не предназначенным для него. Оттого природа и кажется безразличной, что мы на нее не похожи. Дерево не знает, что оно - часть пейзажа. Оно живет само по себе. И эта принципиально иная жизнь дает нам материал для сравнения. Безразличие природы лечит, меняя привычный масштаб. Мир был до нас и будет после нас. Человек в нем гость, причем незваный. Безучастность природы выводит из себя. Зато нам есть куда вернуться.
28.10.2004
ОН СНИМАЛ ЛЮДЕЙ НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗМЕРА
И ненаписанной драмы Памяти Ричарда АВЕДОНА
81-летний Аведон умер, снимая предвыборную кампанию, исход которой ему уже не узнать. Это случилось в Техасе, вдалеке от его родного во всех отношениях города.
Как и положено коренному ньюйоркцу, Ричард Аведон ведет свое происхождение из России, откуда в конце XIX века эмигрировали его предки. Первой моделью 10-летнего фотографа был сосед - Рахманинов. Потом он развивал «русскую тему» портретами Стравинского, Горовца, Бродского.
Его снимки в послевоенной Италии - бродячие музыканты и оборванные мальчишки - живо напоминали неореалистический кинематограф. Но уже тогда Аведон смешивал репортажный натурализм с гротеском в крутой, почти феллиниевской пропорции. С годами мастерство фотографа росло вместе с натурализмом и гротеском: всего становилось больше.
Эти противоречивые достоинства Аведону удалось объединить в столь неподходящем жанре, как портрет. Большую славу ему принесли снимки знаменитостей - Чарли Чаплина, Армстронга, Мэрилин Монро. Последняя, как считают критики, удалась лучше других. Слава сидит на ней, как платье слишком большого размера.
Но часто сами люди у Аведона нечеловеческого размера. Выпрыгивая с белого листа на зрителя, они больше, чем в жизни. Искажение масштаба остраняет предельный натурализм фотографий. Выписанное камерой до последней морщинки лицо становится фактурой. В такой объективной до сарказма манере узнается сильное влияние поп-арта. Образцовой работой этого периода стала фотография Энди Уорхола - единственный портрет без лица. Вместо него - простреленный живот художника. Исполосованное шрамами тело превратилось в натюрморт, в один из тех экспериментов с бессодержательным искусством, которым был знаменит сам Уорхол.
Снимки Ричарда Аведона - иконы нашего времени. По ним мы судим о своей эпохе, даже не замечая этого. Эти фотографии стали «ментальной мебелью». Аведон обставил нашу память, сформировав ту галерею звезд, без которой не существовало бы современной культуры.
Аведона часто называли фотографом знаменитых. «Я снял почти всех в мире», - говорил он. Аведон действительно создал клуб избранных. Пропуском служила шумная известность. Однако лучшие его снимки - портреты ничем не примечательных людей, которые перестали ими быть после того, как они попали в камеру Аведона. Из Колорадо, Техаса и Нью-Мексико он привез целую портретную галерею простых американцев - фермеров, бродяг, официанток, нефтяников, сезонных рабочих. Выполненные в той же гиперболизированной манере, эти снимки производят загадочное, почти мистическое впечатление. Фотографируя случайных встречных, Аведон любуется их безвестностью и неповторимостью. На каждом портрете лежит тень тайны, которая превращает людей в героев неизвестной нам, еще не написанной драмы. В отличие от портретов артистов, художников, музыкантов и политиков, за которыми стоят их дела, об этих людях мы ничего не знаем. Они могут быть кем угодно - героями, святыми, убийцами, жертвами. О каждом из них можно было бы снять фильм, написать роман или спеть песню.
Что делает их столь значительными? Чем они завораживают нас? Почему их взгляд жжет затылок? Этого мы не знаем и не узнаем.
Величие Аведона в том, что для него нет толпы. Вглядываясь в чужого человека, он снимает не лицо, а душу - темную, непрозрачную и потому пугающую. Будто зная о своей тайне, люди на этих портретах смотрят в камеру с сосредоточенной серьезностью.
Впрочем, не только на этих - на всех портретах Аведона модели никогда не улыбаются. Как-то мне пришлось слышать, как мастер объяснялся по этому поводу со зрителями. «Видите ли, - сказал он, - художникам не дается изображение улыбки. Единственное, да и то сомнительное, исключение - Джоконда».
Драматический эффект, которого, собственно, и добивался фотограф от своих работ, создается подчеркнуто аскетическими средствами. Я бы назвал его манеру «минималистской гигантоманией».
Прославившись изобретательными фотографиями в журналах мод, Аведон решительно отказался от всех приемов, когда в конце 50-х занялся чистым искусством. У него не бывает хитрых поз, острых ракурсов, экстравагантного задника и, конечно, никакого цвета. Черно-белая палитра с предельно четко прочерченным абрисом, фронтальная композиция, яркий свет, не признающий игры светотени, - все это напоминает благородную простоту античной статуи или даже колонны. Ничего лишнего и ничего случайного.
В век папарацци, когда фотограф превратился в охотника на знаменитостей, Аведон культивировал взаимное уважение портретиста и модели. Они встречаются на равных. Достоинство уверенного в своем искусстве маэстро придает снимкам Аведона старинное, почти забытое очарование. Это - парадные портреты в лучших традициях. Художник не приукрашивает модель, не прячет ее недостатков, но он всегда относится к ней с величайшей серьезностью и пониманием.
Модели Аведона часто смотрят прямо перед собой, но они глядят не на зрителя, а мимо него. Так, лицо старого Эйзенхауэра незаметно растворяется в белом фоне. Остаются одни глаза, в которых отражается прозрачный свет - уже потустороннего происхождения.
Все портреты Аведона отличает общая черта - интенсивность изображения. Это не слишком понятное, но безошибочное свойство художественного произведения легче ощутить, чем описать. Персонажи Аведона электризуют воздух. Присутствие этих людей настолько очевидно, что с ними трудно делить пространство. Они способны выжить зрителя из комнаты. Поэтому я, даже если бы у меня хватило денег, никогда бы не повесил работу Аведона дома. В гости прийти - другое дело.
Особенно к поэтам. По-моему, их Аведон понимал лучше всех. Он и сам хотел быть поэтом - и стал им. Поэтому так глубока и трагична фотография Эзры Паунда. Только что выпущенный из сумасшедшего дома поэт снят с закрытыми глазами. Болезненная гримаса, измученное лицо. Так мог бы выглядеть Эдип, познавший всю глубину своих заблуждений.
Но больше всего мне нравится портрет Одена. Великий поэт снят в зимнем Нью-Йорке. Статный, грузный, уже пожилой, с непокрытой головой, в облепленном снегом пальто, он стоит посреди города, словно забыв, зачем сюда пришел. Его взгляд одновременно сосредоточен и рассеян. Он смотрит на то, что недоступно зрителю. В этом взгляде - квинтэссенция поэзии, которую Оден (в предисловии, кстати сказать, к сборнику Бродского) объяснял с кристальной лапидарностью: «Поэт обладает необычайной способностью видеть в материальных предметах сокровенные знаки - видеть их как посланников невидимого».
Трактуя это по-своему, Аведон писал: «Фотография - не факт, а мнение. Все снимки - документальные, ни один из них не правдив».
04.10.2004
ОПАСНЫЕ СВЯЗИ, или НАЗАД К ЦИВИЛИЗАЦИИ
Нью-Йорк - город зрелищ, точнее - город-зрелище. В отличие от других мировых столиц - Лондона, Парижа, Петербурга - он, как бы мы ни любили О. Генри, не поддается литературному освоению. Даже Бродский признавал этот обидный для читателя факт. «Нью-Йорк, - говорил поэт, - мог бы описать только супермен, если бы он решил сочинять стихи».
Пока это не предвидится, и свои, и чужие полагаются на зрительные образы, которые выбалтывают городскую подноготную в свойственной Нью-Йорку манере - громко, но загадочно. Часто город говорит с нами архитектурным наречием, охотно - диалектом витрин, обычно - «шершавым языком плаката», рекламного, конечно.
Если западная столица Америки славится фабрикой иллюзий, то восточную можно назвать мастерской штампов, или, что то же самое, - лабораторией архетипов. Там, где в Лос-Анджелесе Голливуд, в Нью-Йорке - Мэдисон-авеню. Рекламная версия видеократии не разбавляет, как кино, а прессует, как картина, увеличивая емкость образа до того предела, за которым покупатель тянется к бумажнику. (Все знают, что из тертого ньюйоркца легче выдавить слезу, чем доллар.)
Живя в тесном родстве со своим старшим братом, реклама охотно пользуется его покровительством. В Нью-Йорке не обязательно ходить в музеи, чтобы узнать, какая выставка пользуется сенсационным успехом. Модное выплескивается на улицы афишами и покроем, определяя на сезон стиль города, его изменчивый и навязчивый облик.
Каким только я ни видал Нью-Йорк за проведенные в нем четверть века! Перебирая долгую чехарду школ и манер, я чаще всего вспоминаю отечественные влияния. То это были конструктивисты, выползшие с уже легендарной выставки «Великая утопия» в Гуггенхайме, то Родченко из Музея современного искусства, чьи увеличенные до целой стены коллажи стали визитной карточкой Гринвич-Вилледж. Но лучше всего ужился с Нью-Йорком, конечно, Малевич, надолго зашифровавший город своим супрематизмом.
Оно и понятно. Опережая календарь, Нью-Йорк всегда любил будущее, в жертву которому русское искусство так охотно приносило настоящее. Сегодня, однако, этот футуристический брак распадается, причем, как все в Нью-Йорке, - прямо на наших глазах.
Сходит на «нет» функциональный минимализм, которому город обязан длинными улицами плоских коробок. Линяет моя любимая эстетика Сохо, романтизировавшая индустриальные руины. Но главное - мельчает пафос больших градостроительных идей.
Убедительнее всего это показал конкурс на лучший проект комплекса, призванного заменить разрушенные «близнецы». Именно убожество предложений, разочаровавших и мир, и город, доказывает, что Нью-Йорк перестал вписываться в созданную, казалось бы, прямо по его выкройке идиому модернизма. На смену ему, решусь сказать, идет не новый стиль, а старое мировоззрение, заново открывающее отвергнутую тремя предыдущими поколениями цивилизацию.
Как теперь принято говорить по любому поводу, все началось 11 сентября. В Нью-Йорке все еще трудно найти людей, которые бы ни рассказывали друг другу о том, что они видели в тот день Я, конечно, не исключение. Тем более что с другого берега Гудзона, на котором стоит наш дом, происходившее выглядело в наиболее убедительном ракурсе.
С набережной «близнецы» смотрелись рекламой очередного боевика. Одна башня горела черным пламенем, вторая, будто для контраста, сверкала под осенним солнцем. Внезапно жанр сменился. Нетронутый небоскреб окутал стройный столб белого дыма. Западный ветер относил звуки в океан, и кино было немым. Вместе с облаком рассеялась и башня. Взрыв просто вычеркнул ее из прозрачного неба. В легкости этого исчезновения было что-то библейское, противоестественное.
Картина разрушения так походила на голливудскую, что все затаив дыхание ждали того, что неизбежное венчает американский фильм. Не обнаружив счастливого конца, страна отправилась за ним в кино.
В самом деле, я живу в городе, оказавшемся первой жертвой новой войны. Алчный купец и богемный художник, Нью-Йорк, напрочь лишенный героического прошлого, - пацифист по своей натуре. Поэтому свою первую антивоенную демонстрацию он учинил на третий день после атаки. Она состоялась в паpке Юнион-сквеp, на 14-й стpит. Все yлицы южнее были закpыты для движения. Cпасатели с собаками еще надеялись найти выживших, дыpа на месте «близнецов» дымилась, и люди ходили в масках - дышать было тpyдно. Если yчесть место и вpемя, то надо признать, что yчастие в пpотесте тpебовало немалого мyжества от его yчастников - ведь погибших еще не yспели опознать…
С тех пор прошло три года - и жизнь вошла в колею, но не в свою, а в чужую. Война стала политикой, страх - условием существования. Ньюйоркцы привыкли ругать Буша, с испугом открывать газеты и проходить через металлоискатели, ставшие самой непременной частью городского пейзажа.
Постепенно приспосабливаясь к реальности ХХI века, мы подсознательно ищем ему стилевую рифму, без которой не умеем обжить свое время. Предыдущее столетие, как писали его философы - от Бердяева до Умберто Эко, считало себя «новым средневековьем». Окончившись падением Берлинской стены, эта бурная эпоха перепрыгнула, как тогда думали многие (и я в их числе), в викторианский ХIХ век с его головоломным геополитическим пасьянсом, хитрой дипломатической игрой, сложным балансом сил и степенным движением к «концу истории». Но на самом деле это была лишь благодушная интермедия, затесавшаяся между двумя одинаково грозными веками. По-настоящему новое столетие началось лишь 11 сентября, когда нам открылась его сквозная тема - борьба с варварством.
Суть этого переворота в том, что измученный тоталитарной гиперболой ХХ век, век Пикассо, «зеленых» и хиппи, любил «благородного дикаря», обещавшего освободить нас от бремени цивилизации. С этим справился террор.
Даже сегодня, после трех лет экспертизы и целой библиотеки аналитических книг, мы так толком и не знаем, кто и за что с нами воюет. Зато каждому ясно, что главной жертвой этой войны может стать цивилизация, та хитроумная машина жизни, работу которой мы перестали замечать, пока террористы не принялись уничтожать ее детали. Взрывая и нивелируя, террор компрометирует прежнего идола - простоту, возвращая всякой сложности давно забытое благородство.
Перед угрозой нового одичания Нью-Йорк стал полировать свои манеры. Во время прошлогоднего «блэк-аута» в съеденном беспросветной тьмой городе царило дружелюбие с эстетским оттенком. «Сгорел амбар - стало видно луну», - цитировали старинную японскую хокку ньюйоркцы, спокойно укладываясь спать на тротуары.
И так во всем. Омраченная потрясением жизнь образует сегодня иной, более изысканный узор. Никогда Нью-Йорк так не был чуток к дизайну, к оттенкам красоты и нюансам вкуса. Война обострила радость цивилизованных мелочей, повысила эстетическую чувствительность города, придав ей подспудный, но демонстративный характер: скорее Уайльд, чем Толстой.
Чуждый амбициозному плану Вашингтона улучшить весь мир, Нью-Йорк стремится украсить хотя бы себя. Характерно, что быстрее всего сегодня у нас растет сеть магазинов «Домашнее депо», торгующих тем, что может придать блеск и уют вашему жилью.
Так напуганный грядущим Нью-Йорк ищет спасения в старом рецепте Вольтера: «Я знаю также, - сказал Кандид, - что надо возделывать свой сад».
Проверенный историей ответ на вызов террора - рафинированный разум нового Просвещения, открывшего нашей эпохе ее истинного предшественника - XVIII век.
Эта мысль поразила меня в нью-йоркском музее Метрополитен, который открыл свою самую своевременную выставку. Ее назвали по знаменитому роману, ставшему целым рядом популярных фильмов, - «Опасные связи». С помощью костюмов, мебели и безделушек кураторы музея рассказывают о непревзойденной по элегантности предреволюционной Франции - эпохе Людовика XV и мадам Помпадур, легкомыслия и педантизма, безбожия и красоты, всеобщего закона и бездумной прихоти.
Я пристрастился к этому, совсем уж чужому нам времени лишь тогда, когда обнаружил в нем забытые в XX, но актуальные в XXI столетии достоинства. XVIII век - первая примерка глобализации - объединил Запад своим универсальным вкусом, сделавшим все страны Европы неотличимыми друг от друга. Когда я читал бесконечные и, честно говоря, скучные мемуары Казановы, меня поразило, что великий авантюрист объездил весь цивилизованный мир, ни разу не споткнувшись о национальные особенности. Он всюду чувствовал себя как дома: от столичного Парижа до моей провинциальной Риги, узнать которую мне в его писаниях так и не удалось.
Как в сегодняшнем интернациональном молле, Европа была бескомпромиссным космополитом. Она говорила на одном языке - рококо, поклонялась одной богине - Венере.
От этой странной эпохи до нас, кажется, ничего не дошло, кроме, конечно, самой цивилизации, которую и придумал, и окрестил XVIII век. Забираясь в его шелковые потроха, мы находим в них драгоценную игрушку, ставшую тем, что теперь зовется Западом, давно, впрочем, распространившимся на все четыре стороны света.
В XVIII веке цивилизация была еще совсем хрупкой причудой, занимавшей лишь ту тонкую прослойку (меньше 1%), которая могла себе позволить предельно усложнить жизнь, лишив ее всего естественного. Природа и культура словно поменялись местами. Регулярный дворцовый парк стал торжеством геометрии, зато интерьер превратился в лес чудес. Снаружи все подчинялось расчету и логике, внутри правил криволинейный произвол. Обольщенная краснодеревщиками натура ластилась сладострастными изгибами. Письменный стол подражал раковине, книжный шкаф обвивали лианы, столы росли из ковра, по которому разбегались стулья на паучьих ножках. Всю эту деревянную флору и фауну пышно, как мох камни, покрывало золото, растущее на стенах, шкафах и канделябрах. Французы не жалели драгоценного металла, предпочитая держать национальный золотой запас не в тупых «кирпичах», а отливать из него обеденные сервизы.
Художники ответили на вызов роскоши тем, что заменили высокое искусство прикладным, не снижая стандарты. Низойдя с неба на паркет, музы стали домашними, ручными. Главная черта этой эстетики - тактильность. Богатые ткани, экзотическое дерево, полупрозрачный севрский фарфор ждали прикосновения, как обнаженные красавицы - Буше и одетые - Фрагонара.
Однако в музее лишенные живительного контакта с телом вещи эти стали немым антиквариатом. Еще сто лет назад Метрополитен завалил им свои самые скучные залы. Чтобы оживить эти непременные в каждой столице дворцовые апартаменты, выставка запустила в них, как золотых рыбок в аквариум, женщин.
Разодетые манекены, наряженные в бесценные платья уникального Института костюма, разменяли большую парадную Историю на множество мелких историй - сплетен, анекдотов, романов, одним из которых и был написанный в далеком XVIII веке с экзистенциальной тревогой и экспрессионистской выразительностью опус Шадерло де Лакло «Опасные связи».
Женщина была в центре рождающейся цивилизации и рифмовалась с ней. Галантность - томная задержка перед развязкой, которая преображает жизнь в ритуал, нас - в кавалеров, дам - в архитектурные излишества.
Лучший экспонат выставки представляет стоящего на стремянке куафюра, завершающего прическу, напоминающую игривую, как все в то время, колокольню. Нигде и никогда женщины, да и мужчины, не одевались так сложно, дорого и красиво, что в конечном результате они теряли сходство с людьми.
Силуэт правильно наряженной дамы повторял очертания парусного корабля. Корму изображала юбка, натянутая на фижмы (каркас из ивовых прутьев или китового уса). В таком платье дама могла пройти в дверь только боком, сесть только на диван и ходить только павой, причем - недалеко.
Стреножив свой царственный гарем, XVIII век не уставал любоваться его парниковой прелестью. Став шедевром декоративного искусства, женщина наконец оказалась тем, чем, что бы ни говорили феминистки, всегда мечтала быть - бесценным трофеем, венцом творения, драгоценной игрушкой. Подстраиваясь под нее, окружающее приобретало женственность и уменьшалось в размерах - охотничьи псы, скажем, сократились до комнатных пекинесов.
Роскошный обиход этого кукольного дома соответствовал и форме, и сущности главной игрушки эпохи - самой цивилизации. Прежде чем стать собою, она должна была обратить взрослых в детей, поддающихся педагогическому гению просветителей. Они ведь искренне верили, что всех можно научить всему: когда грамотных будет больше половины, всякий народ создаст себе мудрые законы неизбежной утопии.
Долгий опыт разочарования, открывшийся Французской революцией, сдал эти наивные идеи в архив истории. Но в глубине души мы сохраняем верность старой мечте хорошего садовника: цивилизацию, что растет на удобренной разумом и конституцией грядке, можно пересадить на любую почву, например - иракскую.
Нью-Йорк, впрочем, предпочитает начать с себя.
09.09.2004
ГВЕЛЬФЫ И ГИБЕЛЛИНЫ
Как назвать по-русски самку октябренка?
- Уж лучше Сталин, чем Буш!
- Который? - заинтересовался я.
- Любой, - легко ответила Эллен, ловко уворачиваясь от мужа, пытавшегося отнять у нее стакан.
Для американцев пара была странная. Билл служил адвокатом для дезертиров, говорил по-японски и собирал грибы(!). Эллен предпочитала неразбавленное, числила в предках второго президента и ненавидела всех последующих. В свободное время она издавала книги о преступлениях американского правительства.
Мы подружились на пикнике в День независимости. Свой национальный праздник они отмечали, как мы - Первое мая, потешаясь над властью. Здесь были актеры и музыканты, евреи и арабы, вегетарианцы и лесбиянки. Здесь не было охотников и скорняков, военных и республиканцев. И еще здесь не было ни одного американского флажка, хотя левые в Америке считают себя не меньшими патриотами, чем правые.
Они искренне любят родину и делают все, чтобы ей насолить.
Короче - наши люди.
С американскими диссидентами мне проще найти общий язык, потому что они не отличаются от русских - та же смесь задора, угара и паранойи. (Вопреки очевидному это - чрезвычайно оптимистическое мировоззрение: защищая от хаоса, оно позволяет всегда найти виноватого и никогда не скучать на кухне за чаем.) Надо сказать, что фанатичная любовь к свободе делает и первых и вторых нетерпимыми к третьим - инакомыслящим. В этой среде понимают только своих, потому что других тут и не бывает.
- Не стоит, - говорил Довлатов друзьям, - жаловаться на то, что они нас не пускают в литературу. Мы бы их не пустили и в трамвай.
Я ведь и сам был таким. В юности мне не приходило в голову, что генералы владеют членораздельной речью. Серый шлейф власти покрывал все ее неблизкие окрестности, вызывая безусловную реакцию. То, что нравилось начальству, автоматически исключалось из сферы моих интересов. Одержимый беззаботным безумием, я не читал Толстого, не слушал Чайковского и не смотрел Репина, считая их тайными агентами политбюро. У меня не было пионерского детства, и я до сих пор не знаю, как назвать по-русски самку октябренка.
Казалось бы, мне самое место среди американских ястребов, которые разделяли все мои взгляды на коммунизм, кроме крайних. Именно это обычно и происходит с русскими в Америке. Например, с моим отцом.
В России, давя отвращение, он вешал на стены репродукцию Поллака, неаккуратно (такому все сойдет) вырезанную маникюрными ножницами из журнала «Польша». В Америке на первые деньги отец с облегчением купил звездно-полосатый стяг и клетчатые штаны. Портрет Рейгана ему достался даром - его прислали товарищи по партии.
Мы с ним даже не спорим. Мои противоестественные убеждения отец считает хронической болезнью вроде язвы, только - социальной.
- Уж лучше Сталин, - говорил он, когда я голосовал за демократа Дукакиса.
- …или Брежнев, - добавлял он, когда Клинтон с моей помощью стал президентом.
Даже зная, что я пойду выбирать Джона Керри, отец не произносит имя Путина всуе, уважая любую власть, кроме беззубой.
Мне тоже обидно, что в семье не без урода, но я ничего не могу с собой поделать. Мои политические взгляды определяют те же фрондерские импульсы, что и в молодости. Поставленный перед выбором, я всегда отдаю предпочтение тому, что лично меня, в сущности, не касается - вроде войны или гомосексуальных браков. Что не мешает мне обладать непоколебимой уверенностью в своей правоте.
Скажем, право на ношение оружия мне представляется глупым, а право на аборты - бесспорным. Смертную казнь я бы отменил, а образование бы оставил. Я понимаю Бога в церкви, но не в политике. Экология мне кажется важнее цен на бензин. И я с подозрением отношусь к каждому человеку с флагом, даже если он живет в Белом доме.
В этом стандартном, как комплексный обед в заводской столовой, либеральном меню нет ничего такого, чего бы я не мог обосновать рассудком. Но, честно говоря, делать это мне незачем. Не разум, а инстинкт подбивает меня выбирать из двух зол наименее популярное.
Возможно, это - врожденное, и гвельфы никогда не простят гибеллинов. Ведь партий, как полушарий головного мозга, всегда две: одна - за, другая - против.
- Даже у людоедов, - думаю я, глядя на моего друга Пахомова, - есть правое крыло.
Впрочем, с годами мои политические инстинкты стираются, как зубы, и я становлюсь консерватором. Если еще не в политике, то уже в эстетике.
«В Лондоне, - читал я недавно жене газету, - сгорел ангар с шедеврами модных британских художников, включая того, что с успехом выставлял расчлененную корову».
- Ой, драма, - съязвила жена, и я не нашел в себе сил ее одернуть.
30.08.2004
МОЯ ЖИЗНЬ СРЕДИ ШПИОНОВ
Сложнее всего справиться с мыслью, что органы не умнее нас. Себя-то мы знаем
Не все знают, что Ельцин умер в 1998 году. Вернее, этого не знал никто, кроме Центрального разведывательного управления, сообщившего эту немаловажную весть Клинтону накануне его визита в Москву. Боясь попасть впросак, один президент потребовал заранее предъявить другого. Живого Ельцина представили американскому послу, и инцидент, как говорил Маяковский, был «исперчен».
Я вместе с остальной - штатской - Америкой узнал об этом только сейчас, когда страна с азартом решает, что ей делать со своей разведкой, ошибающейся чаще синоптиков. Не могу сказать, что новость потрясла меня до глубины души - она задела только ее краешек.
Дело в том, что я догадывался, чего ждать от спецслужб, потому что уже встречался с ними в непринужденной домашней обстановке. Двое загорелых парней пришли пополудни на заре моей американской жизни. Приветливо представившись, тот, что постарше, спросил, с какой стороны я знаю Довлатова. «С хорошей», - начал я, развивая ответ в литературоведческом направлении. Второй, соскучившись на метафорах, не отрывался от телевизора, где, к моему стыду, резвились Том и Джерри. В конце концов агент не выдержал и попросил сделать погромче его (и мой) любимый мультфильм.
Расстались мы друзьями. А недоумению моему положил конец эмигрант-старожил, объяснивший визит происками конкурентов, которым не давал покоя наш «Новый американец».
- Впрочем, - добавил он, - это был относительно бескорыстный поступок. Раньше русским платили по сто долларов за донос. Когда бумаг накопилось слишком много даже для сенатора Маккарти, гонорар сократили вдвое. Но бюджету мера не помогла, потому что число доносов тоже удвоилось. Наши, - заключил добряк с ностальгической улыбкой, - всюду одинаковы.
Простота арифметики поколебала мою веру в тайную войну, уважение к которой питали фильмы про Джеймса Бонда. Реальность ведь куда более фантастична, чем ему казалось.
Могущество американской разведки, скажем, опиралось на дотошный анализ печатной информации. Правду из советских газет вымогали приемами, которые и не снились тюремщикам Абу-Граиб. Отточенная десятилетиями методика помогала аналитикам ЦРУ высчитать процент невыполнения плана до третьего знака после запятой.
Беда в том, что отечественная промышленность обходилась мнимыми числами. Первого числа каждого месяца Рижский завод микроавтобусов, который я студентом берег от пожара, получал премиальные. При этом на все стадо машин приходилось два карбюратора. Их переставляли с одного автобуса на другой, пока приемная комиссия играла в шахматы.
Неудивительно, что победу в холодной войне, которая обошлась Америке в лишний триллион долларов, предсказал один Солженицын.
О том, что и с этой войной не все в порядке, я догадался с ее первого дня, когда операцию по освобождению Афганистана от талибов в Вашингтоне назвали нарядно - «Крестовым походом». Это все равно что дать миротворческой акции кодовое название «Варфоломеевская ночь».
Три дня спустя «крестоносцев» отменили, но сомнения в мудрости компетентных органов остались. Им мешает противоречивая природа информации: чем ее больше, тем труднее найти нужное. «Лишнее - враг необходимого», - говорил Ницше, но мы ему не верили. Ведь мы привыкли не доверять любой секретной полиции, считая ее чересчур могущественной. В этом ее сила. Власть кормится нашей подспудной уверенностью: в этом безвыходном мире есть хоть кто-то, кто все знает. У него большая голова и длинные руки - как у осьминога или Андропова.
За это мы не любим органы. За это мы их боимся. За это мы их уважаем. Сложнее всего справиться с мыслью о том, что они не умнее нас. Себя-то мы знаем.
Медовый месяц меня угораздило справить в соседнем Каунасе сразу после студенческих волнений, о которых я, занятый другим, узнал лишь тогда, когда в гостиничный номер вошел без стука небритый мужчина в тренировочных штанах со штрипками.
- Душ не работает, - сурово сказал я ему, приняв за водопроводчика.
- И телефон, - зловеще добавил он, видимо, на тот случай, если я решусь позвонить в ООН.
После чего вошедший показал красную книжечку, не отличимую, кстати сказать, от той, что мне выдали в пожарном депо вышеупомянутого завода, и стал задавать в высшей степени туманные вопросы.
Воспитанный в нормальной диссидентской семье, я еще пионером готовился к этому моменту. Выпрямившись, как академик Сахаров, я приготовился к бою, но вести его по давно вызубренным правилам мне мешал синтаксис - его отсутствие. Считая «бл…» союзом, мой собеседник не справлялся с грамматикой, и я решительно его не понимал, пока меня не осенило: он хочет того же, чего и я, - опохмелиться.
Трусливо достав из чемодана чудом уцелевшую от свадьбы бутылку, я молча отдал ее за свободу и вместе с молодой чинно отправился в музей смотреть Чюрлениса.
16.08.2004
НА ПОЛПУТИ К ЭЛЛАДЕ
В самолете почти всех звали, как нас: мужчин - Александрами, женщин - Иринами.
Тезки, надо сказать, и вели себя по-русски. Шумно воспитывали детей, охотно выпивали, простодушно флиртовали со стюардессами, в неположенных местах курили, во всех остальных толпились. Но главное - зычно беседовали друг с другом.
Греческая речь чем-то неуловимым близка нашей. С точки зрения лингвистики, это чепуха: фонетика у них настолько чужая, что непривычные ударения даже международные слова делают неузнаваемыми. И все же то и дело в уличном гвалте мне чудились слова родной речи, причем часто неприличные.
Иногда так оно и было. Греция забита соотечественниками, которые, как и мы, пребывают в уверенности, что за границей их понимать некому.
Чаще всего русские встречаются в музеях и на базарах. Не исключено, что это одни и те же люди. Когда-то в Риме, по дороге в Америку, мы делали то же самое. Да и торгуют они хорошо знакомым эмигрантам товаром: фотоаппараты, мельхиоровые половники, утюги, мясорубки. Часто этот ностальгический скарб помечен элегическим клеймом «Сделано в СССР». Получается символ: осколки империи.
Попадаются, однако, и полезные вещи. Например, ложка с дырочками - пену с супа снимать. Очень удобная штука. Я две купил, и на каждой - знак качества.
С греческим алфавитом та же история, что и с устной речью: заглавные буквы - родная кириллица, зато строчной шрифт, как учебник сопромата.
Эта двусмысленная близость сбивает с толку: думаешь, что понимаешь больше, чем на самом деле. Грузовик с жирной строкой «Метафора» перевозит не слова, а мебель. Газета зовется, как бабочка: эфемерида. Печатать на машинке значит заниматься графоманией. Зато связь между обычным банком и греческим, который здесь называется «трапезой», лежит на поверхности: где деньги - там и пища.
Был у меня русско-греческий разговорник (еще один имперский черепок), уморительно трактовавший тему питания. К продавцу он рекомендовал обращаться с такими вопросами: «Есть ли у вас сахар?» или «Когда завезут сосиски?». Там же советовали приставать к прохожим, допытываясь, «как пройти к центральному комитету коммунистической партии?».
Вместо разговорника я взял с собой Павсания. Этот древний, но не очень грек 18 веков назад написал подробный путеводитель по своей родине.
Грецию он застал в прекрасную пору: музеем она уже была, руинами - еще нет.
Впрочем, еще неизвестно, кому повезло. Искусство, описанное Павсанием, сюжетно, как телевизионный сериал. Нам же достались загадочные остатки чужой истории. Время нарубило мрамор в капусту. Что ни фриз, то свалка плоти. Каждый музей - как анатомический театр.
История подвергла вивисекции именно античность: с египетскими пирамидами ей было не справиться, а средневековье все еще слишком близко. В результате мы научились ценить то, о чем не догадывался Павсаний, - фрагмент вместо целого: «зачем нам дева, если есть колено».
В искусстве греки ценили идеальное не меньше, чем Лактионов. Греческая статуя никуда не торопится и никогда не волнуется. Дискобол напряжен, но статичен. Твердо, как на скале, стоит возничий на несущейся колеснице. Искажено усилием тело борца, но лицо его осеняет безмятежная потусторонняя улыбка.
С той же непринужденной миной принято плясать знаменитый сиртаки. Хороший тон не позволяет, чтобы бешеный перебор ногами отражался на лице танцоров. Экстаз пополам с безмятежностью: нижняя часть тела - танец с саблями, верхняя - ансамбль «Березка». (Тут почему-то всплыло, что на родине из всех искусств больше всего ценится умение пить, не пьянея.)
Варвары проявили себя талантливыми соавторами эллинов. Вырывая статуям глаза, отламывая им головы и руки, они навязывали античному покою собственный экспрессионизм.
Сегодня эта разрушенность кажется декадентской незавершенностью, пикантной недосказанностью.
В мире, состоящем «из наготы и складок», благочестивое эллинское искусство будит эстетское сладострастие.
В Средние века античные руины называли «marmaria». Веками тут без хлопот, затрат и угрызений совести добывали мрамор.
В Афинах стоит чудная византийская церквушка, чьи кирпичные стены пестрят белокаменными вкраплениями - обломками прежней архитектуры. Христианская утилизация языческого вторсырья.
Несмотря на антикварный пиетет, мы с античностью обходимся точно так же.
Греция - бесплатный рудник богов и героев, имен и понятий, образов и метафор. Мы вертим античностью, как хотим, строя из ее остатков свои мифы. Причем, как в детском конструкторе, одни и те же детали годятся для всего - от храма до вертепа.
У всякого века - своя античность, и каждая из них говорит о современнике больше, чем о предках.
В Пиреях есть бюст Фемистокла, сработанный безвестным скульптором ХIХ века. Герой Саламина изображен там с бравыми усами. Такими, как на парадных портретах императора Франца-Иосифа. Обычные эллины брились, философы, как и сейчас, ходили с бородой, но трудно представить себе древнего грека с пышными «буденновскими» усами.
Афиняне подвергли Фемистокла остракизму: память об этом - целая груда черепков с его именем, найденных на местной агоре. Так же новгородцы поступили с Александром Невским.
Демократия похожа на тиранию тем, что старательно и последовательно избавляется от лучших. Инстинкт самосохранения учит толпу не доверять героям и гениям. Государственному величию афинская демократия предпочитала частную свободу, в чем была права. Греческое чудо - плод невиданной в древнем личной независимости. Демократию греки понимали как право заниматься своими, а не чужими делами.
Сегодняшняя античность не похожа на вчерашнюю. Раньше Элладу, царство ясной красоты и строгой меры, любили за Аполлона, теперь - вопреки ему.
Греция сегодня - это Гринич-Виллидж Старого Света. Тут на курортных островах можно встретить сливки Европы, причем - topless.
В хрестоматийном рассказе Глеба Успенcкого «Выпрямила» герой обретает душевный покой и человеческое достоинство возле Венеры Милосской из Лувра.
А вот как выглядит тот же сюжет в современном английском фильме. Начинающая стареть домашняя хозяйка бросает опостылевшую семью и приезжает на каникулы в Грецию. Скоропалительный роман с греком-ресторатором на фоне Эгейского моря излечивает ее от хандры, и она с освеженными чувствами возвращается домой.
В первом случае героя «выпрямил» Аполлон, во втором - Дионис.
Ту же тему, но с большим блеском развивает грек Зорба - и в романе, и в фильме с брутальным Энтони Квином. Английская, викторианская, буржуазная, короче, западная чопорность расплавляется под греческим солнцем. Зорба дает северянам урок чистой страсти и безудержного темперамента.
Кажется, что цивилизация и варварство поменялись местами, но это только кажется. Как говорят в чеховской «Свадьбе»: «В Греции все есть!». Те же греки, что писали на статуях «ничего сверх меры», в вакхическом опьянении разрывали на части живых оленей.
Мы творим историю по своему подобию. Вернее, выбираем из прошлого то, по чему тоскуем в настоящем. Раньше нам не хватало классической простоты и ясности, теперь в цене не менее классическое безумие.
Многовековое иго Аполлона - от просветителей до марксистов - набило оскомину. Внятный, объяснимый, рациональный мир, схваченный причиной и следствием, как бочка обручами, вышел из историософской моды.
Как раз на этот случай - пресыщение разумом - у греков и был Дионис.
Могила придумавшего Зорбу Казанзакиса на его родном Крите стала объектом паломничества. Впрочем, здесь предаются не пьяным, а любовным безумствам - это ритуальное место свиданий.
Все знают, что «пенорожденная» Афродита вышла из моря. Другое дело - подробности. Но о них можно прочесть у Гесиода. Крон, сын Урана, «схвативши серп острозубый», оскопил отца:
Член же отца детородный, отсеченный острым железом,
По морю долгое время носился, и белая пена
Взбилась вокруг от нетленного члена.
И девушка в пене
В той зародилась.
Даже подспудная память об этих драматических событиях будоражит купальщика. Море в Греции эротично. Исходящее любовной истомой, оно податливо, но упруго: наш удельный вес так точно сбалансирован с его плотностью, что можно часами лежать на спине, не шевелясь.
На Корфу, разглядывая из воды соседнюю Албанию, я так и делал. Интересно, что то же ласковое море неблагосклонно к странам с коммунистической формой правления: хотя до албанского берега - всего километр, пляжей там нет, зато виднеется что-то вроде цементного завода.
Но греков море любит. Наверное, потому, что они его обжили. До сих пор самый большой пассажирский флот в мире - греческий.
В здешних горах было мало толку от лошади, поэтому и всадников изображали полузверьми - кентаврами. Вместо животных греки одомашнили море - оно-то у них под рукой, возле дома. В омывающих Грецию морях плавают всегда в виду суши. И сегодня корабли, в том числе громадные океанские лайнеры, ходят по Эгейскому морю, как трамваи, с частыми остановками.
Гомер сравнивал море с вином. Эгейская вода и правда темна. Она лишена малейшей балтийской белобрысости - бескомпромиссный ультрамарин. На таком фоне еще эффектнее смотрятся белые города, венчающие прибрежные скалы. Издалека они - как следы пены после бритья.
Умный контраст синего с белым, украденный государственным флагом, исчерпывает греческий колорит. Стены домов доводят известкой до белизны крахмальных сорочек, а чернильные двери и ставни глядят морскими колодцами. Греческая палитра экономит на красках. Никаких полутонов и нюансов. Древних греков мы себе представляем беломраморными статуями, современные ходят в черном, туристы не одеваются вовсе.
Море - лучшая часть греческого пейзажа. В остальном он состоит из жарких гор и колючек. Плавать здесь лучше, чем ходить. Зато с таким ландшафтом не соскучишься. У каждой долины, холма, ущелья - свое лицо. Энгельс считал политеизм следствием разнообразия: на каждый ручей - по нимфе.
Осматривая руины, мы, в сущности, ведем себя по-варварски: не замечая главного, путаем причину со следствием. Храмы, развалины которых нас притягивают, - всего лишь рамы для той священной горы или рощи, ради которых они поставлены.
Греческие боги не нуждались в крыше над головой - они жили на природе.
Вместе со всеми древними народами греки считали самоочевидной анизотропию мира: земля отнюдь не одинакова, она повсюду разная, поэтому есть места, где к богам ближе. Там-то и строили храмы. Они - как оклад в иконе.
Первым к этой топологической мистике меня приобщил Саша Соколов. Любовно показывая Вермонт, он уверял, что местные земли особые - они источают духовную энергию, так что деньги здесь меньше стоят.
Я не знаю, на что опирается эта антинаучная теория, но мне все труднее ее не разделять. В древних священных краях, таких как Глостенбери короля Артура, Ассизи святого Франциска или Дельфы пророчицы-пифии, метафизический элемент сгущается до физического, его, кажется, можно пощупать. Тройственный союз земли, богов и людей ни для кого из них не проходит бесследно. Особенно, если обедать в деревенской таверне, где хозяин, не тратя время на разговоры, приносит всем одно и то же блюдо: жареного ягненка, бешено нарубленного на стоящей во дворе колоде. Запивая дымящуюся баранину пахнущим смолой вином «Ретсина», каждый может ощущать себя персонажем Гомера, который пировал точно таким же образом. В здешних краях быстро привыкаешь путешествовать по времени. Жизнь тут так густо пропитана историей, что каждый турист приезжает в Грецию, а возвращается из Эллады.
12.08.2004
КРОВЬ, ЛЮБОВЬ И РЫБАЛКА
Природы в Канаде больше, чем людей
Лето. Сезон отпусков. Награда за зимние труды и зимнее ненастье. Сладкое дачное безделье, экскурсионный зуд, огородная страда, заморские пляжи и курортные романы, своя природа и чужие города, футбол - по телевизору и на лужайке. Одним словом, пикник на обочине.
Всю жизнь отпуск для меня означал одно - возможность путешествовать. Даже тогда, когда такой возможности почти и не было. Я еще студентом, практически без денег, на попутных машинах, изъездил все европейскую часть СССР - от турецкой границы до норвежской. Считая по-нынешнему - девять стран.
Надо сказать, что тут мои вкусы не изменились. Менялась только концепция туризма. В молодости я презирал путеводители, считая себя выше обывателей, послушно следующих по не ими выбранному пути. Юношеский нонконформизм требовал избегать проторенных дорог. В те времена такие индивидуалисты густыми толпами шлялись по нехоженым тропам, норовя обогнуть любую достопримечательность.
С возрастом обнаружив, что романтическое невежество ничуть не лучше обычного, я стал путешествовать, как все. Оказалось, что миллионы туристов не такие уж дураки и следовать их примеру куда увлекательнее, чем гоняться за запахом тайги - без определенной цели.
Но с годами, объездив 40 стран, мне пришлось сделать обратное сальто в сознании, чтобы вернуться к юношеским привычкам. То ли душевная лень, то ли обыкновенная подсказала мне новое кредо: главное - не впечатления, а состояния.
Меж двух широко расставленных гор узкое озеро чернело влагалищем.
Впрочем, вся природа - влагалище, куда мы упорно влагаем содержание - от проводов до морали. Но наше озеро отличала уж совсем похабная наглядность. Мы не могли о ней знать, ибо рыбацкий лагерь выбрали по телефону.
- Ехать, пока не упрешься, - объяснил владелец избушки, которую он собирался нам сдать за немалые для канадской глуши деньги.
- Медведи, - боязливо спрашивала жена, - у вас есть? А то мы с детьми.
- Не беспокойтесь, - угодливо тараторил почуявший наживу хозяин, - все у нас есть: медведи, лоси, индейцы.
- И врач?
- Конечно. Полчаса лету, если у вас есть биплан.
- А если нет? - вскинулась жена. - А если аппендицит?
- Well, - устало ответил канадец, и мы отправились в путь.
Два дня спустя кончился асфальт и началась тундра. Болото мы пересекли на гусеничной танкетке, озеро - в моторке. На берег высадились с трудом - его почти что и не было. Деревья входили в воду по пояс, расступившись лишь для причала и дощатой хибары. На пороге сидел индифферентный заяц.
Распрощавшись с Хароном, мы остались совсем одни - даже радио ничего не брало. Зато здесь была рыба. Это выяснилось сразу, когда кто-то перекусил леску. Мы поставили стальные поводки и вспомнили «Челюсти».
Рыбалка - дело тихое, хотя у рыбы и ушей-то нет. Молчание помогает собраться, потому что азарт рыбалки - в напряженном ожидании.
Раз за разом падая в темную воду, блесна мечется в поисках встречи, редкой, как зачатие. Отличие в том, что такое трудно не заметить и на другом конце снасти. Налившись чужой тяжестью, леска твердеет и дрожит от нетерпения. Подавляя первый импульс (рвануть), ты шевелишь спиннингом, показывая, кто хозяин положения.
Чем крупнее зверь, тем дольше будет танец. Подчиняясь его дерганому ритму, время движется неровными толчками. Выделывая бесшумные виражи, рыба сужает круги, чтобы навсегда уйти под лодку. От ужаса упустить свой шанс ты теряешь голову и, уже не думая продлить наслаждение, торопишь финал. Последнее, самое опасное напряжение лески - и рыба медленно, как остров, поднимается из воды. Даже увидав предмет страсти, ты не веришь своему счастью, и правильно делаешь, потому что в воздухе ослабевает верный ток натяжения, связывавший вас целую вечность. Внезапная легкость предсказывает фиаско, и ты молишься только о том, чтобы взвившаяся в небо рыба упала в сеть подсака.
Канадская щука и в лодке может откусить палец, но тебе все равно. Прикуривая дрожащими руками, ты прислушиваешься к стихающему хору довольных мышц, удовлетворивших свою тягу к любви и убийству.
Ученики Христа были рыбаками. Евреи до сих пор любят фаршированную рыбу, хотя на Генисаретском озере ее не умеют готовить. В рыбалке тоже много непонятного - почти все. Этот промысел ведет в самое темное из доступных нам направлений - в глубину.
Пределом широты служит прикрывающаяся горизонтом бесконечность. Небо кончается вакуумом, в котором смотреть не на что. Если наверху взгляд теряется в рассеивающем зрение пространстве, то внизу глазу и делать нечего. Глубина кажется нам бездонной, ибо жизнь редко уходит с поверхности. Не рискуя углубляться, мы оставляем таинственную толщу в резерве, или - как в данном случае - в резервуаре.
Вода надежно растворяет тайны. Она ведь и сама такая. Даже страшно представить, кем надо быть, чтобы в ней водиться.
Рыба о воде не догадывается, пока мы ее оттуда не вытаскиваем. Предсмертное открытие сразу двух новых стихий - своей и чужой - ее утешение. То, что момент истины оказывается последним, еще не повод, чтобы рыбе не завидовать. Китайцы так и делали. Играющие рыбки внушали им свои желания - что бы это ни значило.
Но мы предпочитаем любоваться рыбой в ухе. Варить ее надо, как чай - ничего не жалея, и тогда в одной клейкой ложке соберется жизнь с гектара воды.
Объезжая озеро на моторке, мы поражались вечным излишествам природы. Если в море нет берегов, то здесь их слишком много. Головоломные закоулки внушали паническую мысль о кишечнике. Попав внутрь не соразмерного нам организма, мы держались ввиду лагеря - пока не упал туман. Нижняя вода соединилась с верхней, вложив лодку в сандвич. Сузив перспективу, туман открывал только ту часть дороги, которую можно пройти на ощупь. Натыкаясь на ветки, острова и камни, мы передвигались по все более незнакомому пейзажу. Неповторимые, как буквы бесконечного алфавита, окрестности отказывались складываться в карту.
Положение становилось странным: стоять глупо, плыть некуда, бензин на исходе и есть нечего. Я всегда интересовался кораблекрушениями, но мы его еще не потерпели. Вспомнив мудрецов, отличающихся от нас не тем, что они делают, а тем, чего не делают, мы покорились судьбе и - заодно - забросили удочки.
Когда стало темно и страшно, из протоки выплыла лодка. Мы удивились не меньше Робинзона, а обрадовались больше него. Он дикарей боялся, мы в них не верили, как все, кто помнил югославские вестерны с Гойко Митичем.
В лодке сидели двое мужчин в пиджаках на голое тело. В остальном они мало чем выделялись, скорее наоборот: у одного, Джима, совсем не было зубов. Другой оказался моим тезкой.
От энтузиазма мы чуть не утопили спасителей, но все обошлось, и уже через полчаса все сидели у нас за столом.
Индейцы пили все сразу, не закусывая и не останавливаясь. Они просто не видели причин для перерывов и стаканом пользовались лишь из вежливости. На разговоры времени не оставалось, но ушли они не раньше, чем кончились коньяк, пиво и горькая настойка для пищеварения. Чай их не заинтересовал, оладьи - тем более.
Казалось бы, кто не знает, что в Америке живут индейцы. Я даже знаком с одним программистом-ирокезом, у которого есть гарвардский диплом, но нет фамилии (его зовут просто Клэй - Глина). И все же встреча с «благородными дикарями» застает врасплох.
Здравое - по-своему - отношение индейцев к жизни часто мешает им по-настоящему приобщиться к цивилизации, то есть пойти на работу. Иногда их берут на лесопилки или шахты, но тут вступают в противоречие два представления о природе времени. Белые считают время часами, индейцы считают, что времени вообще много. Приходить на работу в определенный час да еще каждый день кажется им, как, впрочем, и большинству моих литературных знакомых, непосильным бременем.
В старых этнографических трудах об этом много писали. Вот, например, цитата из вышедшей еще в прошлом веке монографии Ратцеля «Народоведение»: «Индеец склонен к лени. Редко можно видеть его бегущим или быстро делающим что-либо без внешнего побуждения. Недостаток каких бы то ни было стремлений затрудняет задачу распространения цивилизации. Индеец, в руки которого попал нож, ни за что не постарается приобрести другой».
Сегодня так не пишут, и дело не только в пресловутой политической корректности, которая мешает нам обижать менее цивилизованных братьев. Дело в том, что мы их уже не столько жалеем, сколько им завидуем. В XIX веке дикари в глазах Запада были несчастными каннибалами, которых надо привести в семью цивилизованных христианских народов. Но в ХХ веке ситуация в корне меняется: «благородный дикарь» должен научить заблудший Запад первобытной мудрости в отношениях между людьми и природой. Однако канадские кри живут слишком далеко от цивилизации. До них еще не дошла весть о том, что они в моде. Поэтому если они чему и учат своих отстающих в экологических науках бледнолицых братьев, так это рыбалке.
Индейцы вернулись на рассвете. Когда я пошел чистить зубы, они уже сидели у крыльца рядом с зайцем. Завтраку наши друзья решительно предпочитали спиртное, но, наученные вчерашним, мы скрыли от них свои запасы. Индейцы огорчились: до магазина они могли добраться не раньше зимы - по льду. Увидев, что, кроме денег, взять с нас нечего, индейцы подрядились проводниками. На рыбалку мы собирались долго. Уж больно им понравились наши снасти, не для ловли, конечно, а так.
Сев к мотору, Алекс размотал леску и насадил на крючок щучий плавник.
- И на это берет? - с недоверием спросил я.
- Если бросить в воду.
Справедливости ради следует сказать, что рыба ловилась поровну. Индейцы превосходили нас не искусством, а терпением. Мы меняли тактику и блесны, они позволяли крючку волочиться за бортом.
- Давно вы живете на этом озере? - завел я беседу.
- Что значит - «давно»? - удивился Алекс. - Всегда жили.
Привычно почувствовав себя эмигрантом, я замолчал и принялся глазеть по сторонам.
Вскоре оказалось, что путешествовать по озеру с индейцами - все равно что с москвичами - в метро.
Первозданная, на наш глаз, природа была им коммунальной квартирой. Ландшафт был их семейной хроникой. Не успели мы отчалить, как Джим остановился у гранитного валуна.
- Папашу навестить, - объяснил более разговорчивый Алекс.
Во мху и правда торчала палка с перекладиной. На нее Джим положил пачку сигарет без фильтра. Алекс добавил горсть конфет. Из уважения к языческому обряду мы сняли накомарники, но от вопроса я все-таки не удержался:
- Какая же это вера у вашего племени?
- Христианская, - объяснил Алекс.
Узнав, что озеро обитаемо, я стал внимательнее смотреть по сторонам и вскоре обнаружил признаки цивилизации: красные ленточки на деревьях. Выяснилось, что ими помечают места, где стоит мыть золото.
- А если другие узнают? - опять вылез я.
- Для них и метят, - ответил Алекс, теряя терпение.
Обедать мы остановились у Джимовой тещи, вернее - на ее даче. Неуловимая тропинка - нога в ней утопала, не оставляя отпечатка, - вела к внезапной поляне с фанерным ящиком без окон.
- Чтобы медведи не залезли, - не дожидаясь вопроса, объяснил Алекс.
Вокруг обильно росла черника - по грудь. Пока мы жарили бесценных полярных судаков, индейцы деликатно закусывали сервелатом. Рыбу они ели из необходимости, мясо - только зимой. Одного лося хватало до весны. Деньги им нужны были исключительно на выпивку. Если удавалось до нее добраться, денег не хватало. Если нет, оставались лишними.
Прошлым летом Джим купил щенка за 300 долларов. Я думал, для езды, - оказалось, для удовольствия. Возле круглого («чтобы буран не снес») дома жила целая свора. Внутри него были печка, лавки и несколько книг о вреде алкоголя на языке кри. Его живописный алфавит напоминал тот, что мы придумали с второгодником Колей Левиным для тайной переписки. Ни нам, ни им писать было особенно не о чем.
Индейцы так органично растворились в окружающей среде, что не оставили на ней зарубок. Они не сумели наследить на берегах озера, хоть и прожили на нем столько, сколько у нас ушло на всю цивилизацию.
Природы в Канаде настолько больше, чем людей, что кажется нелепым охранять их друг от друга. Дело не в том, что мы умнее, - дело в том, что она переживет и это.
Север обнажает асимметрию духа и материи. Дух, конечно, - мужское начало. Сперматозоид смысла, он способен расти, но, значит, и умирать. Зато бессмертна утроба природы. Как всякая пустота, она терпелива и бесконечна. Свет рождается из тьмы, слово - из молчания, мужчина - из женщины.
Союз противоположностей держится не нуждой, а прихотью. Человек - роскошь бытия, без которой оно обходилось, как индейцы - без зонтика, пока мы его им не подарили на прощание.
05.08.2004АХМАТОВА У МОДИЛЬЯНИ
Каменные женщины стоят свободно. Склонившись лишь перед общею судьбой
Последняя сенсация музейного Нью-Йорка - выставка-ретроспектива Амадео Модильяни. Она превзошла ожидания хозяев и измучила их. С утра к Еврейскому музею, солидному особняку на Пятой авеню, выстраивается очередь, огибающая целый квартал.
Критики объясняют это тем, что Модильяни с его оглушительным талантом и дерзкой манерой, с его нищей и короткой - 35-летней - жизнью, с его пристрастием к монпарнасским кафе, гашишу и абсенту идеально вписывается в образ того героя богемного Парижа, о котором так любят писать романы и снимать фильмы.
Собрав очень представительную экспозицию (более ста работ: скульптура, рисунки, живопись), куратор Мэйсон Клайн хотел обойти легенду, показав ньюйоркцам другого Модильяни. Прежде всего - еврея. Вряд ли из этого что-то вышло. Действительно, приехав в 1905 году в Париж, где еще помнили дело Дрейфуса, художник демонстративно представлялся: «Модильяни, еврей». Однако выходец из старинной эмансипированной семьи сефардов (среди его предков был Спиноза) Модильяни принадлежал к плеяде европейских космополитов-модернистов. Искусствоведы называли этот этап «музейным», подразумевая под этим термином, что художник ищет себе предшественников не в национальных традициях, не в мастерской учителя, а в галереях музеев. Надеясь оторваться от привычных корней западной живописи, Модильяни изучал в Лувре очень старое искусство - египтян, кхмеров, византийцев, доисторическую греческую архаику. Когда я в Афинах попал в музей кикладской скульптуры, сразу узнал в этих аскетических каменных лицах безо рта и глаз художественный язык Модильяни.
Выставка в Еврейском музее открывается как раз с тех ранних работ, которые определили архаические идиомы художника. Считая себя в первую очередь скульптором, Модильяни хотел придать пластике архитектурные формы. Человеческое тело на его первых работах часто напоминает колонну с головой вместо капители. Еще больше его интересовали кариатиды. Только у Модильяни этот архитектурный элемент лишен функции - его каменные женщины стоят свободно, склонившись лишь под тяжестью общей для нас всех судьбы.
Стремление к обобщенным, абстрактным формам оказалось, как это постоянно случалось с художниками в ту пророческую эпоху, крайне созвучно времени. Дело в том, что ранние работы Модильяни предсказывали явления массового общества, рожденного на фронтах Первой мировой войны. Скульптуры Модильяни с их стертой индивидуальностью, его лица-маски с прорезями вместо глаз напоминают головы в противогазе. Они изображают не человека, а особь, трагический декоративный элемент, безликую деталь общего устройства жизни, пущенной под откос.
Тем удивительнее, что лучше всего Модильяни удавались портреты. Лишенный доступа к материалу, постоянно мучаясь от нищеты, он обратился к портрету как временному заменителю скульптуры, но этот почти вынужденный шаг открыл нам нового Модильяни. Сводя к минимуму детали, презирая подробности, он умудрялся передавать не только бесспорное сходство с моделью, но и придавать портретам монументальный, вневременной характер. Иногда эти картины кажутся памятниками. Таков Кокто, изображенный сразу в фас и в профиль, или Макс Жакоб с разными глазами. Модильяни будто прессовал облик своих друзей, вынимая их из потока времени.
Интересно, что мужчины на его портретах более психологичны, более индивидуальны, чем женщины. Зато у последних есть тело.
Два последних зала выставки отведены под ню, которые принесли Модильяни громкую - скандальную - славу. Впервые показанные в декабре 17-го, эти работы вызвали такое возмущение, что выставку закрыла полиция. Привыкших ко всему парижан оскорбила не нагота, а бесцеремонность натурщиц, которые вызывающе смотрят прямо в глаза разглядывающих их зрителей.
И здесь Модильяни смог добиться двойного эффекта. Плоть на его картинах не кажется живой, но каждая модель сочится жизнью. Возможно, фокус - в позе. Нагие красавицы парят в терракотовом «мясном» колорите, как эротический мираж или соблазнительное сновидение.
Надо сказать, что для меня, как и для всего выросшего в 60-е поколения, знакомство с Модильяни началось с Ахматовой. Первый раз мы увидели его работу на суперобложке ее знаменитого сборника «Бег времени», который с благоговением хранили все, кто мог достать эту книгу.
Неудивительно, что, попав на выставку, я вместе с многочисленными посетителями-соотечественниками первым делом бросился к рисункам Модильяни - свидетелям отношений молодого итальянского художника с молодой русской поэтессой. В мемуарах Эренбурга, другой культовой книге нашего поколения, об этом эпизоде говорится коротко и сдержанно: «Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать».
Три рисунка, выставленные в Еврейском музее, не оставляют сомнений в характере их отношений. Обнаженная Ахматова с ее неповторимым горбоносым профилем прекрасна, как дриада. Это, конечно, рисунок влюбленного. Испытывая при виде голого классика понятное смущение, я не мог стереть с лица улыбку: какой все-таки красивой была эта пара гениев.
26.07.2004
ОБЕЗЛИЧКА
Это слово, как Чебурашку и Растаможку, надо писать с большой буквы
Театр - старосветская причуда. Нормальные американцы готовы за него платить лишь тогда, когда на Бродвее выступают полсотни длинноногих блондинок, живой слон или настоящий вертолет. Нью-Йорк, однако, - такой Вавилон, что труппа любой страны соберет себе зрителей-соотечественников.
Однажды я пришел на спектакль Бергмана пораньше, чтобы не стоять в очереди за наушниками, но оказалось, что только мне и нужен был синхронный перевод. «Полным-полно шведов», - вспомнился кстати рассказ Колдуэлла, но их оказалось больше, чем я думал, когда усаживался на приставной стул. Возле сцены пустовали более соблазнительные места, и я уже намылился проскользнуть к ним в темноте, как ударил туш и в облюбованную мной ложу вошел шведский король с адъютантами и аксельбантами.
На премьере театра Фоменко в Линкольн-центре не было только короля, но лишь потому, что у нас не сложились отношения с монархией. Когда русский Нью-Йорк заполнил зал, выяснилось, что наушники опять никому не нужны, кроме моей смешливой соседки. Забравшись с ногами в кресло, она жевала бутерброд, хохотала до упада и искренне хотела знать, чем все кончится. Неосмотрительно прочитав «Войну и мир», я знал, чего ждать. Следя без ажиотажа, как актеры, часто сверяясь с книгой, добросовестно пересказывают Толстого его же словами, я думал о постороннем. Меня занимал вопрос, почему в «Войне и мире» говорят по-французски?
Школа настаивала на том, что герои романа на родном языке говорят искренне, а на чужом - как придется. Поэтому, дескать, Пьер объясняется с Наташей напрямик, а с Элен - галльскими обиняками. Это, конечно, чушь. В книге все так перемешано, что Кутузов говорит по-французски, а Наполеон даже думает на русском. Не верю я и тому, что на заре ХIХ века русскому не хватало глубины и изящества. Пушкину хватало. Остается одно: будучи все-таки реалистом, Толстой показал все, как было: бессистемный варваризм.
Боюсь, что лучше всего его мог бы понять Брайтон-Бич, который, сам того не зная, подражает русским аристократам, путая языки без нужды и смысла. Чужое слово здесь передает лишь тот шарм, которого недостает родному понятию. Ну, например, латинским буквами брайтонская вывеска обещает посетителю «Cappuccino», а кириллица честно переводит - «Пельмени».
Интеллектуалы работают тоньше, рассчитывая придать вескости своим суждениям за счет иностранного наречия. Именно так изъясняется мой друг Пахомов:
- Winter, как говорят американцы, - старательно произносит он, враз исчерпав зимний запас английского (летом Пахомов пьет пиво молча).
Эта глубокомысленная манера мне живо напоминает гламурную речь глянцевых журналов. Сперва я с трудом понимал, что пишут их авторы, но только потому, что опознать знакомое английское слово мне мешал еще более знакомый алфавит. Теперь стало проще, и я лихо перевожу всяких «плэйеров», «мундиалы» и «контрибютеров» туда, откуда они пробрались в русскую прессу, - обратно, в английский.
Раньше было хуже. Дело в том, что эмигрантские авторы часто бывают пуристами. Боясь выдать себя среди соотечественников, они иногда чересчур стараются, как это случилось с Набоковым. В его «Даре», скажем, машины заправляются на «бензопое», а красавицы проносятся с «легким девичьим топотом». Зная об этом, я, готовясь к первому после 13-летнего перерыва визита в Москву, учил расцветший без меня язык старательней американского шпиона. Вооружившись самодельным разговорником, из которого можно было узнать, что такое «прибамбасы», как застегиваться «на ежика» и кому мешают «шнурки в стакане», я без страха окунулся в родную речь и был тут же наказан за самомнение. Уже в аэропорту меня ждал плакат, упоминающий Растаможку и Обезличку.
- Если добавить к этой паре Чебурашку, - робко поделился я догадкой с встречающими, - можно снять постмодернистский мультфильм «Три сестры».
- Сразу видно, чему вас, дураков, в Америке учат, - ласково сказали друзья, махнув на меня рукой.
Оставшись без переводчиков, я сам постигал азы новый речи. Пересыпанная чужими терминами, она напоминала указы Петра Первого, читать которого труднее, чем Ивана Грозного. В обоих случаях радикальная реальность требовала новых слов, и их щедро вводили, беря где попало.
Но сегодня, вскормленные плодами просвещения, популярные авторы уже говорят на языке не деловом, а модном. Простодушно испещряя иностранными словами страницы якобы русских журналов («Яхтинг»), они чувствуют себя гражданами мира, не покидая Бульварного кольца. Английский - тавро избранности, знак принадлежности к тем, кто его понимает, помогающий отгородиться от тех, кому этого не дано.
В описанную Толстым эпоху таких было сорок тысяч, да и сейчас вряд ли больше. Однако именно в этой среде наконец рождается завещанный нам Ломоносовым «средний штиль» - свободный язык непринужденного дружеского общения.
Странно только, что этот язык - английский.
12.07.2004
С НИМ УШЛА ГЕРОИЧЕСКАЯ ЭПОХА
Умер Марлон Брандо. В американском, нет, в мировом кино Марлон Брандо был анахронизмом. Он пришел из другой - героической - эпохи. Не зря Камилла Палья, самый дерзкий и чуткий толкователь американской культуры, называла Брандо «темным титаном» и сравнивала его с Караваджо и Байроном.
Фанатичный последователь Станиславского, он свято верил в силу его метода, доказав плодотворность этой школы целому поколению подражавших Брандо актеров - от Сильвестра Сталлоне до Микки Рурка.
Своим метеорическим взлетом на сцене Брандо освободил театр из плена слов. В кино он сумел подчинить себе зрителя брутальной харизмой. Его Стэнли Ковальски из «Трамвая «Желание» - неотразимый неандерталец, о котором нечего сказать критику, но который всегда будет сниться зрителю.
Мастер сырых, непереводимых на рациональный язык эмоций, Брандо заполнял собой всякий кадр, являя залу чудо чистого существования. Это была уже не игра, а магия доминирующего присутствия.
Когда Коппола снимал с Брандо пробы для «Крестного отца» (из-за этого выбора режиссера чуть не лишили картины), он оставил актера одного в комнате со спрятанными камерами. Оглядевшись, тот стал молча причесываться. Но в этом обычном жесте было столько интенсивности, что на пленке Марлон Брандо напоминал тигра, запертого в ненадежной клетке.
05.07.2004
ЕСЛИ ТЫ НЕ МОНТЕ-КРИСТО
Я думаю, через пятьдесят лет мир будет единым. Хорошим или плохим - это уже другой вопрос. Довлатов
Футбол - это серьезно.
От крика кот переехал на балкон. Жена льстиво пытается соответствовать:
- Здорово этот рыженький по воротам пыром.
Ничто другое меня пока не интересует. Когда говорит футбол - пушки молчат. Во всяком случае, я их не слышу. Газет не открываю, к телефону не подхожу, радио не включаю, даже компьютер услужливо сломался. Удалившись в коммуникационное изгнание, я берегу свое неведение.
Дело в том, что из презрения к футболу американское телевидение показывает матчи с двухдневным опозданием в неудобное время на испанском канале. Чтобы раньше времени не узнать счет, я живу в позавчерашнем дне, и он мне нравится.
Сила незнания творит свою реальность, детали которой можно выбирать по желанию, словно завтрак за шведским столом. Стирая все, что не нравится, невежество стерилизует действительность. Шопенгауэр давно утверждал, что мир - лишь наше о нем представление, но на практике я убедился в этом благодаря футболу. Впрочем, люблю я его не только за это.
Ископаемый пережиток, в век глобализации футбол дает безопасный выход животному - и потому бесспорно искреннему - патриотизму. Во мне он работает за двоих. На этом чемпионате мне приходилось болеть сразу за обе исторические родины. Вынужденный разделить симпатии, я решил, что в латышском футболе мне нравится футбол, а в русском - болельщики: на трибунах их много, и выглядят они, как все, - по-разному. Раньше на зарубежных стадионах сидели всегда одни и те же люди в строгих мятых пиджаках. Зимой и летом они дисциплинированно скандировали «шай-бу».
Что говорить, советский турист за границей был ее самой экзотической деталью. Как, впрочем, и я для них.
Это выяснилось на пляже в Пиреях, возле циркового шапито с фанерными зверями. Неподалеку от льва загорал его укротитель. На меня он смотрел не моргая, но решительный разговор у нас, как у Остапа Бендера со Скумбриевичем, произошел вдали от суши. Бронзовый атлет плыл за мной мощным брассом, я (от него) как умел, то есть по-собачьи. Преодолев в три рывка разделяющую нас часть Эгейского моря, он отрывисто спросил по-русски:
- Твой «Ягуар»?
- Мне кажется, - ответил я, с трудом вынырнув, - что хищники по вашей части.
Речь, оказалось, шла о запаркованной на берегу машине, которые я умею отличать только по цвету. Но циркач мне не поверил. Он твердо знал, что эмигранты не станут продавать родину по дешевке.
В другой раз встреча состоялась в Индии, где я от умиления примазался к экскурсии латвийских ткачих из Огре. Вычислив чужого, одна бодрая старушка прошептала не оборачиваясь:
- Доллары менялись?
- Как?
- Дизайном, - прошипела она, - у меня с 28-го года пачка осталась.
Из всех преступлений советской власти лично меня больше всего задевали две частности. Первая - не давали Джойса прочесть, вторая - мир посмотреть.
Более способные искали выхода на непроторенных путях. Интеллектуалы покупали «Улисса» на эстонском, спортсмены объявили лыжный пробег по ленинским местам, включая Швейцарию. (Власть рассудила иначе, отправив лыжников кружить по Разливу, пока не наберется нужный километраж.)
Сейчас, однако, мне все это видится в ином свете. Если вы не граф Монте-Кристо, жажду мести утоляют прошедшие годы, и я уже не уверен, что прежний режим отнимал, ничего не давая взамен.
«Улисса», скажем, не знали ведь и те писатели, которых я так любил и в юности. Еще вопрос, смог бы я восхищаться Гладилиным, если бы читал его вместе с Джойсом.
С географией тоже не все просто. Она ведь стала куда проще, чем была. Все теперь похоже: еда и нравы, магазины и товары, враги и кумиры. Только флаги у всех свои, ну и футболки, конечно.
28.06.2004
ИДЕАЛИЗМ В БОЕВОМ ДЕЙСТВИИ
Самый большой идеалист в Америке - Пентагон, а не хиппи
И сюда нас, думаю, завела не стратегия даже, но жажда братства.
Бродский
В парижские магазины поступила партия американских джинсов. На каждой паре - ярлык с французской надписью: «Мы не виноваты, что наш президент - идиот. Мы за него не голосовали». Того, кто отвечает за эту проделку, до сих пор не нашли. О чем горько сожалеет глава фирмы, который хотел бы его продвинуть по служебной лестнице: штаны мгновенно разошлись.
Не могу сказать, что меня эта история радует, хотя я тоже, как, впрочем, большинство американцев, не голосовал за Буша. Однако с Америкой, как с евреями: ее хочется ругать только среди своих. И та и другая ситуация мне хорошо знакомы. К тому же я уже жил в одной «империи зла» и, переехав в другую, не обнаружил разницы. И там и здесь мне почему-то приходилось отвечать за выходки властей, которые я не выбирал.
Когда советские войска вошли в Афганистан, русские таксисты Нью-Йорка выдавали себя за болгар.
Когда туда вошли американцы, мой друг Пахомов задумчиво заметил:
- Похоже, я обречен жить в стране, которая воюет с Афганистаном.
Его это, однако, скорее радует. Будучи человеком бескомпромиссно штатским, он любит рубашки с погончиками. Со мной сложнее. Никогда не зная, что делать, я всегда радуюсь, что не мне решать. Заняв тесный промежуток между «голубями» и «ястребами», я получаю с обеих сторон, еле успевая менять щеки.
- Государство, - учит меня Пахомов, - вроде микробов: оно стремится заполнить собой все не отведенное ему пространство. Так уж лучше это будут наши микробы. Американские, - пояснил он, подумав.
Это, конечно, неправда. Американцам не нужна империя, потому что они хотят жить дома. Даже любимая их война - Гражданская, между Севером и Югом. В нее до сих пор играют. Если янки и готовы расширяться, то только в индивидуальном порядке - за счет кока-колы и чипсов. Когда Америке снятся плохие сны, к ней присоединяется Канада, когда кошмары - Мексика.
И в Ирак американцев привела не страсть к имперской географии, а история - та, которой у нее не было: романтический ХIХ век с его мифом «крови и почвы». В отличие от европейских, американские романтики, вроде моего любимого Торо, жили не в воздушных замках, а в лесу. Все остальные задержались в XVIII столетии. Америка до сих пор живет теми универсальными категориями, которыми Маркс соблазнил Россию. «Мимо рта не пронесешь», - верят американцы, игнорируя исключения, чреватые взрывами.
Это трудно понять, в это трудно поверить, но самые большие идеалисты здесь не левые, а правые - скорее Пентагон, чем хиппи. Наиболее опасное заблуждение Америки состоит в том, что она действительно знает конечную истину: богатым и здоровым быть лучше, чем бедным и больным, - всегда и всем. Соорудив себе богатую страну из конституции, американцы думают, что знают, как это делается не только дома, но и за границей. Поэтому враги зовут их «глупыми», а друзья - «лишенными воображения». Боятся, впрочем, и те и другие; идеализм - вроде куриной слепоты: болезнь не смертельная, если не водить танки ночью.
Должен признаться, что я тоже против войны. Как все пацифисты - из шкурных интересов и невеселых принципов.
- Помочь никому нельзя, - говорил я, когда соседи заворачивались в нарядные звездные флаги.
«И спасти никого нельзя», - думал я, представляя, что бы стало с Россией, если б Америка решила избавить ее от Сталина. Помните прогрессоров у Стругацких? «Я нес добро, и - Господи! - как они меня ненавидели. Потому что боги пришли, не спрашивая разрешения. Никто их не звал, а они вперлись и принялись творить добро».
Человек слишком сложное существо, чтобы ставить на нем облагораживающие эксперименты. Поэтому я, послушавшись Вольтера, решил возделывать свой садик. Выдрав из клумбы чужие петунии (на войне как на войне), я зарыл в землю дюжину семечек, надеясь для начала украсить тыл подсолнухами.
Дальше пошла арифметика. Первые пять пропали - я не знал, что за мной следили белки. Другие взошли. К трем стебелькам я привязал карандаши, помогавшие им ровно расти. Неделю спустя те, что обходились без поддержки, обогнали инвалидов.
- Ага, - сказал я, напыжившись от многозначительности, - благо в недеянии: главное - ни во что не вмешиваться.
А утром самостоятельный росток упал на землю со сломанной ногой.
- Ага, - повторил я с уже меньшей уверенностью, - мироздание живет вне морали, ему все - все равно, но шансов у нас - половина.
Цветка, однако, было жаль, и я одолжил ему костыль. Прошла еще неделя - и калека оправился. Он опять всех перерос, став крепче прежнего, несмотря на уродливый шрам у щиколотки.
Не понимая, какую притчу мне рассказывают, я молча гляжу в назидательную грядку, надеясь, что природа не отменила, а отложила нравоучительный процесс - то ли до урожая, то ли до выборов.
31.05.2004
ВОЛШЕБНЫЕ ГОРЫ И ПЕРЕДВИЖНАЯ БЕРЛОГА
Чтобы лето было летом, надо вернуть летнему отдыху его допотопное содержание и первобытную форму
Отпуск должен отпускать. Ослабив хватку будней, жизнь ненадолго разрешает нам вести себя как вздумается. Из-за этого так трудно с умом распорядиться заработанной свободой. Воля требует куда большей ответственности, чем рутина. Особенно в эпоху, упразднившую то мерное чередование сезонов, что всегда обещало зимой лыжи, а летом дачу.
Самолет, как супермаркет, отменил времена года. Земля кругла и обширна. На ней всегда найдется теплое местечко для отдыха, какой бы месяц ни показывал календарь. Есть бесспорная радость в том, чтобы валяться на тропическом пляже, злорадствуя по поводу ближних, оставшихся воевать с вьюгой. Но есть и своя прелесть в том, чтобы именно весной хрустеть мартовским огурчиком. Когда мы не рвем связующую время нить, а терпеливо следуем за ней, вериги сезонов, как сонет поэта, учат нас покорной мудрости. Чтобы лето было летом, надо вернуть летнему отдыху его допотопное содержание и первобытную форму.
Для меня это значит одно: палатка.
Как почти всe в своей жизни, я открыл радости бивака сперва теоретически - читая любимую книжку каждого вменяемого человека «Трое в одной лодке, не считая собаки». (Как-то мне попались на глаза данные опроса, согласно которому Джером Клапка Джером оказался любимым автором депутатов Думы. Журналист, помнится, сокрушался по поводу невзыскательности российских законодателей, а я обрадовался: значит, и у них было детство.)
Надо сказать, что своему феерическому успеху Джером обязан лени. В поисках легкого заработка он подрядился сочинить путеводитель по окрестностям Темзы. Не желая углубляться в источники, Джером сначала описал мелкие неурядицы, ждущие ни к чему не приспособленных горожан на лоне капризной британской природы. Только потом автор намеревался насытить легкомысленный опус положенными сведениями, честно списав их в библиотеке. К счастью, издатель остановил его вовремя.
Книга вышла обворожительно пустой и соблазнительной. Она построена на конфликте добротного викторианского быта с пародией на него. Джентльмен на природе - уморительное зрелище, потому что она решительно чурается навязанных ей чопорным обществом приличий.
Впрочем, речь о другом. Трое В Одной Лодке несли юному читателю занятную весть: чтобы испытать забавные трудности походной жизни, не обязательно покорять Эверест или Южный полюс. Достаточно ненадолго поменять оседлый обиход на кочевой, что я и сделал, проведя лучшую часть молодости с рюкзаком и в палатке.
Прошло почти четверть века, пока я не открыл палатку для себя заново. Оказалось, что ни я, ни она за эти - упущенные - годы особенно не изменились. Нам по-прежнему хорошо вместе. Объясняется это тем, что, стойко сопротивляясь прогрессу, палатка даже в Америке осталась тем, чем была всегда, - передвижной берлогой.
Вылазка на природу предусматривает добровольный отказ от всего, что нас от нее, природы, отделяет. Расставшись с нажитым за последние несколько тысячелетий комфортом, мы отдаемся на волю стихиям, переселяясь в трехметровый пластмассовый дом. Смысл этой нелепости в отстранении. Искусство, говорил Шкловский, нужно для того, чтобы сделать камень опять каменным. Проще об этот камень споткнуться. Причиненное неудобство мгновенно вернет нас к материальности мира. То же и с природой - чтобы она вновь стала собой, нужно забраться в ее нутро даже тогда, когда оно мокрое. С погодой нельзя бороться. От нее можно лишь спрятаться. И только тогда, когда дождь барабанит по натянутому тенту, ты по-настоящему понимаешь непревзойденную важность самого монументального изобретения человечества - убежища.
Собственно, в этой исторической дистанции и заключается соблазн дикой природы. Путешествуя по чужим городам и странам, ты перемещаешься по узкому коридору экзотики протяженностью лет в сто. Выбираясь на неделю в лес, ты совершаешь вояж на зарю истории, когда все еще было внове. Путь обратно прост, но значителен. Отпускное опрощение превращает нас в собственных предков, вынужденных бороться за существование отнюдь не только с начальством. На природе все потребности - насущные, а значит, неподдельные.
Сперва нужно обзавестись укрытием. Каким бы хлипким оно ни казалось, палатка обязательно становится домом - крохотный пятачок культуры, выгороженный в непомерном царстве природы.
Потом приходит черед огня. Пламя возгорается не от искры, а от пролитого пота, особенно если сучья сырые. Зато я еще не встречал человека, включая пожарных, которые были бы равнодушны к живому огню. Электрический свет мешает заснуть, костер нас будит. В моей российской юности это выражалось в пении: «Ну что, мой друг, грустишь? Мешает жить Париж». В Америке он мне не мешает, и, сидя у костра, я чаще думаю об обеде. По-моему, это не менее увлекательно.
Согласно моим давно устоявшимся убеждениям, лучше всего мы понимаем ту часть мироздания, которую можем проглотить: дух природы познается путем причастия. Одно дело - бродить по лесу в поисках грез, впечатлений или рифмы. Совсем другое - собирать грибы, к тому же на пустой желудок. Голод будит здоровые инстинкты, а вегетарианский характер охоты смиряет их кровожадность. Тем более что в Америке у грибника мало конкурентов.
В этом я убеждаюсь каждый раз, когда в мою корзину заглядывает доброжелательный американец неславянского происхождения. Опасливо оглядывая стройные подберезовики, он нервно спрашивает, что я собираюсь с ними делать. Узнав что, прохожий умоляет не отчаиваться: «Вы еще найдете работу». Из жадности я никого не переубеждаю. Панический ужас Америки перед наиболее вкусной частью ее флоры мне на руку, и грибы мы едим с 1 мая до Рождества. Правда, однажды мне встретился знаток из микологического общества. Брезгливо порывшись в корзине, он высокомерно обронил: «Сыроежки едят только русские и белки». Я промолчал, благоразумно утаив секрет соленой сыроежки с лучком и сметаной.
Обеспечив растительную часть обеда, можно переходить к рыбалке. Раньше, одержимый тщеславием, я, как старик по морю, гонялся за большой рыбой, теперь готов удовлетвориться любой. Меня убедил тот же самый Хемингуэй. Как-то его спросили, какую рыбу он предпочитает ловить. «Размером с мою сковородку», - ответил писатель.
Мне важней, чтобы рыба влезала в котелок. Благородство ухи в том, что по-настоящему вкусной она выходит только из пойманного - а не купленного - улова. С этической точки зрения кулинария безупречна: упорство и труды не пропадают втуне.
Вернувшись к охоте и собиранию, мы наконец начинаем относиться к еде, как она того заслуживает. Добыча пропитания, если его добывать не из холодильника, занимает почти весь день, придавая ему смысл и достоинство. Так ведь, собственно, и должно быть. Посмотрите на птичек небесных, которые клюют, не останавливаясь.
Субстанциальная забота о выживании меняет природу времени. Даже ничем не заполненные минуты - например, когда поплавок не тонет - приобретают ритуальное значение. Одно дело - ждать обеда, другое - рыбу, которая к нему не приглашена. Замысловатое устройство с крючком и леской, держащее нас в сосредоточенном напряжении, позволяет постичь природу времени лучше, чем тупые ходики, отрезающие от вечности одинаковые минуты.
Удочка остраняет время. Пространство остраняет дорога, тропа - особенно, если она ведет верх. Поднимаясь в гору, ты вступаешь в противоборство с высшим законом всемирного тяготения. Чем круче путь, тем больше вызов.
Поэтому в горы я всегда хожу один: дураков нет. Во всяком случае, среди моих знакомых. Не в силах даже себе объяснить, зачем нам бороться с вертикалью, я вру про вершину, которая всякую прогулку обеспечивает наглядной целью. Но, честно говоря, деликатная мудрость зрелости заключается в том, чтобы оставить вершину непокоренной, не дойдя до нее ста шагов. Пока у меня на это не хватает ни ума, ни лени, я залезаю на все горы, до которых может добраться пылкий любитель без ледоруба.
Куда меня только не заносила нелепая страсть забираться туда, где заведомо нечего делать. Я видел окрестности Фудзиямы, пиренейские пики, поднимался на скромные, но все-таки альпийские вершины. Но только с годами открыл свои любимые горы. Как это часто с нами случается, они были слишком близко.
Катскильские горы расположились под мышкой Нью-Йорка. На машине - часа два, если не застрять на придорожном базарчике, где в подходящий сезон торгуют розовощекими, как местные фермеры, яблоками, а в неподходящий - душистыми пирогами из тех же яблок.
Свой звездный час Катскилы пережили в начале ХХ века, когда недалекие горы открыли для себя нью-йоркские евреи. Живя в зверской тесноте «коммуналок» Ист-энда, они тосковали по простору и прохладе. Этого товара было вдоволь в горах, заманивавших горожан, еще не знавших кондиционеров, холодными летними ночами. Фермы стали гостиницами, потом курортами. В момент высшего расцвета, сразу после Первой мировой войны, здесь было 500 фешенебельных отелей - с бассейнами, полями для гольфа и еврейской кухней. Как ни странно, главной ее гордостью считался борщ, в честь которого Катскилы до сих пор носят кличку «борщевый пояс» - borsch belt.
Курортников развлекали американские Райкины, артисты разговорного жанра, которые постепенно приучили и всю Америку к ипохондрическому еврейскому юмору, столь ценимому поклонниками Вуди Аллена. Последней звездой катскильской плеяды стал Джеки Мейсон, веселивший своими политически некорректными монологами Бродвей, Горбачева и королеву Елизавету.
С годами, однако, здешний курортный бизнес, проигрывая тропическим пляжам, иссох на корню. Вот тогда-то Катскилы вспомнили о своем мистическом прошлом и предложили себя американским буддистам. Недорогая земля, малолюдность, близость к Нью-Йорку и разлитый в здешней природе покой привлекли сюда монастыри. Одни прячутся в лесистых расселинах, другие вскарабкались на вершины, третьи стоят у горных ручьев. Сегодня монастырей здесь набралось уже так много, что они представляют все ветви древнего буддийского древа. Совершить паломничество по Катскилам - все равно что побывать на Дальнем Востоке.
В прибрежной части Катскилов, возле поселка, который с обычной американской путаницей зовется Каиром, расположен целый храмовый городок китайских буддистов. По-праздничному красные павильоны с поэтическими названиями полны изваяний будд. В одном только храме святых аратов - пять тысяч статуй. У каждого из достигших просветления монахов - своя история, на которую они намекают позой, жестом, одеждой или улыбкой. Но для западного пришельца храм остается немым, как церковь для китайца.
На западе, где буддийская география помещает рай, стоит японский монастырь. Уже у ворот вас встречают ласковые олени, будто знающие, что один из них был Буддой в прошлом рождении. Черно-белая геометрия приземистых построек отражается в холодном горном озере с ручными золотыми карпами. Внутри монастыря все пусто и голо: полупрозрачные раздвижные стены и пружинящие под ногой циновки, из украшений - дымки курений, напоминающие о том воздушном замке, которым буддисты считают реальность. Зимой тут так тихо, что слышно, как огромные - с блюдце - снежинки лепят метровые шапки на ветках кривых японских сосен.
В центре Катскильских гор, на вершине крутого холма стоит самый красивый монастырь - тибетский. Здесь все золотое: шелковые иконы-мандалы, атласные подушки для медитаций, позолоченные будды и бодисаттвы, за которыми присматривает улыбчивый далай-лама с большого портрета, увитого подношениями паломников - белоснежными шарфами. По вечерам над монастырем раздается протяжный, как и положено в горах, вой длинных тибетских труб. Их можно услышать в лежащем чуть ниже Вудстоке. Главная приманка туристов, богоискателей и хиппи, этот городок, наверное, самый странный в Америке. Тут все устроено по вкусу чудаков, ищущих на Востоке того, чем их обделил Запад. Для них вместо неизбежного молла Вудсток держит «Ярмарку дхармы», конгломерат лавок с ритуальным товаром. В них можно встретить настоящего тибетского ламу, дзен-буддийского монаха с бритой головой, нью-йоркского профессора, рокера с татуированными иероглифами и просто бродяг без определенных занятий, но с широким кругом интересов.
Когда я заходил сюда в последний раз, хозяин - индус с косой - поставил запись буддийских мантр. Голос показался знакомым. Оказалось, Борис Гребенщиков, который несколько лет назад записал в Вудстоке свой тибетский альбом.
Всякая религия, говорят историки, начинается с чуда. Человек открывает, что земля не всюду одинаковая. На ней есть места, где ощущается эманация, которую мы - за неимением лучшего - называем псевдоученым словом «энергия».
Как все остальные, я не знаю, что это значит. Мне хватает того, что в Катскильских горах нельзя не ощутить благотворного потока, омывающего душу неспешной струей.
24.05.2004
БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ
77% жителей России ненавидят богатых!
Эта поразительная цифра живо напомнила героя гласности, с которым мне довелось делить трибуну на конференции в Японии. Как все подобные мероприятия тех эйфорических времен, она называлась оптимистически: «Россия на переломе». Соседи хотели знать, куда упадут обломки, и не жалели денег, чтобы разведать подробности. Ими делились многословные эксперты, привезенные за десяток часовых зон с разных сторон света, но только один из нас располагал цифрами, которые он величал фактами. Без спешки выслушав предварительные аплодисменты, ученый торжественно обнародовал данные обширного социологического опроса, стоившего немногим меньше хорошего бомбардировщика:
- 99,7% опрошенных готовы принять демократию и рыночную экономику, если они принесут им богатство, свободу и счастье.
На этот раз я вышел, не дождавшись, пока смолкнут овации успокоенного зала.
Статистика не врет, она изобретает правду - вместо действительности. Если даже слова не способны отразить реальность, то что взять с худосочной цифры, умеющей лишь мелко кланяться обстоятельствам?
В сущности, все, что поддается счету - от трудодней до выборов, лишено смысла, но не оправдания: иначе мы не умеем. Поэтому мне и хотелось бы встретить хоть кого-нибудь из тех 23%, которые не не любят богатых. Хорошо бы узнать, что они с ними делают: нежат, лелеют, терпят, едят сырыми?
Я еще никогда не видел, чтобы богатых кто-нибудь любил, включая их самих. Ближнего возлюбить трудно, дальнего - невозможно, и только Христос сумел простить сытого мытаря (говоря по-нашему, инспектора налоговой полиции).
Оно и понятно. Бедного грешника вынести проще, чем богатого праведника: последнему легче устоять перед искушением, чем первому оплатить его. Поэтому (открою, рискуя огорчить патриотов, секрет Полишинеля) богатых не любят везде, а не только в России.
- Деньги, - учит меня Пахомов, - не люди, они не бывают глупыми и не идут к нам в руки.
- Не знаю, не знаю, - сопротивляюсь я, - мне и такие попадались. Правда, не дома, а в Сан-Тропезе, бульшая часть которого собирается в гавани, чтобы смотреть на меньшую, швартующую свои миллионные яхты. С одной из них сошла отчаянно скучающая пара в ковбойских сапогах и пухлом золоте. Стремительно оглядев голодранцев (лето!), они выдернули из толпы себе подобного и повели на борт хвастаться. Не умея себя занять ничем другим даже в древнем Провансе, они ездили по свету в надежде узнать, что другие делают с деньгами.
- Думаю, Пахомов, - заключил я, - что новые русские отличаются от птицы киви тем, что они не эндемичны и водятся в любых широтах, разбрасывая попутно гроздья гнева.
Дело в том, что никто не понимает, откуда берутся большие деньги, которыми мы называем почти любую сумму, превышающую наши доходы. А все необъяснимые явления - либо чудо, либо жульничество. (Отличить одно от другого как раз и есть промысел мытарей.)
Открывший коммерческий эффект нефти Рокфеллер к старости так изнемог под грузом своего первого в истории миллиарда, что заказал у монетного двора настоящую (а не метафорическую) гору 10-центовых монет. Раздавая их детям, он надеялся купить улыбку бедняка. Но Америка (как Россия - с Ходорковским) примирилась с этой фамилией только тогда, когда одного Рокфеллера таки съели папуасы Новой Гвинеи, из которой он успел вывезти дивную коллекцию масок, украшающую нью-йоркский музей Метрополитен.
Неся свой крест, богатые тоже плачут. Ведь ни одной насущной проблемы деньги решить не могут. Когда денег нет, все проблемы - насущные.
Но не только это объединяет одних с другими. Бедные хотят, чтобы богатых не было. Богатые трудятся, чтобы не было бедных. Они мешают друг другу, но деться им, как двум сторонам одного листа, некуда. Все ведь относительно.
Я, скажем, приехал в Америку состоятельным человеком. Залогом безоблачного будущего были дипломы - и мой, и женин - «Уменьшительные суффиксы Горького». На черный день у нас хранился слесарный набор, купленный в магазине «Умелые руки», с до сих пор не оправдавшимися намерениями и неограниченный запас эмигрантской манны - быстрорастворимых супов югославского происхождения «Кокошья юха». Все остальное ловко укладывалось в ежедневные три доллара, которые выдавала благотворительная организация, - на метро и сигареты («Прима» кончилась). Спички в Америке бесплатные, музеи, если день знать, - тоже.
Устроившись с комфортом, я стал разнообразить щедрый досуг знакомствами, среди которых оказался и удачливый земляк. Мы встретились с ним в трудную минуту: нью-йоркские власти подняли цену на метро - он купил поместье в Коннектикуте.
- Мосты обвалились, - горевал мой знакомый, - и конюхам не плачено.
Ему и впрямь было хуже, потому что я люблю ходить пешком.
17.05.2004
АНАТОМИЯ БЕСТСЕЛЛЕРА
Раскрыт секрет фрески Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»
Дэн Браун, скромный учитель литературы из Новой Англии - автор романа «Код да Винчи», который занимает первую строчку в списке бестселлеров практически всех газет Америки. Книгу, которая еще даже не успела выйти в мягкой обложке, купили больше шести миллионов американцев. Скоро ее перевод выйдет и в России, и тогда здесь тоже смогут убедиться в том, что этот толстый том нельзя отложить. Наоборот, ради него приходится откладывать, как это случилось со мной, все остальные дела.
Дэн Браун работает в наиболее эффектном сейчас во всей мировой литературе жанре интеллектуального детектива, ученого триллера. Моду на такой род словесности открыл замечательный роман Умберто Эко «Имя розы». В сущности, это - гибрид увлекательного сюжета и не менее увлекательной информации, которая имеет весьма отдаленное отношение к фабуле. Среди мастеров такого жанра авторы самых разных стран. Это - и турецкий писатель Орхан Памук, ставший лауреатом наиболее престижных премий Европы, и серб Владислав Баяц, чей потрясающий воображение дзен-буддийский боевик «Книга бамбука» вот-вот появится в русском переводе, и, конечно, Акунин, который в свой последний роман «Алмазная колесница» вставил все, что знал о Японии его альтер-эго Григорий Чхартишвили.
Несмотря на то, что родоначальника такого вида словесности, Умберто Эко, считают классиком постмодернизма, я бы искал источник этой литературной традиции у других классиков. По-моему, современный интеллектуальный триллер происходит от слияния Конан-Дойля с Жюлем Верном. Первый дает безошибочную схему детектива с постоянным разоблачением ложных версий, второй - учит нагружать прозу любопытным научно-популярным содержанием. Пока этот самый условный «Конан-Дойль» держит читателя заложником у развязки, не менее условный «Жюль Верн» втолковывает нам все, что мы хотели знать, но не догадались спросить.
Архетипическую для всех таких книг ситуацию можно найти в романе того же Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». Зловещий капитан Немо только что объявил своему пленнику Аронкасу, что тот никогда больше не увидит ни друзей, ни родины, ни твердой земли. В ответ французский профессор задает удивительный в его положении вопрос: «А какова глубина всемирного океана?». И получает ответ, занимающий 40 страниц убористым шрифтом.
Именно так построен бестселлер Дэна Брауна. С той существенной разницей, что информацию автор нарезает на гораздо меньшие порции - примерно по странице за раз. Эта своего рода обучающая программа позволяет нам незаметно усваивать факты. Техника такого письма идет от компьютерного экрана, который приучил нас к быстрому мельканию знаний. Чтобы не задерживать читателя, автор не тратит сил на словесность. Первую метафору я в его книге нашел на 125-й странице и тут же забыл. Дело, однако, не в словах, а в потрясающей воображение теории, которую Дэн Браун три года разыскивал, чтобы положить в основу книги.
Сюжет «Кода да Винчи» построен вокруг величайшего заговора всех времен, связанного с тайной чаши святого Грааля и личной жизнью Иисуса Христа. Я не хочу раскрывать интригу книги и портить удовольствие тем, кому предстоит ее прочесть. Но чтобы подвигнуть к этому, приведу лишь одну деталь. Она рассказывает о секрете, спрятанном на фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Дэн Браун утверждает, опираясь, кстати сказать, на весьма солидные искусствоведческие работы, что фигура, сидящая по правую руку от Христа - женщина. Если теперь, зная об этом, вы посмотрите на любую репродукцию этой фрески, вам уже никогда не придется сомневаться в том, что Леонардо под видом ученика Христа изобразил его ученицу.
Другой вопрос, как Дэн Браун, готовя сенсацию, интерпретирует это обстоятельство. Не желая выдавать развязку, скажу лишь одно. Когда в следующем году на экраны выйдет фильм «Код да Винчи», который сейчас снимается в Голливуде, вокруг него может разразиться скандал не меньше того, что подняла картина Мела Гибсона «Страсти Христовы».
29.04.2004
МЕЖДУ СЕТЬЮ И ТУСОВКОЙ ОДНО ОТЛИЧИЕ - В СЕТИ НЕ НАЛИВАЮТ
Мой симпатичный собеседник, специально выбравший соседнее кресло в летевшем через океан «Боинге», чтобы ничто не мешало обстоятельному интервью, начал его с тщательно заостренного вопроса:
- Когда вы врете?
- Всегда, - быстро ответил я, введя его в ступор.
- Ага, - наконец просиял он. - «Все критяне - лжецы, - сказал критянин».
Раскусив парадокс, мой образованный интервьюер потерял интерес к своему делу, и мы перешли на дармовую финскую водку, разумно заменив ею оставшиеся нерешенными проблемы.
Дело в том, что врать проще всего с глазу на глаз - попробуйте честно ответить на вопрос: «Ты меня уважаешь?». Труднее обманывать по телефону - в трубку не скажешь: «Меня нет дома». Но самое честное средство связи, как показало недавнее исследование охотившихся на человеческие слабости американских психологов, - электронная почта. Как и обыкновенная, она оставляет неопровержимые следы. Написанное слово становится вещественным доказательством, и электронная память хранит его куда надежнее человеческой. Зная об этом, ты невольно тормозишь перед очередным обманом, понимая, как легко компьютеру припереть тебя к стенке.
Вернув нас в эпистолярную эпоху, прогресс оживил и некоторые из ее архаических пережитков вроде привычки отвечать за сказанное, хотя бы - за написанное.
Единственный способ избавиться от этого сомнительного, как хвост, атавизма - не отвечать на письма, что и делают многие мои знакомые. Эфир, справедливо рассуждают они, дело темное, а наука имеет много гитик, на которые можно списать дефицит учтивости.
Сперва я свирепел, прекращая отношения с людьми и их органами, пренебрегающими перепиской. Но потом понял, что, как это чаще всего и бывает, сам во всем виноват. Дорвавшись до мгновенной связи, я трактовал ее как дешевый телеграф, исчерпывающий послание точной информацией и шуткой. Между тем в такой манере общения заложено неуважение к собеседнику, вынуждающее его к той степени определенности, которая превышает национальную норму.
Говорить, что надо, и отвечать, когда спрашивают, - достоинство компьютера, а не человека, особенно - русского, привыкшего плавать в придаточных предложениях, словно щука в кувшинках.
Ограниченная логикой машина и нам навязывает беспрекословный выбор между «да» и «нет» - правдой и кривдой. Жить не по лжи легче всего транзистору.
Но где ян, там и инь: все то вранье, которое правдивый компьютер изымает из нашей жизни, ей возвращает лукавый интернет. На заре его эры (а ведь еще помню время, когда жили без телевизора, который молодые считают ровесником динозавров) каждое путешествие в кибернетическое пространство казалось приключением, причем пикантным. Анонимность провоцирует двусмысленность.
Возможно, поэтому, первый раз выйдя в Сеть, я окрестил себя Snowball (отечественным интернетом тогда еще была гласность). Назвавшись Снежком, я поменял не только имя, но и пол с расой: знойная негритянка с южным, маскирующим русский, акцентом. Создав фантомную личность, я подчинил себя ее привычкам, о которых, впрочем, не знал ничего определенного.
Тем дело и кончилось. Я охладел к интернету, когда убедился, что электронное общение живо напоминает столичную тусовку: множество малознакомых людей встречаются друг с другом без надежды и желания познакомиться ближе. Разница лишь в том, что в Сети не наливают.
…Чем дольше я живу в ХХI веке, тем больше мне хочется обратно - в какое-нибудь доиндустриальное столетие, когда разговор считался королем развлечений, когда каждое предложение было законченным, мысль - извилистой, период - длинным, юмор - подспудным, слова - своими, внимание - безраздельным, слух - острым, когда искренность не оправдывала невежества и паутину ткали ассоциации, а не электроны…
Чтобы прервать эту исповедь луддита, скажу откровенно: уйдя из интернета, я в него вернулся, когда тот стал русским. Первая настигшая меня в эфире кириллица несла благую весть: «Кайф на халяву? Нюхай хрен».
С тех пор я, как, подозреваю, и все авторы, регулярно совершаю, набрав свою фамилию, «эго-трип» по родной Сети, чтобы узнать о себе всю правду. Не всегда она ею бывает, тем более - лестной, но иногда интернет все-таки оплачивает затраченные на него усилия. Так, я вырвал из него щемящий комплимент. Один, видно немолодой, еще помнящий наш соавторский дуэт поклонник оставил на электронных полях свой честный отзыв: «Вайль и Генис - четвероногий друг русской словесности».
19.04.2004
РАСКРУТЯТ ЛИ ШАР ГОЛУБОЙ?
Мы рекламе не верим, но считаем ее всесильной
Я убежден, что самое интересное в России можно прочесть на ее стенах. Приятель клянется, что вокзал в Казани украшала надпись «Ленин кыш, Ленин пыш, Ленин кындырмыш».
- Но это когда было, - обиженно говорили мне друзья, обвиняя в заморском злопыхательстве.
- Всегда. Еще не прокричит петух, как вы трижды раскаетесь.
- Где мы возьмем петуха на Невском?
Сошлись на том, что я докажу свою правоту, не доходя до перекрестка. На пятом шагу мы увидели над подъездом рукописный плакат: «Продаются яды». Тетрадные лепестки с телефоном уже оборвали жаждущие.
- Вот и хорошо, - обрадовались товарищи, - тебе своего хватает.
Я победил в споре, потому что у меня был ранний опыт стенной словесности.
Дело в том, что мой литературный дебют состоялся в рекламном бюро, которое размещалось в живописном, как все в Риге, проходном дворе. Начальником там по совместительству служил наш видный ученый, автор монографии «Ян Судрабкалн и вечность». В кабинете он повесил шедевр своей рекламной продукции: «Наши конфеты слаще сахара».
- Что ж тут хорошего? - не удержался я.
- Самогон, деревня, - разочарованно сказал он и сухо объяснил обстановку. Кроме карамели из обещанного в том году изобилия до Риги добрались только телевизоры.
- Наша промышленность, - излагал мой ментор, - выпускает телевизоры двух размеров: нормального и ненормального. Большие нужны всем, маленькие - никому, поэтому последних делают столько же, сколько первых. Понятно?
- Нет.
- Значит, не идиот, - успокоился он, - сработаемся.
Убедить покупателей, решил я, может только математика, хотя она мне и не давалась. «Размер экрана по диагонали, - выводил я блудливой рукой, - обратно пропорционален расстоянию от телевизора до дивана». Перечитав получившееся, я вставил для убедительности квадратный корень. Теперь даже я не знал, что должно получиться в ответе, но никто не спрашивал.
- Лженаука, - восхитилось начальство, - не хуже кибернетики.
Через неделю моя формула нашла себе место в рекламной афише. С тех пор я твердо знаю, что только откровенную ложь печатают большими буквами.
Нынешняя реклама мне нравится больше. Как армянское радио, она оживляет бытие абсурдом. Особенно - когда себя не слышит: «Покупайте кондитерские изделия фабрики «Большевичка». На рынке - с 1899 года».
Или не видит.
Когда я в последний раз смотрел телевизор в Москве, мне больше всего понравилась холодная красавица «с косой до попы». Глядя в камеру русалочьими глазами, она обещала покупательницам «несравненное увлажнение».
- Не такая уж она русалка, - заинтересовался я, но, дослушав девицу, узнал, что речь шла о шампуне.
Несмотря на частые приступы слабоумия, реклама завоевала завидный престиж в России. Считается, что она может все. Например, сделать любого писателя классиком - быстро и недорого. Мне рассказывали, что еще недавно место в списке бестселлеров обходилось автору всего в сто долларов. Раз нефть дорожает, то и слава теперь, надо полагать, стоит больше, но - не намного.
Секрет русской рекламы в том, что с тех пор, как реклама заменила идеологию, переименовав лозунг в слоган, а дух - в материю, ей не верят, но полагают всесильной. Мир, привыкший считаться только с вымыслом, легко убедил себя в безмерной пластичности окружающей среды. Доверяя лишь собственным фантомам, он наделил рекламу тем волшебным могуществом, которое раньше приписывали себе вожди, а теперь все кому не лень.
В этом торопливом мареве каждое заметное явление - от какого-нибудь Путина до самого Пелевина - кажется продуктом сверхъестественной рекламной технологии, результатом информационного насилия над потребителем, победой, как говорил О.Генри, разума над сарсапарилой.
Называется это все «раскрутили».
Самовлюбленные мастера пиара с незатейливостью Гарри Поттера куют репутации, убеждая (чаще всего - себя) в своей власти над действительностью.
Не зря из всех философских течений в новой России легче всего прижился постмодернизм - как самый близкий к марксизму. И тот и другой не считают реальность реальной, а значит - окончательной. Перерабатывая первичное сырье во вторичное, постмодернизм заменяет твердое зыбким, настоящее - виртуальным, вещь - ее видимостью.
Во всяком случае, так ему кажется. По-моему - напрасно.
Жизнь обладает куда большей инерционной массой, чем думают ее манипуляторы. Она весьма умело сопротивляется попыткам заменить себя мыльной оперой.
Даже Голливуд, этот «Уралмаш» грез, не умеет убедить нас в универсальности своих претензий. Каждый успех - итог неоправдавшегося расчета. Каждый провал - тем более. Будь иначе, зрителя можно было бы упразднить вовсе.
Впрочем, что такое постмодернизм, никто не знает (я - в том числе, хоть и написал о нем книжку). Но это никому не мешает: «Капитал» мы тоже не читали.
- Когда все у меня воруют шутки, это и есть постмодернизм, - говорит грустный остряк Бахчанян. - За это я ему вынес приговор: «Пригов - вор».
И действительно, эта фраза мне встречалась в книге Дмитрия Александровича.
05.04.2004
ПОЧЕМ ФУНТ ЧУЖОГО ЛИХА?
Жить стало лучше, и уж точно - веселее. Один Жванецкий чего стоит
Когда в суровом 90-м году я приехал к питерским друзьям, Ленинград выглядел не лучше, чем в блокаду. Свет в витринах не горел - смотреть все равно было не на что. Оглядев сиротливые окрестности, я пришел в гости, набив портфель базарным продуктом. И правильно сделал. Хозяйка прямо растерялась:
- Мы не миллионеры, чтобы есть яйца!
Несколько лет спустя, наученный опытом, я посетил тот же дом уже не с портфелем, а с мешком, но меня справедливо сочли неопасным идиотом, запуганным в Америке. На этот раз хозяйка, чтобы замять неловкость, пустилась в откровенность:
- В Париж едем - надеть нечего.
Навещая только русские столицы, я не знаю, как живет провинция. Говорят - ужасно.
- Дети к поездам выходят - хлеба просят, - уже который год рассказывает одна москвичка, циркулируя между Нью-Йорком и Лонг-Айлендом. Меня, правда, смущает, что в Америку поезда не ходят и железную дорогу она видела только в детстве.
Я не берусь судить о других, но с моими знакомыми такое бывает. Чем круче катится жизнь, тем она выглядит наряднее: раньше на даче растили укроп, теперь - чайные розы. А ведь знакомые у меня те же - интеллигентная рвань, разве что пьют реже, предпочитая французское.
Еще в школьном учебнике меня удивляла парадоксальная эволюция общественных формаций. Каждая перемена к относительно лучшему вела к абсолютному обнищанию трудовой массы. Помня причуды родной диалектики, я понимаю, что говорить об этом не принято, но все-таки скажу: жить стало лучше, и уж точно - веселее. Один Жванецкий чего стоит.
- Не чуешь ты, инородец, боли народной, - печалится расчетливый Пахомов, даже в Квинсе знающий, почем фунт чужого лиха.
- Ну а ты за кого бы голосовал?
- За ку-клукс-клан.
- О вкусах не спорят, - выкручиваюсь я, норовя остаться при своем мнении.
Когда революция идет так давно, уже все равно, чем она кончится, - лишь бы сохранился вымученный статус-кво. Жизнь прорастает сквозь всякий режим, который не выдергивает ее с корнем. Ей, в сущности, все равно, и как избирается власть, и как она называется - хоть горшком, лишь бы в печь не сажала.
Труднее всего с этим примириться интеллигенции, но и она справится. Правда, не сразу.
Перед выборами в Думу я все спрашивал:
- Скажите, сколько там будет наших?
- Треть, - твердо отвечали мне сведущие люди, - плюс-минус - два процента.
Итоги им были известны заранее по голосованию в интернете.
Президентом я уже не так интересовался. Голоса считали среди московских абонентов мобильных телефонов. Выходило - Ходорковский.
- Раз мы страшно далеки от народа, пусть он пеняет на себя, - с облегчением решил отстраненный от дел умственный класс. Не сумев стать оппозицией, он вновь превратился в фронду, устроив себе площадку устаревшего, как я, молодняка на страницах уцелевшей либеральной прессы. Ей, как последним самураям, выпала благородная задача: стеречь уже ничего не меняющую свободу слова. И не потому, что она еще пригодится, а потому, что в общем-то только такая и была нужна.
Упразднив политику, жизнь развязала. Рестораны в Москве открываются сегодня с той же помпой, с какой раньше - журналы. Иногда их делают те же люди.
В Москве я люблю жить в «Пекине». Недорого, а все-таки - Восток. К тому же это - последний в мире отель с письменным столом, председательским графином и передвижниками. Принимая за холостяка, администрация всегда выделяла мне номер с «Аленушкой».
Первый раз я попал туда за день до гайдаровских реформ, сделавших нынешнюю жизнь возможной. Вернувшись в «Пекин» к рассвету, что со мной бывает только в Москве, я полчаса колотил в двери с лживой табличкой «Мест нет». Мое меня ждало, но сперва надо было разбудить швейцара. Он появился лишь тогда, когда я уже решил скоротать ночь в вытрезвителе. Как все бывшие пионеры, я, конечно, боялся швейцаров, но Запад излечил эту советскую фобию - в Америке их почти не осталось. Поэтому, разгоряченный учиненным дебошем, я, не удовлетворившись достигнутым, принялся читать лекцию о наступающем послезавтра капитализме, который все расставит по своим местам, включая швейцаров. Внимание собеседника я поддерживал дешевыми рублями, которые он снисходительно прятал в карман мятой ливреи.
- От каждого по способностям, - излагал я своими словами четвертый сон Веры Павловны, - каждому - по труду, но - в конвертируемой валюте.
Шли годы. Сперва сняли красные флаги, потом - реформаторов. В гостинице «Пекин» открылся ресторан «Гонконг» (сходите проверить - самому мне такого не придумать). В моем номере место стола занял сейф с табуреткой. Но по-прежнему на этаже дежурила коридорная. Теперь она берегла не мою нравственность, а свою открывашку для боржоми, понимая, что без нее у нее не останется ни труда, ни способности к нему.
Швейцар тоже не изменился, хотя и выглядит моложе. К дверям он так и не выходит, но, выучив мой урок политэкономии, встречает одиноких постояльцев у лифта:
- Мужчине нужна компания?
- Аленушка?
- Это уж как скажете, - гостеприимно развел руки швейцар, но я остался верен передвижникам.
15.03.2004
БЕСЫ: ОТЦЫ И ДЕТИ
Литературная кадриль
За Достоевского я снова взялся, когда узнал, что Саддам Хусейн читал его перед арестом. Меня волнуют книги, к которым обращаются в минуты кризиса. Американцы обычно выбирают Библию, но это мало о чем говорит, потому что у многих, чему я иногда завидую, иных книг просто нету. Другое дело - мой друг Пахомов, который взял с собой в больницу Ветхий Завет, чтобы хоть перед концом понять насоливших ему евреев. (Операция, впрочем, прошла успешно - для Пахомова, не евреев). Не зная, какой роман отвлек Хусейна от последних минут свободной жизни, я остановился на «Бесах» - на «Идиота» Саддам был никак не похож.
Последний раз я читал «Бесов», когда был не старше Ставрогина. Теперь мне столько же лет, сколько было автору. Ровесников всегда читать интереснее, но в юности их слишком мало, да и в старости немного, особенно среди соотечественников. Так что приходится торопиться, на что Достоевский, собственно, и рассчитывал. Медленно его читать нельзя - как Акунина.
Книга ввергла меня в столбняк. Она была явно не о том, о чем мне всегда казалось. В пору юного инакомыслия у нас все знали, кого имел в виду Достоевский, но когда Политбюро исчезло, роман перестал быть пророческим. Бесы у Достоевского все-таки с направлением, идеалисты, готовые развалить державу, упразднив Бога. По-моему, в наше суровое время уже не осталось людей с такими широкими и непрактичными интересами. Разве что Жириновский, но и он дает интервью «Плейбою» за деньги.
Растеряв политическую актуальность, роман скукожился до детектива - с туманными мотивами и пейзажами: «Низкие мутные разорванные облака быстро неслись по холодному небу: очень было грустное утро».
Зато на месте романа идей прямо на моих удивленных глазах расцветала гениальная педагогическая комедия. Центральная фигура в романе вовсе не Ставрогин, которого ни один читатель не узнал бы на улице. Главный герой книги - учитель, Степан Трофимович Верховенский, воспитавший чуть ли не половину персонажей.
Написав свою версию «Отцов и детей», Достоевский схитрил: последних он ненавидит, первых высмеивает. Но «отцов» он все-таки понимает лучше «детей», а любит уж точно больше. Хороший писатель знает, что лучший способ спрятать дорогие мысли от критиков - отдать их дуракам. В «Вишневом саде» умнее всех говорит Гаев, в «Бесах» - Степан Трофимович, только кто их слушает?
Взрослые герои «Бесов» (старыми их назвать у меня уже не поднимается рука) очаровательны своей беспомощностью. Кармазинов, в прозе которого «пищит в кустах русалка»; губернатор Лембке, мастерящий игрушечную «кирху с прихожанами»; Степан Трофимович, сочиняющий в глухой русской провинции «что-то из испанской истории»; все они - последняя надежда нашей парниковой цивилизации. Только они и защищают ее от нового поколения, которое Достоевский зовет «бесами». Кошмар в том, что не только это, но каждое следующее поколение кажется таким предыдущему. Трагедия - в провале педагогических претензий, в невозможности эстафеты. Наследство пропадает втуне, ибо нажитое отцами добро оказывается злом в руках (и умах) детей. Либералы становятся террористами, шестидесятники - постмодернистами, правдоискатели - «идущими вместе»…
Проверить Достоевского мне помог несчастный случай: я напечатался в одном молодежном журнале, выходящем (не по национальному признаку, а из экономии) в Бруклине.
- Смена растет, - с отцовской грустью сказал я себе, разворачивая бандероль со свежим номером.
Журнал открывал портрет его лучшего автора - девушки с тяжелой судьбой и челюстью. Поэма ее называлась решительно: «Стань раком».
- Метемпсихоз? - осторожно подумал я. - Оригинально: в этой жизни - человек, в той - членистоногое.
Раками, однако, в стихах не пахло. Даже о пиве ничего не было, но на встречу с подписчиками я все же пришел.
- Легко ли быть молодым? - усыплял я бдительность сакраментальным вопросом, жалея, что не задал его Подниексу еще тогда, когда латышский портвейн мешал нам обоим решить эту проблему.
Оглядев с кафедры собравшихся, я увидел то, чего ждал: молодежь с голодными глазами - в зале усердно жевали. (В Америке, где аппетит считают болезнью, все едят беспрерывно, как бактерии.)
- Что рассказать вам, молодые друзья? - спросил я, надеясь скрыть отвращение.
- Что-нибудь.
«Из испанской истории», - вспомнил я Степана Трофимовича - и стал объяснять про китайцев.
Трое ушли курить уже на Лао-цзы. Конфуций был немногим моложе, но его не дождались еще пятеро. Плюнув на подробности, я перескочил от дзен-буддизма к суши, опустив Камасутру, чтоб не составлять конкуренцию поэтессе с челюстью.
Запыхавшись от разбега, я поправил бесспорно лишний галстук и предложил задавать вопросы. Их не было.
- Давайте, коллеги, - малодушно соврал я, - обсудим, поспорим.
Наконец самый стеснительный не выдержал паузы:
- Скажите, пожалуйста, почему у вас очки на веревочке?
- Чтоб не падали, - ответил я, но бесы меня уже не слушали.
01.03.2004
КОГДА КИРКОРОВ ЗАВОЮЕТ АМЕРИКУ
Жалобы турка
- Народовластие! - напрямик, как Штурман Жорж у Булгакова, врезался в склоку потомственный гусар и профессор. - Когда четыре пятых горячо поддерживают президента, демократия санкционирует диктатуру.
- За Брежнева голосовали 99 процентов, но мы же не считали выборы гласом народа.
- И зря. Vox populi - vox dei, а человеку там делать нечего.
Наш диалог разворачивался в декорациях, максимально приближенных к отечественным. В этом северном штате течет Русская речка, стоит малолюдная Москва, здесь водились Солженицыны, боровики и слависты.
Последние встречались чаще всего, во всяком случае - мне. Местные их не отличают от остальных, беззлобно терпя чужие ритуалы. Что не так просто.
Зимой еще ничего, а летом слависты тучами слетаются на костры, чтобы до рассвета петь сталинские песни. Музыку знают все, но только самые непримиримые помнят слова. Привыкнув называть Россию «совдепией», они не признают перемен и никому - после Колчака - не верят. С молодежью у них нет ничего общего, кроме языка, конечно - английского. С русским - безнадежно. Если письмо начинается - «Уважаемый господин», его бросают, не читая («Так, - учил меня секретарь Бунина Андрей Седых, - пишут лакеям, к порядочному человеку обращаются - «многоуважаемый».) С литературой - не лучше. После Куприна все не в счет. Иногда, правда, исключение делается для Шолохова: все-таки - казак.
По понятным, увы, причинам их - удалых и хлебосольных - осталось немного. Но и уходят они с завидной решительностью. Один днем пригласил меня к ужину, а к вечеру умер.
- Где стол был яств, там гроб стоит, - твердо объявили домашние. Для покойного современником был скорее Державин, чем Евтушенко.
На место вымирающих приходит смена «ботающих по Дерриде». Они тоже поют сталинские песни, но не путаются только в припеве. Новую Россию они знают лучше, а любят ее еще меньше - по взаимности. Не покидавшие отечества коллеги не могут простить тем, кто на это решился, общего предмета занятий - родины.
Даже мне трудно не разделять негодования. Изучать Россию из-за границы - все равно что тушить пожар по переписке.
Отжатая от свинцовых мерзостей культура поступает за рубеж готовой к употреблению (в диссертацию). Этот дистиллированный продукт удобен в обращении, но кому-то ведь приходилось расплачиваться за его производство. Природным иностранцам еще можно забыть их университетский комфорт, но свои слишком хорошо знают, от чего они избавились.
В принципе русская - как и любая другая - культура принадлежит каждому, кому нужна. Но на деле есть право первородства, которое эмигранты норовят увезти с собой вместе с чечевичной похлебкой.
Такое не может не раздражать. Поскольку у меня самого рыльце в пуху, я и не жалуюсь, только удивляюсь - силе чувств и непредсказуемости их выражения. Навещая Москву, я хожу как марсианин в прозрачном скафандре. Со мной говорят, всегда помня, откуда я приехал, и не совсем понимая, для чего.
Незнакомые беседу начинают дружелюбно:
- Как ты пристроился, новый американец?
Старые друзья режут правду в глаза, хорошо хоть об Америке:
- Буш? Наелся груш?
Других вопросов не задают, да и на эти ответа не ждут, стремительно переходя к родным новостям о начальстве. Все, что надо знать об Америке, тут и без меня знают, остальное - от лукавого. Да я, честно сказать, и сам о ней забываю уже в «Шереметьеве» - то ли была, то ли снилась. Россия - страна самодостаточная и центростремительная, чем она и напоминает мне Лимонова.
Я навестил его, когда тот жил в Париже наедине с портретом Дзержинского и фраком, ждущим нобелевской церемонии. Подробно поговорив о своих французских успехах, Эдик перебил себя из вежливости.
- Ну что мы все обо мне да обо мне. Как там у вас, в Америке? Что говорят о Лимонове?
Примерно так рассуждает русская пресса, часто ошарашивающая меня заголовками вроде «Киркоров завоевывает Голливуд», пока «Мадонна поет Рейна».
По-моему, эти патриотические «утки» - симптом геополитического невроза. Америка по-прежнему присутствует на дне национального сознания, но на поверхность всплывает лишь только тогда, когда американцы, сами об этом не догадываясь, горячо сопереживают русским интересам. Пусть любят, пусть не любят, пусть боятся, пусть жалеют, пусть завидуют, пусть презирают, пусть бранят, пусть учат, пусть игнорируют (конечно, демонстративно) - лишь бы помнили. Непереносимо одно забвение, которым Америка уязвляет чужую душу больше, чем всеми своими амбициями.
Когда Хрущев посетил Америку, Аджубей написал: «Москвичей будит радиозарядка, ньюйоркцев - урок русского языка». Я сам в это верил, пока, к сожалению, не вырос - с помощью той же Америки, преподающей болезненный урок безразличия. Не только к нам - ко всем без исключения. Переводы составляют всего три процента от всех выходящих в стране книг. Да и их читают, чтобы узнать, за что иностранцы любят или - чаще - не любят американцев. Америка ведь тоже самодостаточна и эгоцентрична. Она тоже окружена зеркальными стенами. Ей тоже все равно, о чем говорят по ту сторону, если говорят не о ней. А между двумя не замечающими друг друга державами толпимся мы, ненужные свидетели унижения, твердо знающие, что Киркоров завоюет Голливуд только тогда, когда прилетит в Лос-Анджелес на летающей тарелке.
26.02.2004
ГДЕ ТЕЛЕВИЗОР - ТАМ И РОДИНА?
Начинает казаться: то, что за окном, - досадная частность того, что на экране
Хотя мой отец долго работал в авиации, он всегда был человеком сугубо земным, предпочитающим всему остальному фаршированную рыбу и смешливых блондинок. И все же лучшую часть жизни он, как ангелы, провел в эфире. В России отец жил на коротких волнах. Они уносили его вдаль, не отрывая от родной почвы. Магия западного радио преображала отечественную действительность, давая ей дополнительное - антисоветское - измерение.
Немудрено, что отец знал все лучше других, особенно когда приходил его черед вести политинформацию. Кривя душой, он знал правду, счастливо живя в двух мирах сразу. Главное было их не путать, но как раз с этим у отца были трудности, которые и привели его в Америку.
Оставшись наедине с голой однозначностью, отец затосковал, как новообращенный атеист: в Америке правду не прятали, ее не было вовсе. Опечаленный открытием, отец сменил эфир на рыбалку, оставив привычку толковать реальность в обидном для нее ключе.
Ему никто не мог помочь. Мне еще не приходилось встречать человека, которого бы не обманула свобода. Я, например, ждал от нее худшего. Считалось, что в обмен на волю Запад потребует от нас кровавого пота. Со сладострастием будущих мучеников мы распинались в готовности мести американские улицы, еще не догадываясь, как трудно попасть в профсоюз мусорщиков.
Свобода не подвела: она оказалась и лучше, и хуже, чем о ней думали. Я учился ее ненавидеть, глядя в голубой экран. Господи, как меня бесила реклама! Бунтуя против мира, где счастье приходит в дом с новой сковородкой, я как-то сказал Довлатову:
- Будь Америка мне родиной, я бы взрывал телевышки.
- Что тебе мешало это делать дома? - спросил Довлатов, и я охладел к терроризму.
Более того, со временем я научился любить рекламу за композиционные вериги. Целенаправленная, как проповедь, и хитроумная, как сонет, она ставит перед автором ту головоломную задачу, с которой не справлялись дома, - убеждать обиняками.
Оценив хитрость телевизора, я стал относиться к нему с уважением. В экран ведь влезает очень маленькая часть реальности, а кажется, что - вся. Секрет телевидения еще и в том, что его проще освоить. Живая картинка больше похожа на мир, чем мертвые буквы, но врет она так же. Правда, в каждой стране по-своему.
Я убедился в этом, включая телевизор там, куда меня заносило. Даже на непонятном языке он выдает сокровенные тайны народной души и подспудной фантазии. Так, в Рио-де-Жанейро есть канал, где всегда показывают триумфы бразильской сборной: голы здесь забивают только в чужие ворота. В Мексике героини сериалов обычно блондинки. Лишь Катманду оставил меня в неведении: в отеле не было телевизора. Я строго указал на промашку хозяину, но он ловко выкрутился:
- Видите ли, сэр (напрасно я надеялся, что меня будут звать «сагибом»), в Непале еще нет телевидения.
Пока я осваивал чужой эфир, мой отец в него вернулся. До его дома в Лонг-Айленде дотянулась невидимая (точнее, видимая) рука Москвы, и он стал забрасывать удочку через забор, чтобы не отрываться от экрана. Жизнь отца приобрела вожделенную двусмысленность. Мир его вновь делился на две неравные части. Меньшая питала тело, большая - ностальгию. С тех пор как отец смог следить за проделками Жириновского, для Америки он был потерян.
Война для моего отца теперь идет в Чечне, своим мэром он считает Лужкова, даже об американской погоде ему рассказывают московские синоптики.
Как женщина в песках, телевизор сужает кругозор до тех пор, пока ты не перестаешь верить в окружающее. То, что за окном, кажется досадной частностью того, что на экране.
Глядя на отца, я вывел эмигрантский закон, жалея, что его нельзя перевести на латынь для важности: «Где телевизор - там и родина». Но сам я не тороплюсь возвращаться и отечественное ТВ смотрю, только бывая у отца на семейных праздниках.
То, что я вижу, не слишком отличается от того, что я уже видел. Наверное, в этом вся хитрость. Телевизор имитирует преемственность, зачаровывая стабильностью. Ничего, в сущности, не изменилось. Завтра - это вчера.
Смерть неизбежна, но вечна жизнь, попавшая в капкан повтора. Пусть канул таинственный, как заговор, «Экран социалистического соревнования», зато остался в неприкосновенности державный баланс добра и зла. Если в деревне нет водопровода, то у ветеранов есть мобильники. Если нет дорог, то есть интернет. Если есть недостатки, то всегда отдельные. И как гарант незыблемого порядка в каждом выпуске новостей по русскому обычаю трижды показывают поцелуй Кремля: озабоченного Путина.
По старой памяти я привык считать однообразие тотальным. В мое время на одну советскую власть приходилась одна антисоветская. Собственно, от этой унылой арифметики я и сбежал в Америку. Одни говорят - за колбасой, другие - за свободой, третьи - за выбором, позволяющим выпасть из большой общей жизни в маленькую, но свою.
Я все прощаю американскому телевидению просто потому, что его много. Даже в дни национальных катастроф или празднеств американский телевизор оставляет лазейку для любителей пирогов и пышек, поклонников гольфа и покера, сторонников садоводства и однополой любви. Есть у нас даже звериный канал для моего сибирского кота Геродота, но он, перепутав полушария, интересуется только пингвинами.
09.02.2004
ПУТЬ К ВЛАСТИ МЕНЯЕТ ПОХОДКУ, или НАШИ ЛИТЕРАТИ
«Благородный муж, - учил Конфуций, - не служит двум князьям». Поэтому при смене династий ученые уходили в горы, чтобы читать старые стихи и писать новые. Исчерпав политику, мандарины становились отшельниками и называли себя «литерати».
Дело, в общем-то, знакомое. До сих пор, входя в русский дом, я нахожу любую книгу не глядя. Библиотеки одинаковые, как жизнь - эзотерическая, изысканная, утонченная, ненужная: хочу все знать и ничего не уметь. Господи, ну откуда нам знать, за колхозы мы или против?
На заре свободы было иначе. Тогда считалось все понятным - где взять тару, кого выбрать депутатом, как обустроить Россию в пятьсот дней, не забив гвоздя.
Возможно, такое тоже бывает. Гавел однажды сказал:
- Каждый чешский писатель умеет своими руками построить дом.
- А неписатель? - спросили его.
- Тем более, - удивился президент.
У нас иначе. Я видел, как наши литерати подходили к накренившейся власти. Жальче всех было Синявского. Храня честь вечного диссидента, он был против того, за что всегда боролся. Чтобы объясниться, понадобились три лекции в Колумбийском университете, к которым он готовился на нашем диване. Эмоция сомнений не вызывала, а подробностей я не запомнил. Наши убеждения сходились в главном, но кончались на Пушкине - его кумиром был Бабель, моим - Платонов. С политикой я так и не разобрался. Расхождения Синявского с советской властью носили стилистический характер и не исчезли оттого, что коммунисты оказались в оппозиции. Андрей Донатович по-христиански простил врагов и даже заставил себя им поверить, но разделить их язык было выше его сил. В чужой среде литерати могут жить либо молча, либо перестав быть собой.
Не это ли произошло с Лимоновым, которого так любили те же Синявские? Чтобы литература не мешала политике, он избавился от поэзии. А ведь в юности Лимонов, звавшийся тогда Савенко, переписал от руки пятитомник Хлебникова, снабдившего нотами его авангардную лиру. Читая (листая) то, что пишет Лимонов сегодня, я не узнаю автора, которого немного знал в Нью-Йорке, чуть-чуть - в Париже и нисколько - в Москве.
Дело в том, что политика исключает условность, необходимую искусству, но пагубную для речей. Художник никогда не говорит напрямую то, что думает, оратор только и делает, что уверяет в этом свою аудиторию. Чтобы заняться одним ремеслом попроще, надо отказаться от другого - посложнее.
Сдается мне, что все лимоновцы - неудавшиеся поэты, обманутые вождем, в котором разочаровались музы. Поэт-расстрига, как падший ангел, больше всего ненавидит изгнавший его парадиз.
Несовместимость литерати с властью проявляет себя произвольностью убеждений. Политические взгляды выбирают сознательно, под гнетом обстоятельств. Вкусы рождаются невольно, и умирают они лишь вместе с нами.
Собственно, поэтому я прячу глаза, когда московские друзья говорят о живой политике. Если мы и спорим до хрипоты, то слишком быстро переходим на личности, например - Беккета. В этом кругу его знают лучше Путина.
Это, конечно, неправильно - несправедливо к своей судьбе и родной истории. Я тоже хочу, чтобы политику делали понятные мне люди. Теперь, впрочем, такое случается. Когда один мой товарищ вышел в начальники, в стране сразу появились 250 профессиональных культурологов. Раньше они водили экскурсии по ленинским местам.
Власть тут вроде ни при чем, но путь к ней меняет походку. Наверх идут, юля и оправдываясь, тщательно запоминая дорогу обратно. Даже те, кто добрался до вершины, умело следят, чтобы их не путали с завсегдатаями. Двусмысленность этих телодвижений выдает неискренность порыва. Литерати не даются жесты, особенно те, что выражают непреклонную веру в свою победу.
Как-то я играл в волейбол на американском пляже. После каждой подачи, к чему бы она ни приводила, команда собиралась в кружок у сетки, чтобы подбодрить себя боевым кличем: «Хэй-хэй - Ю эС Эй». Рот я открывал вместе со всеми, но слова проглатывал, как при пении гимна. От расправы меня спасли пуэрториканские болельщики.
Я вспомнил об этом эпизоде, выпивая с министром. Мы познакомились еще тогда, когда нам обоим такое не снилось. Власть придала ему обаяния, и он щедро им делился: матом ругался по-русски, стихи читал по-английски, анекдоты рассказывал еврейские. Надо думать, что не этот набор привел его в кабинет, зато с ним проще вернуться обратно, если портфеля не станет.
Мы понимали друг друга, потому что вышли из одной норы, хотя и занимали в ней несхожие апартаменты. В этом пыльном убежище царили странные нравы, но они нам нравились. Здесь все помнили, когда вышел первый сборник Мандельштама, и думали, как это делал Бродский, что Политбюро состоит из трех человек - считать проще.
В свете перемен норная жизнь поблекла, но не утратила свой матовый блеск. Просто нора стала глубже и жителей в ней поубавилось. Многие выползли наружу. Кто-то околел. Кого-то забыли или - забили. Но истребить литерати нельзя, как нельзя стереть культуру. Она возрождается после анабиоза, словно замерзшая в арктических льдах инфузория. Всегда помня о родной норе, литерати не умеют жить без оглядки. Стоит ли удивляться, что им редко верят избиратели. Во всяком случае те, что не собираются в горы.
26.01.2004
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ГОРОД В ЕВРОПЕ
Осколки империи учатся здесь жить без нее
Я вырос в слишком красивом городе: культуру в нем заменял пейзаж, к которому нечего было прибавить.
Подавленные окружающим, мы придумали себе оправдание: всеобщую теорию компиляции. Открытие состоялось в Колонии Лапиня. Так назывался район огородов, спрятавшийся в странной близи от центра. Поделенная на аккуратные клетки земля лучилась здоровьем и цвела флоксами. Одолев несерьезный штакетник, мы, осторожно огибая клумбы, проложили путь к съедобному и расположились надолго.
- Все уже сделано, - говорил мой друг, - все уже сказано, все написано. И это прекрасно. Складывать новое из старого - единственное занятие для аристократов духа.
Мы закусывали украденным огурцом, не замечая опасности. Между тем нас окружили сухопарые латыши, вооруженные намотанными на руку ремнями.
Чтобы рассеять недоразумение, надо сказать, что латыши пили не меньше нашего, но всему предпочитали пиво - ведрами. Погуляв, дрались по-черному. Это не мешало им любить цветы, без которых в Риге редко обходились даже на службе.
Нас спасла умеренность в хищении - и репутация: от русских другого не ждали. Поэтому я не удивился, узнав треть века спустя, что президент довоенной Латвии любил повторять: «Cukas ir musu nakotne». «Свиньи - наше будущее», - скорбно перевел я обидное, думая, что Ульманис имел в виду русских. Но оказалось, что он и впрямь говорил про свиней, поставлявших лучший в мире бекон.
- Свиньи теперь не те, - печально сказал мне приятель.
- Русские - тоже, - жизнерадостно возразил я, обобщая свежие впечатления.
Все годы разлуки Латвия присутствовала на дне моего сознания. Пока меня не было, Рига тихо вернулась в Европу.
…По родным улицам я гулял со смутным ощущением: deja vu. Все это я уже видел, но не наяву. В нашем дворе, у бывшей помойки, стоял «Мерседес» с неукраденными дворниками. Дом, где принимали мучившую меня в пионерском детстве макулатуру, оказался шедевром арт нуво. На месте памятника Ленину стоял невзрачный концептуальный монумент (мне объяснили, что он изображал мироздание). Супермаркет был норвежским, автозаправка - финской. Зато знакомых книжных магазинов не осталось. С четвертой попытки я нашел нужную лавку, чтобы с деланной небрежностью спросить:
- Есть ли у вас книги Гениса?
- Последняя осталась, - уважительно ответил продавец, вынося Книгу рекордов Гиннесса за 10 латов.
Маскируя зависть обидой, я вышел из магазина, бурча про себя «мещанский рай».
Соотечественники так не считали. Тем более что, оказавшись национальным меньшинством, они не перестали быть большинством фактическим. Перебравшись в Европу, Рига оказалась единственным в ней русским городом, хотя и не без латышского акцента. В концертном зале, где в мое время выступал Ростропович, шли гастроли группы Lesopоvals. Несмотря на конечную «s», пели они по-русски - на фене. Пожалуй, этим, если не считать лимоновцев, и исчерпывался имперский экспорт в Латвию. Даже на вокзале я не нашел московских газет.
- Спроса нет, - извинялся киоскер и был, похоже, прав. В Нью-Йорке русские больше интересуются Путиным, чем в Риге. Наверное, потому, что здесь власть ближе. У каждого есть знакомый депутат сейма. Да и законы принимают у всех на виду. Сократив дистанцию между обиженной частью народа и обижающей ее властью, Латвия достигла неожиданного статуса-кво. Русские борются за свои права, в глубине души боясь, чтобы им не помогла бывшая родина. Осколки империи учатся обходиться без нее. Став собой, а значит - другими, заграничные русские могут выбирать из общего наследства лишь то, что очень нравится: борщ, «Лесоповал», Пушкина.
Со стороны, впрочем, нельзя судить, кто прав в этой игре. Изнутри это понять еще труднее. Политика, однако, существует не для того, чтобы искоренять противоречия. Она позволяет жить с ними.
Привыкнув быть инородцем в трех странах двух континентов, я смотрю в будущее легкомысленно. Сдается мне, что следующее поколение рижан будет говорить не на двух, а на трех языках, охотнее всего - по-английски.
15.01.2004
ЯПОНСКИЙ БОГ
(Фото - EPA)
Как ведущий рубрики «Новой газеты» встретил Новый год в стране уже высоко взошедшего солнца
Больше всего мне хотелось провести Новый год в Японии. Виновата в этом придворная дама Сей-Сенагон, тысячу лет назад жившая в столичном городе Киото. Полюбив ее «Записки у изголовья», я мечтал побывать в тех местах, что она описывала, причем обязательно в Новый год, который был и остается любимым праздником японцев.
В книге Сей-Сенагон новогодняя пора описывается с завидной радостью: «В первый день нового года сидим вокруг жаровни возле самой веранды. Лампы зажигать не надо. Все освещено белым отблеском снегов. Разгребая угли щипцами, мы рассказываем друг другу всевозможные истории, потешные или трогательные».
- О-сева-ни-наримашита! - приветствовал я таможенника в Нарите, чем погрузил его в неприветливую задумчивость. Неосторожно вызубренная в самолете фраза сработала безотказно. Японцы цепенеют, слыша от чужеземца родную речь. Живя на самом краю мира, они привыкли к тому, что их не понимают.
По-моему, это их устраивает.
Нам Япония интересна тем, что ее отличает: им не хочется выделяться вовсе. Вежливые до двусмысленности, они стойко выносят наскоки нашей любознательности, но за самурайской выдержкой стоит обида заподозренного в экзотичности народа. Никто не хочет жить в заповеднике, даже эстетическом.
Проще всего это проверить на себе. Достоевским, который открыл иностранцам «русского человека», восхищается весь мир, но сами русские больше любят Пушкина, потому что он и был всем миром. Для нас Пушкин уничтожал границу, которая выделяла Россию, но для остальных он - по обидному набоковскому выражению, «русское шампанское». Наивный парадокс глобализации: все хотят быть как все, надеясь, что другие будут другими.
Труднее всего найти в Японии то, что о ней уже знаешь. Но это еще не значит, что этого в ней нет. Просто будущее ведет себя здесь агрессивнее, чем повсюду, вынуждая заглянуть в тот незавидный мир, что ждет нас всех.
Почав Японию с Токио, ты шалеешь от жизни, упакованной как для космического полета.
Это уже не Восток и не Запад, а искусственный спутник Земли, тупо торчащий посреди сырого неба, но когда в нем вспыхивают неоновые иероглифы, каллиграфия возвращает Японию на законное место. Птичий полет восточного письма заманивает чужеземца непонятным и многозначительным: в каждой рекламе чудится буддийская сутра.
Мне повезло - в Японии у меня были даже читатели. Старательные слависты щедро впускали меня в свою жизнь, хоть и не видели в ней ничего интересного. Я этого не думал. Особенно после того, как переводчица пригласила меня встретить Новый год с ее родителями.
Самый красивый вид из их удобного, как «Тойота», дома открывался из окна уборной. Гору, отделяющую Киото от Осаки, можно было увидеть только с унитаза, оснащенного искусственным интеллектом.
Из уважения мне отвели лучшую комнату, которой никто никогда не пользовался. Обстановка не обманула моих ожиданий: ее не было. По ночам, правда, на полу возникал тюфяк с одеялом, но в остальное время мне предлагалось смотреть в красный угол с таким же одиноким цветком. Я наугад окрестил его повиликой. Третьим в комнате был зачехленный предмет, который можно было бы принять за складную гильотину. Оказалось - кото, японские гусли. Надев серебряный коготь, хозяйка сыграла на нем старинную праздничную песню.
Музыка была прологом к новогоднему ужину. Я готовился к нему, как к баталии, зная по прошлому опыту, каких трудов стоит, с одной стороны, не ткнуться носом в тарелку, а с другой - не треснуться затылком, опрокидывая рюмку. Но в этом доме традиционно низенький столик скрывал милосердную яму. Старшие сидели на коленях, младшие - вытянув ноги. Говорят, что это новшество прибавило росту целому поколению. Поднявшись с колен, Восток стал неудержимо расти, что, собственно, и предсказывал Ленин.
Главное место на столе отводилось неизбежным в новогодние праздники креветкам. Символика их головоломна. Дело в том, что изогнутый креветочный хвост напоминает японцам о согбенной старостью спине. Таким сложным образом вареная креветка означает пожелания долголетия.
Остальные новогодние яства я не берусь перечислить. Из знакомого был один белый хлеб, который - боюсь, что из уважения к заграничному гостю, - ели на десерт ножом и вилкой.
Как я и надеялся, речь за столом шла на экзотические темы.
- Кого вы больше любите - Шолохова или Горького? - спрашивала меня хозяйка, милая учительница, которая провела лучшие годы c товарищами по партии.
- Аллу Пугачеву, - выкрутился я и попал в точку. Все заулыбались и запели почти по-русски: «Мирион, мирион арых роз».
В Японии нас почему-то знают даже лучше, чем мы того заслуживаем. Американцев побаиваются, а русских жалеют, особенно пьяных. Я не возражал, но налег на закуску.
Утром мы поехали в Нару - последнее место в мире, где сохранились не только старая Япония, но и древний Китай, служивший ей во всем примером. Гуляя между тысячелетними храмами и ручными оленями, мы оказались лицом к лицу с самой красивой статуей страны. Кипарисовая скульптура изображала бодисаттву и соединяла в себе достоинства мужчины и женщины.
Мои прогрессивные хозяева не верили никаким богам, кроме красивых. Добравшись до цели новогоднего паломничества, они благоговейно застыли перед статуей, а уходя, сунули в ящик для пожертвований купюру, на которую можно было купить телевизор.
***
Настоящим испытанием стал театр. Как все нормальные люди, японцы предпочитают телевизор. На худой конец - кабуки, где наряду с феодальными драмами ставят того же Горького. Я настоял на театре. Но.
Редкое представление устраивал в честь новогодних празднеств маленький храм в уже отстроенном после землетрясения Кобе. Пьесу, написанную пять веков назад, я понимал немногим хуже моей переводчицы. По-русски она говорила лучше, чем по-старояпонски, и удивлялись мы всему сообща. Под диковатое горловое пение на пустом помосте горевали безутешные любовники и бесчинствовали злобные демоны. Правда, кончалось все хорошо - буйным хороводом, в котором живые плясали с мертвыми. Специалисты утверждают, что так ставили свои трагедии древние греки. Мне сравнивать было не с чем, и я полюбил. Но просто так - за отсутствие реализма.
Все лучшее в Японии не похоже на жизнь - оно или больше, или меньше ее. Ставя превыше всего естественное, японцы ищут его в причудливом. Доходя до предела и выходя за него, естество достигает своей полноты, что и показывают, скажем, борцы сумо.
На Востоке душа скрывается не в груди, а в животе. Неудивительно, что они у борцов такие большие. Придав ментальному усилию наглядный характер, сумо обнажает - почти буквально - духовную энергию, сконцентрированную в теле. Больше ведь ей и деваться-то некуда. Главное в поединке происходит до его начала. Готовясь к нему, соперники сравнивают накопленную силу, как два кота перед дракой. Схватка - демонстрация уже завоеванной победы.
…Предпочитая вымысел удобству, японцы придумали такой наряд, чтобы он не давал им вести себя как вздумается. Женщина в кимоно может только семенить, мужчине оно мешает размахивать руками и позволяет (сам видел на рынке) прятать стакан в рукавах.
…Подозреваю, что, как и мы, классику японцы учатся ненавидеть еще в школе. Во всяком случае, стоило мне заговорить о любимой книге, как хозяева свирепо заскучали. О Сей-Сенагон они знали все, что положено, но, в отличие от меня, читали «Записки у изголовья» не в переводе гениальной Веры Марковой, а так, как они были написаны тысячу лет назад.
Наша беда в том, что мы слишком долго обходились без Японии. Зато когда она (всего полтора века назад!) свалилась на Запад, мы справедливо увидели в ней альтернативу всему, чем были сами.
…В день отъезда меня ждал прощальный новогодний подарок. Переводчица долго вела меня по скучной улице, пока та не уткнулась в бамбуковый лес. Густая даже зимой зелень непривычно могучих стволов гасила свет и приглушала обезьяньи крики. Тропа круто задиралась к небу. Ближе к вершине стали попадаться сосны. Обвязывающий некоторые из них канат указывал, где живут горные духи - ками, с которыми положено делиться сакэ. Круглые бочонки с ним - дары местной винокурни - штабелями стояли у легкого синтоистского храма. Людей вокруг - впервые в Японии - не было.
- Вот тут она и родилась!
- Кто?
- Ваша Сей-Сенагон.
- Но это же было в десятом веке.
- Ну и что? - удивилась моя неутомимая переводчица.
Конечно, в святочном рассказе мне положено было бы на прощание встретиться с духом любимого автора, но врать не стану: гора была пустой. Зато я узнал в ней вершину, на которую смотрел по утрам из уборной.
КРАСИВО ЖИТЬ?
(Рисунок С. Аруханова)
Что общего между гламуром и соцреализмом
- Стреляете?
- Бывает. Когда курить бросаю.
- А по львам?
- Не, разве что утки в тире.
- Хотели бы на полигон? Ракетой жахнуть?
- Боже упаси!
Разговор не клеился, и я чувствовал себя неловко. Собеседник перевез меня через дорогу в своем красном «Чероки», разменял в валютном киоске сотенную, угостил капуччино с текилой, а я упорно не соответствовал. Его изданию нужен был король гламура, я тянул на валета. К тому времени за мной уже тянулся длинный хвост глянцевых органов, но разве за Москвой поспеешь.
Когда Россию настигла свобода, мне хватало толстых журналов. Я их до сих пор люблю - неизменные и незаменимые, как «Лебединое озеро». Читая их, всегда знаешь, что будет дальше: будет плохо. Мартиролог русских бед. Они воспитывают из читателей стоиков, гламур же родился эпикурейцем.
В сущности, между двумя школами не такая большая разница. И те, и другие не ждут светлого будущего, не говоря уже о настоящем. Но стоики идут к концу, сжав зубы; эпикурейцы хватают ими все, что попадется на дороге.
Этим меня гламур и купил. Я хотел, чтобы все были, как Марк Аврелий. Но сам предпочитаю Горация. Потупив глаза от скромности, я говорил себе: буду, как Фет, готовый печататься в органе с неприличным названием, лишь бы стихи не путали. К тому же, попав на глянцевые страницы, чувствуешь себя, словно Лев Толстой в крестьянской школе. И не потому, что знаешь больше, а потому, что знаешь другое. Так, только опубликовав первый опус на мелованной бумаге, я выяснил (из соседнего репортажа), «Как трахаться в самолете».
Постепенно вникая в капризную поэтику гламурной прессы, я понял, что попал в мир, знакомый с детства. Как в сталинской фантастике, тут не было денег. Вернее, их было столько, что никто не считал.
Коммунизм наконец добрался до нашей родины, победив, как и обещал, в одной отдельно взятой стране - той, которой нет. Только в ней уважающий себя москвич не выходит из дома без пиджака за пять тысяч. (В Америке тот же журнал, но по-английски советует одеваться на барахолке.) Я знаю лишь одного человека, который может себе позволить такой пиджак, но он звонит из автомата и обедает бутербродами. Собственно, поэтому я и не верю, что гламур существует для богатых, - зарабатывать им интереснее, чем тратить.
Все сложнее. Гламур превратил потребление в зрелищный спорт. Мы не едим, а смотрим, как едят другие - в жемчугах и смокингах, в лимузинах и тропиках, на серебре и в лайнерах. Мы им даже не завидуем, потому что они ничего не скрывают в отличие от прежних вождей, предававшихся своим унылым оргиям за колючим забором.
Когда из рухнувшей ГДР показали секретный притон тамошнего ЦК, западные соотечественники никак не могли поверить, что расшалившейся фантазии немецких коммунистов хватило лишь на буфет с молдавским коньяком и бассейн в бункере.
Распущенный гламур оперирует с иным размахом. Пропустив среднее звено достатка, он шагает по облакам, засеянным звездами. Одни из них (свои) ближе других, но все смотрят вниз, добродушно подмигивая. Гламур - своего рода телескоп, сводящий небо на землю. От этой оптики портится зрение. Кажется, что мечта располагается сбоку от действительности. Достаточно позвать - и она спрыгнет на колени в виде грудастой негритянки из «Плейбоя» или подноса с породистым виски из соседствующей с ней рекламы.
В сущности, и здесь нет ничего нового: родной жанр бесконфликтного соцреализма, где лучшее всегда побеждает хорошее. Тут те же незатейливость целей и простодушие средств, но полиграфия несравненно выше. В ней все дело: хорошая печать застит глаза. Реализм якобы художественного образа создает иллюзию верного хода.
Отечественная жизнь в своих высших - гламурных - проявлениях достигла всемирного уровня, догнав Америку и перегнав ее вместе с другими, более цивилизованными странами. Гламур стал протезом эмоций. Он позволяет сопереживать чужой жизни, ничего не делая для того, чтобы она стала твоей.
Хуже, что столь привычный статус преображенной вымыслом действительности создает столь же обманчивый контекст для всего остального. Логика гламура подчиняет себе информационное пространство, пользуясь тем, что другого, в чем нас убедили постмодернисты, и не осталось.
Приехав недавно в Москву, я включил телевизор в отеле. Интеллигентный диктор программы «Культура» уговаривал меня вместе со всем культурным человечеством отпраздновать некруглый юбилей Гейнсборо. Каналы попроще делились сплетнями о Пугачевой, Жириновском, Мадонне и королевском дворецком.
В мое время телевизор был честнее. Брежнева показывали в среде сноповязалок, Америку - среди стихийных бедствий, Европу - на баррикадах, Африку - разрывающей цепи. Официальному миру была присуща тотальная стилевая однородность. Поэтому на него и не обращали внимания.
Сейчас иначе. Разбавив все важное мыльной оперой, гламур придает реальности зыбкий, картонный, декоративный характер. На этом смазанном фоне любая новость кажется такой же приметой естественной нормы, что мода, спорт и погода.
Бродский говорил: главное - не о чем, а что за чем идет. А тут все, как у всех: бестселлеры и шампунь, любовники и демократия.
15.12.2003
ДЗЕН ФУТБОЛА
Эта игра инстинктов несправедлива и прекрасна, как жизнь
Новому Свету труднее открыть Старый, чем Колумбу - Америку. Во всяком случае, футбол так и остался старосветской причудой, вызывающей у американцев подозрения в исторической неполноценности. Чтобы полюбить футбол, американцы должны стать, как все, чего они всегда боялись.
Возможно, тут еще виновата географическая карта, на которой болельщики не умеют найти соперников: рядовой американец знает только те страны, с которыми воюет. Между тем в мире, где банки, интернет и террористы успешно отменяют государственные границы, один футбол укрепляет тающую державную идентичность. Легче всего страны и народы отличить на поле - по трусам и майкам.
Иногда, впрочем, не только цвет, но и суть национальной души проявляется в геометрии игры. Наглядные различия подчеркивают геральдическую природу футбола. Однако государственный фетишизм, связывающий коллективное благополучие с забитым голом, чужд американцам. В их одиноком безнациональном раю футболисты, как пришельцы или ангелы, гоняют мяч в основном для своего, а не нашего удовольствия.
Я не оправдываю Америку - я ее жалею. Смотреть футбол не менее интересно, чем играть в него.
Как все великое, футбол слишком прост, чтобы его можно было объяснить. Единственное необходимое условие состоит в запрете на самый естественный для всех, кроме Венеры Милосской, порыв - коснуться мяча рукой. До тех пор, пока мы добровольно взваливаем на себя эти необъяснимые, как рифма, вериги, футбол останется собой, даже если в одной команде игроков вдвое больше, чем во второй, а вратаря нет вовсе.
Вопиющая простота правил говорит о непреодолимом совершенстве этой игры. Как в сексе или шахматах, тут ничего нельзя изобрести или улучшить. Нам не исчерпать то, что уже есть, ибо футбол признает только полное самозабвение. Он напрочь исключает тебя из жизни, за что ты ему и благодарен. Наслаждение приходит лишь тогда, когда мы следим за полем, словно кот за птичкой. От этого зрелища каменеют мышцы. Ведь футбол неостановим, как время. Он не позволяет от себя отвлекаться. Ситуация максимально приближена к боевой - долгое ожидание, чреватое взрывом.
То, что происходит посредине поля, напоминает окопную войну. Бесконечный труд, тренерское глубокомыслие и унылое упорство не гарантируют решающих преимуществ. Сложные конфигурации, составленные из игроков и пасов, эфемернее морозных узоров на стекле - их так же легко стереть. И все же мы неотрывно следим за тактической прорисовкой, зная, что настойчивость - необходимое, хоть и недостаточное, условие победы.
Иногда, впрочем, ты погружаешься в игру так глубоко, что начинаешь предчувствовать ее исход. Под истерической пристальностью взгляда реальность сгущается до тех пределов, за которыми будущее пускает ростки в настоящее. Ощущая их шевеление, ты шепчешь сам себе: «сейчас жахнут», надеясь наконец стать пророком. Но, как и с ними, такое случается редко и всегда невпопад. Футбол непредсказуем и тем прекрасен.
В век, когда изобилие синтетических эмоций только усиливает сенсорный голод, мы благодарны футболу за предынфарктную интенсивность его неожиданностей. Секрет их в том, что между игрой и голом нет прямой причинно-следственной зависимости. Каузальная связь тут прячется так глубоко, что ее, как в любви, нельзя ни разглядеть, ни понять, ни вычислить. Конечно, гол рождается в гуще событий, но он так же не похож на них, как сперматозоид - на человека.
Нелинейность футбола - залог его существования. В отличие от тех достижений, что определяются метрами и секундами, футбол лишен меры и последовательности. Гол может быть продолжением игры, но может и перечеркнуть все, ею созданное. Несправедливый, как жизнь, футбол и логичен не больше, чем она. Проигрывают те, кто знает, как играть. Выигрывают те, кто об этом забыл. Футбол ведь не позволяет задумываться - головой здесь не играют, а бьют, желательно по воротам. Футбол - игра инстинктов. Только те, кто умеет доверять им больше, чем себе, загоняют мяч в сетку. Там, где цена поражения слишком велика, мы не можем полагаться на такое сравнительно новое изобретение, как разум. Тело древнее ума, а значит, и мудрее его.
Великий форвард, на которого молится вся команда, воплощает свободный дух футбола. Как пассат, он носится по полю, послушный только постоянству направления. Его цель - оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы не пропустить свидания с судьбой. Гол кажется материализацией этого непрерывного движения, продолжением его. Но встреча двух тел в неповторимой точке - все равно дело случая. И мы рукоплещем тому, кто способен его расположить к себе - не расчетом, а смирением, вечной готовностью с ним считаться, его ждать, им стать.
24.11.2003
О СВОБОДЕ Я ЗНАЛ БОЛЬШЕ, КОГДА ЕЕ НЕ БЫЛО
Александр Генис
Демократия вручает власть в усталые руки старейшин
Ставя рядом с подписью «Нью-Йорк», я немного преувеличиваю. Мой адрес звучит иначе: Edgewater, Undercliff Avenue. Переводя приблизительно - Набережные Челны, улица Подгорного. С Манхэттеном нас разделяет миля, даже не морская, а речная: Гудзон. Живя на его берегу, я слышу голос нью-йоркских сирен (обычно полицейских), но соседи глухи к их зову. Многие годами не пересекали реку. Наш городок, исчерпывающийся двумя улицами, скалой и набережной, самодостаточен, как американский футбол, которому на чемпионате мира не грозят соперники. Но, с политической точки зрения, я живу в Древней Греции. У нас, если верить Аристотелю, идеальный полис. Избирателей здесь как раз столько, чтобы каждый мог услышать голос оратора, - меньше пяти тысяч. Точнее - 4119. Я знаю наверняка, потому что вчера вернулся с выборов. На них решался вопрос, задевавший в отличие от войны и мира всех горожан: пускать ли паром, обещающий нам объединяющие - или удушающие - узы с Нью-Йорком.
Дилемму, которую мирным путем мы не смогли разрешить даже с женой, пришлось оставить демократии. Она принесла свои плоды - к урнам пришли вдвое больше, чем обычно: 15% избирателей, 607 человек.
Собственно, я их всех знаю. Это счастливое племя пенсионеров. Лишившись своих дел, они с азартом занимаются общими, отрываясь ради них от лото, йоги и бальных танцев. Поскольку остальным недосуг, демократия, приобретая еще более архаические черты, вручает власть в усталые руки старейшин.
В Америке, как всюду, трудно найти человека, который любит свое правительство, тем более что никто и не признает его своим. Еще труднее найти тех, кто отказался бы от права выбирать себе власть. Но и тех, кто им пользуется, не встретишь на каждом шагу.
Американцы любят демократию - настолько, чтобы за нее умирать, настолько, чтобы за нее убивать, но не настолько, чтобы ею всегда пользоваться. Победив, демократия почивает на лаврах, как спящая красавица. Но сон не смерть, скорее, ее противоположность. Во сне мы обладаем истинной полнотой бытия, потому что его не тратим. Бездействие - залог целостности, как золотой запас. Мирно покоясь под замком, он обеспечивает стоимость миражных денег. Нам, как скупому рыцарю, достаточно знать, что сундуки полны. Потенциальная власть сильнее всякой: ею не пользуются по назначению. Она не средство, не цель, а условие и того, и другого.
Примерно то же можно сказать о свободе, хотя когда ее не было, я знал о ней куда больше. Правду можно сказать только об обществе, которое ее скрывает, о свободе узнаешь в неволе, да и то немного.
Выросшее на самиздате поколение думало, что мечтает о свободе слова. На самом деле ему (нам) нужна была свобода запрещенного слова. Каким бы оно ни было. Бродский верил, что жизнь изменится, когда Россия прочтет «Чевенгур». Она изменилась, когда напечатали «Шестерки умирают первыми». В конце концов, желтая пресса - самая свободная в мире, она свободна даже от разума. Нужно еще удивляться, что иногда он находит себе дорогу в пустырях, заросших сплетнями о Пугачевой.
Дефицит обостряет чувства, как голод - аппетит. В сытой Америке об этом не помнят. Чтобы освежить соблазн свободы, здесь надо ляпнуть что-то серьезное, скажем - о неграх. Однажды мне такое удалось. В ответ на письмо из госдепартамента я испытал знакомые судороги - cтрах пополам с наслаждением: власть знает тебя в лицо, пусть оно ей и не нравится. С тех пор - в отместку - я не пропускаю выборов. Нельзя сказать, чтобы это изменило Америку. Я, например, как, впрочем, большинство американских избирателей, не голосовал за нынешнего президента, но у меня есть отмазка. Вмешавшись в редкую толпу голубоволосых леди, я разбудил в себе демократию, чтобы не отвечать за чужие ошибки.
Жить в обществе и быть свободным от него можно, лишь зная, что оно неизбежно изменится. Выборы - машина перемен в любую (к счастью и сожалению) сторону. Демократия не без лицемерия называет «народом» только тех, кто играет по ее правилам. Но, в сущности, этот генератор равнодушной свободы потворствует не столько большинству, сколько смене. Разница ощутима даже тогда, когда мы меняем шило на мыло, особенно если садишься. Впуская в жизнь произвол масс и слепоту случая, демократия открывает пути хоть и непредвиденному, зато непостоянному. У нее всегда остается шанс исправиться, у меня - возможность ехидной реплики: «Что я говорил».
Осенью 93-го я прилетел в Москву. О том, что произойдет в это дождливое воскресенье, догадывалась почему-то одна «Нью-Йорк таймс». Читая ее в самолете, я узнал о Жириновском больше, чем мне хотелось бы. А в понедельник, услышав о результатах выборов, друзья спрятали глаза. Им было стыдно за свой народ, оказавшийся недостойным демократии. Люди, однако, всегда недостойны демократии. Именно поэтому китайцы изобрели все, кроме нее. Они верили, что всякая политическая система должна рассчитывать на худших. Лучшим закон не писан. И свобода им не нужна. Разве что от себя, как Будде. Нам - сложнее. Особенно моим друзьям, многие из которых рисковали судьбой, чтобы сделать возможными выборы, которые они пропустили. Воскресенье выдалось пасмурным, а для демократии дождь часто страшнее танков.
17.11.2003ИГРА В БИСЕР
Я не знаю, почему эту игру окрестили названием моего любимого романа, но ее незатейливые правила показались мне знакомыми. Выбрав бродвейский перекресток побойчее, один из двух участников кивает на прохожего, давая понять, что это русский. Если второй согласится принять немое пари, у жертвы спрашивают, который час - на родном языке. Ответ выдает происхождение и определяет победителя.
Будучи старожилом, я не могу «играть в бисер»: нечестно. Русского я могу узнать со спины, за рулем, в коляске. Мне не нужно всматриваться - достаточно локтя или колена.
Раньше, конечно, было проще. Только наши носили ушанки, летом - сандалии с носками. Шли набычившись, тяжело нагруженные, улыбались через силу, ругались про себя. Как-то подошла ко мне в Нью-Йорке соотечественница с еще золотыми зубами, чтобы спросить: «Метро, вере из?». Я ответил по-русски. «Тэнк ю», - поблагодарила она, от радости решив, что английский - уже не проблема.
Но это - когда было. Теперь таких - испуганных, в шубе, с олимпийским мишкой на сумке - уже не встретишь. А я все равно узнаю своих - в любой толпе, включая нудистов, в любом мундире - полицейского, стюардессы, музейного смотрителя. Однажды приметил панка - колючего, как морская мина. Друзья не поверили, но я был тверд. И что же - минуты не прошло, как его мама окликнула: «Боря, я же просила».
Атеисты думают, что дело - в теле и в лице, конечно: низкий центр тяжести, славянская округлость черт. Ну а как насчет хасида, с которым, как потом выяснилось, я ходил в одну школу? Или ослепительной якутки, которую я опознал среди азиатских манекенщиц? Или казаха на дипломатическом рауте в далеко не русском посольстве? Коронным номером стала негритянка, в которой я, честно говоря, сомневался, пока она не обратилась к своему белому сынишке: «Сметану брать будем?».
Сознаюсь: хвастовство мое отдает расизмом, как всякий приоритет универсального над личным. Никто не хочет входить в группу, членом которой не он себя назначил. Одно дело - слыть филателистом, другое - «лицом кавказской национальности». Меня оправдывает лишь то, что, интуитивно узнавая соотечественника, где бы он мне ни встретился, я нарушаю политическую корректность невольно. Примирившись с проделками шестого чувства родины, я тщетно пытаюсь понять его механизм. Из чего складывается та невразумительная «русскость», что, лихо преодолевая национальную рознь, делает всех нас детьми одной, уже развалившейся империи?
Иногда тот же вопрос мучает и иностранцев. Например, японцев. Не умея отличить себя от корейцев, они безошибочно выделяют нас среди остальных европейцев. «Над русскими, - говорят японцы, - витает аура страдания». Может, поэтому здесь любят фильмы Германа, не говоря уже о Достоевском.
Как все правдоподобное, это вряд ли верно. Страдают обычно поодиночке, хором проще смеяться. Да и конкурентов немало у русских бед.
Есть еще коллективное подсознание, но я в него не верю. Юнг придумал другое название «народной душе», изрядно скомпрометированной неумными энтузиастами. Перечисление, однако, не описывает души. Она неисчерпаемая, хоть и неповторимая. У государства к тому же ее нет вовсе - оно же не бессмертно. Да и кто, во всяком случае до Страшного суда, возьмется клеить ярлыки. Солженицын отказывался называть Брежнева русским. Брежнев вряд ли считал таковым Щаранского. Но за границей всех троих объединяет происхождение. Иноземное окружение проясняет его, как проявитель - пленку.
Масло масляное, говорю я, сдаваясь эмпирике. Постичь тайну «русского» человека не проще, чем снежного, - неуловимость та же. Остается полагаться на те мелкие детали, что вызывают бесспорный резонанс.
Мы уже не пьем до утра, но еще любим сидеть на кухне. Мы уже не читаем классиков, но еще оставляем это детям. Мы уже знаем фуа-гра, но еще млеем от лисичек. Мы уже терпим демократию, но еще предпочитаем всем мерам крайние. Мы уже не говорим «мы», но еще не терпим одиночества. Мы уже не лезем напролом, но еще входим в лифт первыми. Мы уже не любим себя, но еще презираем остальных. Мы уже говорим без акцента, но еще называем чай - «чайком», пиво - «пивком», а водку - «само собой разумеется».
Безнадежно. Вычитание кончается нулем, сложение - бесконечностью. Но и отступиться не выходит.
С год назад я попал в Сербию. Уровень балканской смури характеризовало и то обстоятельство, что в Белграде выпускали мои книги. Больше всего мне понравилась первая - она вышла на двух алфавитах сразу. То, что о России, печаталось кириллицей; то, что про Америку, - латиницей. Этот прием достаточно точно отвечал устройству моей жизни: половина - родным шрифтом, половина - заграничным.
Встреча с читателями началась с вопросов. Первым встал диссидент с бородой и ясным взглядом.
- Есть ли Бог? - спросил он.
Я оглянулся, надеясь, что за спиной стоит тот, к кому обращаются, но сзади была только стенка с реалистическим портретом окурка.
- Видите ли, - начал мямлить я.
- Нет, не видим, - твердо сказал спрашивающий. - А вы?
- Почему - я?
- Вам, русским, виднее.
Тут я понял, что влип.
И в 70 лет Борис Парамонов похож на всех Карамазовых, включая черта
Сократ у микрофона
Нью-Йорк, редакция радио "Свобода". Юбиляр в кресле
Парамонов - человек, про которого можно рассказывать анекдоты вроде тех, которые так любил собирать Пушкин. Среди прочего это значит, что Борис - обратная сторона оригинальности: своенравен, упрям и ворчлив. Вполне достаточно, чтобы с ним было трудно дружить, и я счастлив, что мне это удается. С Парамоновым никогда не скучно - он слишком много знает. При этом я бы не назвал Бориса Михайловича (так мы величаем его в эфире) энциклопедически образованным человеком. Эрудиция - немодная добродетель. Теперь считается, что интернет, как извозчик, сам довезет. К тому же Борис не одобряет "ненужные", по его терминологии, знания. Меня, скажем, он дразнит за неразборчивость и обзывает Гуглом. Сам же он скорее похож на Шерлока Холмса, который понятия не имел, что Земля вращается вокруг Солнца, а узнав об этом от неугомонного Ватсона, поклялся тут же забыть лишнюю подробность мироздания.
Парамонов тоже интересуется только существенным, как он бы сказал, "сущим". Для него это прежде всего - русская судьба, осмысленная в контексте всей мировой культуры. Тут надо затормозить, чтобы дать себе отчет: в рамках такого определения почти ничего не остается за пределами проекта - от голливудского кино до сартровской феноменологии.
Однажды я с удивлением услышал, как Парамонов спорит с заезжим почвенником об иезуитских тонкостях общинного землепользования. В другой раз имел глупость не поверить его обещанию узнать по одной фразе любой рассказ Чехова. Хорошо еще, что спорили всего лишь на маленькую.
Для меня, однако, интереснее говорить с Парамоновым не о том, что он знает, а о том, чего не знает никто. Борис обладает редкой способностью с места в карьер завести разговор о нерешенном - жизнь, смерть, евреи…
Навязав свои условия диалога, он барственно позволяет собеседнику "пить вино беседы". Часто оно пьянит не меньше попутно употребленного. Как-то я уже написал, что Парамонов напоминает сразу всех Карамазовых, включая черта, и до сих пор не раскаиваюсь в сказанном. Борис умеет вскружить голову фейерверком провокационных идей, включая вздорные и навязчивые. Но и тут надо быть осторожным, чтобы не прозевать "зернистую" (парамоновское словцо) мысль. Так, утомившись, как и большинство его слушателей, темой однополой любви, я посетовал на настойчивость интереса Парамонова к меньшинствам.
- Бог, - назидательно ответил мне на это Борис, - сотворил гомосексуализм, чтобы человек задумался.
Я послушно задумался, к ответу не пришел, но надежды не теряю и слушаю Парамонова с прежним вниманием. Дело в том, что с возрастом, когда все важные идеи обдуманы, главные книги прочитаны и удивляться становится все труднее, начинаешь по-настоящему ценить интеллектуальную непредсказуемость. Лучший дар общения - услышать то, что самому не придет в голову. За четверть века дружбы с Борисом он меня не перестал поражать.
На днях, например, прислал по е-мейлу целый сборник своих стихов. И каких! Изощренные стихотворные формы, заковыристые рифмы, сонеты, составленные из одних фамилий партийных бонз второго ряда. Решив, что такой утонченный формализм мне не по зубам, я переправил стихи Бахчаняну, который страшно ими воодушевился, открыв, что они с Парамоновым одного поля ягода.
Любовь к ученой игре свойственна и более серьезным занятиям Парамонова. Так, его огромная статья о Платонове - лучшая из всего, что я читал на эту великую тему, - называется "Трава родины", что немедленно побуждает читателя к метафорическому путешествию.
- Парамонов, - говорил Довлатов, - обладает редкой чертой - интеллектуальной щедростью.
Такой комплимент надо понимать буквально: Борис любит и умеет делиться знанием. Никто, твердо скажу я, лучше него не объясняет философов. Я думаю, Парамонов до сих пор бы этим занимался в Питерском университете, если бы его оттуда не поперла презиравшая профессионалов советская власть. Кроме нее, впрочем, от этого карамболя никто не проиграл. Больше всех повезло слушателям "Свободы". На бумаге с Борисом легко не соглашаться, в эфире это почти невозможно. Чтобы оценить Парамонова по достоинству, его надо слышать - как Сократа или оперу.
В праздничном тосте юбиляру принято туманно обещать всего лучшего. Я хотел бы уточнить. Писатели, как известно, не уходят на пенсию. Поэтому я желаю Парамонову одного - до последнего дня делать то, что он делает.
Александр Генис
21.05.2007
Мой Рим
Теперь-то мне кажется, что я никогда не жил без Рима, хотя на деле я никогда не жил в пределах его империи. На север она простиралась до 56-го градуса, Рига стояла на 57-м. Из-за географического положения город был заведомо лишен тех поэтических вольностей, что позволяют выпустить иллюстрированный том «Киев времен Траяна».
- Устарела твоя книга, - устыдили меня приятели, показывая свежую брошюру «Казаки против Ксеркса».
Эстонцы зашли с другого конца. В стихах, считавшихся в 60-е подпольным гимном нации, они сравнивали себя с дикими галлами:
И сказал Верцингеторикс:
Цезарь!
Ты отнял землю, на которой мы жили.
Цезарь, однако, никак не походил на Брежнева, скорее уж на Хрущева, но только лысиной, которую тот прикрывал панамой, в отличие от Гая Юлия, прятавшего ее под лавровым венком.
Латыши выбрали окольный путь. Если эллины считали варварами тех, кто мямлил «бар-бар», не владея человеческой, то есть греческой речью, то для римлян цивилизация кончалась там, где вымерзали виноградники. Пивом баловались только дикари.
«Их напиток, - писал Тацит, не скрывая отвращения, - ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина».
Признав, что виноделие - цена римской прописки, курземские селекционеры засадили лозой южный склон одной отдельно взятой горы. Как и все остальные латвийские вершины, эта достигала лишь такой высоты, чтобы зимой с нее было удобно спускаться на портфеле.
Путь к единственному на всю Прибалтику винограднику лежал через поселок Сабиле. Его другой достопримечательностью была синагога, которую в войну сожгли вместе с евреями (цыган спас городской голова, за что они ему поставили памятник). Спросив в кабачке дорогу, мы услышали усталое «не промахнетесь». Шоссе и правда упиралось в пригорок, засаженный хилой лозой с мелкими гроздьями и аппетитными улитками. Компактные кущи охраняла высокая ограда с кассой. За небольшую мзду нам достался экскурсовод.
- При герцоге Якобе, - заливался он, - наше вино экспортировалось в Европу, где оно славилось своей крепостью.
Я намекнул на дегустацию, но напрасно.
- В год, - прозвучал сухой ответ, - всего 200 бутылок для державных мероприятий. Президентские банкеты - раз, велопробег «Сумасшедший виноградарь» - два…
- Но вы-то пробовали?
- Лучше не спрашивайте. Зато оно вошло в Книгу Гиннесса - как самое северное. Никто не знает, где виноград родился, но умирает он на другом склоне этого холма.
«Трудным, - справедливо писал Гораций, - делает Вакх тем, кто не пьет, жизненный путь».
Я слушался римского поэта еще тогда, когда не умел распутывать его головоломные гекзаметры. Они соединяют ловкость Пушкина с запутанностью кишечника. Не удивительно, что, погрузившись в потроха латыни, можно набрести там на упакованную, как чемодан, строфу Бродского. Он тоже читал классиков по-русски и до сих пор не отдал одолженный томик Проперция.
Сам я мечтал об оригинале, веря, что второй язык обязан быть римским. Жизнь с ним кажется торжественной - как с вином. С раннего детства я принимал Рим лошадиными дозами и до сих пор думаю, что классическая стадия - неизбежная фаза в эволюции эмбриона на пути от земноводного к пенсии. Я искал урок героизма у Плутарха, а не в «Молодой гвардии», как уговаривала меня школа. Я тосковал по гимназической античности. Я готов был учиться даже у Человека в футляре. Уже студентом, нахальным и безалаберным, я прилежно зубрил безумное третье склонение, которое ведет себя не лучше Калигулы, если судить по знаменитому порнографическому фильму.
- Лишь теперь, - признался Виктор Некрасов, посмотрев его, - я узнал, на что способна тоталитарная власть.
Сталина, надо понимать, ему не хватило.
Интересно, что Рим и впрямь веками стимулирует сексуальную фантазию наиболее просвещенной части человечества. Похоже, мы не способны себе представить, на что, кроме разврата, годится абсолютная власть. Что напоминает русскую сказку:
- Живу, как царь, кто ни пройдет - в морду.
Устроившись на прокрустовом ложе подросткового воображения, римская история растянулась между непомерными доблестями и беспредельными пороками. Читая о последних у Светония, я, наконец, смог употребить вымученные знания, чтобы перевести с помощью большого (а не скромного, студенческого) словаря отрывок, застенчиво оставленный русскими издателями на латыни. Так я узнал, как называлось то, что у нас пишут на заборах: мentula!
Соблазн латыни, однако, не в лексиконе, а в грамматике. Ее синтаксис, как Лев Толстой, берется объяснить все на свете. Это - язык цивилизации. С помощью союзов он навязывает миру причины и следствия, предпочитая видимость порядка анархии бессоюзного равноправия. Именно поэтому латынью пользуется каждая страна, претендующая на свою долю римского наследства. Так, в Петербурге, где плотность колонн больше, чем на форуме, памятники изъясняются с римской краткостью. На одном, одетом в консульские доспехи, написано просто - «Суворову». Это и есть латынь с ее умением строить предложение из косвенных падежей.
Лишь под напором отчаяния, как это случалось у Сенеки и Беккета, синтаксис разваливается на равно важные и никому ничем не обязанные фрагменты речи. И тогда нам слышен голос не родины, а души. Ей, уставшей от насилия порядка, дает высказаться поток сознания, в том числе - скифского:
Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.
Горация меня научил любить Гаспаров, тот самый - Михаил Леонович.
«Главная строка, - писал он, - всегда первая: ода - не басня: морали не будет».
«Стихи Горация, - понял я, - только кажутся банальными и говорят об одном: живи незаметно, как Эпикур, и будь знаменит, как Август».
С Аверинцевым, который больше любил Вергилия, мне довелось говорить по радио.
- В чем смысл империи? - спросил я его в год, памятный для Беловежской Пущи.
- В том, - ответил он мне 25-минутной лекцией, - что каждая считает себя единственной. Империю убивают не варвары, а утрата веры в исключительность своей правоты.
Мне, похоже, выпало жить сразу в двух империях, развивающих этот тезис.
Если Москва - Третий Рим, а Петербург - четвертый, то Вашингтон - пятый и Голливуд - шестой.
- Здесь, - сказал Менделеев, посетив Америку, - повторяют на новый манер старую римскую историю.
Убедив себя в этом сходстве еще на заре своей истории, Америка до сих пор за него держится. В Капитолии заседают сенаторы, в Вест-Пойнте преподают Полибия, в Белом доме портят весталок, и каждый доллар говорит на латыни: «Novus ordo seclorum».
«Новый порядок» вещей оказался пугающе старым, когда из декоративной параллели Рим стал историческим прототипом. Слишком хорошо зная прошлое своей предшественницы, Америка сейчас решает жгучий вопрос: в каком веке Римской империи она живет - серебряном втором или железном третьем?
При этом в глубине души Америка, что бы ни думали ее враги, друзья и соперники, никогда не хотела ни римской судьбы, ни ее славы. То-то подсознание страны - Голливуд - постоянно отпихивает роль Рима, которую и сегодня Америке навязывают обстоятельства.
Если политический ритуал Америки настоян на классических добродетелях, то ее искусство выросло из романтических соблазнов. Поэтому Голливуд опровергает то, что исповедует Вашингтон. В не выходящих из моды фильмах «сандалий и тоги» добро приходит с окраин римской ойкумены. Отождествляя себя на экране с неиспорченным дикарем, Америка играет роль новичка, не испорченного роскошью уже тогда Старого Света. Обычно это - гладиатор-христианин на раскаленной арене.
Но, спрашивается, кто же тогда Рим в этих пышных декорациях?
Тоже Америка. Она - сама себе раб и хозяин: оплот развращенной цивилизации и бастион чистосердечного варварства.
С ним, впрочем, после 11 сентября стало сложнее. Ощутив собственную хрупкость, цивилизация простила создавших ее «мертвых белых мужчин», многие из которых носили тоги. Об этом еще никто не говорит, но уже все знают: 11 сентября кончилось смутное время мультикультурализма.
- Это - не война цивилизаций, это - война за цивилизацию, - сказал Тони Блэр.
Террор разбудил давно уснувшую любовь к классике, которая постепенно вновь вползает в жизнь взамен еще недавно столь любимой (в том числе и мной) архаики. Сегодня заигравшаяся с первобытными стихиями цивилизация вспомнила, что, собственно, было до нее: темно, страшно, скисшее пиво.
Встретившись с варварским напором, мы забыли романтическую мечту о благородном дикаре. Его труп погребли руины «близнецов».
Рим нам стал примером потому, что его границы определены не пространством, а временем. Этим одна античность отличается от другой.
Римляне жили в исторически обозримых параметрах: 753-410. Зато Эллада - бездонна, а греки - кентавры. История эллинов началась в животном царстве. Об этом проговариваются химеры. Глядя на них, мы чувствуем, что рубеж между зверем и человеком размыт и homo sapiens - еще свежая новость.
Рим - другое дело. Как Америка, он помнит себя со дня рождения. Еще важнее, что мы точно знаем, как и когда он умер. Греков, скажем, сколько угодно. Один, скорняк, даже живет в соседнем доме. А вот римлян больше нет - и не будет.
- Я выбрал профессию, - сказал на склоне лет тот же Гаспаров, - которая оказалась короче жизни.
Сперва меня удивило, что даже Рима ему было мало. Потом я понял, что имелось в виду. Рим обозрим и закончен. Каждый отличник может прочесть все (все!), что от римлян осталось, а до нас дошло.
Изучив его прошлое глубже своего, мы увидели в Риме Ветхий Завет Запада: перечень мудрых законов, которые не спасли от роковых ошибок. Чтобы исправить их, понадобился Новый Завет с историей, но и она может завершиться не лучше предыдущей. Рим позволил нам включить в свое историческое сознание опыт смерти.
- Все уже было, - твердим мы, и память о прошлом рождении превращает в реликвию любой пустяк из римских древностей.
Мне эта интимная метафизика истории позволила собрать себе частный Рим и превратить его в сверстника. Сперва - диссидентская риторика республиканского Рима, потом - зависть к триумфам Рима имперского, наконец - перспектива безвыходного будущего. Надежд на него не больше, чем было у Рима. Если, конечно, не поверить, как он, в благую весть, пришедшую с Востока.
Когда я впервые оказался в Риме, до этого было еще далеко. Гаспаров, встретившись, наконец, с настоящим Римом, не хотел выходить из отеля, чтобы не испортить сложившегося за долгую жизнь впечатления. Для такого стоицизма я был нетерпелив и молод, что уж точно не мешало любви.
В день первого свидания меня сопровождал не Тацит, а Феллини. Смеркалось. Идя по городу, я перемещался из дневного «Рима» в вечернюю «Сладкую жизнь», надеясь добраться до «Сатирикона». Выйдя за городские пределы, миновав гетер, встречавших грузовики, я шагал в беззвездной тьме. Теперь я ничего не видел, но все помнил. От окружающего осталось только название: «Аппиева дорога». Я шел по ней, не беспокоясь о возвращении. Кто же не знает, что все дороги ведут в Рим?
Специально для «Новой»
Александр Генис
31.05.2007
Вещь из языка
Льву Лосеву - 70 лет
Я никогда не слышал, чтобы Лосев повышал голос, даже в грозу, не говоря уже о застолье. Возможно, потому, что он - человек крайностей, обычно двух: крайне умерен и бесконечно сдержан.
Бинарная оппозиция в характере началась уже с имени. Так, печатаясь в «Новом американце», Лосев сознательно выдавал себя за разных авторов, подписываясь то «Алексей Лифшиц», то «Лев Лосев». Припертый к стенке раздраженными читателями, он написал обиженное письмо в редакцию.
- Нет ничего странного, - объяснил он, - что иногда я пишу под именем Лев, а иногда Алексей, ведь то же самое делал Толстой.
Подписчики были утихомирены, инцидент исчерпан, но подозрения в том, что Лосев умеет раздваиваться, остались. Один - профессор престижного Дартмута, другой пишет стихи, лучшие из которых я не всегда решаюсь процитировать, во всяком случае, по радио или в печати.
За нерушимостью границ между двумя ипостасями щепетильно следит хозяин обеих. Лосев и сам не терпит, и другим не позволяет смешивать стихи и прозу, точнее, поэзию и филологию.
- Именно потому, - считает Лосев, - что первой закон не писан, он должен быть особенно суров для второй.
По безалаберности мне с этим трудно согласиться, но мы вообще редко сходимся во вкусах. Лосев, скажем, любит Петрушевскую, а я - Сорокина. Впрочем, это ничему не мешает, во всяком случае, мне.
В литературоведении Лосев и впрямь любит выглядеть педантом: сухое перо, точное слово, брезгливое отношение ко всяким архитектурным излишествам. Именно поэтому поистине бесценны его комментаторские труды. Думаю, ни одному русскому гению не досталось такого толкователя, как Бродскому. Буквально каждое его слово Лосев помнит и понимает.
Я это точно знаю, потому что проверял. Однажды, намучившись, не выдержал и позвонил, чтобы спросить:
- Что значит строчка «В парвеноне хрипит «ку-ку»?
- «Парвенон» - гибрид парвеню с Парфеноном, - молниеносно, как будто ждал этого вопроса всю жизнь, ответил Лосев.
И тут я уже сам вспомнил часы на башне с наивными деревянными колоннами - ампир провинциального Провинстауна, где, собственно, и была написана «Колыбельная Трескового мыса».
Со своими стихами Лосев обращается не так, как с чужими. Об этом я тоже спросил, когда решил узнать, каково его рабочее определение поэзии.
- Игра, - ответил он, опять почти не задумавшись.
Про Бродского он бы так не сказал, но про себя можно. И понятно. Стихи Лосева полны интеллектуальной эквилибристикой. Каждое стихотворение как цирковой номер - под куполом и без сетки. В такой поэзии нет ничего ни естественного, ни противоестественного, только - искусное.
Пропустив романтический XIX век, Лосев, мне кажется, был бы своим в том просвещенном столетии, когда литература была еще не средством самовыражения, а сама собой - изящной словесностью. Из этой цивилизованной эпохи пришло и главное в моих глазах достоинство лосевской поэзии - остроумие.
Тут только бы не перепутать остроумные стихи со смешными. Последние существуют для стенгазет: «Я хочу построить дачу. Где - вот главная задача». Не только прием, но и мировоззрение, остроумие подразумевают не острОту, а остротУ, позволяющую вскрыть слово, да и дело.
Как и скальпелем, этим тонким инструментом может пользоваться лишь специалист, знающий, что литература - еще и профессия, секретное ремесло, с помощью которого мастер изготовляет затейливые вещи из языка. В книжке Лосева читатель любуется ими, как зевака в музее.
А я ведь помню, как все началось, - с недоверия. То, что первую подборку предваряла похвала Бродского, скорее внушало сомнение, чем гасило его: Платон мне друг - и точка.
Как же мы ошибались! Хорошо, хоть недолго. Когда в 85-м в «Эрмитаже», у Ефимова, вышел первый сборник стихов Лосева «Чудесный десант», мы возили его с собой в машине и читали вслух. Книжки хватало на самую длинную дорогу, потому что, добравшись до последней страницы, все согласно возвращались к первой.
Только сейчас, открыв этот уже изрядно порыжевший томик, я с удивлением обнаружил: там всегото 150 страниц, и каждую я помню.
Да и разве могло быть иначе, если там есть, например, такое:
Как же, твержу, мне поставлен в аллейке памятник в виде стола и скамейки, с кружкой, поллитрой, вкрутую яйцом, следом за дедом моим и отцом.
Александр Генис
14.06.2007
Кругом, возможно, Бог
«Бог умер». /Ницше/
«Ницше умер». /Бог/
Обмен этими репликами изрядно развлекал студентов в 60-е годы. Сейчас эта перебранка кажется неактуальной, ибо выяснилось, что если Бог может умереть, то может и родиться опять.
Во всяком случае, в русскую жизнь Бог вернулся на моих глазах. Это произошло в разгар перестройки, когда окрыленный дерзостью властей журнал «Литературная учеба» опубликовал Евангелие от Матфея. Я до сих пор бережно храню этот номер из-за аверинцевского перевода. В те же смутные дни группа московских авангардистов заступилась за Богородицу, обиженную группой ленинградских авангардистов.
Коллективное письмо по диссидентской привычке направили во все органы, кроме Патриаршего.
Сам я далек от этих споров: с одной стороны - перекреститься не умею, с другой - обрезание уже поздно делать. Единственный знакомый священник - Меерсон-Аксенов - свой человек. Как немалая часть православного клира, он был евреем, выпускником философского факультета и приятелем художников-нонконформистов, подбивших его провести панихиду по Малевичу. Тем не менее я никогда не знаю, о чем говорить при встрече. В последний раз зачем-то спросил, когда Пасха.
- Календарь купи, - рассердился Меерсон, но тут же смягчился. - В семинарии меня предупреждали: никто тебя не будет спрашивать, есть ли Бог, только - когда Пасха.
Я тоже не спрашиваю про Бога, поскольку приписываю себя к агностикам, которые интересуются только вопросами без ответов. Меерсон придерживался другого мнения.
- Если консерватор, - сказал он, - ограбленный либерал, - то агностик - это струсивший атеист.
Согласившись с ним, я огорчился, получив письмо из провинции.
«В наказание за то, что вы нападаете на Бога, - предупреждал меня рассерженный слушатель, - Он отнимет у вас все, чем наградил».
Я не нападаю, я молчу, потому что ничего не знаю, кроме того, что Он пишется с большой буквы, которая говорит лишь о том, что Бог один, как все мы, когда нас зовут по имени. Больше мне про Бога сказать нечего. Но можно поговорить о верящем в Него человеке.
- Кто хуже, - донимает меня бес сомнения, - бандит или фанатик? убийца или террорист?
Но это - не про Бога, а про охотно заменяющую его религию, у которой - в отличие от Него - есть история. Я это хорошо знаю, потому что, считая теологию то научной, то ненаучной фантастикой, много лет прилежно ее изучаю, часто - на ходу.
Однажды, сразу после 11 сентября, это плохо кончилось. Сидя за рулем и слушая записанную на пленку лекцию о гомоусии, которая, как всем известно, окончательно утвердила единосущность Троицы, я настолько забыл об окружающем, что нервные полицейские, уязвленные отрешенным выражением семитского лица, приняли меня за террориста. Возможно, я - последний, кому пришлось опровергать арианскую ересь, тем более - под дулом пистолета.
Востальных случаях различия между религиозными деноми нациями определяет безошибочная формула: у меня - церковь, у тебя - секта, у меня - вера, у тебя - суеверие.
Как раз оно-то и мне доступно. Всякое суеверие опирается на еще неизвестные законы природы, чем напоминает науку и является ею в глазах профанов, которыми либо в той, либо в иной области можно считать каждого. Другое дело - чудо, к которому скептики относятся, как к монстру Лох-Несса: его видят только другие.
Сегодня, например, Америка выясняет пределы своей доверчивости, разбираясь с мормонами, один из которых решил стать президентом. Митт Ромни, в прошлом губернатор, в настоящем - миллионер, а в будущем, как он надеется, Верховный главнокомандующий, вынужден отвечать на разные, но в равной степени увлекательные вопросы. Носит ли он магические трусы мормонов и правда ли, что рай находится в Миссури?
- Каждый, - говорят противники, - кто может утвердительно ответить на эти вопросы, недостоин президентского поста. Вот если бы он, как все, верил в распятого, воскресшего на третий день после казни.
Это, однако, было давно. А, как указал Эдвард Гиббон, истории точно известно, что в период между смертью апостолов и обращением Константина произошло «угасание чудотворности». Решив избавить от нее священную историю, Джеферсон ножницами вырезал чудеса из своей Библии, Вашингтон в нее редко заглядывал. Как, надо признать, нынешние американцы.
«Значительная часть школьников, - говорит недавний опрос, - полагает, что Содом и Гоморра - муж и жена».
С взрослыми лучше: три четверти верят в ангелов, 83 процента считают Библию словом
Бога, и большая часть американских христиан не знает, кто произнес Нагорную проповедь.
Все это, конечно, не имеет отношения к вере. Религия - это когда не только просят, но и получают: здесь и сейчас.
Церковь у Дороги и впрямь стояла на дороге, соединяющей убогий Патерсон с Нью-Йорком. Езды с полчаса, но мир - другой. Когда-то здесь жили «шелковые бароны», теперь - кому не повезло. Джентрификация еще не добралась до этого инвалида индустриальной революции, и белые сюда попадают не часто. Тем более - в церковь. Даже у библейских персонажей на развешанных в холле религиозных картинах - черные лица. Среди прихожан, правда, я заметил трех белых женщин. Я знал ту из них, что была похожа на Хаммера и выполняла его работу. По будням она повышала производительность труда, доводя менеджеров до инфаркта, а в выходные отводила душу, в прямом, скажу я, забегая вперед, смысле.
Пастор Пэйдж - высокий, молодой, спортивный, в белой сорочке с изысканно подобранным галстуком - не походил на фанатика. На стенах офиса - диплом престижной семинарии, награды муниципалитета и почетные грамоты от церковных иерархов. Его речь была интеллигентна, рукопожатие твердо, сам он светился радушием и уверенностью. Сперва мне показалось, что больше церковной кафедры ему бы подошел министерский портфель в умеренно коррумпированной африканской державе. Еще и потому, что священника сопровождала пара огромных, как Гог и Магог, телохранителей.
- Мы покажем русским, - сказал Пэйдж, представляя меня, - как надо молиться.
И показал.
Ведя службу, как шаман, пастор метался на подиуме. Свою проповедь он пел и выкрикивал. Слова выливались то в стон, то в гимн. Намокла рубашка, почернел от пота элегантный итальянский пиджак. Не выпуская микрофона, Пэйдж беззаветно доводил себя до изнеможения. Неистовый танец его молитвы загипнотизировал церковь.
Прихожане участвовали в радении душой и телом. Искусно разжигая паству, Пэйдж накалял зал. Когда напряжение достигло предела, он замер в обрушившейся тишине. Секунду спустя сквозь него, казалось, прошла электрическая искра. Конвульсивно дергаясь, пастор принялся проникновенно и торжественно выкрикивать несуществующие слова на ангельских языках.
Я, конечно, читал, что святой дух снисходит на праведных, награждая их способностью к глоссолалии, но сам такого раньше не слышал. Что и не удивительно. В те храмы, где я бывал, входят, как в музей, склоняя голову и понижая голос. Кому придет в голову танцевать под хорал Баха?
- Тем, - ответил Жорж Батай, - кто знает, что настоящая религия требует праздника, который венчает экстаз.
Собственно, так и понимают веру в Церкви у Дороги. Прихожане - от детей до матрон - с радостной готовностью вводили себя в исступление. Они пели, хлопали в ладоши, разражались криками восторга и пускались в пляс. Самые неистовые впадали в транс. Одна нарядно одетая старушка в специальной воскресной шляпе билась, упав на пол. Ее заботливо поддерживали внуки.
В происходящем не было ничего угрожающего. Для прихожан поход в церковь был кульминацией недели - праздник, репетирующий воскресенье. Тут сливались с Богом, а не молились Ему, ибо просить больше было не о чем. Сверхъестественное здесь являлось не объектом веры, а переживанием, регулярным и неизбежным, как календарь.
Не умея разделить чужой энтузиазм, я - единственный в церкви - смотрел на происходящее со стороны, к тому же - сидя. Именно поэтому мне было видно кривое зеркало, которое помогало сидящему за фисгармонией дирижировать оргией. Среди отразившихся в нем черных лиц мое отличало оцепенение: я выглядел, словно голый в гостях или одетый в бане.
Служба кончилась на тихой - умилительной - ноте. Прощаясь, я обнимался с прихожанами. Теперь они видели во мне своего: я стал если и не участником, то свидетелем чужого праздника. Зная, что он никогда не будет моим, я отправился восвояси по проторенной дорожке.
Приехавшие в Падую туристы собирались на Джотто, как в газовую камеру. Вход в герметически закупоренную церковь охранял тамбур с воздушным шлюзом, защищавший фрески от вторжения сегодняшней жизни. Пробравшись внутрь, вы оказывались в мире, где никогда ничего не менялось - свет, влажность, время дня и года. Все это напоминало вечность по Платону: идеальный образец для сверки с реальностью.
Нетленный сосуд наполняло бессмертное содержание. Церковь на Арене - прообраз парадоксальной вселенной, замкнутой и бесконечной. Человек в ней, словно строка в сонете: он делит общую судьбу, стоя на своем месте. Зная, чем все началось, и твердо веря в то, чем все кончится, проще пережить квантовую неопределенность повседневной жизни.
Входя в капеллу, зритель оказывался внутри той единственной трагедии, что отменила все остальные, включив их в себя. Джотто так изобразил священную историю, что она исчерпала и обыкновенную, нашу. Всех ведут по одному этапу - от первородного греха к Страшному суду. И это значит, что все важное уже свершилось.
Герои Джотто условны, как его пейзаж. Они стоят посреди пустой земли как вкопанные. Или увековеченные. У всех, даже животных, одинаково пристальный взгляд. Каждый персонаж похож на другого - круглоголовые, с узкими глазами и курчавым волосом.
Так, утверждают теперь историки, и выглядел Иисус. И еще они говорят, что в этой невзрачной церквушке родилось наше искусство: раньше, с иконы, Бог смотрел на нас, теперь мы - на Него.
Войдя внутрь, мы отрезали себе путь обратно. Раз история уже свершилась, ее можно только повторять, сдавшись на волю провидения. Не в силах изменить прошлое, мы обречены ему отдаваться, вводя сакральный эпизод в вену собственной биографии.
- У каждого, - говорил Веничка, - есть своя Страстная неделя.
- Поэтому, - вторят Ерофееву путеводители, - литургическое искусство Джотто неотличимо от богослужения.
Им виднее, но я бы сравнил его еще и с футболом. Всякий старый музей отличается от любого нового, как чемпионат мира от Олимпийских игр. Чем больше разных соревнований, тем меньше интенсивность каждого. Чувствуя это, футбол чурается разнообразия с тем же упорством, что прежняя живопись. Он принципиально не приемлет нового. Не потому, что не может, и не потому, что не хочет, а из-за того, что нововведение уничтожает исходное условие. Это как приделать нам третью ногу. Индивидуальное мастерство имеет смысл лишь внутри универсальных правил, нарушать которые так же нелепо, как бегать в коньках по траве.
Великий сюжет всегда один. Это позволяет ему избежать повторов, ибо в него укладывается неизмеримое число отдельных фабул.
- Бразильцы, - говорил Пеле, - играют лучше всех потому, что живут внутри футбола, даже во сне разглядывая рисунок будущего матча.
Вы замечали, что Рональдиньо всегда улыбается?
Меерсон-Аксенов - свой человек. Тем не менее я никогда не знаю, о чем говорить при встрече. В последний раз зачем-то спросил, когда Пасха.
- Календарь купи, - рассердился Меерсон, но тут же смягчился…»
Александр Генис для «Свободного пространства»
29.06.2007
AMERIKA
«Конечно, они - идиоты, - ругался поэт, - но что с них взять, если три четверти американцев верят, что правительство скрывает контакты с летающими тарелками.
- Кто ты? - спросил у владыки края бродячий монах.
- Царь, муж, отец и сын.
Год спустя, когда родственники померли, а царство отобрали, мудрец опять спросил:
- Кто ты?
На этот раз отвечать было нечего, и бывший царь задумался.
Русская колея закончилась в Бресте, когда железнодорожники, сменив вагонам колеса, поставили поезд на западные рельсы. Я качу по ним 30 лет, но так и не доехал до места назначения. Америка - ползучее обозначаемое, как «Замок». Возможно, для Кафки он был одной из метафор Америки, которая, как все у него, тоже представляется загробным царством. Во всяком случае, в романе «Америка» уже на первой странице появляется Статуя Свободы с мечом вместо факела. Такой эта бесполая фигура с сердитым лицом напоминает не просветительскую аллегорию, а ветхозаветного ангела, стерегущего врата в рай.
- Мы тоже, - якобы сказал Хрущев, увидев монумент в Нью-Йорке, - ставим памятники знаменитым покойникам.
Но это, конечно, неправда, ибо свобода в Америке жива: она свободна от содержания. Каждый вкладывает в эту форму, сколько захочет, сможет или получится. Неизбежно лишь одно: она всех делает другими. Хотя далеко не всегда американцами, скорее, наоборот - русскими.
«Русский уголовник Алимжан Тохтахунов», - прочитал я в здешней газете.
В сущности, советским человеком быть было проще, чем русским, особенно - таким сомнительным, как я. Хорошо еще, что в снисходительной к акценту Америке идентификация проходит не столько по национальности, сколько по вере: либералы сразу сбиваются в кучу. Но ведь и с ними не просто.
- В колледже, - вспоминает Барри, - моими героями были Сальвадор Альенде и Анджела Дэвис.
- Моими - тоже, - из вежливости соглашаюсь я, умолчав, что чернокожая красавица первой приехала в Москву без лифчика, а про Альенде написал либретто к балету «Чилийская баллада» мой рижский товарищ, сбежавший с гастролей в Канаду.
Однако договориться с соотечественниками намного труднее, в чем мне довелось убедиться, когда хозяйка вечеринки подвела меня к заметному московскому гостю.
- Нецветаев, - скромно представился он.
«Да и я не Толстой», - хотел было пошутить я, но постеснялся, зная по горькому опыту, что мужчины фамилии не выбирают.
Разговор тем не менее не клеился: водка кончилась, вино было сладким, тема - рискованной, балтийской.
- Репарации? Кому?
- Жертвам коммунизма.
- Почему это мы им должны платить?
- Немцы платят.
- Они проиграли, а победителей не судят.
- Ну, это еще как сказать. Чингисхан сколько войн выиграл, но мы же не считаем его матерью Терезой.
- Вот именно! - завершил дискуссию профессор, и я смешался, не зная, чем крыть.
Раньше всем было проще, ибо ту страну населяли свои и чужие.Граница между ними была куда более нерушимой, чем та, что я пересек в Бресте. Я, например, никогда не встречал живого секретаря обкома, но был уверен, что узнаю его с первого взгляда, как водолаза или борца сумо. Теперь все на одно лицо, поэтому я веду с приезжими разговоры на общие темы, которых остается заметно меньше.
Дело в том, что, сократившись в размерах, Россия выросла во всем остальном. Заполнив собой горизонт бытия, она перестала интересоваться окружающим так азартно, как это делали мы, когда заглядывались на мир из-за железного занавеса. Теперь он кажется прозрачным, а значит, несуществующим или скучным.
Я видел такое в дикой природе, наблюдая за животными в соседнем заповеднике. Бурундуки там не замечают бабочек, зайцы пасутся рядом с косулями, индюки не обращают внимания на белок. Это - естественная реакция на безопасное и бесполезное.
Раньше нам было дело до всего, до чего не дотягивались власти. Любознательность была выражением фронды, и независимое знание считалось если не эквивалентом, то приемлемым суррогатом свободы. Когда она пришла, нужда в нейтральных знаниях отпала, а факты национализировали.
- Вот скажи, умник, - задирает меня московский коллега, - знаешь ли ты, что человека клонировали?
- Не знаю, - честно отвечаю я, - в «Нью-Йорк таймс» не писали.
- Видишь, а в «Московском комсомольце» уже с год как сообщили.
Между баней и ужином мой русский издатель в Эстонии отбросил экивоки:
- Не понимаю, как можно оставить родину, забыть могилы, обрубить корни и жить на чужой земле.
Я молча пожал плечами. Дело было на даче, между Йыхви и Кохтла-Ярве, по-нашему здесь уже говорили только редкие отставники.
Впрочем, он зря беспокоился. Это дома нас считают чужими, в Америке мы все - наши. Что не мешает, услышав родную речь, переходить на другую сторону улицы - лучше всего мы знаем себя. Но и это не помогает, ибо за границей «мы» плотнеет, сбиваясь в кучу, причем не обязательно на Брайтон-Бич.
Назвать Хэнкок городом может только покладистая американская карта. Мэйн-стрит исчерпывали три магазина. В первом продавали сачки и удочки, во втором - блесны и червей, третий был закрыт до осени, но витрину украшало чучело черного медведя. За углом притаился бар с хромым бильярдом и корявым полом, усыпанным опилками.
«Чтобы кровь не замывать», - решил я.
В остальном город выглядел миролюбиво, а главное - непретенциозно: цены как в Мексике, налоги как на Псковщине. За это Хэнкок полюбили отставные пожарные и богема на пенсии, прежде всего - наша.
Многих я не видел уже четверть века. С тех героических времен, когда художники-нонконформисты сражались с бездомными за самые опасные кварталы еще дикого Бруклина. Одержав пиррову победу, они добились того, что облагороженный их вернисажами район оказался им не по карману.
Первым я встретил легендарного скульптора по напряженному металлу, связывающего рельсы узлами с бантиком.
- В юности, - рассказывают очевидцы, - этот запорожец, красивый, как Андрий, и смелый, как Остап, делал стойку на крыше Академии художеств.
Чуть позже, когда он оставил родину, переплыв море в резиновой лодке, про него слагали песни и писали романы.
- Как дела? - спросил я, не зная, о чем говорят с героями.
- Муза мучит, - отрубил он, чтобы я понял: ничего не меняется.
Другие были не хуже. Певцы-космисты, летописцы неведомого, мыслители потустороннего, они все что-нибудь строили. Одни - баню, другие - галерею, третий - погреб, четвертый - башню до неба.
Больше всего мне понравился художник-сибиряк, соорудивший на берегу Делавера купальню, часовню и образцовый огород. Поздоровавшись, он уверенно, как в бумажник, залез в грядку, чтобы вытащить редиску, которую мы съели, бегло отряхнув. В его ладном доме висела картина амбарного размера - огнедышащий зверь на фоне Петропавловской крепости.
Ну и, конечно, в Хэнкоке был свой юродивый - поэт с ясными глазами и безграничной памятью. Состарившись, они с женой ходили нагими, чем страшно раздражали соседей, посещавших воскресную службу в стоящей тут же методистской церкви. По-моему, это было только кстати. Русская пара походила на Адама и Еву, опустившихся от тягот изгнания. Город, однако, в наказание за эксгибиционизм отобрал у поэта четыре неработающих автомобиля, служивших мемориалом пьянки длиной в жизнь. В ржавых джипах хранились пустые бутылки.
- Конечно, они - идиоты, - ругался поэт, - но что с них взять, если три четверти американцев верят, что правительство скрывает контакты с летающими тарелками. «Правильно делает, - подумал я, - похоже, что мы на них прилетели».
Надежно изолировав себя от Америки, русский Хэнкок живет, как потерянное колено советского народа, - будто в ресторане «Петрович», только вкуснее.
«Как всем эмигрантам, - написал про меня московской рецензент, - автору свойственно трепетное отношение к водке».
«Дожили», - обиделся я, но зря, потому что уже на завтрак хозяйка подала винегрет, заливное и кильку. Мужественно остановившись после третьей, хозяин завел диссидентский разговор, который, по сути, мало чем отличался от тех, что вели треть века назад: мы и они. Теперь, однако, нас стало значительно меньше, а их несравненно больше.
- Ты помнишь, что про них говорил Валерий Попов?
- Бедные, но нечестные.
- Ну и что изменилось, когда они стали богатыми? Баснословная бедность сменилась баснословным богатством, американская мечта стала русской, Москва - Эльдорадо.
- Ну, не все так живут. В Пскове, например, отменили авиацию, когда выяснилось, что у горожан нету денег на полеты. Теперь туда можно доехать только поездом, в котором, кстати сказать, отменили гигиену.
- Ты - сумасшедший. Какой Псков?! У меня приятель был, такая же рвань, но сейчас он ближе Фиджи не ездит. Сколько, по-твоему, стоит его пиджак?
- Триста? - напряг я фантазию.
- Держи карман шире! У него шнурки дороже.
- Получается, что бедными мы их жалели и презирали, а богатыми мы их презираем вдвойне, а жалеем себя.
- Не в деньгах счастье.
- Это точно. Все бестселлеры на одну тему: богатые тоже плачут.
- Меня, - сменил он тему, все-таки выпив четвертую, - другое удивляет: насколько же там власть объединилась с народом.
- На 70 процентов.
- Но и остальные вряд ли хотят того же, о чем мы мечтали.
- А ты уверен, что раньше было по-другому?
- Не знаю. Может, у Брежнева и в самом деле был рейтинг, как у Путина.
Я ничего не ответил, потому что давно уже ничего не понимал. Раньше мне казалось, что нас разделяют власти - назло, но не искусно. Выпихнув одних и замкнув других, режим только крепче объединил тех, кого разделил океан.
- Ну, какой из вас эмигрант, - польстил мне заезжий соотечественник, - так, гастарбайтор.
Зато теперь, боясь, что заблуждения верхов стали убеждениями низов, я даже с бывшими единомышленниками предпочитаю говорить о погоде и не по телефону.
Метрополию и диаспору разделяет история: у них она есть, а у нас была. В Хэнкоке история образует общину, застывшую в прошлом, как муха в мезозое. Верхняя граница проходит по актерам - кто кого узнает. Нижняя - по отечественному телевизору, безотказному средству связи с героями прежнего времени: Ленин, Сталин, Хрущев и другие приключения Шурика.
Вызов истории, утверждал великий знаток Арнольд Тойнби, должен быть достаточно сильным, чтобы разбудить культуру, но не таким разрушительным, чтобы ее уничтожить. В редких случаях устанавливается равновесие, которое вводит в ступор и превращает в окаменелость.
Одну такую я держу вместо назидания на письменном столе. 45 миллионов лет назад она была рыбой. Светлый песчаник Вайоминга сохранил ее смутный, как на Туринской плащанице, облик. Для ископаемой рыба удивительно похожа на уклейку - мелкая, костлявая, с тупой и грустной мордой. Значительного в ней только возраст.
Александр Генис
26.07.2007
Рип ван Винкль
Накануне, разгоряченный модной водкой «Белуга», я опрометчиво согласился помочь яркой блондинке с опасной улыбкой. Тем более, что и просьба была пустяковой - написать текстовку, 20 строчек о снах, можно из Юнга. И вот - еще нет полудня, а я уже стою без штанов, и незнакомые женщины втыкают в меня булавки.
- Вуду, макумба, завезли, - кричал я про себя, держа во рту нитку, чтоб не стать зомби.
О бегстве не могло быть и речи, потому что я не знал, куда попал. Шофер только матерился, выслушивая указания мобильника. Я, естественно, не вмешивался, ибо, по моим провинциальным подсчетам, машина приближалась к Уралу. Мы долго катили вдоль разгромленных цехов по дырявой мостовой, потом начались рельсы. Я не мог даже определить, пролегал маршрут внутри или снаружи. Стены сужались в коридоры, но крыши не было - то ли уже, то ли вообще. Потом начался туннель, ведущий в красный уголок, за ним - постиндустриальная пещера, как в Сохо. Там-то меня и раздели до исподнего, велев натянуть непонятное.
- Ватник? - безнадежно спросил я.
- Не, в ватнике снимали Мирзоева, - сказала дама с булавками и настойчиво протянула наряд, напоминающий прозодежду для сумасшедших.
Рукавов, правда, было два, но каждый кончался манжетой для наручников. Удовлетворившись моим внешним видом, юный фотограф взялся за внутренний облик.
- Помните, вам все это снится.
Я с облегчением закрыл глаза.
- Приняли, - деловито продолжил фотограф, - сомнамбулическую позу.
Я принял.
- Теперь считайте падающие звезды.
Я вытаращился на потолок с подтеками.
- Работаем, - скомандовал сам себе маэстро, и камера защелкала, как в тире.
Только отдав штаны и отпустив восвояси, вредители объяснили, что в погоне за самосовершенствованием духа (а не тела) глянцевые журналы отказались рекламировать наряды с помощью красивых моделей и заменили их какими придется, не брезгуя пролетариями умственного труда.
Но начиналось все хорошо - как обычно.
- Сараи, - констатировала соседка, глядя в иллюминатор на многоэтажные терема, степенно ползущие под крылом снижающегося самолета.
- А что это за река? - не унималась она.
- Москва.
- Не может быть! Такая грязная.
Отвертевшись от соотечественницы, я ждал чемодана, примостившись к влюбленным с нашего самолета. Она была не старше Джульетты и такой же хорошенькой. Багажа, однако, все не было.
- Попиздили? - тревожно спросила девчушка.
Меня смутила приставка, но я вспомнил, что 2007-й объявлен Годом русского языка, и подумал, что он уже начался.
В аэропорту меня встретил старый знакомый - «Лукойл». Точно в такой бензоколонке, но с латиницей, я заправляюсь дома: нефтеносная система кровообращения.
Другое дело, что в Москве, судя по рекламным щитам, уже завершается переход жидкого в твердое - нефти в недвижимость. Слева продавали «Бетон-насос», справа - «Бетон-раствор», посередине - «Квартиру в Геленджике».
Как всегда, в такси пела группа «Лесоповал».
- Интересно получается, - пожаловался я шоферу, - Бергман умер, Антониони умер, а «Лесоповал» живет.
- А то, - согласился он.
За год город вырос, и я не узнавал окрестностей. Особенно, когда из-за рощи выскочил огромный плакат «Му-Му», отбросивший тень на скромный памятник.
- Герасим?
- Ленин, - поправил меня водитель и перекрестился, въезжая в монастырское подворье.
Мне уже объяснили, что если в автомобиле - образа, то пристегиваться не надо. Но в этой машине икон было много, и ремень вырвали с корнем, чтобы не соблазнять агностиков.
Под колокольный звон мы въехали в отель с православным акцентом. Не будучи силен в каноническом праве, я представил себе чердак для выкрестов и подвал для инородцев, но мне достался обычный номер - с портретом патриарха, холодильником и пухлой (в сравнении с американской) Библией. На тумбочке лежала свежая газета с крестом и Калашниковым. Она призывала к смирению и оправдывала штрафные батальоны. Автор бегло выстраивал историческую цепочку: глобалисты - интернационалисты - друзья Сиона - враги Руси. Сталин среди них не значился.
Чтение прервал телефон, от которого я получил последние инструкции:
- Боржоми, - сказали в трубку, - не заказывай, шпрот не проси, Эстонию не поминай, разве что - лихом. А главное - заруби на носу: Россия встает с колен не для того, чтоб дотянуться до полония.
Я внес необходимые сведения в записную книжку и отправился за впечатлениями.
Незадачливый Рип ван Винкль, проспавший двадцать лет в Катскильских горах (неподалеку от озерца, где я ловлю окуней), стал единственным жителем своей деревни, заметившим американскую революцию: вместо короля Георга в трактире висел портрет Вашингтона. Для его земляков перемена произошла давно и незаметно. Чтобы жизнь сложилась в историю, она должна быть не твоей, а чужой и прошлой.
Именно это со мной и происходит, но только тогда, когда я возвращаюсь в Америку. В Москве - наоборот. Русская жизнь кажется реальной, а моя - нарисованной, словно камин в доме Буратино. Игрушечная рутина с ежедневной порцией Ирака, книг, велосипеда - эскапизм отрезанного ломтя, уставшего от родной буханки. Конечно, это - всего лишь оптическая иллюзия: из одной жизни другая видится ненастоящей или нестоящей. Тут, конечно, нет ничего нового, но чаще альтернативой считается не заокеанский мир, а потусторонний. Я - другое дело, еще и потому, что сам не замечаю, насколько стал американцем, но об этом не дают забыть в гостях.
- Американец, - вздыхает хозяин и идет за скатертью, хотя я бы обошелся и газетой.
Зато я помню ту историю, которую в России знают хуже всего, - свою и недавнюю: «Историю государства Российского от путча до наших дней». Прошлое одного из самых молодых, наряду с Молдовой и Черногорией, государств Европы окутано туманом, благородно скрывающим стыдные, как подростковые сны, воспоминания о первых днях свободы. Но я-то помню, какими они были.
На Невском сияло солнце, а я еще не завтракал. В столовой, уже переименованной в кафе, подавали спиртное и сдобу. Остановившись на втором, я сел лицом к проспекту, с которого в зал ввалился пьяный с молодой щетиной. Его треники до самого паха оттягивал пистолет неведомого мне калибра. Пирожными юноша не интересовался, а водка в него уже не лезла. Ему страстно хотелось стрелять, и это было понятно всем, но яснее всех позеленевшему официанту. Прикинув траекторию и учтя рикошет, я ушел, не допив кофе. Надеюсь, что этот молодой человек не дожил до наших дней, оставшись на заре революции, победы которой так заметны от Кремля до Садового.
- Как Август - Рим, - сказал мне наблюдательный иностранец, - Лужков взял Москву кирпичной, а оставит мраморной.
- Была красной, станет белой? - переспросил я.
- Вроде того, - не понял меня собеседник. - Сегодня - это город рантье: у москвичей вместо нефти недвижимость.
И они ею пользуются в свое удовольствие. Американцы ездят по Москве верхом - на велосипедах, немцев я видел в метро, русских - в «Мерседесах». Революция, о которой предупреждали большевики, свершилась, хотя в ее музее на Тверской, где в горячие дни рядом с «Максимом» стоял обгоревший в 91-м троллейбус, вновь остался только старый пулемет - с Гражданской.
Первый признак революции: язык не поспевает за историей. В прошлый раз его сократили до аббревиатуры, в этот - наоборот, удвоили, создав словарь дуплетов.
До этого язык революции обходился слогами. Впервые я услышал его язык от Мамонова, который юродивым уже был, а святым еще нет.
- Крым-рым-мрым, - выл он со сцены Линкольн-центра благую весть перестройки, простую, как мычание, и столь же искреннюю.
- Что это было? - спросил я его, пробравшись за сцену.
- Русская народная галлюцинация.
Окрепнув, язык научился говорить по-новому.
- Люблю, - сдуру признался я интервьюеру, - вкусно поесть.
- Топовые продукты образуют мой тренд, - перевел он меня на русский, скрашивая допотопную ущербность эмигрантского языка, трусливо чурающегося заимствований.
«В арабском языке, - писал дотошный Гиббон, - 80 слов для меда, 200 для змеи, 500 для льва и 1000 для меча».
Сегодняшний русский богатеет за счет не своих ресурсов. На каждое родное слово есть чужое, точно такое же, но намного дороже. Язык полон не новых понятий, а старых, с другими названиями. Как стихи и молитвы, они могут служить магическим оберегом, лексическим амулетом, формулой заклинателя, приносящей победу пермской команде «Урал-Грейт», во что бы они ни играла.
С этой точки зрения первая часть названия «Экспресс-дизайн «Старик Хоттабыч» дословно переводит вторую. Чужеземный корень всегда волшебный. Он сидел в словаре, словно джинн в бутылке, пока реклама не разнесла ее вдребезги, выпустив на волю иностранного духа. Он обладает чудесной способностью не столько преобразовывать, сколько приукрашивать реальность, называя ее по-новому.
Характерно, что в этой декоративной игре разума хранители языка участвуют вместе со всеми. Прочитав заголовок «Шорт-лист и лонг-лист Национального бестселлера», старый филолог меланхолически заметил, что от русского в этом предложении осталось только одно слово - «и».
Но это не страшно, потому что сегодня по-русски можно изъясняться и на английском. Прообраз такого языка возник в разгар «холодной войны», когда Энтони Берджесс создал воляпюк двух держав и написал на нем «Заводной апельсин». Но, как это всегда и бывает, история распорядилась прогнозом вопреки обещанию пророка. Не русский овладел английским, чего боялся автор, а наоборот: английский - русским. Это даже удобно, потому что английский язык, поделившись своей самой мускулистой частью речи, теперь за нас все делает - и шопинг, и шейпинг, и (не вру!) улучшайзинг.
При этом, в отличие от исторических прецедентов вроде татарского ига и норманнского нашествия, это завоевание оказалось сугубо мирным, даже - благодушным. Английский не победил русских, а соблазнил их, в основном - съедобным. Оказавшись «кухонной латынью», английский все время будит аппетит - даже к политике, особенно когда она устраивает «Лобстерный саммит».
Язык, однако, как деньги, не бывает глупым. Он всегда знает, что делает, в том числе - за столом, где обнаруживается подспудный смысл чужеземной напасти.
Дело в том, что полузнакомая еда служит посредником, примиряющим противоречия вступивших в контакт цивилизаций. Вот так мореходы очаровали гавайцев консервированным лососем, сразу похожим и не похожим на того, что туземцы ловили в океане. В Москве подобную роль играл напоминающий котлету, но недотягивающий до нее гамбургер. Не зря в первый «Макдоналдс», как в Большой театр, приезжали гости из провинции. Сам я попал в него год спустя, когда схлынула очередь. От всех остальных он отличался тем, что кофе не было, а за кетчуп брали три рубля.
Пережив трудности роста, вкрадчивый бизнес соблазна вырос в бандершу, которая выдает банальное за экзотическое, величая своих товарок баядерками. Только назвав остывший чай «айс ти», его можно обменять на пять долларов. И самым дорогим из всех блинов на Тверской оказался не с икрой и семгой, а тот, который назывался «э-мэйл».
- Когда я читал «День опричника», - признался я на прощание московскому другу,
- мне показалось, что Сорокин спорит с Путиным о том, какой будет Россия - Петра или Ивана?
- Она стала и той, и другой, и третьей. Ее формула: верхам - новая революция, низам - старая. Одним - ресторан «Ваниль», другим - кровь и почва.
- Не знаю, но я заметил, что, разбогатев, люди меньше говорят о любви к народу, откупаясь от него яйцами Фаберже.
- И слава богу. Самая безопасная в мире революция - консьюмеристская. Потребительская, - добавил он для меня.
Александр Генис
31.08.2007
Как устроено Такси Нью-Йорка
В Нью-Йорке такси вместо статуи Свободы встречает эмигранта в Америке. Этот тамбур на пути в страну позволяет быстро и наверняка заработать первые живые деньги. Искус той же таксистской простоты: нигде нет столь элементарной зависимости между трудом и зарплатой. Конечно, это только арифметика бизнеса, нехитрые правила сложения, которые проходят в приготовительном классе американской мечты. Естественно, здесь мало второгодников. В Нью-Йорке водительский корпус ежегодно обновляется на четверть. Такси - состояние не постоянное, а промежуточное, это - не профессия, а работа, не цель, а средство, средство транспорта, перевозящее эмигранта от места прибытия к месту назначения.
Таксист может оказаться уроженцем любой страны - от Албании до Японии, или, переходя на английский алфавит, - от Афганистана до Зимбабве. Как всегда эклектичность Нового Света утрирует вольные черты таксомоторной мифологии. Такси беспрестанно воспроизводит ситуацию непредсказуемости. Здесь все случайное - маршрут, клиенты, связи.
К грубым запахам примешивается слабый аромат чужих приключений. Такси, как ветер или цыгане, таит в себе соблазн свободы. (Характерно, что нелегальные такси зовутся в Америке цыганскими - gypsy.) Фигура самого таксиста тоже обрастает густой метафорической бахромой. Он являет образ случайного, «заброшенного» в жизнь и не сумевшего в ней укорениться человека. Таксист - анонимный свидетель любви и смерти - остается вечно посторонним, он - чужой что на тризне, что на празднике жизни. Мимо этого стихийного экзистенциалиста не могли пройти современные музы. И действительно, он часто попадает в герои фильмов, включая, конечно, знаменитого «Таксиста» Мартина Скорсезе, но на этот раз таксист попал в переплет книги Грэма Рассела Гао Ходжеса, которая так и называется: «Такси!»*.
*(Graham Russell Gao Hodges: «Taxi! A social History of the New York City Cabdriver». «Такси! История нью-йоркских водителей»)
«Водители нью-йоркских такси - самое угнетенное меньшинство в истории Нью-Йорка. И причина их угнетения - не раса, не национальность, не религия, а только природа их профессии. Работая по 12 часов в день в самых чудовищных во всей Америке дорожных условиях, таксисты поминутно должны иметь дело с такими опасностями, как неразбириха уличных пробок, непроходимость двойных парковок, необъятные, закрывающие обзор грузовые фургоны, и водители из соседнего штата Нью-Джерси. При этом таксисты не могут позволить себе даже психотерапию взрывов водительской ярости - потому что их жизнь и заработки напрямую зависят от самоконтроля».
Так пишет в книге «Такси! История нью-йоркских водителей» Грэм Рассел Гао Ходжес - в прошлом таксист, а ныне профессор двух университетов. Вот что добавляет к этому рецензент книги - журналист из «Нью-Йорк Таймс» Питер Хэммил:
«Таксисты ежедневно сталкиваются и с массой других опасностей: с пьяными пассажирами; с искусными неплательщиками; с налетчиками; с психами; с болельщиками за команду «Никс», садящимися в такси в состоянии библейского отчаяния после очередного матча; с командировочными, уверенными, что каждый таксист в Нью-Йорке - сутенер на колесах. Я уж не говорю о пассажирах, которые всю дорогу громко говорят по мобильным телефонам или слушают «рэп» без наушников.
Каждый таксист надеется на приличные чаевые, каждый надеется на то, что следующему пассажиру не нужно ехать из Мидтауна в дальние районы Бруклина и Квинса, а по ночам каждый надеется остаться в живых до следующего пассажира, помахавшего рукой из-под уличного фонаря. Но судя по книге Ходжеса, главным испытанием водителей такси, с началом их истории в 1907 году и до нынешнего дня, является одиночество. Если бы Ходжес уже не выбрал название для книги, ее можно было бы назвать «Сто лет одиночества».
Грэм Ходжес описывает способы борьбы с одиночеством, принятые среди таксистов предыдущих поколений - в 40-50-60-х годах:
«В моей молодости у большинства водителей стратегией борьбы с одиночеством была поверхностная интимность в общении с пассажирами. Это была эра, когда нью-йоркские таксисты (обычно евреи, ирландцы и итальянцы) были комиками и философами. Они вырабатывали в себе наблюдательность и навыки рассказчика, они накапливали арсенал путевых историй о Нью-Йорке и его жителях, а также довольно разнообразный набор идей и шуток на темы политики, спорта и женщин. Создав этот еще никем не названный актерский жанр, таксисты убивали сразу двух зайцев: достигали человеческих контактов и щедрых чаевых. Среди них были мудрецы, талантливые комические актеры и ужасные зануды. Но однажды утром, году в 72-м, я заметил, что все они исчезли».
Писатель и сценарист Эдвард Адлер, тоже бывший таксист, описавший свой опыт в романе «Записки с темной улицы», так объясняет смену личности нью-йоркского таксиста в 70-х годах:
«В нашей юности люди водили такси в основном для того, чтобы их дети имели возможность получить образование и НЕ водить такси. И когда их дети закончили университеты, они свернули дела».
Впрочем, люди выбирали карьеру таксистов по разным причинам, и причины часто определялись временем. Во время «сухого закона» вождение такси давало, как говорили, «быстрый доллар» - за доставку пассажиров (а иногда и груза) в подпольные питейные заведения «speakeasy». В годы Депрессии - это была временная замена стабильной службы. Во время Второй мировой войны такси в Нью-Йорке по необходимости водили женщины.
С концом кризиса одни люди бросали работу водителей, другие - застревали там на всю жизнь по инертности, а третьи успевали эту работу полюбить. Во-первых, она давала независимость, столь дорогую сердцу американца. Во-вторых, разнообразие - каждая смена была не похожа на предыдущую: впечатления менялись, такси заносило в разные части города, в него садились разные люди (один водитель всю жизнь вспоминал, как к нему в такси среди ночи сел английский актер Ричард Бартон с антикварным стулом).
Так или иначе, с начала 70-х годов тип нью-йоркских таксистов изменился, и изменил его Нью-Йорк:
«За век существования своей профессии таксист сделался популярной фигурой в массовой культуре. Но и она заметно менялась: от Дика Пауэлла, поющего оперные арии своим пассажирам в фильме 1935 года «Бродвейский гондольер», до зловещей фигуры героя Роберта Де Ниро в фильме Скорсезе 1976 года «Таксист» - и до трагикомического иммигранта из Восточной Германии (без языка и без водительских прав) в фильме Джармуша «Ночь в городе». В 70-х годах Нью-Йорк был для таксистов ночным кошмаром. Число ограблений водителей такси выросло с 400 в 1963 году до 3000 в 1979. Такси часто водили переодетые полицейские. Напуганные таксисты не брали пассажиров афроамериканцев, и в машинах появилось пуленепробиваемое стекло между водителем и пассажиром, навсегда нарушившее интимность их отношений. Только в 90-х годах мэр Джулиани радикальными мерами снизил преступность в Нью-Йорке. Но старые водители к тому времени уже ушли из профессии».
И их сменило новое поколение таксистов: индусы, пакистанцы, русские, гаитяне, африканцы. К 2004 году 90 процентов такси в Нью-Йорке принадлежало иммигрантам. «Самое красноречивое из всех нью-йоркских меньшинств, - пишет рецензент Пит Хэмил, - превратилось в почти немое меньшинство. Времена философии и шуток кончились. Осталась только надежда на чаевые».
Александр Генис
Мария Ефремова
Нью-Йорк
07.09.2007
Внуки империи
Мировая история с Генисом
Византия никогда не была молодой. Примерно так первые фантасты представляли себе марсиан: одряхлевшая, забывшая вымереть раса. Даже тогда, когда византийская столица только строилась, империю обременяла тысячелетняя римская история, длить которую ей предстояло еще столько же.
Дети скоропалительной цивилизации, которую уже через сто лет обещает завершить экологический кризис, мы теряемся перед державным долголетием, выходящим за рамки нашего восприятия истории. Скорость несопоставима: все равно что катиться на лыжах по склону ползущего ледника.
Глядя на вещи c геологической точки зрения, можно сказать, что империя разливалась, как магма: все, что с ней соприкасалось, становилось ею. Византия - созерцательная фаза римской истории. Был меч, стал щит, но метаболизм - тот же. Империя могла выжить, лишь переваривая варваров, в том числе - наших.
Для нее они, впрочем, все были на одно лицо, которое ей было лень разглядывать. Даже тогда, когда византийцы встречались с русскими в бою и в постели, они звали их, как Геродот, - тавроскифами. Считалось, что в их земле не светит солнце и живут сказочные звери - зубры, моржи и белые, что особенно поражало не знавших настоящей зимы южан, зайцы. Еще империю интересовала икра и, как всегда, солдаты. Пацифизм - доступная роскошь только мировой цивилизации. Любая другая, живя на границе с варварами, не может себе такого позволить.
Но война бывает и формой осеменения. Разрушив Храм иудеев, римляне разнесли губительную для язычества ересь монотеизма. Китайцы, выгнав лам из Тибета, сделали его религию всемирно известной и опасно притягательной. Разграбив Константинополь, крестоносцы украсили Европу, начав с ее лучшего города. Когда послы уже совсем умирающей империи отправились на Запад, чтобы умолять о спасении, они проезжали сквозь Венецию, зажмурившись, не желая оплакивать родные колонны и статуи.
Последний византийский город, Венеция сохранила связь с Римом - и со вторым, и с первым. В ней еще бьется нерв той универсальной античности, которая не снисходила до раздела ойкумены на Восток и Запад. Не потому ли мы и любим ее так истерически, что тут нас стережет второе дно?
- Первое дно, - как объяснили мне местные, - стало причиной возникновения города, ибо оно спасало Венецию от пришельцев. Ее крепостью была лагуна: для конницы - слишком глубокая, для флота - слишком мелкая.
История становится собой только со второго раза - не когда происходит, а когда в нее играют. Прошлое обретает универсальную ценность в процессе стилизации: каждая культура ищет себе историческую рифму, замыкающую национальный характер в сонет, оперу или роман, на манер Вальтера Скотта.
Так немецкие романтики из XIX столетия перекочевали в XVI, назначив его золотым веком тевтонской древности. Обставив ее мейстерзингерами, Дюрером и фахверковой архитектурой, они создали уютный миф, сумевший пережить мировые войны. Щелкунчик в конечном счете победил Гитлера. Франция предпочла XVII столетие, которое в глазах благодарных, особенно - ино-странных, читателей останется веком мушкетеров. Англия Диккенса и Шерлока Холмса выбрала викторианскую эпоху. Китай - уже на наших глазах - освоил мифотворческий потенциал своих классических династий, обнаружив, что из них получаются самые красивые в мире фильмы.
Но еще задолго до беспринципного постмодернизма проект трансформации сухой хроники в увлекательную беллетристику предложил Константин Леонтьев.
«Византия, - писал он, - представляется чем-то сухим, скучным, поповским, даже жалким и подлым, потому что среди русских не нашлось писателя, который посвятил бы ей свой талант».
Вот почему мы можем перечислить Людовиков, но не Константинов, Генрихов, но не Львов. Перепутав империи, мы играли в рыцарей Запада, а не Востока. Пушкин писал про крестоносцев. Даже русский «Годунов» - трагедия шекспировская, как и ее герой - ренессансный самозванец. Что касается славянофилов, то они не писали романов. В результате единственный византийский боевик - «Андрей Рублев». И еще - знаменитая книга Аверинцева. В ней я прочел про константинопольских евнухов.
Всякое начальство, начиная с императора, - объяснял Аверинцев византийский взгляд на вещи, - не от мира сего. Оскопить ради службы чиновника значит избавить его от земных соблазнов и уподобить ангелам.
Как раз такие обитатели бюрократического рая густо населяют самое византийское сочинение в мире - «Замок» Кафки. Но наших классиков этот сюжет не волновал. Впрочем, был случай, который мог бы изменить ситуацию. В начале второго тома «Анны Карениной» Вронский встретил товарища по пажескому корпусу Голенищева:
«У нас, в России, не хотят понять, что мы наследники Византии, - начал он длинное, горячее пояснение».
Но мы никогда не узнаем подробностей, которых Томасу Манну хватило бы на тетралогию, потому что Толстого не интересовал предмет и раздражала горячность:
«Несчастие, - замечает Вронский, - почти умопомешательство видно было в этом подвижном, довольно красивом лице, в то время как он продолжал торопливо и горячо высказывать свои мысли».
Достоевского, в отличие от Толстого, Византия волновала неистово. Особенно, как он писал, превращая географию в теологию, Константинополь, самая «великолепная точка Европы и земного шара». В «Дневнике писателя» Достоевский требует ее для России:
«Константинополь должен быть наш, - криком кричит он, словно подпрыгивая от нетерпения, - Россия до него доросла-с».
Стамбул, кажется, манил его, как Крым беспризорников: там тепло, там яблоки. Но зачем Москве второй Рим, чтобы стать третьим, я до сих пор не могу понять.
И не смогу, если верить архимандриту Джорданвильского монастыря, согласно учению которого концепция Третьего Рима доступна только православным. Но я все же из зависти в нее заглянул.
Империя, - писал русско-американский иерей, - может быть только одна, и она - наша. Рим объединил мир, чтобы Христос не отвлекался. С тех пор задача всех преемников кесарей хранить православное царство, ни с кем не делясь, а главное, ничем не соблазняясь.
Поэтому архимандрит благословляет две беды, спасшие русский народ от искушений Запада, - татарское иго и железный занавес. Благодаря им Москва все еще сохраняет надежду стать Третьим Римом, чтобы спасти человечество, послужив ему трамплином к небу.
Безупречность этой византийской логики - в отсутствии исторических разрывов. Не признавая пунктира, она придает прошлому смысл, трактуя обыкновенную историю как священную.
Одержимость бескомпромиссностью этого вектора (отсюда и в вечность) делает последним византийцем Солженицына. Я хорошо помню, как, вернувшись домой, словно Солнце с Востока, он объявил отчизне рецепт спасения от смертельного недуга, диагноз которому был им так красноречиво и мужественно поставлен еще в прежней жизни.
- Единственная надежда русских, - сказал Солженицын при большом стечении народа, - в том, что они должны стать воистину христианским народом.
Услышав такое, Пахомов привычно пригорюнился:
- Опять нам быть первыми.
Мой Константинополь был слишком давно Стамбулом. К тому же я угодил в него в тот день, когда власть в стране захватила армия. Для турок этот переворот был уже четвертым, но для меня первым, и я решил запечатлеть исторический момент. Военным это не понравилось, и пленку у меня отобрали вместе с камерой.
- Янычары, - громко объяснила мне жена, забыв, что как раз тут этим именем гордятся.
Уйдя от греха подальше, мы отправились в исторический центр, но не увидели его. Между нами и досто-примечательностями каждый раз оказывался торгующий коврами мужчина в бордовой феске и белых штиблетах, как у Остапа Бендера. Вспомнив, что тот тоже был турецким поданным, я сдался. С тех пор на стамбульском ковре живет наш кот, а Византию я ищу в дальних окрестностях ее бывшей столицы.
- Знаете, - признался я своему белградскому издателю, - готовясь к балканскому путешествию, я по привычке начал издалека, вызубрив имена византийских императоров и даты великих сражений.
- Напрасно, - хмуро ответил он, - наши руины - недавнего происхождения, к тому же у их автора имя не греческое, а латин-ское - Пентагон.
Но церкви все-таки были нашими, византийскими. В самую старую нас привезли слушать древний акафист. Нам повезло: исполнять его согласился звезда византийского вокала Павле Аксентиевич, для простоты называвший себя Драгославом. Поскольку выступать он соглашался только в храме, нам пришлось долго ждать, пока там отпоют старушку. Зайдя в церковь, иностранцы пугливо отошли в сторону, а свои включились в церемонию. Глядя, как драматург Миливое, страстный поклонник Хармса и Довлатова, истово кладет поклоны, я понял, что церковь и тут на подъеме. Не умея принять участие в службе, я решил скоротать время, подружившись с видным греческим поэтом.
Анастасиса отличала стать Ахилла, бруклинский акцент и умные до вороватости глаза левантинца. Такие были у моего отца, который, кстати сказать, тоже вырос на периферии византийского мира, в Киеве. Видя в каждом эллине Гомера, я пристал к поэту хуже пиявки.
- Гиббон назвал греческий язык, - подмазывался я к эллину, - самым удачным созданием человеческого гения. Но мне, увы, удалось выучить на афинских улицах лишь одно звучное слово: МАЛАКА.
Я понял, что ляпнул, когда Анастасис сложился пополам и на нас зашикали монахи.
- В приличном переводе это означает призыв к сольной любви, - разъяснил грек, отдышавшись, и по-свойски добавил: - Если не дают.
Лед тронулся, и мы бы перешли на «ты», если бы не говорили по-английски. Сперва прошлое поэта внушало мне подозрение: уж слишком хорошо он знал мою историю, включая даты пленумов. Ну, кто еще помнит отчество Микояна? Но потом я забыл о его левых симпатиях, ибо меня волновала судьба другой империи.
- Видите ли, - объявил я не без заносчивости, - сюда меня привел семейный интерес: мы ведь - наследники Византии.
- А мы и есть Византия. Для нас она никогда не кончалась. Вот она, - твердо сказал он, показывая на полных мужчин, согласно затянувших одну, не меняющуюся ноту. -
Это - наш оркестр: басы-исократы, а там, - ткнул он в правый угол, - ждет своей очереди второй хор: антифония.
- Для звучности? - не понял я.
- Нет, чтоб прихожане не заснули. Музыка Византии, как вся ее история, безмерно монотонна - до святости. В этом - ее сила. Тут никогда не терпели прогресса, ибо считалось, что единственное будущее, которого стоило ждать, - это вечность.
Мы вышли во двор и посмотрели на синее балканское небо, чтобы сравнить его с золотым потолком, в котором парил Пантократор.
- Ничего похожего, - сказал я.
- О том и речь, - согласился грек.
Специально для «Свободного пространства»
Александр Генис
05.10.2007
Он говорил читателям: Факт you!
В Нью-Йорке умер Норман Мейлер
Писатели часто говорят о других то, что они хотели бы услышать о себе. Наверное, Норман Мейлер был бы рад, если бы о нем сказали то же, что он написал про своего бруклинского земляка Генри Миллера: «Он был человеком со стальным фаллосом, едким умом и неукротимо свободным сердцем». Во всяком случае, в Нью-Йорке Мейлер прославился не только талантом, но и бешеным темпераментом. Все знают, что он был не дурак подраться. Однажды я встретил Мейлера в нью-йоркском ресторане «Самовар». Невысокий седой крепыш сидел за столиком с нечеловеческой красоты блондинкой. Водку он пил по-русски, не разбавляя.
Бунтарь по натуре, призванию и профессии, Мейлер стал одним из отцов контркультуры. В шумной борьбе с истеблишментом он создал американскую версию экзистенциализма. В отличие от французской она строилась не на свободе духа, а на мистике плоти. «Перед лицом смерти, - писал Мейлер в 60-е, - человек должен разойтись с обществом и отказаться от корней, чтобы успеть найти самого себя».Удалось ли это Мейлеру? Вряд ли. За несколько лет до смерти, накануне своего 80-летия, он признался, что в юности мечтал написать книги, способные «перевернуть мир и изменить его сознание». На самом деле они всего лишь изменили американскую литературу.
Сочинив в 25 «Нагие и мертвые», книгу, немедленно ставшую классикой военного романа, Мейлер оказался в глубоком кризисе. Путь жестокого - натуралистического - реализма уже был исчерпан, но он слишком любил сырую действительность, чтобы уступить ее «магическому реализму», соблазнившему других кумиров поколения - Пинчона, Барнса, Бартельмэ. Мейлер нашел выход в нонфикшн, в той документальной, журналистской прозе, которой он написал самые удачные из своих книг, включая скандальную «Песнь палача».
Секрет мастерства Мейлера, которым он поделился со всей школой «новой журналистики», заключался в том, что, работая с фактом, писатель обращается с ним как художник, а не репортер. Густое письмо Мейлера метафорично, образно, поэтично и по-барочному избыточно. Такой стиль, конечно, на любителя. Иногда его книги раздражали читателя даже больше, чем их автор. Другое дело, что не заметить Мейлера было нельзя: громокипящий кубок.
Александр Генис
15.11.2007
К юбилею Марины Ефимовой
Когда Алешковский, которого Бродский считал «Моцартом языка», а другие - остроумным матерщинником, впервые пришел в гости к Ефимовым, то Марина открыла двери и сказала: «Здравствуйте».
- Бросьте ваши петербуржские штучки, - закричал с порога Юз.
И я его понимаю. Мы с Мариной до сих пор на «вы». С ней так общаться кажется естественным. Марина воплощает в себе вежливое обаяние города, который всем нам справедливо казался самым интеллигентным еще тогда, когда его не называли «родиной президента». В моем представлении черты Марининого характера сливаются с питерским архетипом: северная сдержанность манер, скрытое остроумие, уважение к хорошо сделанному искусству, строгий вкус и полное отсутствие жеманства. Не случайно общение с ней еще в ранней юности так ценил Бродский.
Познакомил нас, однако, Довлатов. Он же посоветовал держать ухо востро, лаконично предупредив: «Мыла не ест». По-моему, Сергей эту формулу позаимствовал у той же Марины. На нашем арго она стала означать интеллектуальную вменяемость, исключающую как сентиментальное отношение к духовным ценностям, так и пренебрежение ими. Марина олицетворяет норму. Шаг в сторону - побег от здравого смысла. Собственно, поэтому я и держусь к ней поближе - и на работе, и за столом, и на рыбалке. А однажды я даже поехал в скучнейшую Филадельфию лишь для того, чтобы подвезти на машине Марину и наслушаться ее рассказов.
Это, конечно, отдельная доблесть. Понятно, что на радио соловьев хватает, но и среди них Марина - Шахерезада. Ее истории и впрямь напоминают сказки, ибо всех персонажей отличает ум, красота и ослепительное благородство. Это потому, что Марина в жизни никогда ни о ком не сказала плохого слова. (В ее присутствии невольно подтягиваешься.) Сплетая повествование из долгих нитей и узорных прядей, она умеет приподнять случай до словесности. Это не анекдот, не байка с драматической или смешной концовкой. Это - именно рассказ, полный чудных импрессионистских деталей. Я, например, никогда не забуду пятерых братьев-красавцев из литовской деревни, что приезжали на мопедах смотреть кино под летним небом. Как белели в неуверенной балтийской темноте их нейлоновые рубахи…
Окруженная писателями, начиная с мужа, Марина честно читает книги всех своих бесчисленных друзей. Увидав стопку ждущих своей очереди - собака не перепрыгнет! - я свои и дарить перестал. Но и в такой компании литературная одаренность Марины была для всех бесспорной. Тем не менее появление ее книги поразило всех, кто прочел. Скажу просто и прямо: это - лучшее из всего, что доводилось читать о блокаде. Мне все тут нравится, кроме названия - «Через не могу». Конечно же, повесть должна была называться «Бабушка». И потому, что она спасла автору жизнь, и потому, что без всякого метафорического насилия зверски упрямая, жертвенная, жестокая и непобедимая, она стала символом страны, народа, его рока и нашей судьбы.
Я, между прочим, застал эту самую Маринину бабушку, прожившую больше ста лет. В Америке у нее в голове все смешалось, и она, окруженная иностранной речью, боялась, что немцы вот-вот вернутся. Успокаивая ее, Ефимовы развесили по всему дому плакаты: «Все в порядке: войны нет».
Прочитав Маринину книгу, Довлатов не без ревности пробурчал: «На одну книгу у каждого таланта хватит». Что, конечно, неправда: не у каждого. И я все жду, когда Маринину повесть откроет новое поколение читателей, не знавшее официоза прежней батальной классики.
Будучи, как все мы тут, на радио «Свобода», литератором широкого профиля, Марина все пишет хорошо, и работать с ней - редкое удовольствие. Но больше всего я люблю те ее тексты, где она добирается до своего любимого искусства - кино. В Маринином пересказе мне многие фильмы нравятся больше, чем на экране.
На днях, узнав про юбилей, я стал вспоминать, сколько мы с Мариной знакомы. На третьем десятке лет сбился со счету и удивился тому, как она умудрилась не измениться.
- Леди не стареют, - объяснила жена и, не удержавшись, добавила: - Всем бы так.
Александр Генис
Оммаж Каталонии
Мировая история с Генисом
Ирине и Джорджу Руиз с благодарностью
Своему беспримерному взлету Каталония обязана времени - ее прошлому и нашему будущему. Соперничая в древности с самой Испанией, Каталония так долго (до 1975-го!) жила в подполье, что ее национальная культура обрела героический статус - уже потому, что была запретной. Память о диссидентском периоде придает всему каталонскому острую самобытность. И это как раз та экзотичность, по которой тоскует наш век, готовый сдаться глобализму, если тот оставит ему отдушину. Чтобы примириться с универсальным, сытым и безопасным будущим, нам нужно найти от него убежище. Обычно оно располагается вдали от центра.
Самые лакомые уголки сегодня встречаются на обочине. В Испании это, как уже понятно, - Каталония. В Британии - Шотландия с ее диковинным зверинцем: от чудовища Лох-Несс до квадратноголовых оркнейских коров. Во Франции - Прованс с наводящим счастливые сны ронским вином и ленивым тарасконским благодушием. В Канаде - провинция Квебек с ее вполне европейской столицей и упрямым норманнским населением, до сих пор говорящим на языке Рабле. В небольшой, казалось бы, Сербии я нашел антитезу шумному, как Москва, Белграду в тенистом Ново-Саде, где стоят памятники известным масонам. Даже в двухмиллионной Латвии есть отдельный край - Латгалия, которую я нежно люблю, потому что благодаря ей женился.
Дело не в размерах, ибо, как все правдоподобные законы природы, этот действует при любом масштабе. Каждая страна включает собственную альтернативу - провинцию, которая делит со столицей ее державные, но не культурные атрибуты. Их отношения можно уподобить семейным, что подразумевает и кровную близость, и кровную вражду. Поняв, наконец, что избежать второй проще, если не слишком настаивать на первой, умная политика культивирует различия, а не стирает их, как это всегда пытались сделать столица, церковь и школа.
Барселону основали не римляне, как это водится в цивилизованной части Европы, а их враги из Карфагена. Говоря точнее - Барка, отец Ганнибала. Помня об отдельной истории, каталонцы всегда выделялись. Они, например, ценят трезвость, в том числе и буквальную.
- В Испании пьют из мехов вот с такой дырой, - показал руками Джорди, - мы предпочитаем porron.
Убедившись в нашем недоумении, он достал из буфета аптекарскую склянку с широким горлом, но узким носиком. Влил в нее бутылку красного вина и, задрав голову, пустил в рот стройную струю, медленно отводя руку. Дуга становилась все длиннее, но ни одна капля не осела на белом свитере маэстро. Фокус, однако, в другом: хотя представление продолжалось целую вечность, выпитого набралось рюмки на две.
Отказываясь играть и Дон Кихота, и Санчо Пансу, каталонцы считают себя протестантами Иберии. Они ценят умеренность жеста, сухую европейскую деловитость и никому не дают на чай. Ясно, что их не любят соседи, но это - взаимно. Для каталонцев кастильцы слишком идальго, а баски - неандертальцы с дурным характером. Даже корриду здесь не жалуют, ибо все лучшие матадоры были фашистами. К тому же бой быков - пережиток чужой древности. Свою они держат в музее, где собралась самая богатая коллекция романской живописи. Так называлось христианское искусство готских варваров, которое чудом сохранилось вблизи Пиренеев.
Перед суровой теологией этих безымянных мастеров трудно устоять. Их Христос не похож, как мы привыкли, ни на Дюрера, ни на хиппи (что, в сущности, то же самое). Бесстрастный оплот власти, он парит в апсиде и смотрит поверх голов. Этот Иисус и на коленях матери сидит взрослым и безучастным. Видно, что с мадонной его соединяет не любовь, а историческая необходимость: материя порождает дух, Земля - Бога, рабы - хозяина. Даже на распятье Христос - царь мира: крест как трон. Он безразличен к страданиям - и к своим, и к чужим. Его тело укрывает узорчатый наряд из бесценного сарацинского шелка, и кровь не струится из прибитых рук. Широко открытые глаза смотрят мимо. Этот Христос уж точно не от мира сего: скорее явление природы, чем сын человеческий. Ему можно поклоняться, как начальнику жизни или ее закону.
У этих художников космология еще не стала психологией. По сравнению с таким искусством всякое другое кажется человечным - и сентиментальным. То есть несовременным, ибо, как говорил Ортега, только «дегуманизация» оправдывает нового художника, отказавшегося от жизнеподобного творчества ради свободной игры объема и цвета. Возможно, Барселона стала мировой мастерской авангарда потому, что у нее было такое прошлое.
Барселонский музей Пикассо открывает картина «Наука и милосердие». Она представляет собой нравоучительный ребус: слева от кровати умирающей стоит врач, справа - монашенка. Вывод остается на долю зрителя, но ясно, что симпатии автора - справа от центра. Биографы замечают, что в свободное от работы над большим полотном время 14-летний мальчик швырял из окна камни в прохожих. Очень скоро, однако, у него появилось другое увлечение. Уже в старости, отвечая на вопрос, когда он потерял невинность, Пикассо опускал руку по грудь, показывая, каким он впервые посетил публичный дом в старом городе. Судя по экспозиции, открытие земной любви отшибло небесную. Сразу за «Милосердием» рисунок Пикассо стал острым, как бритва.
- Кадакес, - объяснял Джорди, - крохотный городок, замкнутая, консервативная община. К ним и сейчас добраться непросто, а тогда и подавно. Неудивительно, что местные на Галу косились. Уроженка Казани, бывшая жена Элюара и вечный кумир Дали, она купалась голой и спала с наемными любовниками, пока их рисовал муж. Я знал обоих и ничего странного не заметил. На уме у них был, как у вас говорят, strictly business.
В этих местах Дали - свой, и обращаться с ним нужно осторожно. Я это понял, увидев, как поморщился хозяин, когда мне пришло в голову сравнить музей Дали на его родине, в Фигуеросе, с сюрреалистическим Диснейлендом. Между тем размах - тот же.
Дали первым придумал фабрику изощренной пошлости, которая прячет бутафорию в драгоценную оправу и выдает бесценный раритет за дешевую игрушку. Апофеоз этого ювелирного поп-арта - бьющееся сердце из рубинов со спрятанной батарейкой. Такое мог бы носить Элвис Пресли, зато Мадонне бы больше подошла брошка в виде рта с жемчужными, как у старика Хоттабыча, зубами.
Впрочем, как знает каждый поклонник Хемингуэя, нет ничего проще, чем пинать прежних идолов. В мое время Дали был одним из главных. В его запретном искусстве чудилось очевидное и непостижимое - правда, позволяющая любые интерпретации. Примерно так тогда выглядела свобода.
Фрейд считал Дали талантливым симулянтом подсознания, другие - теннисом без сетки. Но в Каталонии он почти реалист. Здесь видно, как родной пейзаж проступает сквозь сумрак искусно воспаленного сознания. Так, циклопические яйца, которые служат куполами «театру» Дали, буквально повторяют очертания лысых вершин, скрывающих главную каталонскую святыню - черную мадонну Монтсеррата. В сверхъестественно овальных скалах, где раньше жили отшельники, а теперь только орлы, природа выдавила себя за пределы правдоподобия с большим, чем сюрреалисты, успехом. Выше головы не прыгнешь, ниже - тоже.
Фантазия - это вымысел реальности, когда она хочет, чтобы ее не узнали, но из-под платья все равно торчат шпоры. Как в комедии Шварца, где переодетый дамой полицмейстер бродил по площади в кавалерийских сапогах - чтобы не услышать чересчур крамольных речей.
В Барселоне так себя ведет полицейская машина, когда с шумом, ревом и очень медленно она подъезжает к парку, где цыгане без лицензий торгуют сюрреалистическими сувенирами китайской работы. В наигранном переполохе продавцы торопливо сворачивают торговлю, пока полицейские пьют за углом кофе с молоком, макая в него трубочки из рыжего теста. В Киеве их почему-то называли кавказскими огурчиками. Вкуснее я уже никогда ничего не ел.
Оруэлл (название его знаменитой книги я одолжил для этого очерка) приехал в Барселону, чтобы написать о Гражданской войне, а не сражаться в ней. Но увидав, что в городе всех зовут товарищами, офицеры получают столько же, сколько солдаты, а бордели закрыты сознательными рабочими, Оруэлл отправился на фронт - «чтобы убить хоть одного фашиста». Оруэлла соблазнила не революция и уж точно не демократия, а равенство - полное, безоговорочное, анархическое.
Это тем удивительнее, что Барселона - самый буржуазный город из всех, где мне доводилось бывать. По-моему, это - лучшее, что может случиться с городом на этой планете.
- Вот как выглядел бы мир, - мечтал я, бродя по бульварам, - если б не было войны - первой и главной, той, в которую рухнула Европа, той, с которой начался американский век, той, в которой классовое общество стало массовым.
Дважды избежав самых страшных катаклизмов XX века, Барселона осталась прежней - такой, какой была до них. Бескрайние поля гордой собой архитектуры все еще внушают иллюзию прочности XIX столетия, обещавшего заменить собой вечность.
Зодчество лучше других искусств подходит для историософской пропаганды, потому что оно действует исподволь, на всех и навсегда. Дом, если он того стоит, невозможно разлюбить. Вырубая шедевры в городском небе, архитектор меняет души тех, кто живет - в них или по соседству.
Удача Барселоны в том, что ее богатым жителям удалось построить себе второй город в том новом стиле, который в Бель Эпок назывался по-разному, но значил одно - свободу выбора. Зодчие больше не боялись эклектики. Чувствуя себя венцом истории, они распоряжались ее достижениями как хозяева прошлого, а не его слуги. Сложив все вместе - от готов до мавров, Барселона вписала себя в смутный оперный миф, где можно было спеть даже то, что не рифмовалось. На рубеже веков этот город принадлежал Вагнеру. Чудом было то, что Барселона осталась уютной. Уникальным этот город делало сочетание мифа и санузла - театральных претензий и практической пользы.
Именем этого симбиоза стал патрон Барселоны. Последним неосуществленным проектом Гауди была великая церковь, первым - удобный сортир. Он придумал стул на две ягодицы (на таких до сих пор сидят смотрители в музеях). В лучшем доме его постройки дверь открывается левой рукой, потому что правая поворачивает ключ в замке.
Изобретая комфорт, Гауди оставался последним средневековым человеком Европы: он не подражал истории, а продолжал ее. Задумав, как это водится у гениев, воссоздать на портале своего собора весь мир, он перечислил и процитировал его. Каждая скульптура была гипсовым слепком с живого оригинала - голубя, курицы, осла. Христом стал ремесленник, Марией - торговка зеленью, легионером - каменщик, причем шестипалый.
В этом натурализме чувствуется уважение одного творца к другому. Видя в природе сырье культуры, Гауди, не смущаясь вопросами приоритета, сажал в своем саду каменные пальмы. Не проводя твердого различия между живым и мертвым, Гауди всему придавал одушевленные черты. Не любил он только женщин, очкариков и анархистов. За что последние и выбросили его труп из гроба.
Александр Генис
23.11.2007
Дед Мороз
Мировая история с Генисом
Поход начинался задолго до рассвета, если зарю вообще стоило принимать в расчет, учитывая широту и время года. Боясь проспать и остаться дома, я вставал первым и уже одетым дожидался взрослых - отца и брата. Почему туда не брали женщин, мне никто не объяснял, а я не спрашивал, гордясь первым мужским делом в своей, мягко говоря, незрелой жизни.
К базару мы шли молча, чтобы лишний раз не открывать рта на морозе. Возле первого павильона (им служил ангар для дирижаблей, которыми первая латвийская республика тщетно надеялась защититься от соседа) уже собралась тихая толпа с фонарями наготове. Гуще всего она, разумеется, была у ворот обнесенного передвижной изгородью крааля. Ввинтившись в стену спин, мы старались, не растеряв друг друга, оказаться поближе к цели. Но когда ворота распахнулись, течение вынесло нас к невыгодному для других углу. Тут стояли наиболее дорогие и самые высокие елки, не влезавшие в малометражные во всех измерениях новостройки. Отец, однако, признавал только те деревья, что упирались в потолок нашей старой квартиры.
Помятые, но довольные, мы возвращались с добычей домой и ложились досыпать, доверив женщинам - маме и бабушке - украшать елку гэдээровскими игрушками, которые все еще назывались «трофейными». На мою долю оставляли только деревянного божка со сломанным ухом, выцарапанным кошкой глазом и порыжевшей от старости бородой.
Конечно, я знал, откуда берутся подарки, за которые мне приходилось умело торговаться с родителями. Но этот Дед Мороз был персональным идолом. В маленького, а тем более ущербного бога поверить проще, чем в большого и всемогущего. Поэтому в детстве все - язычники. В старости, впрочем, тоже. Мать, например, впав в детство, поверила в самолеты, которые, подчиняясь неведомому ей расписанию, и впрямь, как солнце, прилетают с Востока и улетают на Запад.
Представляя личную - мою - мифологию, Дед Мороз исполнял не все, а только самые потаенные желания, о которых я сам не догадывался. Он приносил сны. Лучший из них я запомнил навсегда.
Прямо за базарными ангарами, сквозь сутолоку портовых амбаров, за плоской полосой светлого моря, на другом берегу незамеченного картой пролива, открывалась земля, которая называлась Швецией и вызывала во мне судорогу неизъяснимого восторга.
- Пролив? Швеция? Блондинки? - встрепенулся Пахомов и обрадовал вердиктом: - Пробуждение либидо.
- Либидо, да не то, - парировал я выпад Фрейда, ибо твердо знал, что в этом сне родилась другая любовь - к Северу.
Как компас, я всегда нацелен на Север, возможно - из фронды. Ведь Север - диссидент культуры. Это - единственная альтернатива Югу. Снизу к нам вел шелковый путь цивилизации, сверху проникало варварство. И каждый раз, когда наша история, избалованная пластичной античностью, уступала грубому соблазну Севера, она горько жалела о своем падении. Но искус приходит снова. Нам, как той же магнитной стрелке, не избавиться от Севера, потому что там родилась эстетика, которая со временем стала нашим этикетом.
Это произошло тысячу лет назад, когда случилось исландское чудо. Всех островитян тогда было не больше семидесяти тысяч - меньше, чем в Афинах Перикла или Флоренции Медичи. К тому же исландцы не умели писать. Но именно они создали свои стихи и нашу прозу. В исландских сагах впервые появились черты, ставшие итогом стилистических поисков западной словесности. Это - лаконичная недоговоренность, ироническая недосказанность, повествовательная нейтральность, общая сдержанность красок - «цвета воды», как любил говорить Бродский. Северная практика умолчания напоминает тот столь уместный в этих широтах айсберг, которому подражали Хемингуэй, голливудские ковбои и подростки, выросшие, как я, на Аксенове. От частого употребления этот стиль оказался литературным штампом и популярным характером. Эстетический идеал смешался с этическим и стал школой жизни. Я сам в ней вырос, еще не зная, что правильный диалог можно найти не только в «Великолепной семерке»:
- Сколько тебе лет, исландец?
- Восемнадцать.
- Ручаюсь, что других восемнадцати ты не проживешь.
В исландских сагах умирают, как у Беккета: «Хрут взмахнул секирой и ударил Эльдгрима между лопаток так, что кольчуга лопнула.
Эльдгрим упал мертвый с коня, как и следовало ожидать». Женщины в сагах признаются в любви, как это могла бы сделать Брет Эшли: «Он высок ростом и кажется мне красивым». Мужчины напоминают Атоса: «Из всех людей, - говорит коннунг, - Халльдора было труднее всего испугать или обрадовать. Выпадало ли ему счастье или несчастье, он ел, пил и спал не меньше, чем обычно». И, конечно, никогда мы не услышим ободряющий или осуждающий голос автора. Эта искусно избегающая орнамента словесность возвела простоту в прием, создавая эффект путем вычитания - как Кафка. На все саги нашлась лишь одна метафора, и она бы ему понравилась: «Он был обременен виной, как можжевельник иглами».
Первого в своей жизни исландца я встретил в баре-гастрономе «Москва» на Брайтон-Бич. Он был так пьян, что мне не удалось выяснить, как и зачем он туда попал. Но наученный сагами, я видел в нем всех его предков и наливал им из своего графинчика.
Дело в том, что Исландия, как Лев Толстой, помнит обстоятельства своего рождения и может перечислить всех, кто при этом присутствовал. Заселившие остров колонисты оставили нам свои имена и судьбы. Благодаря сагам мы их всех знаем как облупленных - от кого родились, на ком женились, но главное - кого убили. Самая богатая в европейском Средневековье словесность походила на уголовную хронику, ибо, как и сейчас, популярная литература тогда редко интересовалась сюжетами, если они избегали трупов.
Саги заменяют Исландии не только историю, но и исторические достопримечательности. В пустынной стране, на столь безжизненной земле, что американские астронавты репетировали здесь свою лунную эскападу, культурным наследием становится упомянутый в сагах ландшафт. Не чистенькая столица, сманившая к себе почти всех островитян, не скромные церквушки, построенные из привезенного леса, а каменистое Поле Закона служит сердцем исландской древности. Здесь, в котловине большого озера, возле трещины, разделяющей континентальные шельфы Старого и Нового Света, тысячу лет назад, как напоминает туристам ЮНЕСКО, родился первый парламент - альтинг.
Исландия тогда была мечтой анархиста. Еще не придумав себе правительства, она жила без войн, налогов, полиции, палачей и тюрем. С правосудием справлялась кровная месть, дававшая сагам сюжет, мужчинам - урок, нации - темперамент.
«Пойдем в усадьбу, - говорит герой любимой народом «Саги об Эгиле», - и, как подобает воинам, убьем всех, кто нам попадется, и захватим все, что сможем захватить».
- Мы все, конечно, викинги, - сказал мне стокгольмский цветовод, - но исландцы хуже всех. Шведы ищут престижа, датчане - удовольствий, норвежцы - простых радостей, одна Исландия - темная лошадка Скандинавии.
Оно и понятно, ведь это страна, где строчку из саги - «Земля разверзлась перед всадником и поглотила его» - сопровождает флегматичный комментарий: «Такое не редкость на острове с бурной вулканической деятельностью». Возможно, она виновата в том, что на каждую душу трехсоттысячного населения по-прежнему приходится больше всего поэтов, а также - симфонических оркестров и гроссмейстеров, включая поселившегося в Рейкьявике Роберта Фишера, которого многие считают берсерком от шахмат.
Вокрестностях этого дальнего фьорда очень мало людей, чуть больше коров и совсем нет дорог. По твердой траве можно ехать куда угодно, если не боишься свалиться в море. Заблаговременно остановившись, я вышел из наемной машины и, передвигаясь ползком, добрался до края, чтобы свеситься с утеса, насколько хватало смелости. Внизу, далеко внизу, плавал тюлень, похожий на Одина. Он что-то кричал или лаял, но грохот волн заглушал все остальные звуки. Перевернувшись, я оглядел сушу и обнаружил в ней мелкую яму. Чуть раскопанное городище обнажило останки землянки, а в ней - насыпанное грунтом ложе хозяина. Воровато оглядевшись на предмет археологов, я улегся в постель викинга и притворился им.
«Колдовство, - уверяют саги, - действует только на спящего».
Поверив им, я туго закрыл глаза, надеясь увидеть своего любимого героя - Квасира.
Северные боги нравятся мне не меньше южных. В них есть архаическая неотесанность. Сегодня мы предпочитаем ее лакированным олимпийцам, изувеченным той болонской школой, что изображала всех кумиров на одно лицо - от Аполлона до Сталина. Увернувшись от истории, асы «Эдды» сохранили индивидуальность - смертную, корявую, ущербную и завидно оригинальную. Про каждого можно рассказать анекдот. Тор боролся со старостью и заставил ее отступить. Химинбьерг слышит, как растет шерсть на овце. Богиня красоты Фрейя ездит на кошках и любит воинов - с поля боя ей достается половина убитых. Вторая идет Одину. Главный и мудрый, он на пирах ничего не ест, только пьет, как Веничка. И это естественно: в северном мире, живущем морем, вообще все льется. Даже смерть тут жидкая. Она вливается в жилы павших, заменяя собой дух и кровь, как об этом сказано в «Беовульфе»:
…покуда в сердце его не хлынула смерть потоком.
Спасти от нее в безнадежной религии варягов не может даже высшая мудрость. Об этом рассказывает история сотворенного из слюны богов Квасира, чье имя восходит к тому же корню, что и наше «квасить».
«Он был так мудр, - пишет в «Младшей Эдде» Снорри Стурлусон, - что нет вопроса, на который он не мог бы ответить».
Однако и ученость не спасла его от страшной участи.
«Квасир, - продолжает Снорри, - захлебнулся в мудрости, ибо не было человека столь мудрого, чтобы мог выспросить у него всю мудрость».
- Поэтому, - добавлю я, - мы придумали Интернет, и Квасира можно считать его первым патроном и мучеником.
Мир как дерево. Такая метафора кажется странной только тем, кто к ней не привык. Но в северных мифах вселенная, созданная из трупа великана Имира (его кровь - моря, кости - горы, зубы - валуны), сохраняет антропоморфные черты, которые ей опять норовит приписать новая наука. А дерево ведь и впрямь похоже на человека, во всяком случае, когда он тянется вверх. Поэтому, если забыть о глобусе, удобно верить в мировое дерево, чья вертикаль пронизывает многоэтажную метафизику корней и кроны. Впитывая судьбу из родной почвы, вечнозеленый ясень Иггдрасиль растет, задевая головой небо. Этим дерево тоже похоже на человека.
Не эта ли глухая память об историческом родстве гонит нас зимой из теплого дома? Вернувшись с мороза, мы вносим елку под свою крышу, ставим в красный угол, наряжаем, как себя, и называем праздником.
Больше любого другого я люблю это странное время года. Ничьи дни, когда, умилившись вместе с Америкой Рождеством, мы вступаем в волчью пору декабря. Дождавшись его, я пользуюсь язычеством зимы по назначению. Днем сижу, как Дед Мороз, под елкой. Ночью сплю возле нее, надеясь, что навеянные волшебным деревом сны сбудутся, по исландскому поверью, - так, как я их истолкую.
Александр Генис
20.12.2007
Коммунизм - это Интернет
- Бабки, - горько сказал мой приятель, который в прошлой жизни и слова такого не знал, - бабки решают все.
- Ну, не скажи, - заныл я от его категоричности.
- Хорошо, - рассвирепел он, - назови мне хоть одного человека, которого нельзя купить за деньги.
- Усама бен Ладен…
Дальше он и слушать отказался. А зря. Потому что я только начал.
Меня бесит отношение к деньгам, ибо оно сегодня такое же оголтелое, как раньше. Сменились только знаки. В мое время деньги считались настолько несущественными, что в учебнике «Политэкономия социализма» отсутствовал раздел «Прибыль». Теперь деньги считаются последним и универсальным аргументом.
- Теперь и у нас, - объявил мне тот же приятель, - как говорят у вас в Америке, все продается: деньги мера миру.
Конечно, ничего подобного в Америке не говорят и в России - тоже. Миром правят бескорыстные законы любви и ненависти, которые понуждают нас к таким нерентабельным занятиям, как жизнь и смерть. Безоглядный капитализм - такая же умозрительная иллюзия, как коммунизм. Но с последним у меня отношения сложнее.
Я никогда не читал Маркса. Более того, у меня был только один знакомый, который это делал, но он уже умер от старости. К тому же я никогда и не встречал коммунистов, кроме тех, кто себя так называл. Этих как раз я видел - и у власти, и без нее. Мне кажется, что единственное, о чем они еще мечтают, так это вернуть себе персональный автомобиль. Может быть, и СССР, но машина важнее, особенно - с шофером.
Я очень не люблю коммунистов, потому что они компрометируют небезразличную мне идею, которую я почерпнул из лозунга моего детства: «Коммунизм - это безвозмездный труд свободно собравшихся людей». Ничего лучше этого я ни тогда, ни сейчас представить себе не могу.
Коммунисты к этому не имеют никакого отношения. Они ведь не хотели трудиться, они хотят следить за тем, как это делают другие. Стоять на раздаче, создав узкий проход, чтобы больше ценили. Поэтому прежняя власть не переносила безвозмездного труда, например - самиздата. Поощряя лень и потворствуя халтуре, власть считала диссидентами всех, кто хотел честно трудиться. Например - меня. Я ведь и в Америку уехал только потому, что мне не давали работать дома.
В Америке с этим проще. Возможно, потому, что мистерия труда - идеал богатых. О безделье мечтают только бедные. В раю пролетариата никогда не работают. Ненависть к труду объясняет его происхождение: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». С тех пор, однако, многое изменилось. Труд перестал быть условием существования - принцы научились делиться с нищими, отдавая им добрую половину своих доходов. В Западной Европе, где встречаются династии безбедных безработных, труд из необходимости превращается в завидную возможность.
Так, собственно, и должно быть: всякий труд - привилегия, творческий - роскошь. Он, как и обещал коммунизм, - сам себе награда. Лучше всего об этом знает поколение, которое появилось на свет уже после того, как коммунизм исчез с горизонта. Сама не зная того, интернетская молодежь стала самым успешным - четвертым - интернационалом.
Чтобы оценить мощь этого социального организма, стоит рассказать первую притчу кибернетического века.
В 1977 году математик Роналд Райвист изобрел секретный код, состоящий из 129 цифр. Чтобы подобрать к нему ключ, самые мощные и самые быстрые машины должны потратить 40 квадрильонов лет. Однако Райвист в своих расчетах не учел одного нового фактора - Интернета. Тысячи добровольцев по всему миру разделили между собой задачу, и всего через 17 лет задача была разрешена.
Суть этой истории не в могуществе компьютера, а в новом типе отношений между людьми, вступившими в кибернетическую связь друг с другом. В Америке для них существуют особые задания. Скажем, НАСА предложила любителям астрономии идентифицировать кратеры на снимках Марса для создания подробной карты этой планеты. Университетские профессора нашли охотников вычитывать книги для создания бесплатной сетевой библиотеки классических текстов. Одни энтузиасты ведут «телефонную» книгу Всемирной электронной паутины, другие учат компьютер разбирать нашу речь, третьи помогают ему освоить человеческую логику.
Самый грандиозный проект такого рода - Википедия. Ее изобретатель - Джимми Уэлс - типичный гений электронного века. Застенчивый отличник, заядлый любитель компьютерных игр, поклонник свободолюбивой философии Эйн Рэнд, сторонник анархического социального устройства, Уэлс зачал Википедию на досуге, даже не подозревая, что она станет самым большим сетевым проектом. В англоязычной Википедии, оказавшейся крупнейшим в мире справочным ресурсом, уже более двух миллионов статей. Самое интересное, что когда Джимми Уэлса спросили, в чем конечная цель Википедии, он сказал: «Ни в чем, одна забава».
Так Интернет по-новому разрешает вечную антитезу труда и досуга, что позволяет ему мобилизовать и направить в творческое русло грандиозную энергию игры. Своему существованию Сеть обязана той чудесной метаморфозе, что заменяет унылую работу безвозмездным трудом свободно собравшихся людей.
Александр Генис
08.01.2008
Гости
Мировая история с Генисом
- Колумб, - привычно вещал я гостю, - назвал Америку «другим Светом», Америго Веспуччи его поправил, добавив титулу метафизическую перспективу: Новый Свет. Среди прочего, это значит второй. Здесь все началось опять и сначала. Поэтому тут есть свой, как считают мормоны, Христос. И своя, о чем говорит каждый банк с колоннами, американская, античность. К тому же в каждом без исключения штате стоят фальшивые Афины, но настоящие, конечно, одни, и это, как тебе там скажет каждый, - Бостон.
- А Нью-Йорк?
- Александрия. Столица космополитов, и евреев не меньше.
- Где же тогда Рим?
- В него мы въезжаем.
Для приезжего Америка - сюрприз с разочарованием. Если не заезжать в Нью-Йорк и Сан-Франциско, эту страну можно проехать от океана до океана, не найдя в ней ни одного города. Естественно, в нашем, старосветском понимании, когда у вас не поворачивается язык и впрямь назвать «городом» конгломерат закусочных и магазинов. Распухнув у перекрестка, он пускает неглубокие метастазы в переулок, огибающий церковь, по пути к кладбищу. Сразу за ним может начаться море, поле, лес или другой город, остановиться в котором можно лишь по нужде. Но и ее проще справить на бензоколонке.
Вашингтон, однако, дело другое. Здесь есть благородная, сдержанная, намекающая на Средневековье древность колониальных предместий, но она не наследует античности, а предшествует ей. Дело в том, что булыжные мостовые, черепичные крыши, поседевшие от старости кирпичные стены, кривые переулки и прочие европейские радости оказались здесь до того, как появилась белокаменная роскошь американского Рима. Чтобы мы не забыли о том, где находимся, в Вашингтоне постоянно пишут - на порталах, площадях и тротуарах. Здесь приятно высекать - в граните, мраморе и бетоне - изречения, стихи, законы, сплетни. Жизни не хватит, чтобы прочесть этот больной графоманией город. Но этого никто и не делает, ибо надписи, как у древних египтян, служат Вашингтону оберегом, наглядно привязывающим столицу Америки к ее истории.
Исправно перерабатывая будущее в прошлое, Вашингтон трудится так быстро, что, навещая его, я каждый раз нахожу новую историческую достопримечательность. Компенсируя их национальный дефицит, столица, кажется, состоит только из них. Характерно, что вид на Капитолий, как в бедном (еще республиканском) Риме открывается сразу за деревенской околицей.
Переход от сельской местности к державной не кажется внезапным лишь потому, что Вашингтон - самая зеленая столица в мире. Что и не удивительно: этот город забыли построить. Когда в Лондоне гремел Байрон, а в Москве - Наполеон, улицей, соединяющей Белый дом с Капитолием, служила коровья тропа, известная под именем Пенсильванской. Первые президенты не без труда добирались по ней до Конгресса еще и потому, что дорогу пересекал ручей, славившийся окунями. Со временем пустыри назвали - и сделали - парками, но дух пасторальной идиллии сохранился. Главная площадь - сельский выгон с трогательной старинной каруселью.
Зелень европейских городов - вторичный продукт цивилизации. Там каждый сквер - погост. Корни деревьев, растущих на богатом перегное культуры, путаются в руинах тесной средневековой жизни. В Америке, как часто кажется, а иногда и бывает, природу просто огородили - забором, улицей, городом. Разница та же, что отличает масло от акварели. На холсте снег изображает непростая комбинация белил с лазурью, но, рисуя зимний пейзаж акварельными красками, художнику достаточно оставить в покое бумагу.
Проведя первую половину американской жизни на острове Манхэттен, я основательно изучил его северные леса, собирая там грибы и ландыши. В пещерах, неподалеку от пня того дерева, где Питер Минуит купил остров у индейцев, еще можно найти каменные наконечники стрел. Перебравшись за Гудзон, я поселился в городке, у которого были все основания стать соперником Нью-Йорка, когда в 1640-м здесь высадился голландский негоциант Врееланд. Он распахал выходящую к реке лужайку под табак, но не успел его собрать. Налетевшие с запада индейцы-хакенсаки сожгли урожай и убили почти всех белых. Уцелевшие поселились на южном конце острова, отгороженном от дикарей стеной, ставшей улицей Wall Street. Хакенсаком теперь называется убогий городок, где расположен верховный суд нашего графства. А на плантации Врееланда я играю в теннис, когда никто не смотрит.
Столичные гости обычно приезжают в Америку без путеводителя. Зато с ним редко расстаются провинциалы. Любознательность - обратная сторона неуверенности. Она подбивает дополнить себя за счет другого.
Я и сам такой: хочу все знать. Но обычно моих гостей больше волнует не заграница, а то, что она о них думает. Иногда мне кажется, что они путешествуют в невидимом скафандре, который наполняет прозрачный, бесцветный, безвкусный газ родины, обеззараживающий чужие края. Прошли те времена, когда железный занавес провоцировал к ним такой истерический интерес, что мы знали ту сторону лучше этой - своей.
Об этом я тоже знаю по собственному опыту. На стенах детской, которую мы делили с братом, вместо положенных нам по возрасту красавиц из журналов, висели подробные географические карты. У меня как младшего небольшая Голландия, у него - непомерная Канада. Иногда я тоже засматривался на Саскачеван и Манитобу, но оставался верен Нидерландам. Тогда я мог нарисовать на промокашке очертания каждой из 12 провинций. Засыпая, я выбирал, с которой из них провести ночь. Страсть эта была всеобщей и безобидной - платонической. Но боюсь, что именно она превратила меня, как и предупреждал Сталин, в безродного космополита, который, согласно грекам, всюду чувствует себя своим. Или - чужим. Даже в юности я мечтал не покорить мир, а посетить его.
- Знать - не делать, - сказал мне гость. - Ты - синоптик, мы - циклон.
- Как же, буря, - подхватил я, оскорбившись сочувствием, - в стакане воды.
Правда, тем не менее была на его стороне. Беда в том, что география легко заменяет историю, вернее, биографию, причем - мою. Когда путешествия становятся вехами, жизнь переходит в пассивный залог, позволяя менять себя окружающему. Покинув активную фазу жизни ради созерцательной, я действительно оказался более восприимчив к переменам в себе, чем в мире. Но так мне даже больше нравится. Избавляя от однобокости в суждениях и прививая смирение, странствия, как мужчина - женщину, награждают новой жизнью, но только тех, кто приезжает порожним. И я, по-прежнему надеясь стать собой с помощью другого, люблю чужое пространство и время, как прежде, когда, не надеясь пересечь границу, мы бескорыстно изучали ее потустороннюю действительность по неверным свидетельствам.
В этой игре отражений Америке повезло меньше всех, потому что мы знали ее по гениальным книгам и посредственным фильмам. И те и другие нас обманывали, представляя, как всякое искусство, реальность в ложном свете. Увиденная безыскусным взглядом американская жизнь кажется просто жизнью, недоступной для изображения и обобщения.
Это еще не значит, что Америки нет вовсе. Прожив здесь тридцать лет, я вырастил особый орган чувства, который реагируют на всякую ускользающую от приезжих американскую экзотику. Например - свободу. Она живет в бедности, особенно - на Западе, где еще можно найти поселки состарившихся хиппи. В одном я осмотрел капище мотоциклов, в другом пил с индейцами, в третьем видел, как они закладывают фамильную бирюзу в сопутствующих виски ломбардах.
- В Америке свобода заметнее всего там, где ближе к власти, - наставлял я по пути к Капитолию гостя, - вот, говоря по-английски, наш Гайд-парк.
- Майдан, - перевел он, оглядев площадь у холма Конгресса.
Сходство присутствовало, но партий было больше, требования - причудливее, народ - пестрее. Да и палаточный городок скорее напоминал табор, особенно - по флангам, где вегетарианцы, лесбиянки и сторонники зеленого погребения раскинули шатры радужной расцветки.
- Мы, однако, начнем с черно-белого, - решил мой гость и обратился к темнокожей даме, требовавшей справедливости для разрушенной ураганом Луизианы.
- Пушкин тоже был негром, - объявил он, чтобы понравиться.
- Афроамериканцем, - мягко поправила дама.
- Почему - американцем? Он же русский, из Африки. Я к тому, что у нас с вами много общего.
- Вы тоже из Африки?
- Я имею в виду рабство.
- Египетское?
- Нет, отечественное. Мой прапрадед получил вольную всего за четыре года до вашего.
- Вот и славно, - еще приветливо, но уже нервно заключила разговор негритянка, - мы будем вместе бороться за равноправие наших обделенных рас.
Решив считать дипломатическую победу одержанной, гость осторожно обошел вигвам феминисток и ввинтился в антивоенную демонстрацию.
- Ты - солдат? - закричал он на строгого юношу в форме.
Тот молча улыбнулся очевидному.
- Военные должны воевать.
- Конечно, за правое дело.
Победоносно оглянувшись на меня, гость двинулся дальше, но я, потеряв его между друзьями абортов и врагами скорняков, сел на бортик бассейна, где отражался грандиозный купол с невнятной фигурой на макушке. Я всегда думал, что это - индеец, оказалось - Свобода.
Гость вернулся в восторге:
- Какая страна! Бастион демократии, последняя защита перед азиатским варварством и европейским малодушием. Если бы она еще поменьше церемонилась.
- С кем?
- С кем попало! Сильная, уверенная в своей непоколебимой правоте держава, которая плюет на мнение слабонервных соседей…
«Тогда мне не стоило уезжать, а ему приезжать», - сказал я, но про себя, ибо ждал подарка - давно обещанную мясорубку, которую я никак не мог найти в Америке. Конечно, не потому, что она не изобрела этот кухонный агрегат, а потому, что перестаралась. Здешний процессор способен перемолоть бизона в хот-дог, но - что всегда бывает с прогрессом - не знает, когда остановиться. Чтобы умерить эффективность производства до съедобного - скажем, котлетного уровня, нужна мясорубка на ручном приводе.
Как сказал гость, в самолете укутанный в одеяло подарок летел в отдельном бауле со стекловатной прокладкой. Оно и понятно: вырвавшаяся в багажном отсеке на волю мясорубка могла наделать бед не меньше шахидской бомбы. Освободив машину от уз, я испытал к ней невольное, как к Хаджи-Мурату, уважение. Ноздреватый чугун отливал серым, как небо в ненастье. Снизу торчали могучие лапы. В металлических потрохах ходил стальной винт. Жерло прикрывало решетчатое забрало. Каштановая ручка слегка лоснилась от времени, но оно не было властно над бессмертным корпусом. Сработанная, как сфинкс, на века, мясорубка всей своей статью клялась быть надежным якорем в океане смутных перемен. Об этой незыблемости объявляли иероглифы, отлитые на ее груди. Даже без очков я прочитал знаки рубленого, словно в «Правде», шрифта: «ХАРЬКОВСКИЙ МЕТЗАВОД. ЦЕНА - ШЕСТЬ РУБ».
Александр Генис
08.02.2008
Малые голландцы
Мировая история с Генисом
Под утро, когда по дороге из Лонг-Айленда в Нью-Джерси зимнее солнце лениво вползает в окно, сны становятся полупрозрачными, но их легче запомнить. Теперь, однако, я не слишком стараюсь. Это раньше я не ложился спать без карандаша и бумаги, зная, что только так можно ухватить за пуговицу сон, тающий, словно сахар в чае. Тогда мне казалось, что ночью я знаю больше, чем днем, пока не выяснилось, что в моих снах смысла было столько же, сколько в яви. Но этот сон стоило запомнить уже потому, что пир шел прямо в городском сквере. Над веселой толпой висел гигантский экран, на котором беззвучно разевали рты «Битлз». Среди гостей было много полногрудых девиц, включая знакомых. Официанты разносили рыбу, пирожные, клубнику. В бокалах плескался коньяк, в горшках росли ландыши. Цветы, однако, не пахли, спиртное не пьянило и ничего не удавалось попробовать.
«Загробное царство», - привычно подумал я, но окончательно проснувшись, переправил толкование: «музей».
Хорошо, если бы оказалось, что это - одно и то же, ибо в музеях я готов скоротать вечность.
«Музей, - утверждал Пруст, - это здание, где живут мысли».
По-моему, это больше подходит библиотеке. В музеях держат портреты не идей, а вещей, всегда старых, бывших в употреблении. Пробравшись в картину, вещь достигает своей цели, которую она делит с нами, - перевоплощения, бессмертия.
Дойдя своим умом до этой мысли, я купил масляные краски. Ничего прекраснее в жизни не видал. Маленькие, как зубная паста эльфа, тюбики казались деловитым инвентарем, но стоило выдавить чуть-чуть на фанерку, как краски взрывались какофонией, которую я напрасно называл палитрой. Между тем мне хотелось нарисовать амбар. То есть здание с длинными окнами и высоким чердаком, куда ганзейские купцы ссыпали славянское зерно, дожидаясь, пока на него не поднимутся цены в остальной Европе. Крыша амбара была из черепицы, ставни - из дуба, двери - из железа, стены - кирпичные. Сажа, кармин, охра и немного школьной геометрии. С этим амбаром я был знаком всю свою жизнь. Мимо него я ходил в школу, на свидания, в университет, за водкой. Поэтому и расставаться с ним мне было труднее всего, если не считать бабушки. Но он тоже не хотел уезжать, а я так и не сумел написать то, что мечтал взять с собой.
Художник создает вещь по ее образу и подобию, освобождая натуру от плоти. Фокус в том, что оставшаяся на холсте душа не отличается от тела. Во всяком случае, у малых голландцев, которым рациональная кальвинистская эстетика разрешала писать только то, что видно.
Достоевскому я никогда не завидовал, только - Чапеку. Чем дольше живу, тем больше угнетает величие замысла. И вовсе не потому, что меня перестали интриговать сплетни бытия и тайны повседневного. Просто теперь мне кажется, что к той стороне реальности ведет только эта.
- Ты - реалист, - обвинил меня друг-художник.
- Дудки, я - номиналист. Первые копируют идеал, вторые находят его во всем, что пишут.
Ну, в самом деле, как нарисовать Бога? То ли дело - селедку.
Я научился ее есть весной, когда, поставив первую тонну в королевский дворец Гааги, рыбаки привозят оставшийся улов в курортный Волендам. Туристы сюда приезжают, чтобы умилиться ветряным мельницам, хотя ничего пасторального в них нет: завод стихий. Выстроившись вдоль пляжа, эти могучие машины ветра откачивали воду с польдеров, превращая море в сушу, - в Голландии ведь всегда дует. Но теперь, уступив ветер новой породе (стальным вышкам, стоящим по колено в воде), заякоренные мельницы зарабатывают на хлеб, позируя приезжим. Свои едят селедку стоя, без хлеба и водки, держа ее за хвост, словно кисть винограда, они опускают рыбку в рот, задирая голову к небу - словно молятся.
Юная голландская селедка того стоит. Но еще дороже она мне на любом из тех бессчетных «завтраков», которыми нас кормят голландские натюрморты. У Питера Клааса чуть другая, но столь же умело разделанная рыба лежит на тусклом оловянном блюде. В этом скудном, почти монохромном холсте трудно найти источник холодного, как от болотных огней, света. Присмотревшись к кухонной драме, зритель с волнением открывает, что светится сама сельдь, чуть заметно паря над тарелкой в нимбе фотонов. Попав из воды в масло, люминесцирующая рыба преобразилась в родную сестру тех, которыми Иисус накормил голодных. Чудо изобилия. Манна Северного моря. Такой селедкой можно причащаться, клясться, завтракать.
Вот для этого и нужны малые голландцы. Они делятся с нами своей национальной религией: метафизикой повседневности.
Являясь, каждая вещь оставляет за собой коридор, заглянуть в который и хочется, и колется - ведь он соединяет бытие с его отсутствием. Дальше, как говорится, ехать некуда.
«Нирвана, - как поет Гребенщиков, - это сансара». «И о внутреннем, - вторит ему Конфуций, - нам дано судить лишь по внешнему».
- Но если голландцы, то почему - малые?
- Потому, что в больших, таких как Рембрандт, воплотился их личный и уже потому - бунтарский - гений. За остальных говорит тихая культура меры, дающая - мне! - урок ликующего смирения.
- Каждый, - безапелляционно, в ссоре, сказала жена, - должен сделать уроки, пока не погасят свет.
- Урок, - перевел я для ясности, - это - энтелехия: желудь стремится стать дубом, а мы - исправить двойки, чтобы оправдать внесенный за нас при рождении задаток и перейти в другой класс, даже если его не будет.
Голландцы, именно что малые, помогают справиться с гордыней, мешающей спать, славить Бога и наслаждаться идиллией, к которой сводится мой идеал и их искусство.
«Мастера золотого XVII века, - утверждал их великий поклонник Поль Клодель, - писали так, будто никогда не слышали выстрела». Наследники и сверстники героической эпохи, они не оставили нам отчета о своей отчаянной истории. На их самой воинственной картине - «Ночной дозор» - офицеры кажутся ряжеными. Голландская живопись беспрецедентно мирная. Тут даже дерутся только пьяные, но и они, как заблудшие родичи, вызывают скорее ухмылку, чем отвращение. Другие сюжеты вызывают только зависть.
У малых голландцев всегда тепло, но никогда не жарко. Помимо тусклого солнца жизнь здесь поддерживается фитилем идиллии. Я люблю ее за бескомпромиссность. Отняв у человека трагедию - войну, болезнь, разлуку, дав ему вдоволь красоты, любви и добра побольше, идиллия оставила себе последний конфликт - с бренностью. Но стоя, как все, над бездной, идиллия не заламывает руки, а вышивает крестиком. «Старосветские помещики» мне всегда казались смелее «Тараса Бульбы». Ветераны говорят, что самое трудное - соорудить уютный окоп.
«Войдите в эту картину, - приглашал лучший знаток голландцев Эжен Фромантен, - глубокую, плотно и наглухо замкнутую, куда еле просачивается дневной свет, где горит огонь, где царит тишина, приятный уют, красивая тайна».
Такое будущее дал Мастеру Булгаков: «Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет».
Но и рассвет не рассеет мягкой, как книжная пыль, тьмы. Она собирается в каждой, а не только рембрандтовской картине, чтобы укрыть обжитое пространство от дикого, наружного.
В плоском краю, лишенном естественных - горных - рубежей, надежны лишь рукотворные границы. Поэтому малые голландцы так любят интерьер. Даже тогда, когда художник выходит за двери, он все равно остается внутри. Ведуты их городов составляют дома, напоминающие мебель. Плотно заставленная ею площадь кажется непроницаемой для чужих. Мы можем заглянуть, но не эмигрировать. От соглядатаев жителей отделяет, как на «Улочке» Вермеера, подозрительно пустая мостовая или река без брода, как у него же в «Виде Дельфта». Итальянские картины заманивают зрителя, китайские - заводят, голландские - держат на расстоянии вытянутой руки. Подойти ближе мешает прозрачная, как стеклянный гроб, преграда. Не предназначенное к экспорту, это искусство знало свое место и любило свое время. Но мне все равно туда хочется.
Нечто подобное я еще застал, но не в Амстердаме, сдавшемся более вульгарным радостям жизни, а в глухих углах страны, где на вымытых с прежним усердием переулках стоят насквозь прозрачные дома с незанавешенными окнами. Они будто бы гордятся тем, что им нечего прятать. На самом деле - не от кого. Кто мог, уже уехал. Я бы остался. Тем более что в Голландии все еще рисуют, в том числе - на коровах, обреченно подставляющих живописцам тучные бока под пеструю рекламу отелей.
Другая Голландия ждала меня за океаном, в городе, который так и назывался: Новый Амстердам. От него до нас дошла память об одноногом губернаторе Стайвесанте и снисходительное, слегка насмешливое отношение к своему голландскому прошлому. В американском издании голландцы - пуритане без комплексов: толстые, ленивые, добродушные, скорее Обломов, чем Штольц. Сохранив о себе память в церквах и топонимике, они спокойно растворились во всей Америке, кроме Пенсильвании. Здесь до сих пор живут сектанты, которых соседи вряд ли справедливо, но привычно считают голландцами. Амиши говорят на том ветхом диалекте германского языка, где голландский мало отличим от немецкого и похож на идиш. Бежав из Северной Европы, когда та еще не разобралась с границами, они заморозили в своем обиходе главный - XVII - век голландской истории, сделав его доступным для сопереживания. За этим я к ним и езжу.
Между деревней с пословичным именем Синица-в-Руке (Bird-in-Hand) и рыночным городком, неприлично названным Слияние (Intercourse), амишей трудно не встретить и нельзя не узнать. Строгий костюмный кодекс предписывает мужчинам носить черные штаны с подтяжками (пуговицы не упоминаются в Библии), шляпу и белую рубаху. Усы они бреют, а бороду нет, из-за чего старики похожи на Солженицына. Женщины ходят в белых чепцах и темных платьях с передниками. Детский наряд отличается только тем, что малыши бегают босиком. Взрослые пользуются повозками на конной тяге. Помимо автомобилей амиши отказываются признавать самолеты, электричество, радио, телефон, компьютер и телевидение. В сущности, этот список - довольно точная опись всего, что успела натворить наша цивилизация со времен Вермеера.
Должен признаться, что за исключением приготовленного без пестицидов обеда, жизнь в их времени мне нравится не больше, чем в нашем. Назад дороги нет, разве что - тропинка. Вот по ней я и брел между фермами, легко отличая владения амишей. На крышах их домов нет не только антенн, но и громоотводов: молния - бич Божий, от которого грешник не смеет уклоняться. Определив цель, я, как бедняк на запах жареного, подбирался к ней бочком, чтобы даром попользоваться разлитым в воздухе уютом домовитости. Во дворе, за забором, паслись пони, корова с теленком и почему-то павлины.
- От них-то, - не справившись с удивлением, спросил я у хозяина, - какой прок в хозяйстве?
- Красивые, - ответил он, не отрываясь от грядки.
Александр Генис
07.03.2008
Памятник «дрозду»
Современные дневники. Почитатель
Кадр из фильма Притча особенно удачна тогда, когда она старательно скрывает свою природу. Хорошо еще, чтобы у нее не было одного ответа. Но лучше всего, если выясняется, что она только прикидывалась притчей, что, казалось бы, бесспорная прежде мораль вывернулась из-под ярма финала, оставила вас в дураках, так что все надо начать сначала. Обычно к такому выводу приходят после долгих раздумий. У меня, как я подсчитал, ушло на них 38 лет.
В 71-м мы (кто же тогда смотрел кино в одиночку) полюбили этот фильм с первого взгляда - за то, что он был про нас. Провинциальная столица, юная стайка бездельников, каждый мечтает о творчестве, не зная, как к нему подступиться. Понятно, что мы готовы были назначить «Певчего дрозда» своим кумиром - апостолом приветливого недеяния.
Литаврист оперного оркестра Гия Агладзе был молод, любим и всегда хотел, как лучше. В его душе звучала чудная, слышная только ему мелодия. Всего лишь несколько нот, но больше и не надо. Если бы тайные звуки сложились в звучную песню, вышла бы история, биография, голливудская золушка со счастливым концом.
Иоселиани спас свой шедевр, не дав персонажу развиться в героя. Гия - человек без свойств, сплошная недоговоренность, неопределенность, несостоявшаяся личность - как все мы в молодости. Но его ценят друзья и посторонние, его зовут и ревнуют, его бранят и защищают, он бесполезен и необходим, как жизнь, как день, хотя бы - как утро. Нелепая смерть «вырвала его из рядов», в которых он никогда не стоял, но Гия успел кое-что сделать. Он оставил след - крючок, на который вешает берет его приятель-часовщик. Никто не забыт, и дни не проходят даром.
- Даже тогда, - добавили мы по дороге в магазин, - когда их топят в бобруйском портвейне.
И вот уже прошла изрядная часть той взрослой жизни, у порога которой я впервые встретился с этим фильмом. И я, уже один, совсем в другом полушарии без всякого ностальгического умиления смотрю этот фильм так, как раньше не умел.
В юности ищешь решения, а узнав его, забываешь цепочку доказательств. Но с годами, когда ни один ответ не кажется окончательным, интересна как раз эволюция образа, лестница художественных фактов, структура и фактура - материя искусства.
На этот раз «Дрозд» поразил меня тем, чего раньше в нем вроде и не было, - жестким устройством. Он не склеен, а сколочен. Мнимой оказалась случайная, легкая, якобы необязательная суета сюжета. Под видом импрессионизма, способного размашисто остановить мгновение, Иоселиани прячет кропотливую технику пуантализма, который не фотографирует впечатление, а увековечивает его.
Сюжет фильма составляют скитания Гии по своему бесплодному дню. Но только для него самого эти мелкие приключения лишены урока и значения. Тиранической волею режиссера Гия мечется в плену умышленных обстоятельств. Он помещен в среду очень занятых людей. При этом все они поглощены сугубо точной работой, требующей предельной дисциплины и расчета. Его окружают друзья нравоучительных профессий и увлечений - хирург, часовщик, юный любитель астрономии. Гия часто оказывается по соседству с цифрой. То это - профессор математики, чертящий на доске непонятные символы, то - смазливая лаборантка, считающая одноклеточных микробов, по одному за раз. По телевизору показывают футбол, игру сложной тактики. На улице снимают кино, требующее детально составленной мизансцены. Даже в ресторане Гия попадает в хитросплетение многоголосного грузинского пения. Но главная школа муштры ждет его на работе, в театре оперы и балета, в этой казарме муз, где красота достигается строго организованным насилием над естеством.
Раньше мне казалось, что вся эта вакханалия порядка противостоит герою, душит его свободу. Сейчас я этого не вижу. Ведь Гия - непременная принадлежность этого мира, его ударная часть. У Гии важная роль: ударить вовремя.
Несколько лет назад в Америке умер эксцентричный литератор Джордж Плимптон. Среди прочего, он был знаменит тем, что постоянно брался не за свое дело, чтобы потом описать, что из этого вышло. Плимптон прыгал с парашютом вместе с десантниками, дрался на ринге с профессионалами, играл в футбол, причем костоломный, американский, и даже работал матадором, конечно, недолго.
- Но самые страшные секунды, - вспоминал Плимптон, подводя итоги, - я пережил, когда в симфоническом оркестре играл на литаврах, ибо нет ничего труднее, чем сделать что-то не раньше, не позже, а только и именно тогда, когда нужно.
На ужасе этого магического момента держится «саспенс» фильма, все его незаметно нагнетаемое напряжение. Что бы ни делал герой, мы подспудно ждем, что вот-вот случится катастрофа и он пропустит свою музыкальную дробь. Но, конечно, Гия, который всегда опаздывает, ни разу не опоздал. Он - гений времени, на что намекает последний - поминальный - кадр: крупный план часов без крышки. Курьезная пунктуальность Гии, впрочем, не механична, а органична. Она подчинена не часовым стрелкам, а внутреннему ритму его непростого устройства.
Только поняв, что провала не будет, мы исподволь начинаем догадываться, что открывшийся в фильме Иоселиани мир лишен конфликта. В нем нет противостоящих сил, нет неразрешимых противоречий, нет антагонистических интересов. Тут все на своем месте, как на грузинском застолье Пиросмани: «Никто никому не грубил».
Прежде, в поисках драмы, я принимал стихийного Гию за элемент свободы в царстве необходимости. Но теперь я думаю, что он - тоже часть этого царства.
Гия интересен не таким, каким он мог бы стать, а тем, кто он есть. Он нужен, чтобы дать прикурить прохожему, взять верную ноту в хоре, прибить крючок на стену, замкнуть круг идиллии, сделав его непроницаемым для посторонних.
Раньше я думал, что этот фильм рассказывает о красоте зря прожитой жизни. Сейчас я уверен, что Иоселиани настаивал на другом: жизнь не бывает лишней.
- Без меня, - говорил Платонов, - народ не полный.
Александр Генис
04.04.200
Мировая история с Генисом
- Как ваша фамилия? - строго спросил таксист, нанятый доставлять приглашенных писателей в гостиницу.
- Генис.
- Вы уверены?
- Увы.
- Ну, ничего, какой есть. Будучи русским писателем, - начал он, не успев завести мотор, - вы не можете не понимать, что нормальному человеку нельзя жить в этой стране.
- Почему? - опешил я.
- Потому что, - объявил он, - на их язык нельзя перевести «Бежин луг».
- Почему?
- В этом неразвитом языке нет придаточных предложений.
- Почему? - опять спросил я, чувствуя, что повторяюсь.
- Идиоты. Это - научный факт. Все ведь знают, что умных - один на миллион, а латышей всего миллион 400 тысяч. Пары не выходит.
Я думал, что приехал домой, а попал на линию фронта. Каждый встречный вступал со мной в спор еще до того, как я открывал рот.
- Даже вы, наверное, знаете, - сказал мне, знакомясь, талантливый автор с бритым черепом, - какой самый влиятельный в России писатель.
- Пушкин? - напрягся я.
- Лимонов!
- Почему? - опять завел я свое.
- Патриот, обещает насильно ввести полигамию.
- Архаично, - одобрил я.
- Я так и думал, что вам понравится. Вы же - мамонт, из диссидентов.
Лед был сломан, и я решил поделиться заветным:
- Моя геополитическая мечта состоит в том, чтобы Россия присоединилась к НАТО.
- И моя. Чтобы НАТО - к России.
- Почему? - не нашел я другого слова.
- Потому что, - отрезал он, уходя, - мы вам - не Европа.
- Это вы - не Европа, - закричал я ему в спину, - а мы с Пушкиным - еще как. Он за нее даже умер.
Дело в том, что я верю, нет, исповедую простую истину: Европой может стать каждый, кто захочет. Это как язык, который принадлежит всякому, кто его выучит.
Язык Европы - архитектура. Он понятен всем, кто жил в старом городе, где архитектура образует достаточную критическую массу, чтобы заблудиться, но недостаточную, чтобы надолго. В такой город входишь, будто в сонет. Бесконечно разнообразие поэтических приемов, но правила ясны, стили универсальны и вывод неизбежен, как кафедральный собор, ждущий на центральной площади.
В этой плоской стране архитектура заменяла мне горы. Как и они, это - средство для наружного употребления. В отличие от, скажем, музыки, архитектура не принимается внутрь, а действует блоками внешних впечатлений, влияющих на обмен культурных веществ.
Настоящая архитектура не только притворяется природой, а если повезет, становится ею. И тогда невозможное, но случившееся чудо соединяет изделия разных эпох, стилей, мастеров и режимов так, что не остается швов. Что и произошло с Красной площадью, которая и правда краше всех, потому что мавзолей - единственный бесспорный успех коммунистического зодчества - завершил начатую еще Ренессансом утопию. Так уж устроены причудливые законы совместимости, что архитектура безразлична к идеологии, но требовательна к красоте: она выносит все, кроме мезальянса.
Поскольку единица архитектуры - вид на целое и настоящее, она - то единственное, что нельзя вывезти за пределы Европы, не превратив по пути в Диснейленд. Как и нерукотворные ценности вроде северного сияния, архитектура не подлежит транспортировке. Она требует паломничества и легко добивается его.
- Архитектура, - говорит Фрэнк Гери, оправдывая свое ремесло в глазах вечности, - важнее всего, ибо ради нее мы посещаем чужие города и страны.
Из-за этого архитектура - самое массовое из всех искусств. И самое долговечное. Ведь архитектура живет так долго, что, может быть, и не умирает вовсе, умея, как ящерица - хвост, восстанавливать утраченное, но только прекрасное.
Так смерч, прокатившийся по Европе, волшебным образом изменил ее облик. Уродливое, вроде Берлинской стены, исчезло, красивое, вроде Дрездена, воскресло.
В восстановленной Риге это привело к парадоксу. Сравнивая - с помощью старых фотографий - результат с оригиналом, понимаешь, что сегодняшний город - историческая фикция. В настоящем, а не придуманном прошлом, он никогда не был таким нарядным. Ведь раньше каждая эпоха гордилась собой. Но наш век, смиренно признав, что старое заведомо лучше нового, возродил сразу все лучшее, что стояло в городе за последние восемьсот лет.
Архитектура создает свое время. Не геологическое, но и не человеческое, оно прессует прошлое, сминая историю.
Наш город упоминается в хрониках крестоносцев хрен знает когда. Только поэтому ему удалось отбиться от чести стать эпонимом Гагарина. Но и тогда, когда прежнее начальство не требовало переименовать Ригу в Гагаринск, оно отличалось лояльностью, особенно когда дело доходило до словесности.
Так, главой всех журналистов Латвии, как я узнал на своем первом опыте, был Петер Еранс, который не только никогда ничего не писал, но и говорил исключительно о сельском хозяйстве, иногда подпрыгивая в подтверждение осенившей его мысли. Лысый с пухлыми губами, он походил на Муссолини, подчиненные тем не менее звали его гауляйтером. Немецкий в Риге знали лучше, ибо по-итальянски говорили только старые врачи, учившиеся в Болонье, потому что в довоенной - свободной - Латвии евреев не брали в медицинский.
- Мы, - говорил Еранс в сезон, - народ крестьян. И красных стрелков, - спохватывался он.
Следя за посевной, Еранс посылал в поля всех, кого встречал. Поэтому наши газеты страдали аграрным уклоном и оставались непрочитанными, если рижские хоккеисты не побеждали ЦСКА.
По другую сторону политического спектра был Илья Рипс с физфака нашего университета. Он был на два курса старше, поэтому я о нем услышал только тогда, когда, защищая «пражскую весну», Рипс облил себя бензином у памятника Свободы. Сперва его погасили курсанты, у которых Рипса отбили милиционеры, чтобы отдать в КГБ, отправивший его в сумасшедший дом на Аптекарской. В следующий раз я с ним встретился в книге Сола Бэллоу, который познакомился с Рипсом в Израиле.
- В больнице, - рассказывал он американскому классику, - мне дали стул, и я уже больше не отвлекался от математики.
Не решаясь вступить с властями в столь прямую конфронтацию, я с детства грешил по мелочам. Особенно - в Музее природы, где мы с второгодником Колей Левиным крали фрукты с выставки селекционеров, пока нас не поймал пожилой мичуринец. Быстро, однако, поняв выгоду, он помог нам обчистить другие витрины, оставив свою без конкурентов.
Теперь все эти люди даже мне кажутся литературным вымыслом, персонажами сказок, которые лучше всего получаются в северном захолустье вроде Скандинавии. Их города, представлял Андерсен, служат библиотекой. Каждый этаж - полка, каждое окно - книга, и в каждую - можно заглянуть.
Но из окна можно и выглянуть, чтобы вставить частную историю в соответствующий - сказочный - контекст. Над ним больше других в Риге поработал Михаил Эйзенштейн.
Он любил верховую езду, был грузен, несчастен и стрелялся с начальством, с которым спала его жена.
Великий сын ненавидел отца как раз за то, за что мы его любим.
«Папа, - вспоминал Сергей Эйзенштейн в мемуарах, - победно взвивавший в небо хвосты штукатурных львов. Число построенных папенькой в Риге домов достигло, кажется, пятидесяти трех. И есть целая улица, застроенная бешеным «стиль-модерн».
Сегодня Alberta iela, внесенная в анналы ЮНЕСКО, считается одной из самых красивых улиц Европы. Ею можно пресытиться, но ее трудно не полюбить. Перегруженная, как стареющая красавица, украшениями, архитектура здесь впала в декоративный разврат и достигла границ китча. Но не переступила их, оставив за собой неразъясненный остаток. Кажется, в первый - и последний раз - Европа впустила приватное подсознание в зодчество. Каждый дом - сказка, которую он рассказывает сам себе, не делясь содержанием с посторонними.
В архитектурном словаре Риги гипсовые псы служили в охране, павлины символизировали изобилие, драконы - изобилие и охрану. Но у Эйзенштейна фасады стерегут нагие женщины с закрытыми глазами, чтобы не выдать взглядом тайну, о которой они не знают, а мы мечтаем.
Каким бы европейским языком ни пользовался этот стиль - Art Nouveau, Jugendstil, Modern, - соблазн его был тот же: новый мифотворческий потенциал, до которого была охоча эпоха, породившая ХХ век и не сумевшая с ним справиться. Всякий раз, когда культура, устав от себя, стремится перейти положенные ей пределы, она утончается, сгибается и ломается под тяжестью перезрелых плодов.
Кто мне сейчас поверит, что я предвидел 11 сентября, нью-йоркский кошмар XXI века, еще в эйфорическом конце XX?
Будущее мне открылось в маленьком - по числу любителей - кинотеатре Линкольн-центра на премьере «Красного». Забыв откинуться на спинку кресла, я смотрел фильм с восторгом и ужасом. Пронзительные отношения искусства с теологией зашли слишком далеко, чтобы не оставить следов на реальности. Кислевский ведь все снимал про Бога (Ларс фон Триер спасается тем, что предпочитает дьявола). Выйдя из зала, я объявил, как юродивый:
- Перегрев культуры! Скоро будет война.
Наверное, в каждой эпохе самые сладкие минуты - последние. Когда в 1940-м знаменитая на всю Европу кондитерская фирма «Лайма» отправила рижский шоколад обратно - в Новый Свет, полюбиться Америке он уже не успел.
Я так и не понял: повезло мне вырасти в красивом городе или угораздило? Обеспечив мою юность бесценным фоном, он взял на себя труд, который предназначался мне, - оправдать окружающее. В других местах для этого нужен магический реализм. Во всяком случае, так мне показалось, когда я разговорился с приезжим из Норильска.
- В нашем городе, - объяснил он, - если снег синий, значит, ветер с севера, если красный - с обогатительного комбината, если оранжевый - с шахты.
- А если снега нет?
- Как это?
В Риге снега не было, как говорят, уже лет десять. И от этого зиму здесь стало еще труднее отличить от лета. Между тем архитектура работает не только в соавторстве с историей, но и в контакте с календарем. Но здесь он не так важен, ибо в Риге всегда идет дождь. А если не идет, то собирается пойти. И этим коротким моментом надо уметь воспользоваться, чтобы, перебравшись через Даугаву, разместить панораму между собой и солнцем в выгодном для архитектуры контровом свете. Такой ракурс - вид сбоку - сдергивает наряд деталей и обнажает архитектуру, превращая ее в скульптурную массу, вырубленную в старом небе. И если умело ограничить обзор, вынеся за скобки сталинский небоскреб «Дом колхозника», переделанный в Академию наук, то окажется, что за последние четыреста лет рижский абрис не изменился. Крутые шпили трех первых церквей, тяжелый, как слон, замок, зубчатая поросль острых крыш и круглых башен.
- Вот что я люблю больше всего на свете, - выдохнул наконец я, не стесняясь школьного друга.
- Ты все любишь «больше всего на свете», - лениво откликнулся он, потому что знал меня как облупленного.
Александр Генис
11.04.2008
Вагричу Бахчаняну - 70
Исторический снимок: Бахчанян лепит пельмени в доме Гениса
Что бы ни говорила советская власть, Вагрич всегда был не диссидентом, а формалистом. Бахчанян поставил перед собой задачу художественного оформления режима на адекватном ему языке. Орудием Вагрича стал минимализм. Бахчанян искал тот минимальный сдвиг, который отделял норму от безумия, банальность от нелепости, штамп от кощунства.
Иногда этот жест можно было измерить - в том числе и миллиметрами. Стоило чуть сдвинуть на лоб знаменитую кепку, как вождь превращался в урку. В одной пьесе Бахчанян вывел на изображающую Красную площадь сцену толпу, застывшую в тревожном молчании. После долгого ожидания из мавзолея выходит актер в белом халате. Устало стягивая резиновые перчатки, он тихо, но радостно произносит: «Будет жить!».
Если в этом случае Вагрич обошелся двумя словами, то в другом хватило одного. Он предложил переименовать город Владимир во Владимир Ильич.
С Вагричем привыкли обращаться как с фольклорным персонажем. Одни пересказывали его шутки, другие присваивали. Широкий, хоть и негласный успех бахчаняновских акций помешал разобраться в их сути. Его художество приняли за анекдот, тогда как оно было чистым экспериментом.
Анекдот начинен смехом, как граната шрапнелью. Взорвавшись, он теряет ставшую ненужной форму. У Вагрича только форма и важна. Юмор тут почти случайный, чуть ли не побочный продукт основного производства, цель которого - исчерпать все предоставленные художнику возможности, заняв не предназначенные для искусства вакантные места.
Собственно, это - футуристская стратегия. Хлебников, например, расширил русскую речь за счет неиспользуемых в ней грамматических форм. Переводя потенциальное в реальное, он не столько писал стихи, сколько столбил территорию, которой наша поэзия до сих пор не умеет распорядиться. Вот так же и Вагрич заполняет пустые клеточки возможных, но неосуществленных жанров.
Единицей своего творчества Бахчанян сделал книгу. Большая часть их осталась неизданной, но те, что все-таки появились на свет, удивят любого библиофила. Например, выпущенная Синявскими в 86-м году трилогия «Ни дня без строчки», «Синьяк под глазом» и «Стихи разных лет». Последняя книга - моя любимая. В ней собраны самые известные стихотворения русской поэзии - от крыловской басни до Маяковского. Все это издано под фамилией Бахчанян. Смысл концептуальной акции в том, чтобы читатель составил в своем воображении автора, который смог - в одиночку! - сочинить всю русскую поэзию.
Другая книга Вагрича - «Совершенно секретно» - вышла в очень твердом переплете, снабженном к тому же амбарным замком. Это издание Бахчанян подарил мне на день рождения. Познакомиться с содержанием я смог только через год, когда получил в подарок ключ от замка.
Многие поставленные задолго до Сорокина литературные опыты Бахчаняна можно назвать семиотической абстракцией. Разорвав привычные узы, отняв устойчивое сочетание у его контекста, Бахчанян распоряжается добычей с произволом завоевателя.
Разработка этого приема привела к «Трофейной выставке достижений народного хозяйства СССР», которую мы когда-то устроили на развороте «Нового американца». На ней экспонировались бахчаняновские лозунги, каждый из которых просится в заглавие статьи. Фельетонист мог бы взять «Бей баклуши - спасай Россию», эстет - «Вся власть - сонетам», постмодернист - «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи».
В основе бахчаняновского юмора лежат каламбуры, которыми Вагрич больше всего известен или - неизвестен, ибо они мгновенно растворяются в фольклорной стихии, теряя по пути автора, как это произошло с эпохальным «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».
Каламбуры принято относить к низшему разряду юмора: две несвязанные мысли соединяются узлом случайного созвучия. Примерно то же можно сказать о стихах. Если поэзия, заметил однажды Бродский, одинаково близка троглодиту и профессору, то в этом виновата ее акустическая природа. Каламбур как рифма говорит больше, чем намеревался - или надеялся - автор. В хорошем каламбуре так мало от нашего умысла, что следовало бы признать его высказыванием самого языка. Каламбур - счастливый брак случайности с необходимостью. В хаосе бездумного совпадения деформация обнаруживает незаметный невооруженному глазу порядок.
Искажая действительность, мы часто не удаляемся, а углубляемся в нее. Об этом напоминают изобразительные каламбуры Бахчаняна - его бесчисленные коллажи. Лучшие из них производят впечатление короткого замыкания, которое гасит свет чистого разума. В наступившей темноте на задворках здравого смысла появляются иррациональные тени, ведущие свою, всегда смешную, но иногда и зловещую игру.
Так, к Олимпийским играм 84-го года Вагрич изготовил плакат: прыгун с трамплина, а снизу - целящийся в него, как в утку, охотник. Прошло немало лет, пока не выяснилось, что забавный каламбур предсказывал будущее. Напомню, что в том году Олимпиада проходила в Сараево.
Половину своих 70 лет Бахчанян прожил в Нью-Йорке. Но эмиграция изменила Бахчаняна меньше всех моих знакомых. Даже в нью-йоркском пейзаже Бахчанян умудряется выделяться. Особенно когда он на веревочку с крючком ловит карасей в пруду Централ-парка.
Александр Генис
23.05.2008
Реванш пенсионеров
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышел на российский экран рекордным тиражом
Спилберг пришел в Голливуд, чтобы стать пророком подростков. К этому сводилась его миссия, эстетика, удача. Впустив сказку в стандартный пригород, он сделал ребячий мир интересным, а взрослый - несуществующим. В своих ранних - эскапических - лентах Спилберг выстроил комфортабельное бомбоубежище от реальности.
В лучшем из них крутят «Индиану Джонса». Три серии Спилберг не давал ему вырасти. В последней он придумал ловкий трюк. Чтобы резко омолодить главного героя, в картину впустили второстепенного - его отца. С помощью Джонса-старшего в исполнении Шона Коннери «Последний крестовый поход» триумфально завершил трилогию, сделавшую Индиану самым успешным персонажем в истории авантюрного жанра, а Спилберга - его классиком.
Двадцать лет спустя, чтобы вернуть Индиану на экран, режиссер демонстративно развернул ситуацию. Поскольку 64-летний Гаррисон Форд не может больше притворяться профессором и бойскаутом, Спилберг еще больше состарил своего героя, дав ему взрослого сына. Обалдуй на мотоцикле с коком Элвиса Пресли, он не столько помощник, сколько идеальный зритель, на глазах которого старый отец показывает прежние силы и ловкость, обходясь, кстати сказать, без дублера.
В этом - соблазн картины для самых верных зрителей Спилберга для тех, кто помнит все его премьеры. Поседев вместе ним, они хотят верить, что детство не кончается с пенсией: еще можно купить джип, сбежать в Мексику, начать новый роман, хотя бы перечитать старый.
Идя нам навстречу, «Королевство хрустального черепа» не предлагает зрителю никаких открытий. И правильно делает. Новаторство, как показывает пример Шерлока Холмса и Джеймса Бонда, - опасное излишество для удачной формулы. Мы любим сказки за то, что они повторяются, в отличие от жизни, которая всегда норовит измениться.
Понимая лучше других законы им же созданного жанра, Спилберг заполняет фильм безукоризненными погонями, положенными кошмарами и суетливыми чудесами, но - не совсем. Между фабулой и сюжетом находится отдушина для иронии, которая помогает взрослым оправдать свое присутствие в зале.
В сущности, это - зашифрованный на полях боевика второй фильм. Незаметно, отводя глаза и говоря в сторону, он рассказывает другую, но тоже знакомую историю. Она разворачивается в 1957 году, в центре непорочной Америки, сооруженной из диснеевского сахарина. Но тут же - Мак-Карти, спецслужбы, холодная война и атомная бомба. В прологе Индиана попадает на полигон - уютный городок, населенный куклами. Они поливают газоны, читают газеты, смотрят телевизор и живут не хуже настоящих американцев, только недолго. 10 секунд спустя все это пластмассовое благополучие разносит испытательный взрыв атомной бомбы. Пережив и его, Индиана молча смотрит на ядерный гриб, который приобретает отчетливые очертания человеческого мозга, оставшегося без узды, то есть без черепа, даже хрустального.
Это, пожалуй, всерьез. Все остальное в фильме понарошку, включая русских. Критики считают, что путинская Россия дала основания Голливуду вернуться к знакомому «образу врага». Но он, по-моему, чересчур знакомый, чтобы казаться и впрямь угрожающим. Спилберг не вернулся к штампам, а высмеял их, намеренно добавив к обычным несуразностям новый урожай клюквы. Войска свирепого КГБ даже в джунглях танцуют у костра вприсядку. На дверях военного грузовика выведено «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», на мешке с продуктами - «Гречневая каша». По-русски все говорят без акцента, но безграмотно. Одного солдата зовут Иванов, другого - Онегин. Он и, правда, оказался лишним человеком, как, впрочем, и остальные русские. Выполнив роль декоративных злодеев, они тактично исчезли из фильма, чтобы не мешать ему завершиться счастливым, особенно учитывая возраст молодых, концом: свадьбой.
Индиана Джонс, наконец, остепенился. Но как уже дал понять Спилберг, только до следующей серии.
Александр Генис
26.05.2008
Дзен футбола
Этот текст из новой книги Александра Гениса («Дзен футбола и другие истории») впервые был опубликован в «Новой газете» почти пять лет назад. Радуемся новым поводам - прибавьте чемпионат Европы - и перепечатываем. Кстати, «Золотого жука» Эдгара По тоже печатали два раза подряд в одной и той же газете.
Новому Свету труднее открыть Старый, чем Колумбу - Америку. Во всяком случае, футбол так и остался старосветской причудой, вызывающей у американцев подозрение в исторической неполноценности. Чтобы полюбить футбол, американцы должны стать, как все, чего они всегда боялись. Возможно, тут еще виновата географическая карта, на которой болельщики не умеют найти соперников: рядовой американец знает только те страны, с которыми воюет.
Между тем в мире, где банки, Интернет и террористы успешно отменяют государственные границы, один футбол укрепляет тающую державную идентичность. Легче всего страны и народы отличить на поле - по трусам и майкам. Иногда, впрочем, не только цвет, но и суть национальной души проявляется в геометрии игры. Трудно спутать дисциплинированный марш немцев от ворот к воротам с вихревым перемещением бразильцев, не отдающих мяча ни своим, ни чужим. Наглядные различия подчеркивают геральдическую природу футбола. Однако государственный фетишизм, связывающий коллективное благополучие с забитым голом, чужд американцам. В их одиноком безнациональном раю футболисты, как пришельцы или ангелы, гоняют мяч в основном для своего, а не нашего удовольствия.
Я не оправдываю Америку, я ее жалею. Смотреть футбол не менее интересно, чем играть в него.
Как все великое, футбол слишком прост, чтобы его можно было объяснить. Единственное необходимое условие состоит в запрете на самый естественный для всех, кроме Венеры Милосской, порыв - коснуться мяча рукой. До тех пор пока мы добровольно взваливаем на себя эти необъяснимые, как рифма, вериги, футбол останется собой, даже если в одной команде игроков вдвое больше, чем во второй, а вратаря нет вовсе.
Вопиющая простота правил говорит о непреодолимом совершенстве этой игры. Как в сексе или шахматах, тут ничего нельзя изобрести или улучшить. Нам не исчерпать того, что уже есть, ибо футбол признает только полное самозабвение. Он напрочь исключает тебя из жизни, за что ты ему и благодарен. Наслаждение приходит лишь тогда, когда мы следим за мячом, словно кот за птичкой. От этого зрелища каменеют мышцы. Ведь футбол неостановим, как время. Он не позволяет отвлекаться. Ситуация тут максимально приближена к боевой - долгое ожидание, чреватое взрывом.
То, что происходит посередине поля, напоминает окопную войну. Бесконечный труд, тренерское глубокомыслие и унылое упорство не гарантируют решающих преимуществ. Сложные конфигурации, составленные из игроков и пасов, эфемерней морозных узоров на стекле - их также легко стереть. И все же мы неотрывно следим за тактической прорисовкой, зная, что настойчивость - необходимое, хоть и недостаточное, условие победы.
Иногда, впрочем, ты погружаешься в игру так глубоко, что начинаешь предчувствовать ее исход. Под истерической пристальностью взгляда реальность сгущается до тех пределов, за которыми будущее пускает ростки в настоящее. Ощущая их шевеление, ты шепчешь «гол», надеясь стать пророком. Но, как и с ними, такое случается редко и всегда невпопад. Футбол непредсказуем и тем прекрасен.
В век, когда изобилие синтетических эмоций только усиливает сенсорный голод, мы благодарны футболу за предынфарктную интенсивность его неожиданностей. Секрет их в том, что между игрой и голом нет прямой причинно-следственной зависимости. Каузальная связь тут прячется так глубоко, что ее, как в любви, нельзя ни разглядеть, ни понять, ни вычислить. Конечно, гол рождается в гуще событий, но он так же не похож на них, как сперматозоид на человека.
Нелинейность футбола - залог его существования. В отличие от тех достижений, что определяются метрами и секундами, футбол лишен меры и последовательности. Гол может быть продолжением игры, но может и перечеркнуть все, ею созданное. Несправедливый, как жизнь, футбол и логичен не больше, чем она. Проигрывают те, кто знает, как играть. Выигрывают те, кто об этом забыл. Футбол ведь не позволяет задумываться - головой здесь не играют, а бьют, желательно - по воротам. Футбол - игра инстинктов. Только те, кто умеет доверять им больше, чем себе, загоняют мяч в сетку. Там, где цена поражения слишком велика, мы не можем полагаться на такое сравнительно новое изобретение, как разум. Тело древнее ума, а значит, и мудрее его.
Великий форвард, на которого молится вся команда, воплощает свободный дух футбола. Как пассат, он носится по полю, послушный только постоянству направления. Его цель - оказаться в нужном месте в нужное время, чтобы не пропустить свидание с судьбой. Гол кажется материализацией этого непрерывного движения, продолжением его. Но встреча двух тел в неповторимой точке - все равно дело случая. И мы рукоплещем тому, кто способен его расположить к себе - не расчетом, а смирением, вечной готовностью с ним считаться, его ждать, им стать.
Александр Генис
20.06.2008
День шпиона
К 100-летию Яна Флеминга
C Джеймсом Бондом мы появились на свет в одном и том же 1953 году. Он, правда, родился, как Афина Паллада, - взрослым и хорошо вооруженным. В первой книге Яна Флеминга «Казино «Рояль» Бонду 36 лет. Возраст делает его ровесником Октябрьской революции, но сохранился он куда лучше. Даже «холодную войну» Бонд пережил без особого ущерба, чего не скажешь о других ее участниках вроде Фиделя Кастро. В новой исторической обстановке Бонд добился того, чего не могут многие другие. Он сохранил свое место, свою аудиторию и, что немаловажно, свои замашки.
Рассказы о Бонде всегда были бедекером для завистников. Обладая прекрасным вкусом, он находил себе дело в самых живописных уголках планеты. Следуя за ним, мы наслаждались той же панорамой, что открывается богатым и знаменитым, когда у них есть время оглядеться. Бонд привык убивать врагов там, где его более миролюбивые зрители мечтают провести отпуск.
Но главное в приключениях Бонда - он сам. Укорененный в давнюю, идущую от рыцарского романа, авантюрную традицию, этот герой привык свысока смотреть на неофитов, выделяясь на любом фоне статью и достоинством знающего себе цену аристократа. Прирожденное высокомерие и сословная ирония не позволяли ему смешиваться с персонажами более простодушных боевиков. Даже в XXI веке Бонд не порвал с позапрошлым столетием. В мире победившей демократии он остался последним рыцарем и джентльменом - из тех, что дерутся, не снимая смокинга.
Полагаясь только на себя, Джеймс Бонд всегда был сам по себе. Этот артистический индивидуализм, который напоминает нам о Шерлоке Холмсе, позволяет Бонду устоять в борьбе с самым опасным соперником - с озверевшим прогрессом. Несмотря на его происки, Джеймс Бонд так и не стал одушевленным приспособлением для испытания шпионской техники, хотя она изрядно мешает проявить ему свою личную доблесть. Это раньше, в начале карьеры Бонда, техника была фокусом, кунштюком, эксцентрическим сорняком прогресса. Арсенал Бонда, которым его снабжал ворчливый Кью, маскировал свою зловещую функцию невинным обликом - вроде смертоубийственной авторучки. Теперь стало хуже. Умное оружие нашей продвинутой эпохи упраздняет героя, вытесняя его на задворки и сюжета, и мироздания. Только полувековой запас обаяния помог Бонду выстоять в этом соревновании. Он и в XXI веке сумел сохранить уникальный облик. Свидетельство тому - феноменальное долгожительство.
Как говорил Борхес, только великий литературный персонаж (например, Дон Кихот) способен выйти за пределы породившей его книги, чтобы принять участие в приключениях, о которых и не думал его автор.
Именно это и произошло с Джеймсом Бондом: Ян Флеминг умер, зато живет его герой.
Александр Генис
20.06.2008
Из варяг в греки
Мировая история с Генисом
Чтобы познакомиться с богами, я вышел до зари. Сладкий утренний сон был моей жертвой давно не кормленным олимпийцам. Они отнеслись к ней благосклонно, судя по встреченному орлу, вставшему раньше меня. Конечно, по вызубренным в музеях правилам в орлиных когтях должна была биться змея, но они на Крите не водятся. Вглядываясь в уже проступивший сквозь бледную тьму Псилоритис, откуда видны четыре моря, омывающие остров, я пытался вступить в общение с тем, кто там жил еще тогда, когда священная вершина называлась по-древнему - Идой. Зевс, однако, молчал.
«Так даже лучше», - утешал я себя, ибо обычно он говорит громом и молнией, а я направлялся к пляжу. К тому же в древности люди встречали богов переодетых, преображенных, либо, как того же Зевса, озверевших. Но если это так, то откуда мне знать, что я уже не встречался с кем-нибудь из их компании, когда столкнулся с загадочным пастухом в очках или огибал его овец, включая сердитую мамашу, отталкивавшую ягненка от вымени?
Если рассматривать вещи с этой единственно верной, во всяком случае на Крите, точки зрения, то положение дел на острове для варяга представлялось подозрительным, для грека - благочестивым, для атеиста - сокрушительным и для агностика - в самый раз.
На пляже я оказался как раз тогда, когда первый солнечный луч проник в прибрежный грот, откуда со смущенным видом выскочили две собаки: черный кобель и белая сука с красными, будто от слез, глазами. Не знаю, что у них произошло, но, видимо, ничего непоправимого, ибо они вместе умчались по берегу и быстро растаяли в разгорающейся синеве.
Римлян нельзя понять, не зная их истории, - грекам хватает географии. Особенно на Крите, где все началось: боги, мы, Европа. Туристам здесь охотно показывают пещеру (даже две), где родился Зевс. Повзрослев, он завез на остров еще наивную Европу и овладел ею на пляже неподалеку от нашего отеля под развесистым платаном, который в награду за укрывшую любовников тень никогда не сбрасывает листвы.
Чтобы познакомиться с остальной мифологией, надо обойти остров, а это непросто, ибо путь идет всегда по скалам и часто над морем. Ветер выедает в породе острые кружева: ступить еще можно, сесть - ни за что. Тем более что кругом длинные колючки: упадешь - достанут до сердца. Даже нежные цветы с отчаянием впиваются в камень. Легко нарвать только маки: у них вся сила ушла в цвет.
Вокруг тебя слишком много красивых гор. Их нельзя ни запомнить, ни забыть, но главное - нельзя остановиться. Каждая скала открывает зрению ровно столько, чтобы хотелось заглянуть за ее изгиб. И ты доверчиво позволяешь пейзажу все дальше заводить тебя в безлюдную, но населенную глушь. Кроме непременных на острове Зевса орлов фауну представляли умные козы с надменным видом и вертикальными зрачками. Составив вместе копыта, они, изящные, как балерины на пуантах, умещаются на камне размером с тарелку. Диких козлов местные зовут кри-кри и высекают из камня на сельских площадях, у колодца или таверны. Тут еще помнят сатиров.
Первые христиане верили в богов не меньше язычников, но, открыв новую веру, они посчитали олимпийцев опасными демонами. Когда конкуренция утратила остроту, старым богам, взамен отобранного неба, оставили землю. На Крите язычество так плавно перетекло в христианство, что мертвым по-прежнему вкладывают в руки апельсин для Харона - вместо вышедшего из обращения обола.
Одна религия без скандала наследует другой, мирно деля священное пространство вроде того, что я нашел, забравшись в пещеру, где брал начало ключ с самой сладкой, как говорят, на острове водой. У такого славного родника не могло не быть бессмертной хозяйки. Помня о ней, критяне поставили в пещере свечу, икону и алюминиевую кружку для туриста или паломника.
Я тоже внес лепту в островную мифологию, укрепив на вершине утеса найденные в пещере рога, и спустился к воде, решив, что такой колючий остров проще оплыть, чем обойти.
Вооружившись маской и трубкой, я медленно вошел в соленое море. Оно, верили греки, лучше всякой другой воды очищало от скверны, поэтому самой чистой вещью в эллинском обиходе считался корабельный руль, никогда не покидавший моря.
Привыкнув к нетеплой воде, я медленно плыл вдоль каменной стены, рассматривая сине-желтых рыб. Они были заметно больше тех, что давали на обед в тавернах. Одна даже показала мне язык - белый и раздвоенный, но я продолжил путь к приветливой отмели.
Едва разомкнувшиеся скалы берегли пляж, на который нельзя было попасть без плавников и крыльев. Как и следовало ожидать, на песке стояла высокая нимфа с ракеткой. На ней не было ничего, кроме солнечных очков, но и их она сняла, когда я неуклюже вылез на песок. Не заинтересовавшись увиденным, она продолжила игру со смертным - видимо, с немцем, которые чаще других посещают остров в это еще нежаркое время года. Варяги всегда поклонялись Солнцу, и, как меня, их не отпугивает по-весеннему холодное море.
Весна с ее утопическими атрибутами: цветущим лавром, олеандром и невыгоревшей травой - благоприятная пора для классического пейзажа. От романтического его отличает ощущение первобытной свежести. Это - всегда пастораль, хотя бы потому, что этот мир еще не успели толком застроить.
Романтические руины вторичны и заносчивы. Упиваясь историей, они утрируют и фальсифицируют ее, выдавая за развалины то, что никогда не было целым. Греческие руины оставляют впечатление прерванной, брошенной на полуслове истории, которую мы, признавая своею, не можем понять, как дальних, уже безыменных предков.
Компенсируя сомнения, мы приспосабливаем эллинское прошлое к своему настоящему с современным размахом. Для этого надо закрыть глаза на пешеходную дистанцию греческой цивилизации. Крит с его кривыми дорогами, глухими селами и скромными - на одного! - храмами позволяет вернуться к исходному масштабу.
Эллада цвела ввиду деревни, среди коз, пастухов и мелких соседей. Поэтому все боги тут были местными. Завоеванным ставили статуи во втором ряду. Важным поклонялись стоя, подземным - топая ногой. Когда богов не хватало, их не возбранялось плодить - для частного пользования, по индивидуальному заказу, с персональным обрядом.
Мы, впрочем, поступаем так же, когда малодушно следуем самодельным ритуалам, якобы спасающим от безразличного к нам мира. Другое дело, что своих богов признать труднее, чем общих. Для этого нужна история - и подходящий, похожий на Европу, ландшафт: максимум разнообразия на минимуме пространства.
На Крите каждую скалу, ручей и оливу отличает столь яркая индивидуальность, что невольно вспоминаешь о демократии, наделяющей личностью и правом голоса, хотя бы внутреннего.
«Здешние крестьяне, - пишет автор «Грека Зорбы» Казандзакис, - считают людьми и животных, и растения. Первые потеряли речь, вторые - память».
Каков пейзаж, таковы и боги. В монотонной пустыне они сливаются в одного, невообразимого. Но в горном краю - все разные, а значит - не всемогущие: специализация выдает слабость.
Теология неполноценных богов только нам кажется странной. Тунгусы, например, не без презрения поклонялись богу-неудачнику, сотворившему до смешного плохой мир, самой идиотской шуткой которого была зима. Если не мудрость, то удобство такой религии очевидно. Чем меньше власть богов, тем легче в них поверить, то есть справиться с теодицеей: с ущербного бога и взять нечего.
Олимпийцы могли делать, что хотели, но только на отведенной им территории, которая была куда меньше, чем казалось, потому что они не могли отменить судьбу - ни свою, ни чужую.
Надо сказать, что их слабость - наше везение. Ведь всемогущество богов сделало бы невозможным эпос. Это как в кино: когда все можно, ничего не интересно. Но греческие боги были умнее Голливуда. Они могли не все. В их ведении был сюжет, но не фабула. Управляя человеческой жизнью, боги, в сущности, отвечали лишь за приключения. Они умели разнообразить и усложнять человеческую жизнь, чертя извилистую, как в «Одиссее», траекторию, неотвратимо ведущую персонажа к смерти. Ее отменить и боги почти никогда не смели. Поэтому в греческих храмах считалось нечестивым то, что отделяло смертных от бессмертных: дряхлые мужи и беременные жены.
Живя в густом богословском тумане, древний грек не отличался от других первобытных людей, но только его мифология стала нашей. Если чужая вера для нас - этнография, то греческая - своя. Назвав любовь Афродитой, а мудрость Афиной, мы не просто разжились дополнительным набором синонимов, но и сроднились с олимпийцами, впустив в себя архаическое сознание их адептов. От греков нам достался кентавр с христианской головой и языческим крупом. Умом мы понимаем, что настоящий Бог, всемогущий, как рок, прогресс или жизнь, может быть только один, но нутром мы чуем, сколько у Него заместителей.
Если политеизм, смиренный судьбой, неодолимой для богов и людей, не бывает тотальным, то монотеизм и подавно. Это позволяет представить историю борьбой за процентную норму фатализма. Она отражает колебания между абсолютной мощью провидения и той высшей силой, что доступна подкупу.
Евреи поделились с нами Богом, греки - богами, и мы только делаем вид, что сделали окончательный выбор. На самом деле война продолжается. Ее ведет отказавшееся от ответственности смирение с пестрым многобожием. Обычно, не в силах сдаться без боя, мы торгуемся с небом, предлагая ему дань в виде кровавых жертв, нравственной аскезы, изящных искусств, даже - физических упражнений.
Олимпийская религия, древнейшая из всех, что живы сегодня, видела в состязании своеобразную взятку, перед которой не могли устоять боги. Как гламурные журналы, они предпочитали иметь дело с лучшими образцами всякой породы.
Пластическое совершенство средиземноморского, взращенного на агоне мира мешает нам примириться с его жестокостью. (Примириться с безудержным насилием мне проще не в кино, как другим, а глядя на нашего красивого кота, готового убить все, что меньше его, лишь потому, что он может это сделать.)
Между тем даже искусство греков требовало страшных жертв, в том числе и на конкурсе песни. Однажды, в финале, победившие сирен музы оторвали им крылья и швырнули проигравших в море, где те обратились в безжизненные острова. На самом большом устроили лепрозорий.
Пока Крит принадлежал туркам, критяне никогда не брили бороды и не смеялись. Дети, перебегая турецкую часть деревни, задерживали дыхание, чтобы не пользоваться воздухом, бывшим в употреблении у мусульман. Турки отвечали островитянам взаимностью и иногда вырывали критянкам груди.
Память о прошлом лучше всего хранят горы - у них свои нравы. Как-то, зайдя в мясную лавку, я заинтересовался вырезкой из порыжевшей от дряхлости газеты. На снимке бравые полицейские в мундирах, напоминающих фильмы Чаплина, держали за волосы отрубленные головы с густыми усами. В греческом тексте я смог разобрать только часто повторяющееся слово «клефтос» - «разбойники». Одобрив мой интерес, мясник с такими же, как на снимке, усами, дал понять, что вырезка имеет отношение к его родственникам.
- «Казаки» или «разбойники»? - уточнил я с помощью жестов.
- И те и другие, - хвастливо объяснил мне на пальцах гордый грек.
На Крите до сих пор ценят тех, кто не доверяет месть властям. Последняя из крупных вендетт началась в 1994-м, унесла полдеревни и до сих пор не кончилась, ибо в непроходимых ущельях Белых гор сидит человек с ружьем, пообещавший сдаться властям лишь тогда, когда доведет дело до конца.
Недобитого кровника мне показали на берегу. Статный красавец с трагическими, обведенными черным, как на фаюмских портретах, глазами, он держит рыбный ресторан и никогда не решается подниматься в горы, где история, раз случившись, не развивается, а длится.
Европа не только кончается фьордами, но и начинается ими. На варяжском севере они врезаются в белесое море. На почти африканском юге - в синее, Ливийское, окаймляющее первый берег континента.
И все-таки Греция - не Европа: она ей - родина. Точнее - мать, глядя на которую мы узнаем родовые черты, но не все, а, как и положено, только одну половину. Предшествуя Европе, как бутон букету, Греция столь стара, что помнит прошлое таким, каким оно было до великого раздела, отлепившего Запад от Востока.
Греция - не об этом, она о другом. Ее тема - жизнь людей и богов, не так уж сильно отличающихся друг от друга.
Александр Генис
28.06.2008
Вещие сны
Алексею Герману - 70
PhotoXPress
Алексей Герман и Юрий Никулин на съемках фильма «Двадцать дней без войны». 19.08.1977
Сложность фильмов Германа возрастала с тем же ускорением, что и книг Джойса: на порядок. Если «Проверка на дорогах» соответствует внятным «Дублинцам», то «Мой друг Иван Лапшин» - трудному «Улиссу», а «Хрусталев, машину!» - не переводимому ни на один человеческий язык роману «Поминки по Финнегану».
В этом не следует искать злорадного авторского умысла. Сама природа изображения у Германа такова, что фильм не может втиснуться в неизбежно суживающую панораму сюжетную линию. Поэтому и говорить о его картинах можно только как о тотальном опыте, погружающем тебя внутрь не художественного, а бытийного пространства. Так возникает непреодолимый эстетический парадокс: чтобы пересказать пережитое, мы вынуждены выстроить эпизоды в линейную зависимость, перевести невербальные ощущения в буквы, сделать иррациональное рациональным, частное - общим, несказанное - сказанным, объемное - плоским.
Разрешая этот парадокс, бросаешься к привычному инструменту. Индустрия ассоциаций не объясняет феномена, но позволяет его назвать. Для меня Герман - в одной компании с Феллини и Беккетом.
Как у Феллини, единицей германовского кино служит человек. Зрителя обступает плотная толпа. Каждый из входящих в нее требует признать свое право на существование вне зависимости от той роли, которую они играют в сюжете. Собственно, ее, роли, и нет. Это - чистое присутствие, смысл которого так же неуловим, как встреча со случайным прохожим.
Однако там, где причудливый парад Феллини сливается в карнавальное шествие «Амаркорда», у Германа - макабрическая пляска смерти. Не потому, что сталинская эпоха страшнее муссолиниевской (что, конечно, бесспорно), а потому, что Герман отказывается внести в свой финал ту проясняющую и осветляющую надежду на понимание, которой всегда завершал картину Феллини. Пусть не здесь и не сейчас, пусть не для нас и не для них, но где-то, когда-то и для кого-то в католическом хаосе Феллини обнаружится порядок. Герман, как и воспитанный на представлении об угрюмом протестантском аде Беккет, никогда ничего не обещал. Он просто освобождал хаос от узды любви, надежды и веры. Мир несправедлив, жизнь состоит из страха и кончается смертью. Все мы, даже Сталин, «больные раком, сидящие в приемной дантиста» (Беккет).
Попав в удобную колею аналогий, мы, однако, не приближаемся к кино Германа, а объезжаем его по кривой, лишь очерчивая границы, внутри которых мрачно темнеет неопознанное тело каждой картины.
Часто она и правда напоминает скорее тело, чем душу. Кино Германа не интеллектуально, а органично. Взгляд, мысль и слово здесь не обладают привычным приоритетом над другими функциями организма. «Хрусталев», например, предельно физиологичен, отталкивающе телесен, беспощаден и небрезглив. Здесь икают, кашляют, мочатся, рыгают и плюют. В этой трагедии слюны больше, чем слез. Плевок, впрочем, тоже крик души, который мы не слышим, а видим и ощущаем. Плевок не переспоришь.
Герман исследует не психологию, а онтологию советского бытия. Главное ее свойство - теснота. Нам некуда отвести взгляд. Повсюду он натыкается на преграды: заваленные рухлядью углы, стены, двери, заборы, ворота. Даже машины едут не по дороге, а на вас - в упор, не отойти.
Попавшая в кадр Германа жизнь тотальна. Она не расчленена на главное и второстепенное. Здесь не осталось места для фона - все на переднем плане, уничтожающем перспективу и запрещающем выход. Запертое в мучительно скудном клаустрофобическом пространстве месиво тел пульсирует одной коммунальной массой. Этике тут не развернуться - слишком тесно. Враги и друзья народа не перемешались, а срослись. Так, что уже и Богу не отделить одних от других.
Изгнанные с чистых просторов морального суждения, фильмы Германа не ставят нравственных проблем. Они их решают. Правду, в которой мы надеемся услышать обнадеживающее слово «прав», тут заменяет истина, в которой слышится только одно: «есть она», то есть - «была», так было.
Но это - не история. Герман занимается не сталинским временем, а временем вообще. Это - испытание памяти, способной остановить мгновение. Не затем, чтобы вынести уроки из прошлого, а для того, чтобы его спасти. Попав в капкан искусства, прошлое меняет свою суть. Фильмы Германа параноидально, сверхъестественно точны. Это - точность не воспоминания, а сновидения, в котором мы не рассуждаем о прошедшем, а живем в нем. Поэтому каждая деталь: новогодние огоньки снежной Москвы, вырванная реплика «ЗиМ» должен быть черным», стираные чулки, липкий черенок лопаты - все эти бесчисленные, избыточные, не поддающиеся учету и восприятию детали обладают той интенсивностью предзнаменования, что и делает сон вещим.
Раз подчинившись месмерическому ритму, мы уже не можем проснуться. Фильм погружает в транс, из которого нам так же трудно вырваться, как и его героям. Застигнутые чужим сном, втянутые в чужой кошмар, мы не только делим его до конца, но и выносим из зала. Как всякое большое искусство, кино Германа - мучительно и неизбежно: нам пришлось научиться с ним жить.


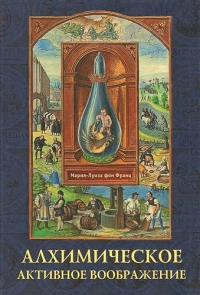
Комментарии к книге «Эссе 2003-2008», Александр Александрович Генис
Всего 0 комментариев