Лев Шильников 1000 сногсшибательных фактов из истории вещей
© Шильников Л. В., текст, 2016
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016
* * *
Предисловие
Все меньше тех вещей, среди которых Я в детстве жил, на свете остается. Где «лампы-молнии»? Где черный порох? Где черная вода со дна колодца? Арсений ТарковскийВсе вещи – хомут да клещи.
ПословицаОглянитесь окрест, как писал Александр Николаевич Радищев, и вы сразу увидите кучу обыкновенных вещей, которые окружают вас каждый божий день – с раннего утра и до позднего вечера. Зеркало трудолюбиво отражает поутру вашу помятую и заспанную физиономию, санитарный фаянс в туалете и ванной комнате сверкает ослепительной белизной, а скромный будильник, неприметно притулившийся у изголовья, мирно стрекочет, всегда готовый взорваться переливчатой бодрой трелью. Между тем все эти предметы – такие привычные и до боли знакомые – еще не вышли из щенячьего возраста. И зеркало, поблескивающее над раковиной, и часы, методично отсчитывающие секунды, и оконные стекла, бережно впускающие солнечные лучи, и мыло, поминутно ускользающее из рук, – все эти вещи поразительно молоды. Даже обыкновенная вилка родилась буквально вчера – не более пятисот лет назад, – а за столом рядового гражданина обосновалась и того позже. В те полузабытые времена даже на королевских приемах ели руками, не стесняясь запускать пятерню в общее блюдо, а персональную тарелку и столовый нож выдавали только самым уважаемым гостям.
Туалетная комната – или ретирадное место, как говаривали в старину, – даже в королевских покоях смердела немилосердно, но это совершенно не смущало благородную публику. Просвещенный французский монарх Людовик XV (1715–1774) только в последний год своего царствования высочайше повелел, чтобы нечистоты из коридоров Версальского дворца вывозились еженедельно. Так что хулиганистый Вадим Сергеевич Шефнер писал чистую правду (хотя думал, что сочиняет пародию), воспев устами своего героя санитарный фаянс:
О фаянс, белизной ослепляющий взор, На тебя я с волненьем гляжу! За тебя я с улыбкой взойду на костер, О тебе свои песни сложу! Пусть другие впадают в лирический транс, Воспевая сверкание льдин, — Я же знаю одно: санитарный фаянс Человечеству необходим!И нечего хихикать в кулак: побегайте-ка на двор в холодное отхожее место, когда столбик термометра запросто опускается до тридцати, а то и до сорока градусов ниже нуля по Цельсию.
Поборники седой старины, ругательски ругая якобы искалечившую нас цивилизацию, любят за рюмкой водки ностальгически повздыхать о патриархальных нравах, когда никто никуда особенно не спешил, жизнь текла размеренно и неторопливо, а состоятельные российские граждане с необязательным выражением лица ездили в комфортабельных рессорных колясках на резиновом мягком ходу. Пасторальная жизнь! Лошадь екает селезенкой, роняя пахучие конские яблоки, а за окном медленно плывут колосистые хлеба и тучные нивы. При этом как-то упускается из виду, что где-нибудь в туманном Альбионе чумазый мастеровой вкалывает от темна до темна, чтобы российский барин мог прокатиться с ветерком. Давайте вспомним Булгакова. «Зачем? – продолжал Воланд убедительно и мягко. – О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своею подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет».
Мудрый и жестокий князь тьмы, легко разобравшийся в квартирном вопросе, сгубившем не одного московского обывателя, купил мастера, что называется, с потрохами. Покой, дарованный Воландом, – это дешевая олеография, форменный кунштюк, примитивная литература в цветастых обложках, фрачная пара, напрюнденная на осьминога. Господи, боже мой! Яблони в цвету и домик под вишнями… Марать плохую бумагу под треск восковой свечи – сомнительное удовольствие. А кто будет обихаживать вишневый сад? Не иначе как старый слуга, ибо верная подруга мастера, несмотря на всю свою самоотверженность, на такие подвиги решительно не способна.
Реальный быт гусиных перьев и восковых свечей был весьма далек от расхожей романтики. Гусиное перо отчаянно царапало бумагу и щедро плевалось кляксами, приличное зеркало стоило безумно дорого, часы ошибались на 10–15 минут в сутки, а вдребезги разбитые дороги (особенно российские) никуда не годились, и хваленые английские коляски теряли рессоры и ломали оси через полтораста верст пути. Сегодня просто трудно себе представить всю степень мучений, связанных с дорогой. Конечно, на экране все выглядит замечательно: тулуп, ямщик, медвежья полость, скрип полозьев и морозный ветер, бьющий в лицо. Действительность была куда прозаичнее. Антон Павлович Чехов добирался от Москвы до Сахалина без малого три месяца, причем изрядную часть пути он проделал по железной дороге и на пароходах по воде. Готовясь к дальней поездке, он в полной мере сознавал опасность предприятия и писал о своих переживаниях А. С. Суворину: «У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну…» А ведь это 1890 год! Антон Павлович очень живо описал сибирский тракт, эту бесконечную и, наверно, самую безобразную дорогу на свете. Ухабы, грязь, мошкара, тележные колеса, наполовину ушедшие в глубокие колеи, тощие лошаденки, дрожащие от напряжения и вытягивающие шеи… Не угодно ли послушать?
«Чем ближе к Козульке, тем страшнее предвестники. Недалеко от станции Чернореченской, вечером, возок с моими спутниками вдруг опрокидывается, и поручики и доктор, а с ними и их чемоданы, узлы, шашки и ящик со скрипкой летят в грязь. Ночью наступает моя очередь. У самой станции Чернореченской ямщик вдруг объявляет мне, что у моей повозки согнулся курок (железный болт, соединяющий передок с осевою частью; когда он гнется или ломается, то повозка ложится грудью на землю). На станции начинается починка. Человек пять ямщиков, от которых пахнет чесноком и луком так, что делается душно и тошно, опрокидывают грязную повозку набок и начинают выбивать из нее молотом согнувшийся курок. Они говорят мне, что в повозке еще треснула какая-то подушка, опустился подлизок, отскочили три гайки, но я ничего не понимаю, да и не хочется понимать… Темно, холодно, скучно, спать хочется…
В комнате на станции тускло горит лампочка. Пахнет керосином, чесноком и луком. На одном диване лежит поручик в папахе и спит, на другом сидит какой-то бородатый человек и лениво натягивает сапоги; он только что получил приказ ехать куда-то починять телеграф, а ему хочется спать, а не ехать. Поручик с аксельбантом и доктор сидят за столом, положили отяжелевшие головы на руки и дремлют. Слышно, как храпит папаха и как на дворе стучат молотом».
А в пушкинские времена даже убогие сорок верст считались дальней поездкой. Что такое сорок километров сегодня? Полчаса на машине или 40 минут на автобусе, если дорога плохая. А раньше, проехав сорок верст, по крайней мере на неделю оседали в гостях. Знаменитое путешествие Онегина продолжалось целых три с половиной года, но какова география его маршрута? Почему он так долго катался и где успел побывать? Из Москвы Онегин едет сначала в Нижний, а потом в Астрахань и на Кавказ. Затем Таврида, Одесса и, быть может, еще несколько городов Центральной России. В конце концов он возвращается в Петербург, где встречается с Татьяной Лариной, уже замужней дамой. Если бы нашему современнику вздумалось проехаться с ветерком по онегинским местам (пускай даже с двух– или трехнедельными остановками), это не отняло бы у него слишком много времени.
Однако не следует впадать и в другую крайность – рисовать прошлое исключительно черной краской. Кто спорит, двести или триста лет назад не было ни железных дорог, ни водопровода с канализацией, ни электрического освещения. По вечерам русский крестьянин жег лучину, потому что восковая свеча была ему не по карману. Он ходил в лаптях и хлебал пустые щи, а сапоги берег как зеницу ока и надевал их только по большим церковным праздникам. При этом дружные плотницкие артели могли срубить крепкую избу из шестиметровых бревен восьми вершков в поперечнике (35 см), орудуя лишь топором и пятью-шестью простейшими инструментами. Мастера возводили стройные как тополь белокаменные хоромы, а другие умельцы расписывали их восхитительными фресками. Задолго до того как Иоганн Гутенберг выдумал свои подвижные литеры, люди читали и писали книги. Вещей было меньше, и они не всегда могли похвастать отменным качеством, но ремесленники порой создавали самые настоящие шедевры. Многие ли знают, что первую авторучку изобрели еще древние египтяне? Внутрь полой свинцовой трубочки они вставляли тростинку, заполненную красящим составом. Такую авторучку археологи нашли в гробнице Тутанхамона.
Разумеется, автор даже не помышлял написать исчерпывающий труд по истории материальной культуры. Боже упаси его от такого невежества! Эта непосильная задача едва ли вообще кому-нибудь по плечу. Вниманию читателей предлагается всего лишь собрание пестрых новелл, вытащенных наугад из виртуальной энциклопедии под названием «Вещи народов мира: их рождение, жизнь и смерть».
Кстати, у этой книги есть, по крайней мере, одно бесспорное достоинство: ее можно читать с любого места – насквозь, вразбивку и как попало. Если вы любитель вкусно поесть, открывайте главу «Поросенок с хреном»; если же, напротив, желудок у вас не в порядке, принимайтесь за «Эволюцию выгребной ямы». В добрый путь!
1. Слесарю слесарево, или в мастерской ремесленника
Ладья воздушная и мачта-недотрога, Служа линейкою преемникам Петра, Он учит: красота – не прихоть полубога, А хищный глазомер простого столяра. Осип МандельштамУ Льва Кассиля в «Кондуите и Швамбрании» есть очаровательный эпизод. Отец Кассиля, земский врач в Покровской слободе[1] Саратовской губернии, занимал верх просторного дома, а внизу, в полуподвале, ютился рабочий железнодорожного депо. Если в квартире засорялась уборная или надо было передвинуть мебель, кухарку Аннушку посылали вниз, чтобы кто-нибудь подсобил. «Кто-нибудь» являлся, и свершалось чудо: тяжелый гарнитур дрейфовал к месту новой стоянки, а канализация моментально прокашливалась. «Если же нижним жильцам требовалось прописать брательнику в деревню, они обращались к „их милости“ наверх. И, глядя, как под диктовку строчатся „во первых строках“ поклоны бесчисленным родственникам, умилялись вслух:
– Вот она умственность! А то что наше рукомесло? Чистый мрак без понятия.
А в душе этажи тихонько презирали друг друга.
„Подумаешь, искусство, – говорил уязвленный папа, – раковину в уборной починил… Ты вот мне сделай операцию ушной раковины! Или, скажем, трепанацию черепа“.
А внизу думали:
„Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука – перышком чиркать!“».
Между тем операция ушной раковины, равно как и умение составить простенький текст на бумаге, тоже в первую очередь рукомесло.
В толковом словаре Даля читаем: «Ремесло, <…> рукодельное мастерство, ручной труд, работа и уменье, коим добывают хлеб; самое занятие, коим человек живет, промысел его, требующий более телесного, чем умственного, труда». Правда, насчет удельного веса физического и умственного труда Владимир Иванович немного погорячился, ибо в любом занятии, даже сравнительно несложном, обязательно присутствует и то и другое. Нет такого ремесленника, который не работал бы головой. А с другой стороны, так называемый умственный труд в большинстве случаев сводится к убогому перечню стандартных приемов и не имеет с высоким творчеством ничего общего. Некогда гордое слово «ремесленник» почему-то приобрело в наши дни уничижительный оттенок, хотя первоначально оно обозначало человека, знающего свое дело до тонкостей.
Истоки ремесел теряются в далеком прошлом, когда наш косматый предок сообразил расколоть неподатливый кремень и заострить палку. И хотя в ту ветхозаветную пору ремесло делало первые робкие шаги, мастера каменного века стояли на высоте. Они выделывали острейшие кремневые отщепы миллиметровой толщины и плели водонепроницаемые корзины из ивовых прутьев. Они долбили верткие поворотливые челноки из цельных древесных стволов и шили из ломкой бересты невесомые лодки, бесшумно скользящие по воде.
Дай коры мне, о Береза! Желтой дай коры, Береза, Ты, что высишься в долине Стройным станом над потоком! Я свяжу себе пирогу, Легкий челн себе построю, И в воде он будет плавать, Словно желтый лист осенний, Словно желтая кувшинка!Так поет в бунинском переложении легендарный индейский вождь Гайавата. И это не пустая фантазия русского поэта: индейцы Северной Америки, обитавшие на берегах Великих озер, умели без единого гвоздя и металлических инструментов строить легкие пироги, которые пересекали опасные стремнины, почти не касаясь воды. А чукчи и эскимосы, охотники на морского зверя, населявшие арктические широты, туго натягивали на деревянную раму тюленьи кожи, в результате чего получался пустотелый быстроходный каяк – непромокаемая лодка с круглой дырой для седока, управляемая одним веслом.
Люди каменного века обжигали концы рогатин в огне, придавая им каменную твердость, и вымачивали в растительном масле бамбуковые копья с последующей их закалкой в горячей золе. Осиные жала таких пик были остры как бритва и не уступали стальным наконечникам европейцев. Задолго до века электричества чернокожие африканцы широко применяли своеобразный телефон из тыквенных чаш и крысиных шкурок и освоили железоплавильное дело сыродутным способом, а народы Крайнего Севера резали из моржовой и мамонтовой кости солнцезащитные очки.
Между прочим, каменный инвентарь и технологии доисторических охотников сплошь и рядом недооценивают. Виной тому один из главных человеческих грехов – нелюбознательность. Еще Александр Сергеевич в свое время писал, что русские ленивы и нелюбопытны, однако похоже, что это касается и всех остальных народов. Ведь ученые, как правило, только коллекционируют артефакты, но мало кому приходит в голову испытать орудия древних на практике. А вот один немецкий археолог со товарищи решил проверить, каково было работать каменным инструментом. Эти отважные ребята изготовили кремневые топоры по старинным рецептам и попытались вытесать из древесного ствола лодку. Плотницким ремеслом никто из них не владел, но с каждым ударом их уважение к предкам росло в геометрической прогрессии. Изрядно попотев, они пришли к следующим выводам: 1) срубить лесной бук можно в течение одного часа; 2) при выдалбливании полости нужна немалая сноровка, иначе топор быстро сломается; вдобавок традиционным топором не обойдешься, необходим топор с клинком, насаженным поперек топорища; 3) в умелых руках каменный топор почти не уступает стальному (один из каменных топоров, которым выдалбливали стволы, продержался целых 54 часа).
Давайте оставим каменный век в покое, тем более что в наши цели не входит проследить историю ремесел от Адама и до наших дней. Но раз уж речь зашла о работе по дереву, обратим внимание на сравнительно недавние времена, когда люди плотничали без электрического столярного инструмента.
Даже такое вроде бы простое дело, как рубка леса, требует не только хороших моторных навыков, но и немалой сообразительности. Как вы думаете, читатель, сколько понадобится времени, чтобы свалить толстое дерево при помощи обыкновенного топора? Десять минут? Пятнадцать? Или, может быть, полчаса, а то и полновесный час? В повести «Маленькие дикари» известный канадский писатель-натуралист Эрнест Сетон-Томпсон (1860–1946) рассказывает поучительную историю четырнадцатилетних подростков, живущих на маленькой лесной ферме, затерявшейся в таежной глуши. Дело происходит во второй половине XIX века. Мальчики играют в индейцев, но играют не понарошку, а всерьез: учатся разводить костер без спичек, находить дорогу в лесу и отыскивать воду там, где ее нет. Один из них, по имени Сэм, на редкость ловко управляется с топором, да и вообще большой дока по части разной плотницкой премудрости. Даже взрослые мастера с уважением отмечают его хорошую работу. Приятели Сэма могут часами возиться с каким-нибудь чурбаком, но стоит ему сказать: «Стукни вот здесь», как упрямая деревяшка вмиг расседается надвое. Плотницкие таланты Сэма не дают покоя его друзьям, и тогда заключается пари:
«– Ты сможешь в три минуты повалить дерево шести дюймов[2] толщиной?
– Какое дерево? – спросил Дятел.
– Да любое.
– Держу пари на „гран ку“[3], что я повалю серебристую сосну в две минуты и в любую сторону. А ты выберешь место, куда дереву падать. Вбей колышек, а я стволом вгоню его в землю.
Сэм наточил топор, и все отправились выбирать дерево. Они нашли сосну толщиной в шесть-семь дюймов, и Сэму разрешили вырубить вокруг кусты, чтобы удобней было валить дерево. Каждое дерево в лесу клонится в свою сторону. Эта сосна слегка кренилась к югу. Ветер дул с севера, и Ян решил вбить колышек к югу от ствола.
В раскосых глазах Сэма мелькнул огонек, но Гай, который тоже немного разбирался в рубке деревьев, тут же презрительно фыркнул:
– Ишь какой! Так-то просто! Каждый свалит дерево по ветру. А ты вот где вбей кол! – И Гай воткнул колышек с северо-западной стороны. – Теперь посмотрим.
– Ладно. Увидишь. Дай-ка я только пригляжусь, – сказал Сэм.
Он обошел дерево, посмотрел, в какую сторону оно клонилось, изучил силу ветра, потом закатал рукава, поплевал на ладони и, став к востоку от сосны, сказал:
– Готово!
Ян взглянул на часы и крикнул:
– Начинай!
Сэм дважды сильно ударил по стволу, и с южной стороны появилась глубокая зарубка. Затем он обошел дерево и сделал с северо-западной стороны еще одну зарубку, немного ниже первой. Рубил он не спеша, каждый удар был строго рассчитан. Первые щепки были длиной в десять дюймов, но чем глубже становилась зарубка, тем короче отлетали щепки.
Когда ствол был подрублен на две трети, Ян крикнул:
– Минута!
Сэм опустил топор, хлопнул по стволу и посмотрел на верхушку дерева.
– Торопись, Сэм! Ты теряешь время! – крикнул ему друг.
Сэм молчал. Он следил за ветром. И вот верхушка качнулась. Раздался оглушительный треск. Чтобы испытать устойчивость дерева, Сэм сильно толкнул его и, как только сосна стала крениться, быстро нанес три удара подряд, перерубив оставшуюся часть. Дерево качнулось и под сильным порывом ветра рухнуло, вогнав колышек глубоко в землю.
– Ура! – закричал Ян. – Минута и сорок пять секунд!
Сэм молчал, только глаза его необычно блестели».
Обратите внимание: дерево рубил подросток, пусть очень способный и набивший руку на древосечных делах, но все-таки мальчик 14 лет. А как быстро управился бы с заданием профессиональный плотник?
Разумеется, плотничать умели не только за океаном. Плотницкие артели в дореволюционной России рубили крепкие поместительные избы из шестиметровых бревен около восьми вершков в поперечнике (35 см) и объемом порядка 0,6 кубических метра. Вес такого бревна достигал 400 килограммов. Для нижних венцов сруба иногда брали и десятивершковые бревна. Строительный лес (обычно боровую сосну – прямую и без сучков) заготавливали зимой и укладывали в так называемые костры (некое подобие рыхлого сруба), где он сох и вылеживался до весны. Стволы ошкуривали или с помощью струга или долгого скобеля, представлявшего собой дугообразное лезвие с двумя ручками. А струг – это увесистый рубанок-переросток метровой длины с ручками по бокам, за которые ухватывались сразу четыре плотника.
Существует расхожее мнение, что в былые времена толковый мужик мог срубить избу одним лишь топором. Увы, но это дешевая байка: кроме струга и скобеля артельщики применяли черту и плотницкий циркуль для разметки бревен и досок, а прямизну вертикальных конструкций и деталей проверяли отвесом. Другое дело, что топору отдавалось безусловное предпочтение перед пилой – вплоть до XVI века на Руси тесали доски и валили лес исключительно при его помощи. Говорят, что пиленые торцы бревен начинали гнить и разрушаться гораздо быстрее, чем срубленные топором. При этом не следует думать, что тесаная доска непременно хуже пиленой. Конечно, она не такая гладкая (ее поверхность слегка волниста), но это не минус, а скорее даже плюс. Благодаря неидеальному профилю кровля из тесаных досок улучшает водосток, тогда как гладкая пиленая доска охотно впитывает влагу и быстро начинает гнить.
Далеким от плотницкого ремесла людям топор представляется очень простой штукой – увесистым куском металла, насаженным на деревянное топорище. Между тем существовало несколько разновидностей топоров, и каждый из них служил для выполнения работ вполне определенного типа. Михаил Дмитревский в статье «Топоры и артели» пишет: «Дерево срубали древосечным топором с длиной топорища около метра. Длинное прямое топорище давало возможность с большой скоростью вонзать топор в древесину. Профиль топора – каплевидный, довольно резко расширяющийся. Лезвие заметно выгнуто наружу. Такая форма не позволяет топору застрять в древесине. Носок[4] лезвия не выступает за длину топорища, при ударе используется середина лезвия». А вот для обработки размеченного бревна применялся специальный плотницкий топор с нешироким лезвием слабовыпуклого профиля и дугообразной режущей кромкой. Если же требовалось получить большую плоскую поверхность (например, доски на полы, кровлю или мебель), в ход шел так называемый потес – топор с очень широким лезвием на длинной ручке. Для внутренней обработки стен использовали пару весьма необычных «зеркальных» топоров с хитроумно выгнутой ручкой. Такая конструкция топорища давала возможность тесать под очень острым углом, не боясь травмировать руки. Профиль «зеркального» топора имел сложную форму – выпуклую с одной стороны и плоскую – с другой, поэтому они так и назывались – правый и левый.
Пазы вырубали теслом – поперечным топором с желобообразной режущей кромкой, а если требовался прямоугольный паз, использовали поперечный топор другого типа – с прямой кромкой. Тонкая работа по дереву выполнялась столярным топором. Михаил Дмитревский пишет: «Плотницкая работа существенно отличается от столярной. Плотник в основном работает с сооружениями, а столяр – с деталями сооружений, но это не значит, что в арсенале плотника совсем нет столярного инструмента. Столярный топор существенно меньше топора плотницкого, им часто работают одной рукой. Столярным топором не только рубят, но нередко режут или подстругивают, поэтому его режущая кромка почти прямая, а сам топор тонкий и склонен застревать в древесине при попытках глубоко тесать или что-то перерубить. Столярные работы обычно применялись при изготовлении окон и дверей, а также украшений. Столяр Лука Александрович из повести А. П. Чехова «Каштанка» так обращается к своей собаке: «Супротив человека ты все равно, что плотник супротив столяра…» Впрочем, у плотников на сей счет было противоположное мнение».
Между прочим, толковые плотницкие артели, искушенные в своем ремесле, сплошь и рядом обходились практически без гвоздей. Вместо них использовали деревянные шипы-вставки, отверстия под которые сверлили буравчиками. Все детали подгонялись друг к другу безукоризненно точно, поэтому рубленая изба отчасти напоминала конструктор Лего – без труда собиралась и столь же непринужденно разбиралась при необходимости. Такие конструктивные особенности давали возможность не только рубить избы на месте, но и продавать их на вывоз.
В наши дни считается само собой разумеющимся, что традиционный плотницкий инструмент не идет ни в какое сравнение с электрическим. Между тем это большое заблуждение, ибо производительность труда в обоих случаях разнится не очень сильно. Причина кроется совершенно в другом: если при работе с электрическим инструментом можно обойтись минимальными навыками, то овладеть как следует плотницким ремеслом совсем нелегко. Чтобы научиться виртуозно орудовать топором и стругом, нужны годы и годы тяжелого труда. Эта ситуация отдаленно напоминает многовековое противостояние стрелы и пули. Вопреки распространенному мнению, огнестрельное оружие долгое время не имело абсолютно никаких преимуществ перед луком со стрелами, а нередко даже уступало ему в дальности и точности боя, не говоря уже о скорострельности. Европейские путешественники XVIII–XIX веков единодушно отмечают высокие боевые качества тяжелого лука североамериканских индейцев. Выпущенная из него стрела летела на 450 метров, а с трехсот шагов навылет пробивала человеческое тело. Еще дальше стреляли тугие луки монгольских нукеров, усиленные пластинами из кости и рога, а также мощные турецкие луки с обратной кривизной. На полях опустошительной Столетней войны[5] цвет французского рыцарства в полной мере испытал на себе мощь британского тисового лука. Стрела английского йомена[6] насквозь прошивала тяжелый рыцарский доспех с двухсот шагов.
А вот прицельная дальность неподъемных старинных мушкетов и пищалей или даже куда более надежных кремневых ружей, состоявших на вооружении европейских армий в конце XVIII – начале XIX века, не превышала и ста метров. А сколько было возни с подготовкой к выстрелу! Засыпать в ствол порох и старательно запыжить заряд, а затем с помощью шомпола загнать туда же увесистую круглую пулю, аккуратно обернутую в промасленный пыж. На полку возле запального отверстия осторожно насыпать порох и дважды взвести курок. И только теперь можно от всей души давить на спусковой крючок. Высеченная кремневым замком искра сначала воспламенит «полочный» порох, а от него уже вспыхнет и заряд в стволе. Это предельно сжатое изложение, потому что уставы того времени насчитывают несколько десятков манипуляций. И ведь всей этой бодягой приходилось заниматься не в тишине спортивного зала, а в лихорадочной спешке и суете, когда промедление смерти подобно. Стоит ли напоминать, что, пока мушкетер готовил свое оружие к бою, хороший лучник успевал пустить не менее десятка стрел? А ведь погода шепчет не круглосуточно: стоит только хлынуть проливному дождю, как безнадежно подмоченный порох навсегда похоронит сизифовы труды незадачливого стрелка.
Поэтому отнюдь не случайно лук во французской армии списали в архив только в середине XVI века, а свято блюдущие традиции англичане продолжали его использовать даже сто лет спустя. Между прочим, в битве при Лейпциге (1813 год) лихие башкирские кавалеристы русской армии легко вышибали стрелами из седла многоопытных французских кирасир и драгунов. Можно вспомнить и американский фронтир, растянувшийся на несколько десятков лет, – героическую эпоху, когда, обуреваемые жаждой наживы, белые переселенцы устремились к берегам Тихого океана. И хотя в распоряжении колонистов имелись капсюльные ружья и револьверы с унитарным патроном, им приходилось держать ухо востро, особенно когда неуловимые краснокожие всадники выпархивали словно из-под земли и на полном скаку разили без промаха. Индейские войны бывали порой очень жестокими, и непрошеным гостям случалось нести весьма чувствительные потери, несмотря на бесспорное техническое превосходство колонистов.
Одним словом, лук в умелых руках – это грозное оружие, но, чтобы выучиться из него метко стрелять, желательно освоить это хитрое ремесло с младых ногтей и в дальнейшем упражняться чуть ли не ежедневно. Даже современный спортивный лук, утыканный со всех сторон разнообразными причиндалами, требует недюжинной подготовки. А вот обратная задача решается элементарно и в два счета, поэтому европейцы больше всего на свете остерегались дикаря с винтовкой в руках. И новозеландские маори, и краснокожие охотники на бизонов из американских прерий моментально и поголовно становились чуть ли не чемпионами по пулевой стрельбе, когда им случалось заполучить скорострельные игрушки белого брата. Ларчик открывается на редкость просто: если глазомер сызмальства тренирован примитивными метательными орудиями, то научиться метко стрелять из винтовки большого труда не составит.
Поэтому Михаил Дмитревский тысячу раз прав, когда пишет, что у плотницкого инструмента былых времен присутствует всего лишь один-единственный недостаток – катастрофическое неумение подавляющего большинства граждан им пользоваться. «Изучить правила работы мало, – рассказывает он, – нужна многолетняя практика под руководством опытного мастера, другого пути нет. Но производительность труда умелого мастера при использовании традиционных технологий немногим ниже производительности при использовании электроинструмента. Паз, сделанный стамеской, ничуть не хуже, а может быть, и лучше паза, прорезанного фрезой, к тому же он может быть действительно прямоугольным и весьма глубоким. Буравчик просверлит бревно лишь чуть медленнее электродрели». И чуть далее: «Срок жизни моторных инструментов невелик, во всяком случае, не сравним со временем годности обычного инструмента. Даже если электроинструментом не пользоваться, все равно смазка высохнет, подшипники заржавеют, якорь пропитается влагой и при включении может сгореть. Возможно, по этим причинам в XXI веке армейская техника по-прежнему комплектуется обычными топорами и пилами».
Ну что же, как говорится, в самую дырочку. Вот только финальный пассаж нехорош: армейская техника комплектуется топорами и пилами исключительно потому, что это намного дешевле. Призывник не обучен плотницкому ремеслу, и вороватое армейское начальство ни за какие коврижки не допустит его к электрическому инструменту, который стоит немалых денег.
Если дерево, камень и даже металлы человек научился обрабатывать еще в незапамятные времена, то посуда из фарфора, хрусталя и фаянса, пылящаяся за стеклянной дверцей серванта, появилась совсем недавно. Да и стекло, между прочим, тоже сравнительно молодо. Правда, у фарфора и фаянса был неказистый предшественник весьма почтенного возраста – обыкновенный глиняный горшок. Впрочем, многие примитивные народы, не знавшие гончарного ремесла, легко обходились без глины, заменяя ее древесиной и лыком. Так, индейцы Северной Америки мастерили утварь из бересты, сшивая ее при помощи зуба бобра и сухожилий животных, а чтобы посуда не пропускала воды, ее обрабатывали кипящей смолой или рыбьим клеем. Голь на выдумки хитра. Послушаем немецкого этнографа Юлиуса Липса: «…апачи[7] плетут очень прочные и тонкие корзины, которые обладают почти абсолютной водонепроницаемостью даже без последующей обработки. Для изготовления их женщины апачи собирают ивовые прутья, которые замачиваются в воде для придания им большей гибкости. После этого их расщепляют вдоль, дочиста отскребывают и сплетают в корзину кругообразно на каркасе из твердых жердочек. <…> Небольшие <…> отверстия заплетаются <…> тонкими полосками из кожи серны. Готовое изделие представляет собой большой короб для припасов с широким отверстием. Плетеный кувшин для воды, или тус, емкостью около десяти литров, перед употреблением смазывается снаружи и изнутри разогретой кедровой смолой». Народы Океании плетут большие колпаки, похожие на шатры или палатки, которыми накрывают огонь, если вдруг неожиданно хлынет дождь. А пищу они готовили в деревянных сосудах, опуская в воду раскаленные на огне камни.
Если вас не слишком утомили доисторические рецепты, послушайте, как индейцы шили мокасины. Шкуру лошади или теленка добросовестно скребут, очищая от мяса и жира, а потом растертой смесью из вареной печени и сырых мозгов тщательно промазывают ее изнутри. Затем шкуру скатывают в рулон и двое суток выдерживают в прохладном месте, после чего моют в ручье и сушат. Высушенную шкуру растягивают и разминают с помощью деревянного кола, а потом снова вымачивают. После этого ее коптят над костром, куда набросали гнилушек, чтобы она пропиталась как следует густым дымом и потемнела. И только теперь начинают выкраивать мокасины, которые бывают двух видов – с мягкой подошвой и с твердой (для твердой подошвы берут недубленую кожу). Сшивают их при помощи высушенного жгута беловатых волокон, который заранее извлекается из глубокого надреза вдоль позвоночника теленка или лошади, причем шьют через край, а не насквозь, чтобы жилы не стирались при ходьбе. Детали ищите в «Маленьких дикарях» Сетона-Томпсона.
Где экзотические мокасины, там и русские лапти. На Руси их плели по крайней мере со времен Владимира Святого[8] и вплоть до начала XX века, когда в годы пореволюционного одичания и Гражданской войны была создана особая комиссия ЧЕКВАЛАП (Чрезвычайная комиссия по снабжению армии валяной обувью и лаптями). Лапотное сырье всегда было под рукой: их плели из лыка вяза, липы, ракиты, вереска и даже из бересты. Недооценивать их не стоит – они были удобной, достаточно прочной и легкой обувью. В середине XIX века лапти стоили три копейки, тогда как пара сапог – несколько рублей. Хорошо сплетенные лапти почти не пропускали воды. Известный русский журналист и писатель Владимир Алексеевич Гиляровский, вздумавший чуток побурлачить в молодые годы, первым делом переобулся – по совету новых товарищей сменил сапоги на лапти. «Чуешь? – сказали ему. – Нога-то как в трактире!» Послушаем К. А. Буровика: «Лапти лаптям были рознь. Будничные лапти плели из грубого широкого лыка. Куда наряднее выглядели розовые (или красноватые) лапти из вязового лыка, такими они становились после опускания в горячую воду. В лапотном ряду была своя классификация: в зависимости от числа полос лыка, применявшихся для плетения лаптя, их называли пятериками, шестериками, семериками. Великорусский лапоть был прямого плетения; украинский и белорусский – косого».
Однако мы отвлеклись. Пращур фарфоровой чашки – глиняный горшок – появился давным-давно, в неолите[9], не менее семи-восьми тысяч лет назад, а может быть, и раньше. В наши дни археологи различают и датируют неолитические культуры в зависимости от типа керамики. На первых порах глиняную посуду лепили вручную, но после изобретения гончарного круга в IV–III тысячелетии до новой эры (на Ближнем Востоке и в Египте) технология стремительно шагнула вперед. Сначала гончарный круг вращали рукой, а позже выдумали ножной привод. Однако в любом случае – с кругом или без него, роли не играет – гончарное производство распадается на несколько этапов: 1) приготовление глиняной массы; 2) формовка изделия; 3) его сушка на воздухе или в помещении; 4) покрытие глазурью (при необходимости); 5) обжиг в печи. А чтобы глина при сушке не растрескалась, ее смешивают в заданной пропорции с мелким песком. Вылепленный таким образом горшок несколько часов обжигают в печи, в результате чего он приобретает кирпично-красный цвет. А для чего нужна глазурь? Если от нее отказаться, то горшок хоть и медленно, но все же будет пропускать воду. Глазурь – это стекловидное покрытие, придающее изделию водонепроницаемость. В ее состав входят глиноземно-щелочные силикаты с окислами металлов. А простейшую глазурь можно приготовить так: смешать обыкновенную соль с песком и водой и покрыть этой смесью горшок перед обжигом. Соль сплавится с песком и глиной, закроет поры на керамической поверхности, и горшок перестанет пропускать воду.
Все это весьма познавательно и даже порой любопытно, скажет иной читатель, но только при чем тут фарфор? А дело в том, что в химическом отношении плебейский глиняный горшок не слишком сильно отличается от полупрозрачной фарфоровой чашки. Но если горшки люди научились лепить и обжигать много тысяч лет назад, то фарфор был изобретен только в начале XVIII века бывшим учеником аптекаря Бётгером, придворным алхимиком саксонского курфюрста Августа[10] Сильного. Правда, китайцы, по единодушному мнению историков, овладели этой хитрой наукой еще в VII веке, стремясь найти замену безумно дорогим изделиям из нефрита. Поэтому древнейшие образцы китайского фарфора имели зеленоватый или голубой оттенок, имитируя драгоценную посуду седой старины. Молочно-белый, светящийся изнутри фарфор появился чуть позже. Между прочим, лучшим в мире фарфором до сих пор считается китайский, особенно выделываемый в провинции Цзянси. Когда в годы Второй мировой войны японцы оккупировали Китай, они первым делом озаботились благородной керамикой и постарались вывезти как можно больше изделий.
В Средневековье китайский фарфор ценился в Европе на вес золота, но сыны Поднебесной берегли свои технологические секреты, как цепные псы, так что европейцам волей-неволей пришлось решать проблему самостоятельно. Повторялась дурная история с порохом, книгопечатанием и шелком, ибо китайцы якобы придумали эти вещи еще в незапамятные времена. Правда, относительно небывалой древности книгопечатания и особенно пороха у специалистов имеются вполне обоснованные сомнения. Да и как не усомниться, если в китайских хрониках XIII века идет речь о пороховых ракетах, так называемых огненных баллистах, которые своим испепеляющим огнем уничтожали все живое на 120 футов в окружности, прожигая железную броню огненными искрами, а грохот их разрывов был слышен на расстоянии 100 ли. Между тем порох, как известно, изобрел францисканский монах Бертольд Шварц в 1319 году, да и то сия история зело темная, ибо вполне работоспособная пропорция угля, серы и селитры была хорошо известна знаменитому алхимику Альберту Великому (1193–1280) еще в 1250 году. А вот надежных сведений о применении пороха для огнестрельных нужд не имеется вплоть до середины XIV века. Наконец, еще один пикантный момент: а где китайцы доставали селитру и серу? Положим, селитру можно было купить в Индии, где вплоть до XX века ее получали из селитроносных органических отложений. А вот как быть с серой? В Европе, скажем, разрабатывались богатейшие залежи самородной серы в Сицилии. И так продолжалось довольно долго, пока сравнительно недавно не было освоено ее промышленное производство из сернистого колчедана. А вот о залежах самородной серы в Китае и сопредельных ему странах нам ничего не известно…
Как бы там ни было, но шелк и фарфор – бесспорные китайские ноу-хау. Шелк получали из продуктов жизнедеятельности гусениц бабочки – тутового шелкопряда. Собранные с тутовых деревьев листья скармливали гусеницам шелкопряда, а его куколку убивали паром, увлажняли солью и сушили на солнце, после чего наматывали шелковую нить на деревянную раму и выделывали ткань. Шелковые изделия находят в китайских захоронениях со времен эпохи Воюющих царств (V–III века до новой эры) и династии Хань (206 год до новой эры – 220 год новой эры). Китайцы продавали шелк в Европу и на мусульманский Ближний Восток, где он ценился баснословно дорого. Помните Великий шелковый путь – бойкую торговую магистраль, связывавшую Дальний Восток с Передней Азией? Шелковые секреты не давали покоя европейцам. Даже когда арабы и греки наконец выяснили, что для получения ткани необходима нить шелковичного червя, это не решило проблемы за неимением червя как такового. Существует несколько преданий о том, как были похищены драгоценные червячки. По одной из версий, китайская принцесса вышла замуж за правителя Хотана в Восточном Туркестане и по его просьбе провезла коконы шелкопряда, спрятав их в своей шляпке. Таможенники не решились обыскивать высокородную особу. Другая версия рассказывает историю о безымянном монахе, который поместил коконы внутрь своего посоха, выдолбив в нем специальную полость. Третья версия гласит, что гусеницы тутового шелкопряда вместе с тайной шелкового производства были доставлены ко двору императора Юстиниана[11]. Так или иначе, но китайцам не удалось сохранить в тайне секрет изготовления шелка. Промышленный шпионаж родился не вчера.
А что же наш Бётгер? Как и всякий уважающий себя алхимик, он мечтал отыскать философский камень – загадочный минерал, способный превращать неблагородные металлы в золото и серебро, врачевать любые недуги и возвращать молодость. Более того, философский камень считался универсальным растворителем и мог даровать бессмертие. Бётгеру повезло – знатный вельможа, князь фон Фюрстенберг, обратил внимание на юного, подающего надежды алхимика, принял его на службу и сказал: дерзай! Но годы шли, а неуловимый философский камень все не давался в руки, и над головой бывшего аптекарского ученика стали понемногу сгущаться тучи. За мошенничество в те времена наказывали весьма сурово. В конце концов незадачливого алхимика по распоряжению курфюрста бросили в темницу, но Август Сильный справедливо рассудил, что с паршивой овцы хоть шерсти клок, и предложил Бётгеру отыскать секрет изготовления фарфора. Овчинка стоила выделки, ибо незадолго до этого он отослал прусскому королю целый полк в обмен на китайский сервиз из 48 предметов. Бётгеру опять улыбнулась удача: из мейсенской глины он сумел изготовить фарфор, только не белый, а коричневый. А когда по приказу курфюрста в замке Альбрехтсбург заработала фарфоровая мануфактура, трудившийся сутки напролет вчерашний алхимик получил наконец и белый фарфор.
В чем же тайна фарфора? Сырьем для его приготовления является каолин, белая глина, образующаяся при выветривании гранитов, гнейсов и некоторых других горных пород. Рассказывают, что Бётгер нашел такую глину в окрестностях Мейсенского замка случайно. Но каолин – это всего лишь полдела. Кроме него необходимы чистый белый песок (сиречь кварц, ибо песок – осадочная горная порода – состоит как минимум на 50 % из кварцевых зерен) и полевой шпат[12]. Все эти ингредиенты нужно тщательно размолоть, смешать в определенной пропорции и отделить мелкие частицы от крупных отмучиванием. В дело пойдет только лишь самый тонкий ил, а севшая на дно грубая смесь не нужна. Затем глиняное тесто подается на гончарный станок для формовки изделия, а потом наступает черед сушки. И наконец, самый ответственный этап – обжиг, поскольку здесь требуется настоящее мастерство. Фарфор обжигают дважды: поначалу бережно и слегка, затем покрывают его глазурью и ставят в печь снова, на этот раз при очень высокой температуре. Из-за сильного жара фарфор начинает плавиться, оседать и течь, поэтому необходимы специальные костыли и другие приспособления, чтобы готовое изделие не вышло косым и кривым. И все-таки, несмотря на все меры предосторожности, немало товара в печи приходит в негодность. Если обжиг проведен правильно, то на свет божий является звонкая молочно-белая полупрозрачная чашка, просвечивающая в тонком слое.
А если немного понизить температуру, чтобы избавиться от лишней головной боли, связанной с порчей изделий? Тогда получится не фарфор, а фаянс[13]. В фаянсовой тарелке, как и в глиняном горшке, хорошо различимы поры, а в фарфоре все частицы от сильного жара расплавились и спеклись, поэтому он прозрачный и сплошной как стекло.
А где еще применяют кварц, то бишь самый заурядный песочек? Ну конечно же в стекольном производстве. Оглянитесь вокруг: и плоское оконное стекло, и стеклянная посуда у вас в буфете (хрустальная и цветная в том числе), и зеркало в дверце платяного шкафа, и шлифованные линзы в очках, бинокле и микроскопе – все эти вещи сделаны из обыкновенного песка. Стекло – это сплав кварцевого песка с известью (или мелом) и содой (или поташом[14]). Все три компонента – песок, соду и мел – измельчают, высушивают, дозируют, тщательно перемешивают и затем подают в стеклоплавильную печь. При нагревании они спекаются в однородную тягучую массу, и в результате получается расплавленное жидкое стекло. Стекло иногда называют твердой жидкостью, потому что при остывании оно ведет себя совсем не так, как вода. Если воду медленно охлаждать, она будет оставаться жидкой, пока температура не упадет до нуля градусов по Цельсию, а затем скачкообразно перейдет в твердое состояние – лед. Это явление называется фазовым переходом. А вот стекло будет менять свою консистенцию постепенно: из жидкости превратится в густой сироп, потом в тягучую смолу, затем в мягкое тесто, пока окончательно не затвердеет. При какой именно температуре стекло начинает плавиться или, наоборот, переходить в твердую фазу, сказать в точности практически невозможно.
Стекло бывает разное. Если добавить в расплав окислы щелочно-земельных металлов (например, кальций или магний), то стекло течет при температуре около 1450ºC, а самое элементарное по составу кварцевое стекло (но весьма дорогое и сложное в производстве) начинает плавиться, когда температура зашкаливает за тысячу семьсот. Низкотемпературный расплав идет на самое обычное стекло – оптическое, зеркальное, посудное и оконное, – только песок для него стараются взять побелее. А вот зеленое бутылочное стекло делают из простого желтого песка, соды и мела (в печи желтый цвет дает зеленоватый оттенок). Чтобы получить цветное стекло, в расплав добавляют окислы тяжелых металлов – медь, железо и кобальт, а для изготовления белого матового (опалового) стекла берут фтористые фосфорнокислые соединения. Если же вам нужен благородный хрусталь, тяжелый и сверкающий, как алмаз, то придется найти чистый белый песок, соду заменить поташом, мел – известью или суриком[15] и добавить в расплав серебро или свинец. Хрусталь и некоторые другие стеклянные изделия после остывания шлифуют на точильном камне, а затем полируют грани каким-нибудь абразивным составом, например наждаком. М. Ильин пишет: «Литую или прессованную вещь легко отличить от граненой – все углы у нее закругленные, а не острые. Вот примета, которую не мешает запомнить. Может быть, когда-нибудь она пригодится, если понадобится отличить граненый бокал от дешевого – литого».
В старину стекло выдували. С помощью длинной железной трубки с деревянным мундштуком на конце работник подцеплял стеклянное тесто, охлажденное примерно до тысячи градусов, и начинал дуть что есть силы. Стеклянный пузырь помещали в разъемную форму, так что графин, стакан или бутылка стандартной конфигурации получались без особого труда. Но эксклюзивное изделие – изящный фужер на хрупкой ножке или пузатая рюмка заковыристых очертаний – требовало куда более тонкой работы. Со временем человеческие легкие заменил воздушный насос, ибо выдувание стекла – работа тяжелая и вредная. Стеклодувы с приличным стажем, все как один, рано или поздно зарабатывали эмфизему – весьма неприятную патологию, сопровождающуюся растяжением и повышенной воздушностью легочной ткани. В начале XX века придумали бутылочный автомат, а чуть позже от механического выдувания перешли к более совершенным технологиям – отливке стекла в формах и прессованию. Большие плоские стекла (например, зеркала) первоначально отливали в виде пластин, а затем стали прокатывать в непрерывную ленту, которую впоследствии разрезали на отдельные фрагменты.
Выделывать стекло научились еще в Древнем Египте и Месопотамии около пяти тысяч лет назад. Эстафету подхватили финикийцы, населявшие территорию современного Ливана, а к началу христианской эры, видимо, относится рождение стеклодувного производства. В Иерусалиме археологи нашли предметы из дутого стекла, которые датируются пятидесятыми годами до новой эры. Римляне, обосновавшиеся в Палестине как дома, моментально смекнули, что к чему, и быстро приступили к массовому выпуску дешевых стеклянных сосудов всевозможных расцветок. Примерно к той же эпохе относится изобретение плоского оконного стекла, которое тогда получали не литьем, а выдуванием. В Помпеях[16], засыпанных вулканическим пеплом, обнаружили большие оконные стекла метровой высоты при ширине свыше шестидесяти сантиметров. Их толщина составляет полдюйма (один дюйм – 2,54 сантиметра). Ученые полагают, что эти стекла вставляли в оконные проемы общественных бань, поскольку они были матовыми, вероятно, за счет натирания песком с одной стороны. Немедленно возникает сакраментальный вопрос: каким образом древние римляне умудрялись получать листовое стекло, если техникой литья в те времена не владела ни одна живая душа? Обходились традиционными приемами: мастер надувал щеки и трудился как вол, в результате чего на конце трубки постепенно вырастал пузатый цилиндр. Его концы отсекали и перетягивали, а затем вспарывали цилиндрический пузырь куском раскаленного металла вдоль продольной оси. Распахнутое полотно снова нагревали и растягивали за края щипцами. В конце концов получалось вполне пристойное листовое стекло, хотя и не такое ровное и гладкое, как современное. Древнеримская технология выделки плоского стекла благополучно дожила до XV века.
При этом следует иметь в виду, что помпейское широкоформатное стекло – это редчайшее исключение: как правило, оконные стекла делали небольшими, а затем вставляли в богато орнаментированные рамы. После краха Римской империи технология изготовления листового стекла долгое время сохранялась на Востоке (почти исключительно в храмах), а в Европе стекольное производство стало понемногу оживать только в XIII веке, когда начали остеклять окна королевских дворцов. Но это было дорогое удовольствие, доступное только весьма состоятельным гражданам. Все остальные продолжали уповать на дедовские рецепты и забирали оконные проемы либо растянутым бычьим пузырем, либо мутной слюдой. Помните «Зодчих», поэму Дмитрия Кедрина? Там описывается возведение храма Покрова, многокупольного раешного собора Василия Блаженного:
Мастера заплетали Узоры из каменных кружев, Выводили столбы И, работой своею горды, Купол золотом жгли, Скаты крыли лазурью снаружи И в свинцовые рамы Вставляли чешуйки слюды.А ведь храм Покрова Богородицы на Рву (так звучит его первоначальное название) – не рядовой собор: его построили в 1555–1560 годах мастера Барма и Постник в ознаменование взятия русскими войсками Казани. На дворе середина XVI века, а вместо стекла по-прежнему используют слюду.
Зеркальное стекло научились делать гораздо позже – только в XIII–XIV веках, а до этого и в Европе, и в Азии, и в Америке человек любовался своим отражением в полированном металле и обсидиане – вулканическом стекле. Возраст самых древних зеркал – около пяти тысяч лет. Большей частью они представляли собой золотые, серебряные или бронзовые диски на длинной ручке, тщательно отполированные с одной стороны и украшенные гравировкой – с другой. Древние греки и римляне не привнесли ничего принципиально нового в технологию зеркального дела. Правда, иногда встречаются глухие упоминания о том, что в античном Риме умели изготавливать маленькие стеклянные зеркала посредством накладывания тонкого серебряного или медного листа на кусок стекла, а Плиний Старший даже пишет, будто стеклянные зеркала изобрели в финикийском городе Сидоне. Конечно, чем черт не шутит, но подавляющее большинство историков справедливо полагает изобретателями стеклянного зеркала венецианцев, которые в XIII веке научились вырезать зеркальные стекла из полых стеклянных шаров и покрывать их изнутри сплавом сурьмы и свинца. К XIV столетию этот сплав заменили оловянной амальгамой. На лист оловянной фольги (он называется «станиоль») наливали ртуть, а сверху укладывали тщательно отполированное стекло, прижимая его к станиолю тяжелыми грузами. Растворенное ртутью олово намертво прилипало к стеклу, а ее избытку давали стечь. На изготовление зеркала уходило от 20 дней до месяца. Качество стеклянных зеркал не шло ни в какое сравнение с металлическими, которые давали нечеткое расплывчатое изображение и вдобавок быстро мутнели. Поэтому хрестоматийная история о том, как Архимед будто бы сжег неприятельский флот, воспользовавшись для этой цели сложной системой вогнутых зеркал, не выдерживает никакой критики. Вся беда в том, что даже плоские стеклянные зеркала научились делать сравнительно недавно, не раньше XIV–XV веков, а уж изготовить вогнутое зеркало с заданным фокусным расстоянием было и вовсе непосильной задачей для ремесленников того времени.
Венецианское правительство распорядилось еще в конце XIII века переселить всех стекольщиков на остров Мурано, куда был строжайше запрещен доступ всем иностранцам. В свое время там размещалось около сорока стекольных заводов, на которых работало несколько тысяч человек. Только в сопредельную Францию ежегодно вывозилось не менее двухсот ящиков уникальных зеркал, но итальянские стеклодувы были мастерами широкого профиля: венецианская хрустальная посуда, сверкающая белым и синим огнем, и затейливые фужеры цветного стекла тончайшей отделки тоже раскупались, как горячие пирожки. Звание стекольщика считалось не менее почетным, чем звание дворянина. Осип Мандельштам писал:
Тяжелы твои, Венеция, уборы. В кипарисных рамах зеркала. Воздух твой граненый. В спальне тают горы Голубого, дряхлого стекла.Зеркало – вообще предмет загадочный. Мир по ту сторону незримого стекла только очень похож на наш, а в действительности совсем другой. Вглядитесь повнимательнее в свое отражение: если вы подмигнете вашему двойнику правым глазом, он проделает то же самое, но левым. Волосы он зачесывает шиворот-навыворот – справа налево. У вас родинка на левой щеке, а у него на правой. И какой же он после этого двойник, если в отличие от вас даже пишет левой рукой? Зеркало выворачивает предметы наизнанку. Не случайно умненькая Алиса у Льюиса Кэрролла говорит, что «там» вроде бы все, как у нас, только наоборот. Более того, она демонстрирует навыки подлинно научного мышления, когда задается вопросом, сможет ли ее кошка пить «зазеркальное» молоко. Между прочим, вы никогда не задумывались, почему зеркало переставляет только левую и правую стороны, но не верх и низ? Почему оно не опрокидывает комнату вверх тормашками? Ведь его поверхность абсолютно гладкая и плоская, а все оси совершенно равноправны. Кстати, гнутое зеркало дает необращенное изображение: ваш двойник будет в нем зачесывать волосы, как и полагается, слева направо. Поразмышляйте как-нибудь на досуге, отчего так получается. Если вас заинтересовали эти фокусы, рекомендуем вам увлекательную книжку Мартина Гарднера «Этот правый, левый мир».
В старину люди сплошь и рядом относились к зеркалу с недоверием и опаской. Количество мифов, легенд, магических ритуалов и нелепейших суеверий, с ним связанных, не поддается никакому исчислению. Перед зеркалом нельзя ругаться, а если вас угораздило с полдороги вернуться домой, надо обязательно в него посмотреться, иначе пути не будет. Ни в коем случае не подносите к зеркалу младенца, а то у него с трудом будут резаться зубки или он слишком поздно начнет говорить. Если женщина глянет на свое отражение в «критические дни», зеркало помутнеет. И так далее и тому подобное, список можно продолжать бесконечно. Помните веселую повесть братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»? Когда Саше Привалову довелось заночевать в соловецком доме-музее «Изба на куриных ногах», он повстречал там говорящее зеркало.
«Кто-то наставительно вещал вполголоса:
– Слон есть самое большое животное из всех живущих на земле. У него на рыле есть большой кусок мяса, который называется хоботом, потому что он пуст и протянут, как труба. Он его вытягивает и сгибает всякими образами и употребляет вместо руки…
Холодея от любопытства, я осторожно повернулся на правый бок. В комнате по-прежнему было пусто. Голос продолжал еще более наставительно:
– Вино, употребляемое умеренно, весьма хорошо для желудка; но когда пить его слишком много, то производит пары, унижающие человека до степени несмысленных скотов. Вы иногда видели пьяниц и помните еще то справедливое отвращение, которое вы к ним возымели… <…>
Теперь я понял, где говорили. Голос раздавался в углу, где висело туманное зеркало.
– А теперь, – сказал голос, – следующее. «Все единое Я, это Я – мировое Я. Единение с неведением, происходящее от затмения света, Я исчезает с развитием духовности».
– А эта бредятина откуда? – спросил я. Я не ждал ответа. Я был уверен, что сплю.
– Изречения из „Упанишад“[17], – ответил с готовностью голос.
– А что такое „Упанишады“? – Я уже не был уверен, что сплю.
– Не знаю, – сказал голос.
Я встал и на цыпочках подошел к зеркалу. Я не увидел своего отражения. В мутном стекле отражалась занавеска, угол печи и вообще много вещей. Но меня в нем не было.
– В чем дело? – спросил голос. – Есть вопросы?
– Кто это говорит? – спросил я, заглядывая за зеркало. За зеркалом было много пыли и дохлых пауков. Тогда я указательным пальцем нажал на левый глаз. Это было старинное правило распознавания галлюцинаций, которое я вычитал в увлекательной книге В. В. Битнера „Верить или не верить?“. Достаточно надавить пальцем на глазное яблоко, и все реальные предметы – в отличие от галлюцинаций – раздвоятся. Зеркало раздвоилось, и в нем появилось мое отражение – заспанная, встревоженная физиономия. По ногам дуло. Поджимая пальцы, я подошел к окну и выглянул».
Между прочим, директора института, в котором Саше предстоит трудиться, зовут Янус Полуэктович Невструев. Этот удивительный директор существует в двух экземплярах, хотя является одним человеком. Ну как тут не вспомнить двуликого Януса – могущественное божество древних римлян, который ведал делами войны и мира и был хранителем входов и выходов? Отсюда и его двуликость, ибо любая дверь ведет не только внутрь дома, но и наружу – в большой мир. А что такое зеркало, как не дверь в непостижимый изнаночный мир?
Христианская церковь не одобряла зеркал, поскольку любоваться собой – непростительный грех. Любование рождает соблазн облагородить свою наружность, изменить ее, навести марафет, а вот это уже совершенно недопустимо, так как человек есть образ и подобие Божие. Такое баловство смерти подобно, ибо прямиком ведет к гордыне, а за что поплатился враг рода человеческого? Правильно. Поэтому и говорят умные люди: смирись, гордый человек! Между прочим, зеркало в этот лучший из миров приволок не кто иной, как сам Сатана – отец лжи и повелитель страны иллюзий, – дабы ввести нас во искушение. Одним словом, зеркало – это зад дьявола, резюмировали попы. Неосторожную прихожанку, явившуюся на службу с «нечистым» зеркалом у пояса, могли запросто выставить из храма. А уж если зеркало находили у женщины, подозреваемой в колдовстве, пиши пропало. Восковая фигурка, проколотая булавкой, тоже, конечно, опасная игрушка, наводящая на определенные размышления, но в тандеме с непотребным бесовским стеклышком – верный путь на костер. А помните, как твеновский Гекльберри Финн учит Тома Сойера распознавать ведьм? Если ведьма таращит на тебя свои глазищи, говорит он, значит, наводит порчу. Но хуже всего, если она при этом бормочет – читает «Отче наш» шиворот-навыворот. Кстати, в православных церквах вы не найдете зеркал до сих пор.
Но как бы ни упирались священники, громя прихожан с церковных амвонов, популярность зеркал от века к веку только росла. Долгое время их умели делать только на острове Мурано, ибо Венецианская республика берегла свои зеркальные технологии как зеницу ока. Заподозренных в разглашении цеховых секретов бросали в темницы и отправляли на плаху, а если мастера утекали за границу, что им строго-настрого запрещалось, за решеткой оказывалась родня беглецов. Это был недвусмысленный сигнал поскорее вернуться на родину. Если же, несмотря на посулы и угрозы, мастера не спешили домой, правительство отряжало по их следам рыцарей плаща и кинжала. Так, в Германии в 1547 году нашли зарезанными двоих венецианских стекольщиков. Но даже такие жестокие профилактические меры не смогли предотвратить утечки информации.
Суровость властей объясняется элементарно: зеркальная монополия приносила Венецианской республике совершенно фантастические доходы. Если живописное полотно кисти Рафаэля стоило три тысячи ливров, то цена венецианского зеркала размером 115 на 65 сантиметров в серебряной оправе составляла 68 тысяч. Расставаться за здорово живешь с подобным гешефтом Венеция не собиралась. А вот французов такое положение дел никак не могло устроить. Министр финансов Людовика XIV Кольбер не без оснований полагал, что зеркала грозят стране разорением, потому что французские аристократы без звука выкладывали за блестящие заморские безделушки целые состояния. Рассказывают, что его окончательно доконал придворный демарш, когда королева торжественно вплыла в бальную залу в удивительном наряде, расшитом осколками зеркал. От нее исходило ослепительное сияние, и министр содрогнулся в глубине души, не в силах вообразить, сколько это диво дивное может стоить. Последняя соломинка сломала спину верблюда, и Кольбер немедленно распорядился направить верных людей на остров Мурано.
Французам удалось подкупить трех мастеров (по другим данным – четырех), и под покровом ночной темноты бесшумная фелюга причалила к берегам потаенного острова. Осторожно ступая, зеркальщики шагнули на борт, и утлое суденышко, распушив паруса, скользнуло из венецианской лагуны на просторы голубой Адриатики. Когда венецианцы смекнули что к чему, проворный кораблик уже обогнул итальянский сапог, прошмыгнул между Корсикой и Сардинией и уже готовился войти в устье Роны. Однако преследователи тоже не дремали и умудрились настичь беглецов на рейде Лиона. Но кольберовские головорезы дрались как львы, не щадя живота, и эмиссарам Венецианской республики пришлось в конце концов отступить. Мастеров благополучно доставили в городок Тур ля Виль, где очень скоро заработала первая в Европе зеркальная мануфактура.
Венецианское правительство не сумело отыскать беглецов. И хотя их семьям грозили чувствительные неприятности, мастера не спешили домой, потому что катались как сыр в масле. Людовик платил им бешеные деньги, и уже в 1666 году на фабрике было изготовлено первое зеркало. Вдобавок иноземных умельцев осаждали смазливые парижанки, так что мастера не шибко страдали от одиночества. Столь возмутительный бардак не мог не отразиться на производительности труда, и Кольбер распорядился срочно доставить во Францию жен распоясавшихся стекольщиков, что и было незамедлительно выполнено в самых лучших шпионских традициях. Но и Венецианская республика тоже не лаптем щи хлебала: откровенно проколовшись раз и другой, она сумела от всей души продемонстрировать легкомысленным французам, что у нее длинные руки. В начале 1667 года двое мастеров скончались в страшных судорогах от неизвестного яда, а в Венеции казнили еще двух стекольщиков, которые собирались бежать во Францию. Оставшиеся в живых мастера струхнули, засуетились и стали проситься домой. Циничный Кольбер их не удерживал, ибо пресловутых зеркальных секретов отныне не существовало.
В 1688 году французские мастера переплюнули великих и ужасных венецианцев, изготовив большие зеркальные стекла литьем. А около 1700 года с верстаков королевской мануфактуры сошло уникальное зеркало трехметровой длины, тогда как хваленые венецианские стеклоделы, работавшие по старинке методом выдувания, не умели делать стекла больше полутора метров в высоту. Венецианская монополия на зеркальное стекло окончилась раз и навсегда.
До середины XIX века зеркальное производство было очень вредным из-за паров ядовитой ртути, которые щедро и от всей души выделяет оловянная амальгама. Известный немецкий химик Юстус Либих (1803–1879) предложил заменить ртуть серебром, которое буквально за полчаса покрывает стекло тончайшей сверкающей пленкой. Одним-единственным выстрелом он убил наповал трех зайцев: бесповоротно изгнал ядовитую ртуть, в разы ускорил технологический процесс и радикально улучшил качество изделия, так как серебряное зеркало в полтора-два раза светлее ртутного. В наши дни зеркальное стекло погружают в аммиачный раствор окиси серебра, а затем дополнительно покрывают защитным слоем меди, лака или краски. Вместо серебра нередко используют алюминий и другие металлы, а в отдельных случаях применяют золочение, хромирование и платинирование.
Если зеркала христианская церковь костерила последними словами, то к очкам святые отцы отнеслись куда более благосклонно. Например, папа Римский Лев X[18] без колебаний водрузил на нос пару венецианских стекол в массивной золотой оправе. Говорят, что он не только читал в них проповеди, но даже охотился, привязав к ушам шелковыми тесемочками. У патриарха Никона[19] было целых восемь пар очков в дорогих футлярах, а курфюрст Саксонии Август, отправляя в Венецию проверенного человека, выкладывал за каждое стеклышко по 500 золотых червонцев. Впрочем, наиболее ортодоксальные священники, вытвердившие Писание назубок, даже на безобидные очки поглядывали весьма косо, называя их безбожным и непотребным инструментом дьявола. На гравюрах того времени чертей нередко изображали в очках.
А кто изобрел очки? Молва приписывает это деяние Роджеру Бэкону (1214–1292), выдающемуся английскому философу и естествоиспытателю, который умудрился предвосхитить кучу открытий позднейшего времени, но эту полулегендарную историю мы опустим. Иногда вспоминают жестокого императора Нерона, который любовался гладиаторскими боями через драгоценный кристалл изумруда. Император, дескать, был близорук, а потому и прикладывал к глазам зеленый камень, чтобы не упустить ни единой детали кровавого поединка. Однако серьезные ученые сомневаются в том, что во времена Нерона были умельцы, способные отшлифовать кристалл берилла таким образом, чтобы превратить его в линзу. Вероятно, досужие басни об увеличительных стеклах Античности повелись с легкой руки немецкого археолога Генриха Шлимана, отыскавшего в Малой Азии на холме Гиссарлык легендарную гомеровскую Трою. Между прочим, Шлимана не раз и не два уличали в подлогах и фальсификациях. Хорошо известна история, как, откопав микенское золото, он показал некоторые из бесценных находок знакомому ювелиру. Тот поднял его на смех, заявив, что выполнить такую тонкую работу без помощи лупы решительно невозможно. Догадайтесь с трех раз, как поступил Шлиман? Совершенно верно. Он тут же «обнаружил» десятки увеличительных стекол из горного хрусталя.
Два итальянских города – Флоренция и Пиза – чуть глотки друг другу не перегрызли, яростно сражаясь за высокое право именоваться родиной очков. Пизанцы, размахивая ветхими хрониками, доказывали с пеной у рта, что некий Алессандро делла Спина, почивший в бозе в 1312 году, прежде чем отойти в мир иной, таки успел выдумать стекла для глаз. Эта похвальба задела ревнивых и обидчивых флорентийцев, и они тут же отыскали своего кандидата, который уже вовсю шлифовал очковые стекла, когда пизанец Алессандро еще пешком под стол ходил. Но вообще-то этот спор пустой, ибо самой вероятной родиной очков была, конечно, Венеция с ее непревзойденными мастерами стекольного дела.
Где очки, там и более мощные линзы, позволяющие рассматривать мелкие предметы, недоступные обыкновенному человеческому глазу, и глядеть на далекие звезды, величаво плывущие в небесах. Принято считать, что микроскоп изобрел голландец Антони ван Левенгук (1632–1723), а зрительную трубу для отслеживания бега небесных светил придумал в 1609 году выдающийся итальянский физик Галилео Галилей (1564–1642). Между тем самый первый работоспособный прибор из увеличительных стекол сконструировали в 1590 году земляки Левенгука Ганс и Захарий Янсены, а Галилей собрал свое собственное, вполне оригинальное оптическое устройство, дававшее девятикратное увеличение, только двадцатью годами позже (впоследствии он добился 20-кратного увеличения). По сути дела, это был примитивный телескоп, и, когда великий итальянец направил свою зрительную трубу на ночное небо, он не только увидел в деталях лунные кратеры, но и сумел разглядеть четыре крупнейших спутника Юпитера. А вот термин «микроскоп» появился на свет лишь в 1625 году, и первое его применение в области естественных наук связано с именем английского ученого Роберта Гука (1635–1703), который в 1665 году опубликовал труд под названием «Микрография, или Физиологическое описание мельчайших тел, исследованных с помощью увеличительных стекол». Но увидеть воочию удивительный мир юрких «ничтожных зверюшек», самозабвенно резвящихся в дождевой капле и до глубины души поразивших воображение голландца, Гуку было, увы, не суждено, поскольку микроскоп его конструкции давал всего лишь тридцатикратное увеличение.
Иное дело – замечательные оптические приборы, изготовленные трудолюбивым натуралистом-самоучкой Антони ван Левенгуком. Его короткофокусные линзы диаметром меньше 1/8 дюйма (один дюйм равняется 2,54 см) давали увеличение в 150–300 раз и были по тем временам непревзойденным шедевром инженерного мастерства, высшим пилотажем в микроскопии XVII–XVIII веков. Стоит ли после этого удивляться, что вовсе не именитым профессорам, а скромному безвестному голландцу, двадцать лет работавшему в полном одиночестве, подфартило впервые заглянуть в мир одноклеточных созданий, без которых немыслимо существование нашего «большого» мира? Когда Лондонское Королевское общество командировало к нему одного из своих членов, доктора Молинэ, дабы тот ознакомился с приборами Левенгука и при необходимости купил его удивительный микроскоп, на что обществом была выделена кругленькая сумма, англичанин пришел в неописуемый восторг. Заглянув в микроскоп голландца, он вскричал: «Но ведь ваши инструменты просто изумительны! Они показывают в тысячу раз яснее, чем лучшие линзы у нас в Англии!» Стекла Левенгука оставались вне конкуренции не только на протяжении всей его жизни, но и спустя много лет после смерти одержимого голландского самоучки.
2. Эх, дороги…
«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой.
Н. В. ГогольВ каменном веке люди ходили пешком. Сие обстоятельство в равной степени касается и так называемых четвертичных гоминид[20], населявших плоскогорья Восточной Африки миллионы лет тому назад, и бравых эректусов[21] с великолепной осанкой, заселивших все континенты планеты, кроме Америки, Австралии и Антарктиды, и кряжистых неандертальцев[22], промышлявших мамонта на ледовых полях Европы. Людям современного типа, впервые появившимся опять же в Африке около двухсот тысяч лет назад, на месте не сиделось. Вскоре они мигрировали в Европу и Азию через бутылочное горлышко Синайского перешейка, истребили косных неандертальцев и просочились в Новую Гвинею, Австралию и Америку (40 и 20 тысяч лет тому назад соответственно). Они достигли высочайшего мастерства в ювелирной обработке камня, рога и кости (разнообразные скребки, острия, проколки, сверла, шильца, листовидные кремневые наконечники идеальной формы, режущий инструмент со вкладышами и т. д.), расписали стены пещер фресками изумительной красоты и даже приручили собаку, но упорно продолжали ходить исключительно на своих двоих. В погоне за Большим Зверем неутомимые охотники истоптали весь земной шар – от арктических широт до тропических.
И только на заре неолита[23] произошел решительный перелом. Люди перестали бесперечь мотаться взад-вперед по планете, научились лепить глиняную посуду и возделывать съедобные растения, изобрели ткачество и сообразили наконец, что животных можно не только употреблять в пищу, но и заставить производительно трудиться себе на пользу. Примерно тогда же некий безымянный гений выдумал колесо – поистине эпохальное изобретение, перевернувшее весь жизненный уклад древних земледельцев и скотоводов. О колесе, впрочем, имеет смысл поговорить отдельно, но сначала маленький фантастический рассказ, который так и называется – «Колесо».
Когда на столе появилась третья бутылка «Зубровки», беседа незаметно приобрела метафизический уклон. Российская образованная публика обожает неразрешимые вопросы.
– Я думаю, что такое доказательство есть, – сказал наконец Биолог.
– Вы имеете в виду пирамиды и Баальбек? – немедленно оживился Историк. – Об этом много писали.
– Это все зола, – бесцеремонно вмешался Физик. – Сторонники гипотезы палеоконтакта городят черт знает что. Любой мало-мальски грамотный инженер объяснит вам на пальцах, как построить пирамиду с помощью банального рычага и четырех дюжин деревянных катков, особенно если времени у вас вдоволь, а людские ресурсы практически не ограничены. Притягивать сюда за уши пришельцев совершенно ни к чему. К тому же есть папирусы с чертежами и подробными указаниями, я читал.
– Нет, я имел в виду совсем другое, – сказал Биолог. – Но сначала, как говорится, расставим точки над «i». Требуется отыскать такое изделие, такой предмет материальной культуры, такое, наконец, технологическое решение, которое без помощи извне оказалось бы совершенно не по зубам земному человечеству ни при каких условиях.
– Так, – сказал Историк.
– Я готов вам его представить.
– Было бы весьма интересно послушать, – недоверчиво усмехнулся Физик.
– Очень просто. Это колесо, – сказал Биолог и закурил.
– Колесо?! – изумился Историк. – Но его выдумали тьму лет назад! Все культуры, худо-бедно вышедшие из пеленок, пользовались колесом еще в незапамятные времена. Исключение составляют, быть может, только цивилизации Мезоамерики.
– Очень странная идея, – покачал головой Физик.
– И тем не менее это так, – сказал Биолог. – Но сначала я бы хотел предложить вам один вопрос. Скажите: почему природа не знает колеса?
– Мало ли чего не знает природа… – начал Историк.
– Нет, минуточку, минуточку, – перебил его Физик, – это интересно.
– Это элементарно. – Биолог раздавил окурок. – Природа никогда ничего не создает в законченном виде. Всякое ее творение предполагает возможность последующей трансформации. Скажем, лапа: она может быть плавником, она может быть крылом, а может – высокоспециализированной конечностью наподобие клешни краба и так далее. Другими словами, в основе всегда лежит некий малодифференцированный зачаток, обладающий веером возможностей, который видоизменяется в ходе эволюции. Это общий принцип. Колесо же всегда и только колесо. Любое самое примитивное колесо должно иметь, как минимум, ось, обод, ступицу и какой-то аналог спиц. От спиц, впрочем, можно отказаться – тогда колесо будет сплошным. Ему некуда эволюционировать, оно немыслимо в виде многоцелевого зачатка. Колесо изначально совершенно и вдобавок конструктивно сложно.
– Любопытно, – сказал Физик.
– Все это чрезвычайно интересно, – нетерпеливо заговорил Историк, – но я, убей бог, не вижу, какое отношение это имеет к теме нашей беседы.
– Я сейчас объясню. – Биолог зажег новую сигарету. – Но для этого понадобится небольшой экскурс во всемирную историю, точнее, в историю техники. Дело в том, что человек в своих технологических решениях всегда следует за природой.
– Ну-ну-ну, – сказал Физик, – тут уж вы хватаете через край. Что-то я не припомню, чтобы биологическая эволюция создала хотя бы один металлорежущий станок с программным управлением.
– Я говорил о временах, так сказать, ветхозаветных, – спокойно возразил Биолог, – о том, что было очень, очень давно. Современные технические решения, безусловно, опираются на всю сумму знаний, наработанных человечеством за тысячелетнюю историю, и имеют весьма мало общего с творениями биоэволюции. Хотя и тут есть интересные параллели.
– Вернемся к нашим баранам, – сказал Историк, – так что же было совсем давно?
– А совсем давно, – невозмутимо продолжал Биолог, – человек неутомимо копировал природу и пользовался ее дарами. Разве только человек умеет подобрать палку и заострить ее с одного конца? С этим прекрасно справляются обезьяны. Муравьи и термиты, пчелы и осы строили жилища задолго до появления человека как вида. Я уже не говорю о бобрах: их плотины – верх инженерного мастерства. Огонь горел на Земле испокон веков – это природное явление. Нужно было только подобрать его. Использование шкур животных для защиты от холода – тривиальнейшая задача. Путь от свободно плывущего во время паводка бревна до простейшего плотика не кажется мне непреодолимым. Принцип полета, кроме птиц, взят на вооружение многими рыбами, млекопитающими и насекомыми. Даже реактивное движение есть в природе – вспомните кальмаров и осьминогов! Приручение животных и одомашнивание растений – разве не природа выступала тут в роли наставника и ментора? – Биолог перевел дух. – И так далее и тому подобное, примеры можно множить без конца. Я не хочу сказать, что все вышеприведенное не потребовало от человека смекалки и небанальных технических решений. Вне всякого сомнения, тут нужны были специфические, чисто человеческие способности, и никакой другой биологический вид с такими задачами, безусловно, не справился бы. Я утверждаю только одно: все это могло быть наблюдено, подсмотрено и взято прачеловечеством в природе. Все, кроме колеса. Природа колеса не знает, вот в чем штука!
– Гм, – сказал, помолчав, Историк. – И какой же вы отсюда делаете вывод?
– Вывод очевиден, – ответил Биолог. – В до-письменную эпоху человек, как мы с вами установили, учится у природы. Природа колеса не знает, а человек, тем не менее, пользуется этим полезным устройством с незапамятных времен. Следовательно, колесо человеку было дано. Кем – это уже другой вопрос.
– Чрезвычайно любопытно, – сказал Физик. – Картина получается безнадежно логичная.
– Между прочим, предложенная гипотеза хорошо объясняет незнакомство с колесом коренного населения Америки, – улыбнулся Биолог. – Просто по каким-то причинам, нам неведомым, сделка совершилась в Старом Свете. Иначе трудно понять, почему такие умные во всем остальном инки и майя не додумались до колеса.
– Ну, пора по домам, ребята, – сказал Физик, поднимаясь, – третий час ночи.
«Все-таки чрезвычайно неприятный тип этот Биолог, – думал Историк, шагая по ночной улице рядом с Физиком, – чрезвычайно неприятный…»
Разумеется, это шутка, но шутка, согласитесь, остроумная. Колесо и впрямь устройство хитрое и какое-то невразумительное, несмотря на всю его внешнюю простоту. Ни одно животное не передвигается на колесах, и природа колеса действительно не знает, тут Биолог совершенно прав. Его аргументация почти безупречна: колесо могло возникнуть только скачком, сразу в готовом виде, поскольку ось, ступица или обод сами по себе предельно нефункциональны. Эволюция работает путем медленных пошаговых изменений и не терпит скачкообразности. Она не может единым махом перекраивать свои творения, меняя детали целыми блоками. Развиваться колесу решительно некуда (и здесь с Биологом, увы, тоже не поспоришь), ибо такой гипотетический вид, единожды возникнув, неминуемо забредет в безнадежный тупик узкой специализации. Правда, одно-единственное исключение все же есть: колесо, а точнее, принцип вращательного движения освоили жгутиковые бактерии.
Бактериальный жгутик представляет собой полужесткую спираль, закрученную против часовой стрелки. С помощью так называемого крюка он прикрепляется к системе из двух колец – внешнего и внутреннего, встроенных в клеточную мембрану, причем внешнее кольцо жестко в ней зафиксировано, а внутреннее вращается относительно внешнего, приводя в движение весь жгутик. Топливом служит энергия трансмембранного электрохимического потенциала, причем скорость вращения жгутика напрямую зависит от его величины. Таким образом, бактериальная клетка располагает устройством по преобразованию электрохимической энергии непосредственно в механическую. Ее высокоэффективный движок напоминает миниатюрный электромотор, а наружные диски играют роль своеобразных подшипников – единственный в своем роде пример такого конструктивного решения у живых организмов.
Так что природа оказалась хитрее, чем думалось Биологу, однако в его рассуждениях присутствует определенный резон, поскольку механизм движения жгутиковых бактерий совершенно уникален и не имеет аналогов в живой природе. Видимо, эволюция, сделав одну-единственную попытку, вскоре отказалась от бесперспективной затеи.
Но все это так, к слову. Понятно, что изобретатель колеса ничего не знал о бактериальном электромоторе, равно как и о самих бактериях. Следовательно, он ориентировался на какой-то иной предмет, который и подсказал ему искомое решение. Ученые полагают, что идея колеса родилась из рутинной процедуры перетаскивания больших тяжестей, когда под глыбу укладывались деревянные катки или даже цельные древесные стволы. Между прочим, именно так поступали древние египтяне при транспортировке увесистых каменных плит, из которых сложены их знаменитые пирамиды. Оставалась самая малость: чуть-чуть пошевелить извилиной и распилить круглую деревяшку на несколько дисков. Что же, вполне резонное предположение, особенно если учесть, что древнейшие колеса, найденные археологами в Месопотамии[24], представляют собой плоские деревянные кругляши, неподвижно соединенные с осью. Ступица и сквозные выемки в деревянном диске, уменьшающие вес конструкции, появятся позже. Еще один шаг – и возникнет легкое ажурное колесо с настоящими спицами. Это был весьма серьезный прорыв, ибо экипажи на сплошных деревянных колесах слишком тяжелы и громоздки для конной тяги, поэтому в них впрягали быков. Историки говорят, что первые колеса со спицами научились делать в Малой Азии в 2700 году до новой эры.
Казалось бы, все тип-топ, но по здравом размышлении немедленно возникают разные неудобные вопросы. Если толчком к изобретению колеса послужил элементарный технический прием, предназначенный для перетаскивания тяжелых каменных глыб, то почему колеса не знали все без исключения культуры Центральной и Южной Америки? А ведь инки, майя, ацтеки и тьма-тьмущая предшествовавших им культур (например, ольмеки[25] в Мексике и доинкские цивилизации современного Перу) весьма активно занимались циклопическим строительством. Достаточно хотя бы вспомнить знаменитые ступенчатые пирамиды на полуострове Юкатан или грандиозный Мачу-Пикчу, построенный высоко в горах. Многотонные каменные монолиты, из которых сложены эти архитектурные шедевры, почти наверняка волокли с помощью деревянных катков. Почему же в таком случае народы Америки, с немыслимой точностью рассчитавшие продолжительность года, не додумались до колеса? Более того, в империи Тауантинсуйю (так называлась держава инков) строили великолепные мощеные дороги. Для чего они нужны, если колесом никто не пользуется? Чтобы ходить пешком и перетаскивать грузы на спине вьючных животных, сгодится обыкновенная грунтовка.
Правда, в доколумбовой Южной и Центральной Америке не было крупных копытных. Мало иметь колесную повозку, необходима еще и крепкая скотина, которую в нее можно запрячь. Первых лошадей завезли в Америку европейцы, а до их появления инки одомашнили ламу, которую использовали исключительно под вьюк. Ацтеки и майя, похоже, вовсе не знали вьючных животных. С другой стороны, в североамериканских прериях паслись несметные стада бизонов, но на них только охотились, не пытаясь приручить. Колеса индейцы Северной Америки тоже не знали. И даже когда они освоили верховую езду, сделавшись конными охотниками на бизонов, то пользовались для перевозки грузов не колесной повозкой, а волокушей – примитивным сооружением из двух длинных жердей. Одним словом, как бы там ни было, но до XVI столетия ареал распространения колеса ограничивался Старым Светом. А уж почему так вышло – тайна сия велика есть.
Неповоротливые повозки на сплошных колесах таскали быки. Когда же придумали легкое ажурное колесо с тонкими спицами, стали отдавать предпочтение конной тяге, ибо лошадь куда резвее своенравной и ленивой парнокопытной скотины. Немедленно возникает вопрос: где и когда была впервые одомашнена лошадь? Историки сходятся на том, что это событие произошло в причерноморских степях на излете неолита – примерно в IV тысячелетии до новой эры. Косвенно об этом свидетельствуют лошадиные челюсти с характерными следами износа от ременных или веревочных удил (металлические удила появились не раньше 1500 года до новой эры). Степняки предпочитали ездить верхом, а вот на Ближнем Востоке, куда лошадь попала тысячу лет спустя, ее долгое время использовали в упряжи и только потом приспособили под седло. О мирных грузовых экипажах тех полузабытых лет почти ничего не известно, зато боевые колесницы (о двух и четырех колесах) были, по утверждению историков, основной ударной силой армий Древнего Египта и Передней Азии. И тут как на грех снова вылезает маленькая неувязка, которую историки старательно игнорируют.
Из рисунков и описаний древнеегипетских колесниц следует, что колеса этих повозок имели четыре или шесть спиц. К сожалению, вся беда в том, что колес с четырьмя, пятью или шестью спицами в природе не существует, потому что обод такого колеса никогда не будет круглым. Идеальный обод получается при двенадцати спицах, когда каждая из шести равных частей обода насаживается на две спицы. Колесо совсем не такая простая штука, как кажется на первый взгляд. Обод собирается из упомянутых шести секций, изготовленных из гнутого дерева, причем спица обязательно пронзает обод, а другим концом прочно вбивается в ступицу. Так что изобретение спиц и ступицы было серьезным технологическим прорывом. Но и это еще далеко не все. На тележное колесо необходимо натянуть стальную шину (так называемый бандаж) и прочно соединить ее железными хомутами с ободом. Разумеется, можно обойтись и без стали, но такие колеса придется слишком часто менять. Не помешало бы иметь и прочную железную ось, так как деревянная чересчур хрупка, ведь боевая колесница ездит не по гладкой дороге, а летит по пересеченной местности, прыгая на ухабах.
Тем не менее нам предлагают модель древнеегипетской колесницы из дерева, которая выглядит следующим образом: ось из ольхи, колеса и все остальное – из ясеня, а ободья колес обернуты березовым лыком. Ось напрямую соединена с дышлом. Специалист по военной истории М. Горелик так прокомментировал возможности подобного экипажа: «Без сомнения, эта колесница имела ритуальное значение, поскольку чисто деревянная конструкция не выдержала бы нагрузок ни в быту, ни на войне». Надо сказать, что при изучении рисунков и моделей колесниц древности совершенно невозможно избавиться от впечатления некоторой декоративности изделия. Ну никак не сможет такая повозка ездить по земле, хоть ты застрелись! Мы уже не говорим о персидских боевых колесницах, ободья которых утыканы сверкающими стальными жалами. Это вообще технологический нонсенс: такое чудовище может катиться только по математической плоскости. В противном случае оно неминуемо перевернется, зацепившись железной косой за первый же ухаб.
Между тем хетты и египтяне сшибались в смертельной схватке на горючих песках Палестины давным-давно, а в ассирийской армии начала I тысячелетия до новой эры боевые колесницы вообще были элитными частями. В битве при Кадеше (XIV век до новой эры) египетский фараон Рамсес II одержал блистательную победу над хеттской армией, в составе которой было три с половиной тысячи боевых колесниц. Где хеттские цари раздобыли этакую прорву металла, история умалчивает. Да и гомеровские греки тоже были не лыком шиты, вихрем врываясь в стан неприятеля на двухколесных машинах, сея вокруг смерть и разрушение. Вот как описана в «Илиаде» колесница богини Геры:
Тотчас сама устремилась коней запрягать златосбруйных Дочерь великого Крона, богиня старейшая Гера. Геба ж с боков колесницы набросила гнутые круги Медных колес восьмиспичных, ходящих по оси железной. Ободы их – золотые, нетленные, сверху которых Плотные медные шины наложены, диво для взора!Закавыка только в том, что события Троянской войны, которые столь красочно живописует слепой аэд, – это бронзовый век в полный рост. Никакого железа тогда не было и в помине, а уж умением отковать прочную железную ось овладеют не раньше чем через тысячу лет. Даже римляне, если верить античным хронистам, весьма сдержанно оценивали качество мечей своих собственных солдат и завидовали белой завистью кельтским длинным клинкам, с которыми близко познакомились в Галлии. Какие уж тут кованые железные оси…
С кавалерией в древности тоже полная неразбериха. Замечательными наездниками были легендарные киммерийцы и скифы, кочевавшие в степях Северного Причерноморья. Конные стрелки из лука, без промаха бьющие в цель на полном скаку, сметали на своем пути все подряд, раскалывая ветхие царства, как гнилой орех. «Вот идет далекий северный народ, – сообщала древняя хроника, – колчан его – как открытый гроб». У парфян, попортивших немало крови римлянам в первом веке до новой эры, помимо конных стрелков из лука была и тяжелая кавалерия – латные всадники, вооруженные длиннющим копьем (так называемый контос). Сами римляне и древние греки конницу не жаловали – она играла у них сугубо вспомогательную роль, зато Александр Македонский своих гетайров берег и лелеял: закованные в броню кавалеристы часто решали исход сражения.
Увы, но беда в том, что Античность не знала не только стремян, но и настоящего седла с высокой лукой. Историки единодушно признают, что стремя придумали в VI веке после Рождества Христова то ли китайцы, то ли тюрки. У персов оно появилось в VIII веке, а в Европе только в X–XI веках. Кто спорит, можно ездить верхом и без стремян и даже без седла, пользуясь одной только уздечкой. Но вот орудовать на полном скаку копьем и мечом и не слететь при этом с лошади весьма проблематично. Любой сколько-нибудь ощутимый толчок немедленно выбьет из седла такого незадачливого кавалериста. С законами механики, к сожалению, не поспоришь. Всадника, стреляющего из лука и обходящегося при этом без стремян, еще худо-бедно можно вообразить, хотя нам представляется, что и такая процедура окажется чрезвычайно трудоемкой. Но вот сражаться без стремян копьем и мечом, будучи вдобавок облаченным в тяжелый доспех, невозможно в принципе.
Чтобы любой ценой объяснить необъяснимое, нередко сочиняются головоломные конструкции. Например, итальянский историк Ф. Кардини вполне справедливо замечает, что совершенно непонятно, каким образом парфянский всадник мог удержаться в седле, не имея стремян и лишенный возможности пользоваться поводьями. «Эта эквилибристика, – пишет он, – поражала и римлян». А вот дальше начинается полет буйной фантазии: «Вероятно, у иранских всадников был способ фиксировать копье на теле лошади при помощи привязей и особых ремней, или же равновесие достигалось благодаря тому, что всадник сильно прижимал колени к бокам лошади, опираясь при этом на колчаны, привязанные сзади к седлу. При столкновении с противником хитрость, быть может, состояла в том, чтобы развернуть торс правым плечом вперед и цепко обхватить ногами тело лошади. Копье было хотя и неудобным в употреблении (тот самый контос четырех с половиной метров длины. – Л. Ш.), но зато грозным оружием». Что можно сказать по этому поводу? Голь на выдумки хитра. Иван Ефремов в своем историческом романе «Таис Афинская» тоже придумал особую посадку при верховой езде, желающие могут ознакомиться…
А вот как выглядит не вымышленная, а действительная эволюция конской сбруи. Уже знакомый нам М. Горелик пишет: «Таранный удар копьем и связанная с ним опасность быть выбитым из седла потребовали предельно крепкой посадки, что привело в XII веке к созданию седла-кресла с высоченной, очень жесткой задней лукой, охватывающей стан всадника, на которую он откидывался, уперев ступни вытянутых ног в стремена. Высокая передняя лука защищала живот рыцаря. Строгость в управлении конем обусловила существование специального мундштука и острых конусовидных шпор». И далее: «…без седла не могло быть и речи о развитии тяжелой кавалерии». Четко и ясно. Где уж тут махать мечом и тыкать пикой во врага…
Если верхом можно ездить и по бездорожью (хотя даже у индейцев прерий существовали нахоженные тропы, вписанные в ландшафт, вдоль которых потом легли современные автомагистрали), то колесные повозки с конной тягой требуют приличных дорог. Испокон веков дороги строили китайцы (император Цинь Ши-Хуанди особым указом регламентировал их ширину), персы за шесть веков до Рождества Христова («Царская дорога», соединявшая столичные Сузы и город Сарды на западном побережье Малой Азии, протянулась на 1600 миль), инки, чьи дороги карабкались по горным хребтам, достигая заоблачных высот в четыре-пять тысяч метров над уровнем моря, и многие другие народы древности. Но больше всех отличились неугомонные римляне, покрывшие сетью великолепных дорог чуть ли не всю Европу. Ко II веку новой эры совокупная длина римских дорог насчитывала около 80 тысяч километров – два земных экватора без малого. Римляне строили на века. Сначала выкапывалась траншея, края которой укреплялись каменными плитами. Если почва была ненадежная, болотистая, в грунт вбивали прочные дубовые сваи. После этого траншею послойно засыпали дробленым камнем, песком, снова камнем, щебенкой, гравием – в наши дни такой слоеный пирог называют дорожной подушкой. И только потом выкладывали собственно дорожное покрытие – идеально подогнанные каменные плиты. Дорога получалась горбатой, выпуклой, чтобы вода беспрепятственно стекала в тщательно обустроенные дренажные канавы. Вдоль обочин устанавливали верстовые столбы, так называемые мильные камни.
Когда Западная Римская империя рухнула под натиском варварских племен, замечательные дороги – краса и гордость Вечного города – быстро разделили судьбу всего остального античного наследия. Бесповоротно утратив стратегическое значение, они спрятались под вековыми наносами или были растасканы бородатыми дикарями, не видевшими в них никакого смысла. Европа вновь заросла дремучим лесом, рассыпавшись на десятки карликовых государств, кое-как связанных между собой разбитой грунтовкой. Только в XVI веке, тысячу лет спустя, во Франции появятся первые дороги с каменным покрытием, но им будет далеко до прямых как стрела римских магистралей. В наши дни археологи расчистили почти 11-километровый участок знаменитой Аппиевой дороги, построенной еще в IV веке до новой эры. Это восьмое чудо света имело около шести метров в ширину и являлось четырехполосным.
Размах древнеримского дорожного строительства впечатляет. Около ста тысяч километров великолепных мощеных дорог на заре христианской эры – вообразить подобное нелегко. В какую копеечку влетела сия затея? Кто строил эти дороги? Рабы? Ведь камни обтесывались вручную, а это неподъемный, тяжелейший каторжный труд. Хорошо, пусть рабы. Но даже подневольных работяг надо обеспечить жильем и худо-бедно кормить, чтобы они элементарно не протянули ноги и трудились производительно. Кто и как доставлял к месту дорожных работ продовольствие, фураж и стройматериалы? Другие рабы? Как выравнивали дорожное полотно? Были ли у римлян надежные катки? Нам об этом ничего не известно. А кто конвоировал и охранял несметные толпы подневольных строителей, чтобы они попросту не разбежались? Сколько требовалось охранников, что они ели и где жили? Ничего не понятно. Как могло получиться, что европейцы только в эпоху пара и электричества, да и то с грехом пополам и не в полной мере, сумели повторить подвиг древнеримских путейцев? Нет ответа.
Есть только хроники, повествующие о славных деяниях императоров и консулов, триумфально въезжавших в поверженные столицы. И когда сравниваешь эти бравые победные реляции с надежно документированной эпохой двухсотлетней давности, становится как-то не по себе. Вплоть до середины XIX столетия преобладает гужевой транспорт, как и две тысячи лет назад. В просвещенной Европе используют лошадей, мулов и быков, в странах Востока – ишаков и верблюдов (как в упряжи, так и под вьюк), а на Крайнем Севере ездят на оленях и собаках. Дороги – сущее наказание, как двести, триста или четыреста лет назад. Они немилосердно пылят летом и раскисают осенью и весной. Чем объяснить этот поразительный, небывалый застой, растянувшийся на тысячу с лишним лет? Убедительных версий, к сожалению, нет, хоть обыщись.
Первые дороги с каменным покрытием – шоссе (от французского chaussee, что в буквальном переводе означает «обутая») – появились, как мы уже упоминали, во Франции в XVI веке. По свидетельству Дени Дидро[26] и Д’Аламбера[27] (вторая половина XVIII столетия), французские шоссейные дороги были «наиболее удобными и наилучшими во всей Европе». В этом немалая заслуга известного французского инженера Ж. Р. Пероне (XVIII век), по проектам которого были возведены прекрасные каменные мосты в Париже, сооружен большой Бургундский канал, проложена канализация и отстроено свыше двух тысяч километров новых дорог. Если на грунтовой дороге каждая тонна груза требовала от лошадей тягового усилия от 80 до 100 кг, то на хорошем шоссе эта цифра съеживалась до 20 кило, то есть в 4–5 раз. Другой француз, Пьер Трезаге, разработал в 1764 году новую систему дорожного строительства, которая к 1775 году получила широкое распространение во Франции. Англичане оперативно подхватили ценную идею: в начале XIX века дороги на Британских островах начали строить по системе Томаса Телфорда и Джона Мак-Адама, которая в основных чертах повторяла наработки Трезаге. С 1818 по 1829 год в Англии проложили свыше 1600 километров новых шоссейных дорог. А как обстояли дела в России? В. С. Виргинский пишет: «В России до 1834 года шоссе строились по системе Трезаге: на дно выемки в земляном полотне укладывали слой камней, на который насыпали два слоя щебня, каждый толщиной 8 сантиметров». Имя Мак-Адама тоже было хорошо известно нашим соотечественникам, «поскольку с 1834 года шоссе у нас стали сооружаться по способу, сходному с системой этого изобретателя (дороги покрывались двумя слоями мелкого щебня толщиной 25 и 15 см)». Шоссе Петербург – Москва протяженностью 658 километров было построено именно так, а к 1840 году в России дополнительно проложили еще 780 километров шоссейных дорог. Едва ли стоит напоминать, что эти жалкие сотни – капля в море для бесконечных российских просторов. В XVII веке воевода пылил до Якутска не меньше трех лет, и даже курьер – важный государственный человек, ехавший на перекладных, – с трудом укладывался в десять – одиннадцать месяцев. Да что там какой-то Якутск, город острожников и каторжан, стоящий на вечной мерзлоте! Туда и сегодня добраться проблематично – не ближний свет. А сколько в литературе XIX века фраз типа: «Давши гостю отдохнуть дней пять с дороги, повезли его представлять соседям». И ведь гость тащился не в Сибирь и не на остров Сахалин, как Антон Павлович Чехов, а всего лишь одолел убогие полсотни верст по разбитому шляху. Вспомним Пушкина: в 1831 году он пишет жене в имение Полотняный Завод, отговаривая ее от поездки в Калугу. Дескать, такое путешествие слишком утомит Наталью Николаевну. Сегодня от Полотняного Завода до Калуги – около полутора часов на автобусе, а на машине – меньше сорока минут.
Вся писаная история человечества – шесть тысяч неторопливых лет от египетских пирамид и до изобретения паровоза – это неизменные 15–20 километров в час. Никакого прогресса. Так ездили при Ганнибале задолго до Рождества Христова, так продолжали ездить при Наполеоне Бонапарте две с лишним тысячи лет спустя. Хорошие лошади ценились на вес золота и порой решали судьбы династий. Неукротимые кавказские горцы души не чаяли в резвых скакунах. Абрек Казбич у Лермонтова, владелец черной как смоль кобылы, мурлычет вполголоса старинную песню:
Много красавиц в аулах у нас, Звезды сияют во мраке их глаз. Сладко любить их, завидная доля; Но веселей молодецкая воля. Золото купит четыре жены, Конь же лихой не имеет цены: Он и от вихря в степи не отстанет, Он не изменит, он не обманет.Элитный рысак помогал сколотить миллионное состояние. Историк Галина Башкирова пишет: «18 июня 1815 года. Окончание битвы при Ватерлоо[28]. Некто мчится в карете по брюссельской дороге к морю, где его ждет корабль. Он прибывает в Лондон. Вестей из Франции еще нет. Пользуясь этим обстоятельством, он буквально в один вечер взрывает биржу. Так Ротшильд[29] основал свою империю».
Европейские дороги были, конечно, лучше российских, но, за редким исключением, тоже отнюдь не блистали. Нашему современнику (живущему не в самой благополучной стране), привыкшему единым махом одолевать сотни верст, просто трудно себе представить степень мучений, связанных с дорогой, каких-нибудь сто пятьдесят – двести лет назад. Это ведь только в кино или дешевых побасках все выглядит романтично: вороные, косящие лиловым глазом, убегающая за горизонт дорога и опереточный ямщик в негнущемся тулупе на козлах. Мы легко забываем, что наша сегодняшняя тысяча километров – это гораздо меньше, чем убогие сорок или пятьдесят верст полуторавековой давности. Мера дискомфорта описанию почти не поддается. Не угодно ли послушать Николая Михайловича Карамзина, знаменитого русского историка и писателя, отправившегося в путешествие по Европе в самом конце XVIII столетия?
«Но нигде мне не было так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи, насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось – кибитка упала в грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде». Впрочем, напуганному Карамзину не пришлось слишком долго мокнуть. Его приютило гостеприимное семейство, обосновавшееся возле дороги. Путешественника напоили горячим чаем, накормили от пуза, а там и Илья уже подоспел с новенькой осью. Однако неприятный осадок все равно остался, да и почтовые станции, мелькающие через каждые 10–12 верст, не произвели впечатления большого достатка: «Везде одинакие – низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих, а в другой живет сам комиссар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды». Вдобавок и случайный попутчик нагнал страху, обругав последними словами прусские дороги. Наемные экипажи тоже не бог весть что: «Прусская так называемая почтовая коляска совсем не похожа на коляску. Она есть не что иное, как длинная покрытая фура с двумя лавками, без ремней и без рессор».
Карамзину вторит Александр Иванович Герцен, отчаливший в благополучную Европу полвека спустя. «Переезд наш из Кёнигсберга в Берлин был труднее всего путешествия. У нас взялось откуда-то поверье, что прусские почты хорошо устроены, – это все вздор. Почтовая езда хороша только во Франции, Швейцарии да в Англии. В Англии почтовые кареты до того хорошо устроены, лошади так изящны, а кучера так ловки, что можно ездить из удовольствия. Самые длинные станции карета несется во весь опор; горы, съезды – все равно. Теперь, благодаря железным дорогам, вопрос этот становится историческим, но тогда мы испытали немецкие почты с их клячами, хуже которых нет ничего на свете, разве одни немецкие почтальоны».
По дороге из Кёнигсберга в Берлин Герцена ожидало еще одно приключение. На одной из почтовых станций ему объявили, что в наличии имеется только пять свободных мест. Александр Иванович тут же вскипел, заспорил и полез на рожон: дескать, у меня билет и расписка в получении денег за семь мест. Тогда из почтовой будки высунулась усатая голова и сказала кондуктору раздавленным голосом:
«Ну, не хочет этот господин пяти мест, так бросай его пожитки долой, пусть ждет, когда будут семь пустых мест».
Герцен язвит: «Обсудив дело, мы, как русские, решились ехать. Бенвенуто Челлини, как итальянец, в подобном случае выстрелил бы из пистолета и убил почтмейстера».
Александр Иванович совершенно напрасно хорохорился. Но так уж повелось, что Запад видится русскому человеку торжеством законности и порядка (и не без оснований!), поэтому любая накладка, разрушающая привычный стереотип, представляется катастрофой. Между тем он мог бы вспомнить свое путешествие на восток десятилетней давности, когда после отсидки в Крутицких казармах его отправили в ссылку в сопровождении жандарма. Жандарм торопился, и кони летели как птицы, однако не все коту Масленица.
«…Когда мы подъехали к Казани, Волга была во всем блеске весеннего разлива; целую станцию от Услона до Казани надобно было плыть на дощанике[30] – река разливалась верст на пятнадцать или больше. День был ненастный. Перевоз остановился, множество телег и всяких повозок ждали на берегу.
Жандарм пошел к смотрителю и требовал дощаника. Смотритель давал его нехотя, говорил, что, впрочем, лучше обождать, что неровен час. Жандарм торопился, потому что был пьян, потому что хотел показать свою власть.
Установили мою коляску на небольшом дощанике, и мы поплыли. Погода, казалось, утихала; татарин через полчаса поднял парус, как вдруг утихавшая буря снова усилилась. Нас понесло с такой силой, что, нагнав какое-то бревно, мы так в него стукнулись, что дрянной паром проломился, и вода разлилась по палубе. Положение было неприятное; впрочем, татарин сумел направить дощаник на мель».
Одним словом, беснующуюся Волгу удалось благополучно пересечь, и вымокший до нитки узник зашел в первый попавшийся кабак, выпил стакан пенного вина, закусил печеным яйцом и отправился на почтамт. Вот так путешествовали по России менее двухсот лет назад – в 1835 году. Эка невидаль – разбитые прусские дороги! Через три года, возвращаясь из вятской ссылки, Герцен писал:
«От Яранска дорога идет бесконечными сосновыми лесами. Ночи были лунные и очень морозные, небольшие пошевни неслись по узенькой дороге. Таких лесов я после никогда не видал, они идут таким образом, не прерываясь, до Архангельска, изредка по ним забегают олени в Вятскую губернию. Лес большей частию строевой. Сосны чрезвычайной прямизны шли мимо саней, как солдаты, высокие и покрытые снегом, из-под которого торчали их черные хвои, как щетина, – и заснешь, и опять проснешься, а полки сосен все идут быстрыми шагами, стряхивая иной раз снег. Лошадей меняют в маленьких расчищенных местах: домишко, потерянный за деревьями, лошади привязаны к столбу, бубенчики позвякивают, два-три черемисских мальчика в шитых рубашках выбегут заспанные, ямщик-вотяк каким-то сиплым альтом поругается с товарищем, покричит „айда“, запоет песню в две ноты… и опять сосны, снег – снег, сосны…»
И только в оценке французских и британских дорог наши классики солидарны. Мнение Александра Ивановича мы уже знаем («…почтовая езда хороша только во Франции, Швейцарии да в Англии»), а вот что пишет Николай Михайлович: «Французская почта не дороже и притом несравненно лучше немецкой. Лошади везде через пять минут готовы; дороги прекрасные; постиллионы[31] не ленивы – города и деревни беспрестанно мелькают в глазах путешественника. В 30 часов переехали мы 65 французских миль…»
О российских дорогах наши респонденты тоже невысокого мнения. Еще Александр Сергеевич Пушкин писал: «Авось дороги нам исправят». Ах, этот замечательный русский «авось»! Сразу видно, что великий поэт ляпнул сие просто так, а в действительности ни на грош не верил в успех. И кто бросит в него камень? Прошло около двухсот лет, а воз и ныне там. Но не сгущаем ли мы краски? Давно известно, что нет пророка в своем отечестве, а потому не стоит ли послушать человека со стороны? Глядишь, и скажет что-нибудь дельное и вдобавок ласкающее слух. Вот, например, Астольф де Кюстин, обломок старинной аристократической фамилии (его дед и отец погибли на гильотине), друг Шатобриана[32], вхожий в салон знаменитой мадам Рекамье, и убежденный консерватор, ехавший в Россию безо всякой задней мысли. Правда, читающая российская публика встретила его книжку в штыки, но, быть может, хотя бы об отечественных дорогах он сказал что-нибудь путное? Послушаем.
«Дорога от Петербурга до Шлиссельбурга плоха во многих местах. Встречаются то глубокие пески, то невылазная грязь, через которую в беспорядке переброшены доски. Под колесами экипажа они подпрыгивают и окатывают вас грязью. Но есть нечто похуже досок. Я говорю о бревнах, кое-как скрепленных и образующих род моста в болотистых участках дороги. К несчастью, все сооружение покоится на бездонной топи и ходит ходуном под тяжестью коляски. При той быстроте, с которой принято ездить в России, экипажи на таких дорогах скоро выходят из строя; люди ломают себе кости, рессоры лопаются, болты и заклепки вылетают. Поэтому средства передвижения волей-неволей упрощаются и в конце концов приобретают черты примитивной телеги».
Но это в конце концов заштатная дорога на Шлиссельбург. Быть может, шоссе Петербург – Москва содержится в образцовом порядке, тем более что по нему регулярно катается государь император? Блажен, кто верует… «Путешествовать на почтовых из Петербурга в Москву – это значит испытывать несколько дней сряду ощущения, пережитые при спуске с „русских гор“ в Париже. Хорошо, конечно, привезти с собой английскую коляску с единственной целью прокатиться на настоящих рессорах по этой знаменитой дороге – лучшему шоссе в Европе, по словам русских и, кажется, иностранцев. Шоссе, нужно сознаться, содержится в порядке, но оно очень твердо и неровно, так как щебень достаточно измельченный, плотно утрамбован и образует небольшие, но неподвижные возвышенности. Поэтому болты расшатываются, вылетают на каждом перегоне, на каждой станции коляска чинится, и теряешь время, выигранное в пути, где летишь в облаке пыли с головокружительной скоростью урагана. Английская коляска доставляет удовольствие только на первых порах, вскоре же начинаешь чувствовать потребность в русском экипаже, более приспособленном к особенностям дороги и нраву ямщиков».
Рискуя надоесть читателю, позволим себе еще одну цитату из де Кюстина, на этот раз о русских ямщиках. Ее весьма занятно сопоставить с мнением аборигена, весьма просвещенного, но ментальная специфика от образования не зависит. Итак, сначала Кюстин:
«Русские ямщики, такие искусные на равнине, превращаются в самых опасных кучеров на свете в гористой местности, какою в сущности и является правый берег Волги. И мое хладнокровие часто подвергалось испытанию из-за своеобразного способа езды этих безумцев. Вначале спуска лошади идут шагом, но вскоре, обычно в самом крутом месте, и кучеру, и лошадям надоедает столь непривычная сдержанность, повозка мчится стрелой со все увеличивающейся скоростью и карьером, на взмыленных лошадях, взлетает на мост, то есть на деревянные доски, кое-как положенные на перекладины и ничем не скрепленные, – сооружение шаткое и опасное. Одно неверное движение кучера – и экипаж может очутиться в воде. Жизнь пассажира зависит от акробатической ловкости возницы и лошадей».
А теперь Александр Иванович Герцен, возвращающийся из Вятки во Владимир. Год почти тот же самый – 1838-й (у Кюстина – 1839-й):
«…Когда я вышел садиться в повозку в Козьмодемьянске, сани были заложены по-русски: тройка в ряд, одна в корню, две на пристяжке, коренная в дуге весело звонила колокольчиком.
В Перми и Вятке закладывают лошадей гуськом: одну перед другой или две в ряд, а третью впереди.
Так сердце и стукнуло от радости, когда я увидел нашу упряжь.
– Ну-тка, ну-тка, покажи нам свою прыть, – сказал я молодому парню, лихо сидевшему на облучке в нагольном тулупе и несгибаемых рукавицах, которые едва ему дозволяли настолько сблизить пальцы, чтоб взять пятиалтынный[33] из моих рук.
– Уважим-с, уважим-с. Эй вы, голубчики! Ну, барин, – сказал он, обращаясь вдруг ко мне, – ты только держись, туда гора, так я коней-то пущу.
Это был крутой съезд к Волге, по которой шел зимний тракт.
Действительно, коней он пустил. Сани не ехали, а как-то целиком прыгали справа налево и слева направо, лошади мчали под гору, ямщик был смертельно доволен, да, грешный человек, и я сам – русская натура».
Стоит ли после этого удивляться, что степенные и благоразумные люди предпочитали отсиживаться дома, а не пускаться во все тяжкие? Не случайно Александр Сергеевич писал:
Им овладело беспокойство, Охота к перемене мест. Весьма мучительное свойство, Немногих добровольный крест.Разве придет кому-нибудь в голову тащиться за семь верст киселя хлебать? А пушкинский Онегин, конечно, странный человек, и ведет он себя с точки зрения здравого смысла XIX века более чем странно: мотается без цели и без пользы, просто так, ради собственного удовольствия.
Между прочим, козьмодемьянская тройка, столь трепетно описанная Герценом, – это классическая российская упряжь, отечественное ноу-хау. В России была популярна и одиночная, и парная езда, и езда тройкой, а также четверней или шестериком. В. С. Виргинский пишет: «Одиночная упряжь лошади включала хомут со шлеей (ремнем, идущим вокруг туловища лошади и поддерживаемым поперечными ремнями, проходившими через ее спину) и дугу, пристегиваемую гужами к оглоблям и хомуту, который стягивался особым ремнем-супонью». А вот в Западной Европе ездили по-другому. Европейская упряжь заметно отличалась от русской. Нагрудные ремни крепились либо к оглоблям, либо к дышлу (при парной езде), по обе стороны которого располагались лошади. В парадные кареты или тяжелые повозки запрягали по четыре или шесть лошадей. Различных вариантов конных упряжек и экипажей существовало великое множество: кареты, то есть комфортабельные рессорные повозки с окнами, дверцами и закрытым кузовом; дормезы – кареты, в которых можно было удобно спать в дороге; возки – более примитивные экипажи, но тоже с дверцами и окнами; кибитки – простые крытые повозки на колесном или санном ходу; брички – легкие полуоткрытые экипажи с кузовом и верхом; дрожки – рессорные коляски, иногда весьма щегольского вида.
Читатель наверняка обратил внимание на почтовые станции, не раз помянутые Герценом, и карамзинских постиллионов. Можно вспомнить и Пушкина: «Так думал молодой повеса, / Летя в пыли на почтовых…» Что за притча? Почтовая служба и в России, и на Западе, где она возникла еще в XVI веке (во Франции), отнюдь не сводилась только лишь к доставке разного рода корреспонденции. Езда на «почтовых» (или на перекладных) ощутимо экономила время и позволяла двигаться значительно быстрей, так как путешественник менял лошадей на почтовых станциях. На Руси она выросла из так называемой ямской гоньбы, которая восходит еще ко временам Монгольской империи, некогда раскинувшейся от Тихого океана до Адриатики. Чингисхан и его преемники были кровно заинтересованы в бесперебойно функционирующей ямской службе, которая связывала самые отдаленные уголки Евразии. По надежным дорогам, содержащимся в образцовом порядке, вихрем летели плосколицые узкоглазые гонцы, двигались купеческие караваны и перемещались войска. В поэме «Рубрук в Монголии» Н. А. Заболоцкий писал:
Он гнал коня от яма к яму, И жизнь от яма к яму шла И раскрывала панораму Земель, обугленных дотла.Ям – это и есть почтовая станция в далеком XIII веке, откуда, кстати, и происходит русское слово «ямщик». В допетровской Руси они жили при ямах, в зной и стужу обслуживали тысячеверстные российские тракты и до XVII века освобождались от налогов.
Почтовая служба в николаевской России имела свои специфические особенности. Сменные казенные лошади стоили денег, и путешественник, собравшийся в дорогу на перекладных, предусмотрительно запасался так называемой подорожной – особым документом, куда вносились его звание, чин и маршрут. Например, пушкинский Онегин, нигде и никогда не служивший (да и сам Александр Сергеевич – чиновник 13-го класса), имел право лишь на трех лошадей. А вот чиновники первого класса могли рассчитывать аж на целых двадцать лошадок, второго – на пятнадцать, а третьего – на двенадцать. Подорожная регистрировалась на заставах, а информация о выехавших или въехавших в столицы публиковалась в газетах. Курьеры и фельдъегери получали лошадей вне очереди (для них были предусмотрены специальные тройки), но, если курьерские лошади находились в разгоне, они забирали любых, бывших в наличии. Что же касается путешественников «по собственной надобности», то они получали лошадей в порядке чинов. Эта громоздкая система регламентировалась петровской Табелью о рангах, которая требовала, «чтоб каждый такой наряд, экипаж <…> имел, как чин и характер[34] его требует».
Курьеры ездили очень быстро, а вот едущие «по своей надобности» обычно проезжали не более 12 верст в час зимой, летом – не более десяти, а осенью – от силы восемь, чему виной осенняя распутица, превращавшая убогую грунтовку в жидкое месиво. В сутки обычно проезжали от 70 до 100 верст. Правда, Герцен пишет в «Былом и думах», что, когда его везли в Пермь, жандарму было велено делать не менее двухсот верст в сутки, хотя дело было в начале апреля. Но это особый случай – Александра Ивановича гнали в ссылку по политической статье, и жандарм, вероятно, имел особое предписание ехать как можно быстрее.
На станциях путешественник платил так называемые прогоны, то есть оплачивал лошадей по таксе, которая колебалась от 8 до 10 копеек за одну лошадь на одну версту.
А вот Ларины, когда повезли Татьяну на смотрины в Москву, ехали, разумеется, «на своих» (или «на долгих»). В подобных случаях лошадей на станциях не меняли, а давали им хорошенько отдохнуть, ночью тоже не трогались с места (это только на перекладных скакали круглые сутки), от чего скорость путешествия заметно уменьшалась. Однако нет худа без добра – одновременно уменьшалась и стоимость поездки. Ю. М. Лотман в комментариях к «Евгению Онегину» приводит замечательную цитату, из которой видно, что представляла собой езда «на долгих»:
«Наконец день выезда наступил. Это было после Крещенья. На дорогу нажарили телятины, гуся, индейку, утку, испекли пирог с курицею, пирожков с фаршем и вареных лепешек, сдобных калачиков, в которые были запечены яйца цельные совсем с скорлупою. Стоило разломить тесто, вынуть яичко и кушай его на здоровье. Особый большой ящик назначался для харчевого запаса. Для чайного и столового приборов был изготовлен погребец. Там было все: и жестяные тарелки для стола, ножи, вилки, ложки и столовые и чайные чашки, перечница, горчичница, водка, соль, уксус, чай, сахар, салфетки и проч. Кроме погребца и ящика для харчей, был еще ящик для дорожного складного самовара. <…> Для обороны от разбойников, об которых предания были еще свежи, особенно при неизбежном переезде через страшные леса муромские, были взяты с собой два ружья, пара пистолетов, а из холодного оружия – сабля. <…> Поезд наш состоял из трех кибиток. В первой сидели я, брат и отец, во второй – тетушка с сестрою, в третьей – повар с горничными девушками и со всеми запасами для стола: провизиею, кастрюлями и проч., и, наконец, сзади всех ехали сани с овсом для продовольствия в дороге лошадей. <…> Разумеется, такие путешествия обходились недорого, так что 20 или 25 рублей ассигнациями, т. е. менее 7 рублей нынешним серебром, на четырех тройках достаточно было доехать до Нижнего – это от нас около 500 верст, а может, и более»[35].
Если современники Александра Сергеевича буквально с полуслова понимали все оттенки «дорожной» темы, то мы сегодня плаваем в ней очень мелко. Вот, скажем, в первой главе Онегин спешит на бал «в ямской карете». Что бы это значило? А все дело в том, что содержать в Петербурге собственную карету с лошадьми и своего кучера было далеко не каждому по карману. Даже Пушкин в 1830-е годы, зрелый человек, отец семейства, известный литератор и редактор журнала, не мог себе позволить такой роскоши. Вынужденный к частым выездам в свет, он имел только карету, а лошадей нанимал. Ю. М. Лотман пишет: «Четверка приходилась для разъезда по городу по 300 руб. в месяц (в 1836 году). Извозчикам или кучерам платили отдельно. Последнюю карету поставил Пушкину в июне 1836 года мастер Дриттенпрейс за 4150 руб. (с городским и дорожным прибором)». Понятно, что у «философа в осьмнадцать лет» собственного выезда быть не могло, поэтому Онегин нанимал ямскую карету. Обычно ее брали на извозчичьей бирже на день, что, между прочим, тоже стоило совсем недешево.
Но Петербург в конце концов столица Российской империи, а жизнь в столицах во все эпохи влетала в копеечку. Между тем цены на экипажи кусались даже в Перми, которая во времена ссыльного Герцена (1835 год) была крохотным деревянным городком, затерявшимся у подножия Уральской гряды. В «Былом и думах» есть замечательная история о неком Чеботареве, местном докторе и большом оригинале, который однажды в своей неподражаемой манере торговал коляску у пермского откупщика.
«– Вы продаете коляску, мне нужно ее; вы богатый человек, вы миллионер, за это вас все уважают, и я потому пришел свидетельствовать вам мое почтение; как богатый человек, вам ни копейки не стоит[36], продадите ли вы коляску или нет, мне же ее очень нужно, а денег у меня мало. Вы захотите меня притеснить, воспользоваться моей необходимостью и спросите за коляску тысячу пятьсот; я предложу вам рублей семьсот, буду ходить всякий день торговаться; через неделю вы уступите за семьсот пятьдесят или восемьсот, – не лучше ли с этого начать? Я готов их дать.
– Гораздо лучше, – отвечал удивленный откупщик и отдал коляску».
Излишне напоминать, что экипаж, который торговал Чеботарев, отнюдь не пушкинская карета с городским и дорожным прибором.
В XVII веке на Западе появились наемные кареты, а через короткое время забегали особые разновидности почтовых экипажей – мальпосты и дилижансы, – которые совершали регулярные междугородние рейсы по расписанию. Эти британские «автобусы» на конной тяге, столь красочно описанные у Диккенса, имели в первой трети XIX столетия четыре внутренних и 10–12 наружных мест на плоской крыше, куда складывался и багаж. Впереди на козлах сидел кучер, а кондуктор помещался сзади. В России быстро подхватили европейское новшество. Первая компания дилижансов, ходивших между Петербургом и Москвой, была организована в 1820 году вельможами М. С. Воронцовым и А. С. Меньшиковым. В народе их сразу же окрестили «нележанцами», поскольку в отличие от комфортабельных барских карет со всеми удобствами в них были только сидячие места. Это было недешевое удовольствие. Дилижансы брали зимой по четыре пассажира, а летом – шестерых, имея места как внутри кареты (100 рублей за место), так и снаружи (60–75 рублей). Дорога из Петербурга в Москву занимала 4–4,5 суток (иногда почти пять). Но это была все-таки экзотика по российским меркам: основным средством сообщения по-прежнему оставались карета, бричка, возок и телега, а зимой – сани.
Пар и чугунка, символ передовых технологий нового века, далеко не сразу потеснили конную тягу. Родоначальником железнодорожного полотна стали рельсовые пути, испокон веков применявшиеся в рудниках и шахтах. Первый локомотив с паросиловой установкой сконструировал англичанин Ричард Тревитик в 1803 году. И хотя его агрегат без особого труда развивал скорость около 30 километров в час, деловые люди не спешили рукоплескать. В 1814 году соотечественник Треветика Джордж Стефенсон предложил вниманию почтеннейшей публики новую модель паровоза с гладкими ведущими колесами. Он с самого начала озаботился совершенствованием не только подвижного состава, но и рельсового пути. Хрупкий чугун заменили на железо (а через короткое время и на сталь), и в 1825 году на северо-западе Англии заработала Стоктон-Дарлингтонская железная дорога длиной 56,3 километра. Окончательной победой паровой тяги на британском рельсовом транспорте можно считать 1830 год, когда железнодорожная ветка соединила центр текстильной промышленности Манчестер и портовый город Ливерпуль. На протяжении 30-х годов XIX века в Англии построили еще несколько железных дорог – Бирмингем – Лондон, Бирмингем – Ливерпуль и др., а вскоре к механизации рельсового хозяйства приступили Бельгия, Франция и США. Техника не стояла на месте: в 1840-х годах лучшие английские паровозы могли развивать скорость до 100 км/ч и более. Тогда же появились закрытые товарные вагоны, в 50-х годах – спальные пассажирские, а в 60-х – пульмановские вагоны-люкс и салон-вагоны.
Это была самая настоящая транспортная революция. Федор Иванович Тютчев, которому довелось с ветерком прокатиться по Европе, отмечал, что пространство удивительным образом съежилось, а города буквально прилепились друг к другу: «Можно переноситься к одним, не расставаясь с другими. Города подают друг другу руку». Мир скукожился, усох и в одночасье сделался гораздо меньше.
В России первая железная дорога – Царскосельская – была построена в 1838 году. На конечной станции (в Павловске) возвели модную штучку – «воксал»[37] с рестораном и концертным залом, куда охотно наезжала состоятельная петербургская публика. Николаевская железная дорога протяженностью более 650 километров, соединившая Петербург и Москву, строилась около десяти лет (1843–1851). Этими булавочными уколами и ограничилось железнодорожное строительство в дореформенной России. Причин тут множество, и одна из них – жестокая борьба, которую вели с путейцами содержатели дилижансов.
3. Весло и парус
Известны три вида людей: живые, умершие и те, кто плавает по морям.
Безымянный древний грекЕсли странствия посуху требовали дорог, которые сплошь и рядом приходилось прорубать в дремучих лесах, или хотя бы караванных троп, змеившихся кратчайшим путем от пункта A до пункта B, то полноводные реки испокон веков были естественными транспортными артериями. Да и море в стародавние времена, как полагают некоторые историки, не столько разъединяло народы, сколько объединяло людей. Когда именно возникло мореплавание, сказать трудно, но похоже, что человек отважился бросить вызов грозной и переменчивой морской стихии задолго до изобретения колеса. Сорок тысяч лет тому назад охотники и собиратели, неутомимо преследуя всполошенную дичь, уже достигли берегов Австралии и Новой Гвинеи, обосновавшись там всерьез и надолго. И хотя уровень моря в ту далекую эпоху был ниже современной отметки метров на шестьдесят, ибо непомерный ледник изрядно «подсушил» мировой океан, прогуляться от Индокитая до Новой Гвинеи, совершенно не замочив ног, было все-таки решительно невозможно. Даже на пике оледенения, когда сухопутные перемычки соединили десятки островов Малайского архипелага, он при всем желании не мог доползти до австралийского побережья и напоминал ветхое, побитое молью кружево, зияющее участками открытой воды около 60 миль шириной. Остается предположить, что наши далекие предки еще в незапамятные времена умели каким-то образом форсировать нешуточные водные преграды. Что именно они при этом использовали – примитивные плоты, связанные из полых бамбуковых стволов, или долбленые челноки с балансиром, как аборигены тихоокеанских островов впоследствии, – можно только гадать: самая древняя лодка, откопанная археологами, датируется VIII тысячелетием до новой эры. Первое весло чуть постарше – его возраст составляет более десяти тысяч лет (8500 год до новой эры).
Но древнейшим средством водного транспорта было, вероятно, самое обыкновенное бревно, плывущее вниз по течению. По свидетельству европейских путешественников, наиболее отсталые племена Новой Гвинеи еще совсем недавно охотно прибегали к услугам этого первобытного чуда техники. Ловко орудуя короткими веслами, они умудрялись выходить в море не только на бревнах, но даже на импровизированных плотиках из корней. От необработанного бревна был только шаг до лодки-однодеревки, искусно выдолбленной из внушительного древесного ствола. На лодках подобного типа, иногда достигавших около восемнадцати метров в длину, некогда плавали южноамериканские индейцы. Для гребли употреблялись или длинные ланцетообразные весла, или короткие весла-гребки, похожие на костыли.
Первые настоящие корабли и даже целые флотилии, принимавшие участие в торговых и военных операциях, появились у египтян. Сначала они ходили исключительно на веслах и только по Нилу, однако чуть позже обзавелись мачтой и парусом и стали полноценными морскими судами. Например, египетская царица Хатшепсут, оседлавшая фараонский престол на излете XVI века до новой эры, снаряжала экспедиции в загадочные страны Пунт и Офир. Где искать эти страны, в точности не знает никто, но большинство ученых сегодня считает, что Пунт, вероятно, располагался в области Африканского рога, на территории нынешних Эфиопии или Сомали, а страна Офир лежала еще южнее – за экватором, на восточном берегу Африки. Шумеры торговали с не менее загадочной страной Дильмун, местонахождение которой по сей день не установлено, и плавали далеко на восток, к устью Инда, где в III–II тысячелетиях до христианской эры процветала высокоразвитая городская цивилизация (Мохенджо-Даро и Хараппа). Однако вполне вероятно, что парус изобрели задолго до того, как была возведена первая пирамида. В распоряжении ученых имеется наскальный рисунок из Восточной Нубии, изображающий парусный корабль, который датируется VI тысячелетием до новой эры.
Если древнейшие цивилизации планеты – египетская, шумерская, протоиндийская – рождались в долинах крупных рек (Нил, междуречье Тигра и Евфрата, Инд), то критская культура бронзового века, получившая название минойской в честь легендарного царя Миноса, сложилась на острове. Уже в конце III – начале II тысячелетия до новой эры на Крите расцветают монументальное зодчество и фресковая живопись, возникает письменность, растут города и широко распространяется обработка бронзы. В отличие от земледельческих цивилизаций египтян, шумеров и протоиндийцев Крит с самого начала был в первую очередь морской державой, да и в континентальной Греции мореплавание всегда стояло на высоте. Ларчик открывается просто. Гористый рельеф Эллады скуповат на плодородные земли, а вот ее фестончатое восточное побережье, омываемое теплыми водами Эгейского моря со звездной россыпью больших и малых островов, представляет собой почти идеальный испытательный полигон для оттачивания мореходных навыков. Балканское береговое кружево изобилует удобными бухтами, а среднее расстояние между клочками скалистой суши обычно не превышает пятидесяти километров. В ясную и безоблачную погоду, которая в этих краях не редкость, моряки никогда не теряли из виду землю, даже если их путь лежал поперек всего Эгейского моря – к берегам Малой Азии. Одним словом, капризная матушка-природа распорядилась так, что Эгеида стала не только колыбелью европейской цивилизации (ибо современная Европа взросла на устойчивом фундаменте античной натурфилософии, математики и естествознания), но и колыбелью мореплавания.
Мореплавание в бассейне Эгейского моря возникло в незапамятные времена – примерно восемь, а то и все десять тысяч лет назад. Не так давно на полуострове Пелопоннес близ древних Микен археологи обнаружили стоянку каменного века, где люди обитали на протяжении семнадцати тысяч лет – с XX и по III тысячелетие до новой эры. В слое, относящемся к VIII тысячелетию до новой эры, удалось отыскать изделия из обсидиана – вулканического стекла. Между тем единственное месторождение черного обсидиана в Восточном Средиземноморье находится на острове Милос (прославленную Венеру Милосскую нашли именно там), который лежит в 140 километрах от континентальной Греции. Получается, что уже десять тысяч лет назад жители Эгеиды смело выходили в открытое море.
О кораблях критян нам известно еще меньше, чем о царе Миносе. Бесспорно только, что их парусно-гребные суда были прочны, надежны и обладали неплохими по тем временам мореходными качествами. Именно критским мастерам принадлежит честь изобретения остойчивого килевого судна, снабженного шпангоутами, хотя суда подобного типа испокон веков строили и в Сирии, и в Финикии. В отличие от плоскодонных кораблей, на которых плавали древние египтяне, килевое судно прекрасно выдерживает удары волн и совершенно незаменимо при плаваниях в открытом море, особенно в непогоду. Находясь в зените своего могущества, критяне в погоне за скоростью начинают строить палубные корабли из ливанского кедра, оснащенные двумя и даже тремя мачтами. Главным движителем этих минойских бригантин становится парус, хотя весьма маловероятно, что они могли идти против ветра. Искусством ходить галсами, ставя парус наискосок к ветру, впервые овладели троянцы, располагавшие сильным флотом. Впрочем, это скорее исключение, чем правило, ибо на протяжении всей античной эпохи ведущей судовой тягой оставалась мускульная сила гребцов, а плавания в большинстве случаев были каботажными[38]. Моряки остерегались потерять берег из вида, а паруса ставили только при попутном ветре. Это в равной степени касается и греков, и критян, и даже прославленных финикийцев, обогнувших Африку в конце VI века до новой эры.
Финикия – это узкая полоска тучной земли на восточном побережье Средиземного моря, прижатая к воде отрогами Ливанских гор. После заката микенской Греции города-государства Финикии – Библ, Сидон, Тир и некоторые другие – сделались полновластными хозяевами внутренних морей Средиземноморья, сменив на этом поприще легендарных критян. Их корабли, срубленные из прочного ливанского кедра, – «круглые» торговые суда, увенчанные высоким форштевнем с конской головой, и хищные низкобортные биремы с двумя ярусами весел, снабженные мощным тараном, – бороздили Средиземное море от Гибралтарского пролива и до дельты Нила. В начале I тысячелетия до новой эры колонии финикийцев вырастают на северном побережье африканского континента, на южных берегах будущей Франции и Пиренейского полуострова. Они колонизуют Кипр, Мальту, Сардинию, Корсику и Балеарские острова. Карфаген (Карт-Хадашт по-финикийски), основанный в 825 или 814 году до новой эры на территории современного Туниса, номинально подчинялся суровому Тиру, но фактически пользовался полной самостоятельностью. Карфагенская олигархическая республика постепенно объединила разрозненные финикийские колонии, щедро облепившие североафриканское побережье, покорила многочисленные ливийские племена и стала самой влиятельной силой в Западном Средиземноморье. Тороватые и ушлые пунийцы[39] смело выходили в Атлантику через Гибралтарский пролив, а в VI веке до новой эры на 60 больших кораблях двинулись на юг, вдоль западного побережья Африки, основали несколько торговых поселений и достигли берегов Гвинейского залива. Эту беспримерную экспедицию затеял и возглавил адмирал Ганнон, один из двух соправителей Карфагенской республики.
Древние греки тоже были не лыком шиты. Во второй половине IV столетия до Рождества Христова массалиот Пифей тоже прошел Столпами Геракла (так греки называли Гибралтарский пролив), но повернул не на юг, как пуниец Ганнон двести лет тому назад, а на север, к неведомым сумеречным землям, лежащим возле полярного круга. Он пересек жуткий Бискайский залив, обогнул Британские острова, достиг берегов Ютландии и посетил загадочную страну Туле, местонахождение которой не удалось окончательно идентифицировать. Скорее всего, речь идет о территории Норвегии на широте Тронхёйма[40], но некоторые ученые всерьез полагают, что Пифею удалось достичь неприветливых берегов Гренландии и даже воочию лицезреть плавучие льды за полярным кругом.
Что же касается древнегреческих многоярусных кораблей, то о них стоит поговорить отдельно, потому что от гигантомании античных хроник порой бросает в дрожь. Когда читаешь о гребных судах с двумя десятками весельных ярусов и водоизмещением свыше четырех тысяч тонн, становится как-то не по себе. Если же вспомнить, что испанский парусный галион XV века водоизмещением 2000 тонн был практически неуправляем и не мог ходить круто к ветру, поневоле задумаешься. Кстати, англичане учли горький опыт испанцев и не строили парусников с водоизмещением более 600 тонн – такие корабли были не только легче, но и не в пример быстроходнее.
Что нам известно о мореходных качествах трирем – античных боевых кораблей с тремя рядами весел по каждому борту? Если верить источникам, суда подобного типа были в свое время весьма популярны и составляли бо́льшую часть военных флотов. В отдельные периоды своей истории Афины, например, располагали флотом в 200 трирем, для чего требовалось примерно 34 000 обученных гребцов. Начнем с того, что сам факт реального существования трехпалубных кораблей (не говоря уже о пентерах, гептерах или октерах – судах с пятью, семью и восемью рядами весел соответственно) вызывает большие сомнения. Средневековые галеры – парусно-гребные суда, благополучно дожившие до половины XVIII столетия (вспомните хотя бы Гангут), – несли по каждому борту всего лишь один-единственный ряд весел. Они плавали вдоль берегов, не отваживаясь выходить в открытое море, а при малейшей непогоде спешили укрыться в ближайшей гавани. Их максимальная скорость не превышала четырех узлов, да и этот результат достигался крайним напряжением сил. А теперь зададимся простым вопросом: если бы дополнительные весельные ярусы могли хоть сколько-нибудь оптимизировать ходовые качества этих убогих посудин, неужто европейские корабелы упустили бы такой шанс?
Новое время – новые песни. Когда мировые державы Античности рассыпались в прах, канули в небытие и чудовищные многоярусные суда греков и римлян. Безраздельными хозяевами европейских морей стали воинственные скандинавские викинги, терроризировавшие берега Англии, Франции и Германии с VIII по XI век. Свирепые язычники в рогатых шлемах неожиданно выныривали из туманных далей Северной Атлантики и обрушивались на мирные веси и грады подобно стремительному самуму. Их верткие корабли проникали далеко в глубь континентальной Европы по крупным рекам. Людям казалось, что близится конец света, а католическое духовенство отчаянно молилось, упадая на равнодушный камень: «Боже, избавь нас от неистовства норманнов!»
Как же выглядели эти замечательные корабли, наводившие в свое время смертельный ужас на жителей Западной и Восточной Европы на протяжении без малого трехсот лет? Давайте обратимся к ископаемому судну из Гокстада, бесспорному шедевру кораблестроительного искусства, обладавшему, по единодушному мнению экспертов, великолепными мореходными качествами. Эта сравнительно небольшая посудина, найденная в 1880 году, выставлена сегодня в университетском дворе города Осло на всеобщее обозрение. Гокстадский корабль – воплощенное изящество, радующее глаз безупречным лаконизмом своих обводов. Его длина от носа до кормы чуть больше 23 метров (20,5 метра по ватерлинии) при максимальной ширине около шести метров. Массивный 19-метровый киль изготовлен из цельного дубового ствола, а высота судна от основания киля до планшира составляет примерно два метра. Обшивка выполнена из дубовых досок, которые соединяются внакрой, наподобие черепичной крыши. К шпангоутам доски крепились частично с помощью деревянных и железных гвоздей, а частично – путем своеобразной шнуровки, для чего использовались еловые корни, лыко и полоски китовой кожи. Подобное конструктивное решение было весьма остроумной технической находкой, поскольку обеспечивало корпусу судна эластичность и прочность в одном флаконе: гибкие доски могли легко смещаться друг относительно друга и тем самым без труда противостояли увесистым ударам океанских волн. Одиннадцатиметровая мачта несла 12-метровую рею, на которой был подвешен большой прямоугольный парус из тяжелого сукна площадью около 70 квадратных метров. Площадь паруса регулировалась с помощью системы рифов и линей, так что судно из Гокстада могло идти не только в галфинд (при боковом ветре), но и в крутой бейдевинд[41], то есть против ветра, поворачивая с галса на галс.
Мачта была съемной: ее основание вставлялось в прочный дубовый чурбан со сложной системой пазов (на севере его называли «старухой»), который, в свою очередь, крепился к килю. Чтобы увеличить высоту борта, норманны подвешивали по обеим сторонам верхнего пояса обшивки судна свои круглые щиты впритык друг к другу, которые ярко блестели на солнце точно шляпки исполинских гвоздей. Драккары викингов могли ходить и на веслах (на гокстадском корабле их было 32 штуки), а из-за малой осадки, которая никогда не превышала полутора метров, идеально подходили для стремительных набегов на побережья. Однако в первую очередь они были все-таки кораблями открытого моря и задумывались как полноценные парусники, наподобие каравелл и фрегатов позднейших веков. Весла использовались эпизодически и служили, как правило, сугубо вспомогательным приспособлением, на случай штиля или при плавании в узких фьордах, на реках и мелководье, где было необходимо бесперечь маневрировать. Вдали от берегов весла убирали, отверстия в бортах тщательно задраивали, поднимали паруса, и остроносый корабль легко скользил по пенным барашкам, лавируя против ветра. Жесткий массивный киль и подвижные сочленения корпуса придавали норманнским судам одновременно прочность и гибкость, что позволяло скандинавским мореходам совершать беспримерные вояжи в бурных и капризных водах Северной Атлантики. Управление кораблем осуществлялось при помощи рулевого весла, которое всегда крепилось на корме по правому борту. Кстати, отсюда происходит термин «штирборт», что в дословном переводе означает «рулевой борт».
Между прочим, высокие мореходные качества скандинавских судов удалось проверить экспериментально. В 1893 году была построена точная копия корабля из Гокстада, на котором норвежская команда менее чем за месяц пересекла Атлантический океан в штормовую погоду, проделав путь от Бергена[42] до Нью-Йорка. По окончании плавания капитан Магнус Андерсен, затеявший это отчаянное путешествие, дал норманнскому судну самую высокую оценку, специально отметив большую легкость в управлении – даже в бурю с рулем без труда справлялся один человек. Как ни парадоксально, но конструкция тысячелетней давности с рулевым веслом по правому борту оказалась куда надежней современного решения (руль на ахтерштевне), так что редкая смекалка и высочайшее мастерство северных корабелов получили дополнительное весомое подтверждение. В 1932 году капитан Фолгар повторил одно из путешествий Колумба на корабле, построенном по образцу 18-метрового норманнского судна, и на нем же вернулся обратно в Норвегию через остров Ньюфаундленд. Были и другие аналогичные попытки, причем капитаны, управлявшие новоделами кораблей викингов, всякий раз отзывались о них в самой превосходной степени. Весьма примечателен тот факт, что, хотя обшивка судна от души елозила взад-вперед (во время плавания Магнуса Андерсена планшир смещался на 15 сантиметров относительно первоначального положения), доисторический кораблик упорно не давал течи, ибо все соединения и щели были добросовестно проконопачены просмоленной овечьей шерстью и щетиной – в полном соответствии со старинными рецептами.
Итак, высокие мореходные качества норманнских драккаров сомнений не вызывают. А вот как скандинавские штурманы находили дорогу в открытом море? Если каботажное плавание (скольжение вдоль береговой линии) дело сравнительно нехитрое, то равнодушный океан без единого надежного ориентира – совсем другой коленкор. Когда вокруг нет ничего, кроме беспокойной водной пустыни с опрокинутым над ней слепым щитом небосвода, выцветшим от холодных ветров, простого умения лихо ворочать рулем уже явно недостаточно. Чтобы вычислить курс и строго его придерживаться вдали от берегов, никак не обойтись без навигационных приборов – лага, секстана и компаса. Лаг представляет собой вертушку, буксируемую на лине, и служит для определения скорости и расстояния, пройденного судном. Бывает еще гидравлический лаг, который измеряет возникающий при ходе судна динамический напор воды. Секстан (или квадрант, его более примитивная версия) – это угломерный инструмент, применяемый для измерения высоты небесных светил, с его помощью определяют местоположение корабля. Той же цели служит и компас – прибор для ориентировки по сторонам горизонта, указывающий направление географического (истинного) или магнитного меридиана, которые, как известно, не совпадают. Излишне говорить, что в распоряжении викингов ничего подобного, разумеется, не было, ибо все эти хитроумные устройства появились в Европе не раньше позднего Средневековья или эпохи Возрождения. Поэтому античные мореплаватели – финикийцы, греки и римляне – осторожно ползали вдоль берегов, не рискуя выходить в открытый океан, который был для них абсолютной terra incognita[43]. Даже впечатляющие путешествия Ганнона и Пифея, несмотря на изрядную протяженность, оставались типичным каботажным плаванием. Кроме того, парусно-гребные античные суда были весьма несовершенны и не шли ни в какое сравнение с поворотливыми кораблями норманнов.
Сегодня мы знаем, что скандинавские мореходы умели определять местоположение корабля по солнцу и звездам и измерять глубину с помощью линя. В хорошую погоду они могли без труда пройти за сутки до двухсот и более километров, однако навигационное искусство норманнов не ограничивалось скупым перечнем стандартных приемов. Изучив вдоль и поперек окружавшие их моря, они замечательно умели ориентироваться по цвету воды и скоплениям облаков, по морским тварям и птицам, по сахарному блеску плавучих льдов, водорослям, течениям и ветрам. Иными словами, кораблевождение скандинавов опиралось на богатейшую историческую традицию, которая передавалась из уст в уста, от мастера к ученику, и вряд ли может быть изложена сколько-нибудь последовательно в письменном виде. Это было в значительной степени интуитивное знание, обширный реестр малозаметных примет, которые следовало постигать на своем собственном горьком опыте, набивая шишки.
Спору нет, отменное чутье и знание разнообразных примет – штука полезная, но в дальних морских странствиях этим малым джентльменским набором, увы, не обойтись. Чтобы уверенно прокладывать курс в открытом море, вне видимости береговой линии, надо более или менее точно уметь устанавливать местонахождение корабля. Как известно, викинги не ограничивались осторожным прощупыванием изрезанного фьордами норвежского побережья и вояжами к Британским островам, но одолели грозный Бискайский залив и через Гибралтар проникли в Средиземное море, оставив после себя кровь и пепел в Южной Италии, на Сицилии и в Леванте. Им покорились Балтика и студеные воды полярных морей, и норманнские корабли, поднимаясь до ледовых широт, бросали якоря у негостеприимных берегов Шпицбергена и Новой Земли. Неукротимое морское племя заселило Исландию и Гренландию, а на излете первого тысячелетия христианской эры сумело пересечь Атлантический океан, высадившись на восточном побережье североамериканского континента.
В те далекие времена главным навигационным параметром при плаваниях через Атлантику являлась широта. Если долготой еще можно с грехом пополам пренебречь, то определение широты – процедура совершенно необходимая, и скандинавские мореходы наверняка умели это делать, хотя мы не знаем в точности, какими инструментами они пользовались. Правда, в источниках упоминается, например, некий исландец по имени Одди Звездочет, который жил на севере острова в конце X века и на протяжении года еженедельно отмечал в специальной таблице полуденное склонение солнца. Если взять деревянный шест и нанести на него зарубки в соответствии с расчетами Одди, то он превратится в простейший угломерный инструмент. С помощью такого шеста мореплаватель в любой момент сможет определить местонахождение своего корабля: южнее он или севернее того места, где производились наблюдения. Курс по широте можно корректировать и с помощью самых приблизительных и грубых методов, например, измеряя длину полуденной тени или высоту Полярной звезды над горизонтом (норманны называли ее Путеводной). За единицу измерения принималась длина большого пальца, ладони или руки. Гвин Джонс, автор книги «Викинги», пишет:
«Если морякам, попавшим в шторм (а такое случалось нередко), удавалось вернуться на нужную широту и избрать правильное направление, они рано или поздно добирались до цели. Плыть по широте было не слишком сложно, и, вероятно, именно поэтому в записанных в XIII веке сагах морские странствия выглядят вполне будничным и не слишком опасным занятием. Обычно говорится, что плавание, например, из Осло-фьорда в Брейдафьорд в Исландии, или из Брейдафьорда в гренландское Восточное поселение, или из Восточного поселения в Лейфсбудир в Виноградной стране – Винланде, было благополучным, либо что ветер был благоприятным, либо что корабль отнесло в сторону, но в конце концов он достиг берега». (Винландом называлась колония норманнов в Северной Америке.)
Имеются основания полагать, что скандинавские мореходы умели вести навигационные наблюдения и в пасмурную погоду. Для этой цели применялся кальцит, или так называемый исландский шпат (в источниках его называют «солнечным камнем»), обладающий способностью к поляризации света, с помощью которого не составляет большого труда определить положение солнца, даже если оно скрыто за облаками. И хотя вопрос об использовании викингами «солнечного камня» до сих пор остается открытым, ряд эпизодов из «Книги Плоского острова» и некоторых других источников проще всего истолковать именно таким образом. Кроме того, представляется вполне вероятным, что в распоряжении норманнов имелся и простейший компас. При раскопках древнего гренландского поселения в 1948 году был обнаружен фрагмент прибора, который считают элементарным пеленгатором: деревянный диск, разбитый на 32 деления, вращался на рукоятке, продетой через отверстие в центре, а по диску ходила игла, указывавшая курс. Правда, Джонс полагает, что «такая подробность в определении направлений напоминает скорее о позднем Средневековье, нежели об эпохе викингов; у скандинавов существовали названия для восьми сторон горизонта, и естественней было бы увидеть на их компасе восемь делений». Как бы там ни было, но находка, бесспорно, заслуживает внимания, тем более что норманны, по мнению некоторых историков, умели ориентироваться по сторонам света с помощью кусочков магнитной руды.
Однако самыми выдающимися мореходами древности были все-таки океанийцы[44], населявшие бесчисленные острова, рассеянные на акватории Тихого океана. Люди, не имевшие понятия о железных инструментах и простейшем навигационном оборудовании, сотворили настоящее чудо, перед которым бледнеют не только подвиги норманнов в Северной Атлантике, но и трансокеанские плавания европейцев несколько столетий спустя. Мы не сильно погрешим против истины, если скажем, что предки островитян были самыми выдающимися мореходами нашей планеты, ибо каботажные плавания в Тихом океане исключаются по определению. Чтобы преодолеть сотни и тысячи миль, разделяющие соседние архипелаги, нужно решиться на отчаянный шаг – смело выйти в открытое море, навсегда оставив берег за горизонтом, а ведь, например, португальские капитаны даже в XV веке старались не терять землю из вида. Тихий океан вдвое больше Атлантики, и если сопоставить протяженность норманнских плаваний в северном ее уголке с дерзкими тысячемильными вояжами полинезийцев, подвиги викингов в полярных морях покажутся всего-навсего робким топтанием на месте.
Океанийцы строили суда двух типов: лодки с одним или двумя балансирами и двухкорпусные лодки – катамараны. Суда первого типа представляли собой изящный узкий челнок, к обоим бортам которого с помощью поперечных перемычек крепился балансир (или аутригер) в форме длинного куска легкого дерева. Балансир лишь слегка касался воды, поскольку играл роль противовеса, увеличивающего остойчивость такой легкой и узкой лодки. Чтобы защитить верткое суденышко от ударов океанских волн, на борта долбленого челнока нашивались доски, которые крепили к шпангоутам и килю с помощью прочного шнура из волокон кокосовых орехов. Шнур пропускался через отверстия, просверленные по краям досок. В полинезийской песне о мастерах-судостроителях поется:
Проденешь ее изнутри – она выйдет снаружи, Проденешь ее снаружи – она выйдет изнутри, Туже затяни ее, крепче завяжи ее!Подветренную сторону корпуса лодки, напоминающей каноэ, делали почти плоской, а борт, обращенный к балансиру, выпуклым. Подобная форма кажется несуразной только на первый взгляд, а в действительности говорит о неплохом знании законов гидродинамики. Лодки с балансиром были весьма популярны в Микронезии, но их хорошо знали и туземцы двух других регионов Океании – полинезийцы и меланезийцы. Ходили они обычно под треугольным парусом, изготовленным из циновок или листьев пандануса[45]. Треугольный парус был знаком еще арабам, от которых его позаимствовали народы Средиземноморья, и когда норвежские викинги увидели непривычные треугольники на мачтах итальянских кораблей, то окрестили их «латинскими». Сегодня это слово стало морским термином, но океанийский треугольный парус имеет свои особенности. Его острие направлено вниз, а в верхней части он имеет глубокий дугообразный вырез, так что вся конструкция напоминает по форме клешню краба и обладает весьма высоким коэффициентом полезного действия. При попутном ветре океанийские лодки с балансиром легко скользят по волнам, развивая скорость до двадцати узлов[46] (около сорока километров в час). Это очень приличная величина, которая доступна далеко не всякой современной яхте и даже моторной лодке. Правда, у стремительных и поворотливых челноков с балансиром было два недостатка, осложнявших кораблевождение. Немецкий путешественник Пауль Вернер Ланге пишет:
«Поскольку паруса из циновки невозможно зарифить тем же способом, что полотняные, при штормовой погоде, чтобы уменьшить площадь парусности, приходилось прибегать к помощи фалов. Кроме того, существовала еще одна трудность, свойственная лодкам с балансиром. Балансир, служащий противовесом парусу, наполненному ветром, должен быть всегда повернут к ветру. Поэтому на лодках с балансиром невозможно сделать поворот оверштаг[47] способом, который обычно практикуется на парусных судах. Проблема решается настолько же просто, насколько и гениально. Лодку кладут в положение галфинд, то есть бортом к ветру, свободно отпускают парус, травят шкот и поворачивают всю оснастку вокруг мачты так, что корма превращается в нос. Как только парус поднят, галс закреплен, а рулевое весло перенесено на другой конец лодки, можно продолжать плавание».
Галс в данном случае означает не курс судна от поворота до поворота («Поворачивай на другой галс!» – кричал попугай Сильвера в «Острове сокровищ»), а корабельную снасть, удерживающую на должном месте нижний наветренный угол паруса. Иными словами, балансирные лодки океанийцев могли без труда ходить круто к ветру, только переход с галса на галс (а вот здесь галс означает «курс») осуществлялся несколько необычным способом, при котором нос и корма менялись местами.
Если лодки обитателей Микронезии были сравнительно невелики, то меланезийские суда – лакатои – нередко достигали в длину восемнадцати метров и оснащались сложной системой балансиров, иногда из нескольких штук. Такие лодки имели два больших треугольных паруса, направленных острием вниз с дугообразной выемкой наверху (уже знакомая нам клешня краба), и вмещали до 50 воинов или свыше 30 тонн полезного груза. Между фальшбортом и балансиром устанавливалась платформа, на которой размещались запасы продовольствия и груз. Суда подобного типа с высоко вздыбленными кормой и носом богато украшались цветными изображениями людей и животных и перламутровыми инкрустациями, а на форштевень насаживали панцири крупных улиток и талисман – резную деревянную фигурку духа-покровителя. Бывало, что здесь же торчали отрубленные головы врагов – пиратские трофеи.
Но абсолютные чемпионы океанийского судостроения, разумеется, полинезийцы. Кроме простых балансирных лодок различных типов, предназначенных, так сказать, для ближней разведки боем, они строили катамараны – двухкорпусные парусники внушительных размеров, способные преодолевать тысячи миль открытого океана. Как правило, длина таких лайнеров не превышала двадцати метров, но нередко мастера спускали на воду тридцати– или даже сорокаметровые корабли, принимающие на борт от 50 до 150 человек (до трехсот, по некоторым данным). На прочный киль и шпангоуты нашивали доски, пригоняя их друг к другу без малейшего зазора, так что конопатить внешний борт нужды не было. Обшивка фиксировалась вышеописанным способом – с помощью крепкого шнура, выделанного из волокон кокосовых орехов. Остов полинезийского катамарана – это две одинаковые большие лодки, соединенные между собой поперечными балками, на которые настилалась платформа. Такое оригинальное конструктивное решение не только позволяло взять на борт значительный груз, но и придавало судну хорошую остойчивость, сохраняя прекрасные ходовые качества.
Парусная оснастка двухкорпусных лодок полинезийцев дальнего следования непрерывно эволюционировала. Пауль Ланге пишет, что первые катамараны несли на подветренном корпусе две вертикальные мачты с треугольными парусами, но со временем их место занял алебардообразный парус в виде половинки клешни краба на одной-единственной мачте. Еще позже появился типичный океанийский треугольный парус, который устанавливали на короткой мачте, наклоненной вперед. Лодки подобной конструкции первым из европейцев увидел в XVII веке голландский мореплаватель Абель Тасман у берегов архипелага Тонга. Они резво бегали по волнам, оставляя за собой пенный след и развивая приличную скорость – не менее восьми узлов. А к XVIII столетию, когда у островов Тонга появились корабли Джеймса Кука, полинезийцы реконструировали не только парусную оснастку, но и профиль своих катамаранов. Теперь корпус с наветренной стороны стали делать меньших размеров и широко практиковать точно такой же способ поворота, как у микронезийских балансирных лодок.
На палубе полинезийских судов, функцию которой выполняла платформа между корпусами, отводилось место для очага и размещались хижина, груз и продовольствие. Слово Паулю Ланге: «Набор продуктов в дорогу состоял из большого количества вкусных „консервов“, которые брали с собой в плавания, длившиеся неделями. Например, пои – кашеобразное, слегка кислое, очень долго хранящееся любимое кушанье полинезийцев, приготавливаемое из муки клубней таро, – сушеные бататы и плоды хлебных деревьев, мелко нарезанная сердцевина плодов пандануса и вяленая рыба. Запеченные клубни ямса могли оставаться годными в пищу целый год, а кокосовые орехи, которые везли с собой в огромных количествах, являлись не только очень вкусной едой, но и дополнительным запасом жидкости».
Погрузив на борт своих вместительных двухкорпусных лодок запас провианта, женщин, небогатый скарб, домашних животных и культурные растения, «плывущие в даль», как именовали себя полинезийские мореходы, навсегда покидали родные берега и уходили в неведомое, без устали штурмуя тихоокеанские горизонты. Размах и дерзость их начинаний не имеет аналогов в истории человечества: оставив за кормой архипелаги Западной Полинезии, они за несколько столетий расселились по всему великому океану, проникнув до Гавайских островов, Новой Зеландии, острова Пасхи, берегов американского континента и границы антарктических паковых льдов. И если вспомнить, что суда полинезийцев строились исключительно с помощью таких простейших инструментов, как акульи зубы, каменные тесла и раковины моллюсков, и не имели ни одной металлической детали, то уважение к этим морским бродягам возрастает стократ.
Чтобы уверенно пересекать тихоокеанские просторы почти в любых направлениях, полинезийские мореходы должны были овладеть непростым искусством навигации вдали от берегов. Пускаться в далекое плавание на авось, не имея представления о господствующих течениях и ветрах, – затея безнадежная и смертельно опасная. И океанийцы, шлифуя навыки кораблевождения из года в год на протяжении веков, сделались со временем непревзойденными, феноменальными навигаторами. Не имея ни секстана, ни компаса, ни лага, они безошибочно находили дорогу посреди убийственно однообразной водной пустыни. Днем им указывали верное направление солнце, устойчивый ветер, висящие в небе птицы, кучевые облака, неподвижно застывшие над клочком далекой суши, и морская зыбь (движение волн в Тихом океане отличается редким постоянством), а ночью ориентировались по звездам, хотя в тропических широтах это весьма нелегкая задача. Но первопроходцы южных морей досконально изучили звездное небо и прекрасно знали, когда и какие звезды появляются над горизонтом. Они следили за их движением по небосводу, а путеводные светлячки, висящие низко над горизонтом, помогали им отыскать нужное направление. Они могли по памяти описать положение небесных светил в разные времена года, что вполне заменяет компас при почти всегда безоблачном экваториальном небе.
Кроме того, в распоряжении океанийских мореплавателей имелось весьма оригинальное изобретение – так называемая прутиковая морская карта, помогавшая вычислить оптимальный курс среди редкой путаницы тихоокеанских архипелагов. Разумеется, сие причудливое и хаотическое переплетение стебельков и раковин даже отдаленно не напоминало карты европейцев на бумаге или пергаменте, но полинезийские моряки без труда ориентировались в этой каше, где раковины морских улиток обозначали острова, а древесные прутья и жилки пальмовых листьев – океанические течения, господствующие ветра и наиболее предпочтительные маршруты. Не следует забывать и о песнях народов Океании (в первую очередь – полинезийских, ибо только они сохранили историческую память о своем далеком прошлом), которые не только славили деяния предков и учили, как строить лодки, но и выступали в качестве своеобразных лоций, поясняющих, как лучше всего добираться от острова к острову. Например, на Гавайских островах удалось записать старинные песни о Сотворении мира, и в одной из них повествуется, в частности, и о том, как были «развешаны» на небесах путеводные звезды (перечисляются названия восьмидесяти одной звезды). Указано не только взаимное расположение звезд, но и такие нюансы, над каким островом (из числа обжитых) одна из них поднимается над горизонтом выше прочих. В древнем таитянском предании говорится:
Поплывем, но куда же нам плыть?
Поплывем на север, под Пояс Ориона.
Курс на это созвездие, которое у таитян именовалось чуточку иначе – Меремере, держали бесстрашные моряки, достигшие приблизительно в X веке Гавайского архипелага. Впрочем, мнения специалистов на сей счет расходятся – точная цифра плавает в широком промежутке от VII до XIV столетия. Не станем попусту ввязываться в дискуссию профессионалов. В конце концов, какая разница – четырнадцатый век или седьмой? Поглядите лучше на карту: Таити и Гавайские острова разделяет, мягко говоря, очень нехилое расстояние – 2400 морских миль (почти четыре с половиной тысячи километров), и люди, которые умудрились его безболезненно преодолеть, ориентируясь по солнцу, звездам и морской зыби, по праву заслуживают почетного титула великих мореплавателей.
Долгое время бытовало мнение, что лодки островитян – жалкие ореховые скорлупки, которым не под силу преодолеть тысячи миль открытого океана. Смеем полагать, что читатель уже давно убедился в полной безосновательности подобной точки зрения, ибо ходовые качества океанийских судов трудно переоценить. Более того, принципиальная возможность дальних морских экспедиций была показана в эксперименте, проведенном в 1977–1978 годах. Группа энтузиастов построила классический катамаран по традиционному полинезийскому рецепту с грузоподъемностью в 11 тонн и размерами 18×4,5 метра. Экипаж состоял из 15 человек, а на борт погрузили местные продукты питания в качестве провианта, свинью, собаку, двух кур и семена растений. Эта лодка под названием «Хокулеа» без особого труда преодолела за 35 дней пять тысяч километров, разделяющие острова Мауи (Гавайский архипелаг) и Таити. Затем она повторила тот же самый маршрут в обратном направлении. И хотя временами приходилось идти против ветра и пересекать мощные океанские течения, беспримерная эскапада завершилась вполне успешно.
А вот на чем плавала христианская Европа и те отчаянные сорвиголовы, что избороздили весь Мировой океан в XV–XVIII веках? Со времен падения Западной Римской империи в 476 году после Рождества Христова и вплоть до XVI столетия самым популярным судном на Средиземном море оставалась галера. Средневековая галера была весьма живописна: стройное низкобортное гребное судно с острыми обводами по ватерлинии, щедро украшенное золоченой резьбой и пестрыми флагами, но за ее пышным фасадом крылась нищета. Эти корабли ходили в основном на веслах и вблизи берегов, а косое парусное вооружение играло сугубо вспомогательную роль. Вдоль галерных бортов располагался ряд весел, каждое длиной до 15 метров и до 300 кг весом. Разумеется, управляться с такой махиной одному гребцу было не под силу, поэтому каждое весло обслуживала бригада от пяти до десяти человек. Держась за специальные скобы (вальки были настолько толсты, что рука их не могла обхватить), гребцы вставали с банок и делали несколько шагов вперед и назад в соответствии с заданным темпом гребли (как правило, до 22 гребков в минуту). Управление судном осуществлялось при помощи рулевого весла, которое обычно крепилось на корме по правому борту и мало чем отличалось от гребного. Иногда по обеим сторонам кормы устанавливали два рулевых весла. Понятно, что такой импровизированный руль (настоящий руль появится много позже) был крайне малоэффективен, поскольку, во-первых, не имел надежной фиксации, а во-вторых, легко отклонялся под ударами волн. И если для небольших кораблей вроде норманнских драккаров и полинезийских двухкорпусных лодок этот недостаток принципиального значения не имел, то с увеличением размеров судна несовершенство рулевого управления проявлялось все заметнее.
Галера была весьма неважным морским ходоком. Как сонная муха, она неторопливо ползла вдоль береговой линии и при малейшей непогоде стремилась укрыться в ближайшей гавани. Посади на гребные банки хоть отборных атлетов, но жалкие четыре узла оставались тем максимумом, какой удавалось выжать из этой неповоротливой посудины. Ходить под парусом против ветра галера, разумеется, не могла (только на веслах), и даже сравнительно небольшое волнение немедленно отражалось на ее ходовых качествах. Тем не менее суда этого типа благополучно дожили почти до середины XVIII столетия. Гребной шхерный флот Петра I весьма неплохо себя зарекомендовал при Гангуте, крупнейшем морском сражении Северной войны, а галерный корпус французского военного флота был распущен лишь в 1748 году.
Между прочим, любопытно отметить, что за тысячу с лишним лет своей европейской истории средневековая галера не претерпела сколько-нибудь существенных изменений. Она всегда оставалась парусно-гребным судном с одним-единственным рядом весел. Корабелам даже в голову не приходило нацепить дополнительный весельный ярус в целях увеличения скорости и грузоподъемности, ибо такая попытка, совершенно очевидно, привела бы к прямо противоположному результату. Поэтому реальное существование бирем, трирем и пентер, этих античных чудищ с двумя, тремя и пятью рядами весел соответственно, вызывает очень большие сомнения. Мы уже не говорим о записках греческого историка Мемнона, который в III веке до новой эры якобы собственноглазно лицезрел восьмирядную октеру. Каждым веслом этого монстра двигал отряд из ста человек. А вот Плутарх пишет буквально следующее: «…враги дивились и восхищались, глядя на корабли с шестнадцатью и пятнадцатью рядами весел, проплывающие мимо их берегов…» Господи, твоя воля! О каких октерах можно вести речь, если даже однорядная галера до смерти боится крутой волны и практически неуправляема в штормовую погоду? И какой длины должны быть весла последнего шестнадцатого яруса?
Галерные рабы трудились на износ. В критической ситуации – при спасении бегством или в погоне за неприятельским судном – нагрузки становились и вовсе запредельными, поэтому надсмотрщики практиковали метод «кнута и пряника». Измотанным гребцам совали в рот ломти хлеба, вымоченные в вине, а тех, кто все же не справлялся, беспощадно секли плетью. Несмотря на этот кошмар, среди галерников иногда попадались и вольнонаемные, составлявшие высшую категорию гребцов. Чаще всего это были каторжники, отмотавшие свой срок, но не знающие иного ремесла, кроме галерной лямки, голь перекатная без гроша в кармане в поисках куска хлеба и объявленные в розыск уголовные преступники, которым срочно надо лечь на дно. Вольнонаемные пользовались некоторыми привилегиями: по истечении определенного срока они могли уволиться и даже сделать карьеру – дослужиться до должности надсмотрщика.
Галеры были военными кораблями, а для перевозки людей и грузов использовались пузатые морские транспорты – нефы крестоносцев и когги Ганзейского[48] торгового союза. Высокобортные военно-транспортные суда крестоносцев ходили в основном под парусом, но из-за большого тоннажа были исключительно тихоходны. Зато их грузоподъемность не оставляла желать лучшего: они переправляли через Средиземное море не только публику с багажом и уйму всяческого товара, но даже мелкий рогатый скот и коней. Торговые республики Венеция и Генуя, располагавшие значительными флотами, ценили свои услуги весьма недешево. В книге Г. Мишо «История Крестовых походов» можно прочитать о непростых переговорах крестоносцев с венецианским дожем. Венеция пообещала предоставить суда для перевозки рыцарской армии (9000 оруженосцев, 4500 рыцарей, 20 000 пехотинцев и 4500 лошадей) и провиант в расчете на девятимесячное плавание, а также дополнительно вооружить еще 50 галер для боевого охранения. Взамен город претендовал на половину будущих завоеваний (дело было перед началом Четвертого крестового похода), а рыцари и бароны, кроме того, обязывались уплатить Венецианской республике 85 000 серебряных марок – сумму по тем временам огромную.
Ганзейские торговые когги были высокобортными одномачтовыми судами с большим четырехугольным парусом площадью в 120 м2. На корме располагалась тяжелая деревянная плита, окованная железными полосами, – руль, которым управляли с помощью горизонтального бруса – румпеля. Это серьезное техническое новшество родилось в Византии, а в Европу проникло после XIII века, где получило название наваррского руля. Его стали навешивать на ахтерштевень, являющийся продолжением киля, что сразу же резко повысило маневренность судна и позволило ходить против ветра. Правда, когги, не менее пузатые, чем нефы крестоносцев, были довольно неуклюжи и тяжелы в лавировании, поэтому при встречном ветре корабль обычно бросал якорь вблизи берега и дожидался, пока ветер не станет попутным. Ганзейские навигаторы не отваживались выходить в открытое море, а их торговые экспедиции, несмотря на впечатляющий размах – от неприветливых вод Северной Европы до топких берегов Финского залива, оставались вполне заурядным каботажем. И хотя европейцы познакомились с компасом еще в XII веке, ганзейские капитаны не спешили внедрять модную штучку. Всегда имея под боком твердую землю, они легко обходились проверенными средствами навигации – лотом и морской картой (весьма, впрочем, несовершенной), – но главным образом полагались на собственный опыт, который исправно передавался из поколения в поколение.
И только к XV столетию в Европе, наконец, сподобились построить корабль, способный к долгим вояжам в открытом море. Первой ласточкой стала каравелла – изящное трехмачтовое судно со смешанной – прямой и косой – парусной оснасткой. Эти верткие и поворотливые скорлупки, оснащенные полноценным рулем, уверенно ходили против ветра и были уже настоящими океанскими парусниками. Их водоизмещение обычно не превышало 200–300 тонн, а звонкое словцо «каравелла», в котором смутно брезжит отчаянный цыганский перепляс, обязано своим происхождением всего-навсего новому типу обшивки. Раньше корабли одевали в дощатую чешую, когда доски ложились внакрой и скреплялись при помощи болтов или гвоздей, а вот некий Жюльен из Бретани однажды предложил сшивать их стык в стык, как делали еще древние египтяне. Что касается египтян, то сие дело темное, но продвинутая метода быстро привилась, и новаторский тип обшивки стал называться «карвель» или «кравеель». Слово Хельмуту Ханке, немецкому писателю-маринисту:
«Доски обшивки он расположил вплотную одна к другой, а чтобы не ослабить этим прочность корпуса, усилил шпангоуты, на которые теперь приходилось значительно большее давление. Жюльен работал некоторое время в Хорне на Зюйдер-Зее на одной из голландских верфей, которая в дальнейшем и специализировалась на том способе постройки. Благодаря обшивке кравеель, такой тип судов и получил впоследствии название каравелла».
Как бы там ни было, но на парусниках именно такого типа Колумб впервые пересек Атлантику (легендарные подвиги викингов давным-давно лежали под спудом), а португалец Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды и причалил к берегам полуострова Индостан. Флагманское судно-инвалид покойного Магеллана, бросившее якорь в устье шумного Гвадалквивира шестого сентября 1522 года, именовалось караккой и было, по сути дела, всего лишь усовершенствованным вариантом старой доброй каравеллы. Со временем на просторах Атлантики появились испанские галионы – внушительные трехмачтовые парусники, груженные перуанским золотом, с сотней орудий на борту и водоизмещением до полутора тысяч тонн. На стремительных голландских флейтах, первый из которых сошел со стапеля в 1595 году, уже в начале XVII века вместо неудобного румпеля (поперечного бруса, насаженного на верхнюю часть руля) стали применять штурвал со сложной системой передач из блоков и тросов. И хотя первые судовые штурвалы напоминали порой увесистые мельничные жернова, они все равно не шли ни в какое сравнение с неуклюжими румпелями. В первой половине XVII столетия Голландия была морской державой номер один, и государь император Петр Алексеевич, безусловно, понимал что к чему, когда подвизался на амстердамских верфях в качестве рядового плотника. За период с 1600 по 1660 год голландцы спустили на воду 15 000 судов, тогда как Франция – далеко не самая последняя морская держава – располагала к этому времени от силы пятью сотнями кораблей.
К началу XVIII столетия ядром военных флотов всех без исключения морских держав становятся линейные корабли – большие трехмачтовые суда с мощным артиллерийским вооружением. В морском сражении они шли гуськом, построившись в боевую линию – кильватерную колонну, – чтобы максимально эффективно использовать тяжелые орудия обоих бортов. Более поворотливым и ходким был фрегат, детище французских инженеров-судостроителей. Эти корабли водоизмещением от 500 до 1000 тонн отличались обтекаемой формой подводной части корпуса, отсутствием палубных надстроек и незначительной высотой борта над ватерлинией. За четыреста лет славной истории парусного флота – с XV по XIX век – европейские кораблестроители спустили на воду удивительный паноптикум разнокалиберных парусников – от маневренного иола с косым парусным вооружением до тяжелых четырехмачтовых барков и резвых морских конькобежцев – чайных клиперов, которые еще сто пятьдесят лет назад легко обгоняли неуклюжие чадящие пароходы. Многим наверняка памятна бригантина из песни Павла Когана – стремительное двухмачтовое судно с прямыми парусами на гроте и с косым бермудским вооружением на бизани.
Забвение каботажа и выход на океанские просторы требовали более совершенного навигационного обеспечения. Такие примитивные, но еще совсем недавно весьма популярные инструменты, как лот и морская карта прибрежной зоны, пришлось спровадить в архив. Уже в середине XV века на пузатых испанских каравеллах все чаще можно встретить магнитный компас и градшток (или квадрант) – прародитель секстана, – служивший для определения высоты небесных светил. Для отсчета географической долготы вскоре появляются довольно точные хронометры, а в XVII веке моряки получают подзорную трубу. Обыкновенные песочные часы, с незапамятных времен применявшиеся для отбивания склянок, тоже проделали своеобразную метаморфозу. Даже в эпоху точных хронометров этот нехитрый прибор остается незаменимым инструментом для измерения скорости судна. Ханке пишет: «Ручной лаг, честно прослуживший около двух столетий, представлял собой вертикально плывущий деревянный сектор, выпускаемый в воду на тонком тросе – лаглине, на котором через определенные промежутки были завязаны узлы. Утяжеленный железной оковкой сектор неподвижно стоял в воде, судно же уходило вперед. Отсчитывали, сколько узлов на лаглине успевало уйти за борт, пока песок в часах пересыпался из одной половинки в другую. Чем быстрее шел корабль, тем больше было таких узлов. Интервалы между ними выбирались таким образом, чтобы один узел соответствовал скорости, равной одной миле в час. Лаг позволял измерять скорость с весьма высокой точностью». Так что узел – мера скорости судна, популярная до сих пор, – обязан своим рождением чрезвычайно простому устройству.
Однако, несмотря на бесспорный прогресс в навигации, сколько-нибудь точное определение координат судна оставалось весьма непростой задачей вплоть до конца XVIII столетия. Чтобы правильно рассчитать местонахождение корабля, надо знать его географическую широту (то есть расстояние от экватора к северу или югу) и географическую долготу, то есть расстояние к востоку или западу от выбранного меридиана. Навыком вычисления широты владели, как мы помним, еще норманны, умевшие определять высоту небесных светил над горизонтом с помощью самых элементарных приспособлений вроде шеста с зарубками. Тем не менее даже в середине XVIII века капитаны европейских парусников редко вели астрономические наблюдения, больше полагаясь на так называемое корабельное счисление пути. Выбрасывая в море каждый час лаг, измеряли длину линя, который развертывался в течение минуты, и определяли таким образом скорость хода корабля и расстояние между двумя пунктами. Правда, следует иметь в виду, что лаг не остается в воде совершенно неподвижным, да и скорость судна на протяжении часа может измениться, поэтому в расчет скорости корабля могут вкрасться очень большие ошибки.
К числу первых угломерных инструментов относится астролябия, которой пользовались еще в античном мире. Во всяком случае, описание этого прибора можно найти у древнегреческих астрономов – Гиппарха и Птолемея. В X веке ее усовершенствовал (а фактически изобрел заново) механик и математик Герберт, долгое время изучавший арабскую науку в Испании, а впоследствии ставший папой Римским под именем Сильвестра II (999–1003). Европейцы начали применять астролябию в навигационных целях не позднее XIII века, а в эпоху Великих географических открытий она уже использовалась весьма широко (например, штурманы Магеллана имели при себе семь таких приборов). Морская астролябия представляла собой градуированное кольцо с угломерной линейкой (алидадой), вращавшейся вокруг центральной оси. С помощью алидады инструмент наводили на небесное светило, а со шкалы считывали его угловую высоту над горизонтом. Правда, на кораблях, которые в открытом море всегда подвержены сильной бортовой и килевой качке, астролябию не жаловали, поскольку она была капризным и неудобным в обращении инструментом. Например, Васко да Гама прибегал к услугам этого прибора только на суше.
В XV–XVI веках появился квадрант (в переводе «четверть круга»), который был надежнее астролябии, но и он при волнении на море сплошь и рядом давал неверные показания. Поэтому вскоре он уступил место так называемому посоху Иакова – градштоку, который вплоть до середины XVIII века был основным угломерным инструментом моряков. Пауль Вернер Ланге пишет: «Этот инструмент представлял собой четырехгранный стержень (палку), по которому передвигалась поперечная рейка. Наблюдатель подносил конец градштока к глазу и перемещал рейку до тех пор, пока она не закрывала поля зрения между горизонтом и небесным светилом. После этого с градштока можно было считывать угловую высоту светила. Когда прибор наводили на Солнце, перед глазом помещали затемненное стекло». Впрочем, и градшток, и сменивший его в конце XVI столетия английский квадрант – изобретение мореплавателя Джона Девиса – были весьма далеки от совершенства. И только когда в 1731 году Джон Хэдли сконструировал октан – прибор, имевший градуированную дугу в 1/8 часть окружности, снабженную зеркалами, стало возможным определять географическую широту с точностью до одной минуты, то есть до шестидесятой части градуса. Со временем его вытеснил секстан, который широко используется в морском деле до сих пор.
А что же компас, известный европейцам по крайней мере с XII века? – спросит иной читатель. Действительно, во времена Колумба и Магеллана компас был основой навигационного снаряжения европейских судов, но вся беда в том, что ему можно доверять с оглядкой, ибо магнитная стрелка далеко не всегда и не везде обращена строго на север. Первым это заметил Христофор Колумб в 1492 году, когда плыл из Европы в Америку. Сегодня мы знаем, что магнитные и географические полюса не совпадают, поэтому стрелка компаса в разных точках земного шара гуляет, отклоняется вправо или влево от полюса. Для Колумба сие было откровением, и он записал в бортовом журнале: «Магнитное поле не всегда верно указывает на север, нужны дополнительные измерения». Например, Южный магнитный полюс, определенный британским военным моряком Джеймсом Россом в 1841 году, находился примерно в 800 километрах от географического Южного полюса. В наши дни Северный магнитный полюс находится сравнительно недалеко от географического, но периодически меняет свое положение в направлении Канады. Поэтому моряки для расчета курса используют специальные поправки, которые наносятся на географические карты в виде изолиний магнитного склонения. В середине XVI века даже делались попытки применить этот феномен на практике – для определения долготы, но затея не удалась, поскольку кривые магнитных склонений сплошь и рядом не совпадают с направлением меридианов. Например, сегодня в южной части Тихого океана они почти совпадают с параллелями. И только в начале XVIII века английский астроном Эдмунд Галлей вычертил карту земного шара, на которой были четко показаны направления и величины магнитных склонений. Стоит ли после этого удивляться, что спутников Колумба охватил священный трепет, когда они увидели, что курсы, вычисленные по компасу и Полярной звезде, сильно разнятся?
Итак, с географической широтой удалось расплеваться еще в эпоху Магеллана. Если измерять угловую высоту Солнца ровно в полдень, в тот момент, когда светило пересекает небесный меридиан и находится в зените, можно без труда получить достоверный результат даже с помощью несовершенного градштока. Расчет широты места наблюдения на основе полученных данных – тоже штука нехитрая. Для этого существовали так называемые эфемериды – специальные таблицы заранее вычисленных координат небесных светил. А вот что касается географической долготы, то с ее определением дело обстояло гораздо хуже, хотя именно этот параметр исключительно важен при плаваниях в Тихом океане. В чем же тут загвоздка?
Казалось бы, дело не стоит выеденного яйца: зная истинное бортовое время в данный момент (то есть время по часам того меридиана, где сейчас находится корабль) и зная вместе с тем время по меридиану порта, откуда корабль вышел (или по любому другому фиксированному меридиану), не составит труда определить долготу, под которой судно находится. В эпоху Возрождения уже было хорошо известно, что Земля делает полный оборот вокруг оси ровно за одни сутки (24 часа). Полный оборот – это 360 градусов, следовательно, за один час Земля повернется на 15 градусов (360 делим на 24 и получаем в результате 15). Таким образом, каждый час разницы во времени будет соответствовать 15 градусам по долготе, а четыре минуты разницы между двумя пунктами покажут, что расстояние между ними – ровно один градус, то есть 1/360 земной окружности. Итак, задача, как мы видим, сводится к точному определению истинного времени, для чего нужен надежный хронометр (или хорошие карманные часы), не подверженный корабельной качке и температурным перепадам.
Увы, но именно здесь и была зарыта собака. Говорят, что первые механические часы сконструировал наш старый знакомый Герберт, но сия история насквозь легендарна. Реальные механические часы появились в Европе на излете Средних веков, однако это чудо техники долго не имело не то что секундной, но даже минутной стрелки. Что же касается моряков, то время на борту кораблей продолжали измерять с помощью песочных часов до середины XVI века. Много лет спустя механические часы все же появились на судах, но точность их хода, как говорится, оставляла желать: они ошибались на 15 минут в сутки. Правда, в 1657 году голландец Христиан Гюйгенс выдумал корабельные часы с маятником, но и они не оправдали ожиданий, поскольку исправно работали только на твердой земле. В 1714 году английский парламент сделал широкий жест: пообещал двадцать тысяч фунтов стерлингов за простой и эффективный метод определения долготы, а чуть позже с подобной же инициативой выступила Франция. Деньги по тем временам совершенно фантастические, но утекло немало воды, прежде чем Джон Харрисон, часовщик из Йоркшира, предложил на суд публики первый морской хронометр (1735 год). А еще тремя десятилетиями позже, в 1765 году, французский физик Леруа представил на конкурс два хронометра, которые прекрасно себя зарекомендовали во время полевых испытаний. Однако новинка все равно проникала на флот со скрипом. Одним из немногих, кому посчастливилось взять в дорогу надежный хронометр, был Джеймс Кук, а другие еще долго продолжали измерять время по старинке. Поэтому капитанам даже в XVIII веке сплошь и рядом не удавалось отыскать острова, на которых незадолго до них побывали другие мореплаватели.
Неплохой иллюстрацией к сказанному может послужить эпизод из «Острова сокровищ», когда бывшие джентльмены удачи, а ныне матросы по найму, задумавшие бунт, обсуждают время решительного выступления. Их вожак Джон Сильвер полагает, что выкладывать козыри следует как можно позже, потому что «капитан Смоллетт, первоклассный моряк, для нашей же выгоды ведет наш корабль». Сильвер говорит коллегам:
«Если бы я был уверен в таких сукиных сынах, как вы, я бы предоставил капитану Смоллетту довезти нас еще и полпути назад.
– Мы и сами неплохие моряки! – возразил Дик.
– Неплохие матросы, ты хочешь сказать, – поправил его Сильвер. – Мы умеем ворочать рулем. Но кто вычислит курс? На это никто из вас не способен, джентльмены. Была бы моя воля, я позволил бы капитану Смоллетту довести нас на обратном пути хотя бы до пассата. Тогда знал бы по крайней мере, что идешь правильно и что не придется выдавать пресную воду по ложечке в день. Но я знаю, что вы за народ. Придется расправиться с ними на острове, чуть только они перетащат сокровища сюда, на корабль. А очень жаль! Но вам только бы поскорее дорваться до выпивки. По правде сказать, у меня сердце болит, когда я думаю, что придется возвращаться с такими людьми, как вы».
Не правда ли, весьма любопытно? Ведь потенциальные бунтовщики немало поплавали по морям, а Сильвер, человек грамотный и неглупый, был в свое время квартирмейстером на судне у Флинта, то есть занимал офицерскую должность, однако даже он – полный профан в деле морской навигации. Судя по всему, действие повести Стивенсона разворачивается в первой половине XVIII века, когда европейцы уже давным-давно побывали и в Америке, и в Австралии и не единожды обогнули земной шар, но люди, для которых палуба – дом родной, по-прежнему ни черта не смыслили в ремесле кораблевождения. Можно себе представить, как в те времена ценился опытный штурман, понимающий толк в навигационных приборах, умеющий определить местонахождение судна и проложить курс.
Но если бы дело ограничивалось только лишь дурной навигацией! И в шестнадцатом, и в семнадцатом, да и в восемнадцатом веке корабли в массе своей были неповоротливыми посудинами и не блистали отменными мореходными качествами. Разумеется, не бывает правил без исключений, но в целом ситуация, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Остроносые клиперы, скользившие по волнам как водомерки, появятся еще не скоро. Когда в 1893 году на одной из испанских верфей построили точную копию «Санта-Марии», знаменитой каравеллы Колумба, стало ясно, что хваленое мастерство старых корабелов не стоит преувеличивать. Бортовая и килевая качка были настолько сильны, что матросы, находившиеся в форпике[49], не могли сомкнуть глаз. Даже при обычном для Атлантики волнении мачты и деревянные крепления корпуса стонали не переставая, нос раскачивался как в пляске святого Витта, а мелкие предметы, казалось бы, надежно зафиксированные по всем правилам, вдруг обретали подвижность. Одним словом, корабль буквально ходил ходуном, что не в последнюю очередь объяснялось коротким килем и глубокой осадкой судна. Долговечностью тогдашние суда тоже не могли похвастаться: даже построенные из лучших сортов тропической древесины парусники Ост-Индской компании с грехом пополам выдерживали шесть плаваний. После этого их можно было со спокойной совестью сдавать в утиль. При сильных ветрах практически дня не проходило без повреждения или гибели рангоута, такелажа и парусов, а черви-древоточцы непрерывно разрушали корпус судна. Поэтому в эпоху парусного флота толковый корабельный плотник был одной из самых влиятельных фигур на борту и ценился на вес золота. Под палящими лучами тропического солнца паруса становились хрупкими и ломкими, корабли нередко давали течь, а прокладка вылезала из деревянной обшивки. Так называемое кренгование, бывшее совершенно необходимой процедурой в тропиках, тоже доставляло немало хлопот. Дело в том, что в южных морях днище деревянных кораблей моментально обрастает толстой коркой из ракушек и длинным шлейфом морских растений, и чтобы сохранить более или менее приличные ходовые качества, необходимо по крайней мере раз в год очищать подводную часть судна от этой дряни. Капитаны пиратских судов, охотившиеся в бассейне Карибского моря, придавали кренгованию первостепенное значение, потому что исключительная быстроходность корабля позволяла ему не только догонять торговые суда, но и без труда уходить от преследования военных кораблей. Избавившись от лишнего груза, парусник входил в узкий морской залив, где во время отлива он оказывался на отмели. Затем к мачтам цепляли тали и блоки, укладывали судно набок и основательно скребли днище от ахтерштевня до форштевня.
А теперь обратимся к быту и каторжному труду моряков парусного флота. Вероятно, судостроители XVI столетия не придавали никакого значения тому обстоятельству, что люди должны неделями, а нередко и месяцами ютится в ужасающей тесноте деревянных клеток. Поэтому в кубриках сплошь и рядом не было даже коек, и матросы укладывались прямо на голых досках, укрываясь вместо одеяла лохмотьями старых парусов. Скученность была жуткая, ибо, предвидя неизбежные большие потери в личном составе, капитаны вербовали на судно многочисленную команду. Страдавшие морской болезнью, цинготные и дизентерийные больные, пьяные и наконец просто желающие выспаться лежали вповалку, как сельди в бочке, беспокоя и обременяя друг друга. Поэтому, если только позволяла погода, моряки предпочитали располагаться на палубе. Правда, в XVI веке испанцы познакомились в Америке с гамаками и впоследствии стали широко внедрять это ценное индейское изобретение, но и гамаки при крайней тесноте на борту решали проблему лишь отчасти. Хельмут Ханке пишет: «Постоянная болтанка на этих качелях доводила до морской болезни даже старых морских волков, ни разу не кормивших рыб содержимым своего желудка. При одновременной подвеске гамаков многочисленной команды в тесном помещении болтанка прекращалась, но малая высота форпика и перегруженного твиндека[50] превратили гамаки в плетеные клетки. Пытающегося лечь поспать так сильно стискивали со всех сторон соседи, что он должен был обладать поистине змеиной гибкостью, чтобы просто забраться в свой гамак, не говоря уже о том, чтобы улечься в нем».
Теснота усугублялась чудовищным смрадом, царящим на борту. Все без исключения деревянные корабли пропускали воду, и хотя помпы работали каждое утро, в трюме все равно скапливались остатки протухшей воды, которая цвела и благоухала на совесть. Подводную часть корпуса для защиты от гниения и морских червей пропитывали вонючей смесью из дегтя и серы, а краску для наружной обшивки и палубных приспособлений делали из растертого в порошок древесного угля, сажи, сала, смолы и серы, поверх которой наносили еще один защитный слой из древесного дегтя или сосновой смолы, смешанной с шерстью животных. Этот аромат вместе с кухонным чадом, вонью гальюнов и запахом немытых тел (мытье не приветствовалось, ибо пресную воду берегли как зеницу ока) создавал неповторимый одурманивающий букет, валивший непривычного человека с ног. Казалось бы, в чем проблема, если в двух шагах, за бортом, целое море? Но моряки старых времен страдали водобоязнью и в большинстве своем категорически не умели плавать. Кроме того, существовало нелепое поверье, что коль скоро морская вода решительно непригодна для питья, то и для мытья она тоже не годится.
Но хуже любых запахов было вынужденное соседство с целым зоопарком безбилетных пассажиров, ибо кубрики кишели черными и рыжими тараканами, клопами, блохами и крысами. С крысами боролись не на жизнь, а на смерть, но никакие меры не помогали: казалось, вместо каждой убитой крысы появляются на свет две новые бестии. Кроме того, умные и хитрые твари изобретательно обманывали моряков. Когда с водой становилось туго, свирепые грызуны впадали в неистовство и делались бешеными, устремляясь на штурм тщательно охраняемого водного пайка. Впрочем, порой случалось и так, что крысы из назойливых квартирантов превращались в деликатес. В длительных океанских плаваниях, когда запасы продовольствия подходили к концу, на крыс начиналась самая настоящая охота. Например, во время тихоокеанской одиссеи Магеллана крысы шли по полдуката за штуку, но и за такую цену их было невозможно достать.
Не меньшей проблемой было отправление естественных надобностей, поскольку на старинных парусниках гальюн долгое время отсутствовал. Моряк усаживался прямо на релингах, крепко держась за ванты, и стоит ли удивляться, что экипаж зачастую недосчитывался одного из своих товарищей? В конце концов отхожие места на кораблях начали строить, но, так как их конструкция основывалась на принципе свободного падения (дыра открывалась в пространство под кораблем), пользоваться этим шедевром санитарной техники (особенно в штормовую погоду) большого удовольствия не доставляло.
Отдельного разговора заслуживает корабельная кухня. Помните, читатель, цикл морских рассказов Конан Дойла? В одном из них капитан Скарроу должен взять на борт губернатора Сент-Китта[51], чем весьма и весьма озабочен, ибо ему никогда еще не приходилось иметь дело со столь важными персонами. И хотя он готов служить королю Георгу, его смущает одна мелочь: «Вот что касается еды, то у нас шесть дней в неделю либо тушеная солонина с овощами и сухарями, либо смесь из рубленой солонины и маринованной сельди. Но если наш камбуз ему не годится, пусть он возьмет с собой собственного повара». На дворе уже давно стоит восемнадцатый век (в начале рассказа упоминается Утрехтский мир, которым окончилась Война за испанское наследство, значит, дело происходит после 1713 года), а судовой рацион практически не изменился со времен Колумба и Магеллана. Впрочем, некоторый прогресс все-таки налицо, поскольку на каравеллах Колумба ни кока, ни камбуза не было и в помине, а ежедневной раздачей пищи ведал провиантмейстер.
На протяжении столетий основными продуктами питания на кораблях были сухари каменной твердости и солонина. Свежий хлеб по понятным причинам быстро приходил в негодность, а вот сухари, которые еле-еле удавалось расколотить молотком, хранились неплохо. Но и они в конце концов начинали плесневеть и зачастую буквально кишели червями и тараканами. Чтобы избавиться от паразитов, сухари повторно пропекали или размачивали в соленой воде. Единственным средством консервации таких скоропортящихся продуктов, как сало или мясо, была соль, поэтому солонина, как и сухари, оказывалась практически несъедобной, а пресной воды для ее вымачивания хронически не хватало. Однако голь на выдумки хитра: суточную норму солонины загружали в емкость с морской водой, и один из матросов выплясывал чечетку на этой горе мяса до тех пор, пока содержание соли не становилось приемлемым. Но в дальних плаваниях, особенно в тропических широтах, качество мяса все равно ощутимо страдало, даже несмотря на переизбыток соли. Вонючая солонина в бочках приобретала своеобразный цвет красного дерева с прожелтью, а со временем делалась коричневато-зеленоватой. От нее распространялся самый натуральный трупный дух. Чтобы хоть как-то разнообразить судовой рацион, в него добавляли вяленую рыбу, сушеные бобы и фрукты, горох, чечевицу и сыр.
Создание камбуза почти никак не отразилось на качестве пищевого довольствия, тем более что это зловонное помещение с кирпичной плитой, колодами для разделки мяса и безобразно промытой кухонной утварью могло отбить аппетит у кого угодно. Огромный камбузный котел всегда был занят очередной стряпней, и если на обед в нем готовили, скажем, мясо с бобами, то вечерняя коричневая бурда, высокопарно именуемая чаем, неизбежно имела привкус мясного бульона. Вдобавок кок безбожно воровал продукты, утаивая для себя и своих любимчиков самые лакомые куски, и нередко был капитанским осведомителем. Команде перепадали натуральные отбросы. Слово Ханке: «К малопочтенным открытиям в их творчестве на ниве кулинарии относится так называемый потаж – похлебка, которая варилась из объедков и кухонных отходов, от рыбьих хвостов до обглоданных костей, собираемых в течение нескольких дней и запускаемых в один котел. Их делом было составление таких не блещущих разнообразием недельных меню, в соответствии с которыми один день готовился горох с солониной, на другой – солонина с горохом, а потом все повторялось сначала. Горох, словно галька, с грохотом перекатывался в тепловатой воде».
Однообразная диета, бедная витаминами, и полное отсутствие в корабельном рационе свежих овощей и фруктов превращали жизнь моряка в сущий ад. Вплоть до конца XVIII столетия на кораблях свирепствовала цинга, или скорбут, вызванная хронической нехваткой витамина C. Эта болезнь проявляется гингивитом (воспалением десен), резкой слабостью и кровоизлияниями в мышцы, суставы, подкожную клетчатку и внутренние органы. Десны распухают и кровоточат, начинают шататься зубы, и в конце концов вся полость рта превращается в сплошную рану, а тело покрывается нарывами и гнойниками. В тяжелых случаях процесс может дойти до деструкции (рассасывания) костной ткани. И хотя к середине XVIII века медики сообразили, что причиной цинги является отсутствие в судовой диете свежих овощей и фруктов, муки и страдания экипажей парусников, уходящих в дальние плавания, продолжались еще довольно долго. Эпидемия цинги почти полностью выкосила команду португальца Васко да Гамы, отыскавшего морской путь в Индию: из ста шестидесяти человек экипажа погибло более ста. Когда флотилия знаменитого испанского конкистадора Франсиско Писарро отправилась в 1540 году к берегам Америки, у него на борту находилось свыше двух с половиной тысяч человек. Через неполные шесть месяцев плавания жертвами тифа и цинги стала половина команды флагманского корабля, а на судах сопровождения погибло три четверти экипажа. Джеймс Кук, одним из первых озаботившийся проблемой скорбута, писал в марте 1771 года, что голландские суда, направлявшиеся в Ост-Индию, теряли из-за цинги во время каждого плавания от тридцати до сорока процентов команды. Но и три четверти цинготных больных на борту – отнюдь не редкость, поэтому корабельный кок был вынужден изобретать такие блюда, которые могли бы есть люди с шатающимися зубами и распухшими деснами. Именно тогда возникло профессиональное матросское кушанье лабскаус – мелко рубленная вареная солонина, смешанная с перемолотыми солеными селедками и истолченная затем в жиденькую, сдобренную перцем кашицу. Этот «мусс» могли глотать даже тяжелобольные, и немало матросов обязаны ему жизнью, а само слово «лабскаус» в переводе с норвежского дословно означает «легкоглотаемое». Подсчитано, что в первые два десятилетия XVIII века от скорбута умерло не менее десяти тысяч матросов, плававших на европейских судах.
Об уровне смертности на флотах того времени можно судить хотя бы по запискам британца Паддона, который отличался человеколюбивым отношением к матросам (что совершенно нетипично для той жестокой эпохи) и состоял на военной службе у Петра Великого, занимая должность адмирала. В частности, он писал, что «русский флот, вследствие дурного продовольствия, потерял людей вдвое больше любого иностранного флота». При этом следует иметь в виду, что условия быта и уровень смертности на всех тогдашних флотах были поистине ужасающими. В 1716 году адмирал Девьер писал царю из Копенгагена: «Здесь мы нажили такую славу, что в тысячу лет не угаснет. Из сенявинской команды умерло около 150 человек, и многих из них бросили в воду в канал, а ныне уже покойников двенадцать принесло ко дворам, и народ здешний о том жалуется, и министры некоторые мне говорили, и хотят послать к королю». Не лучше обстояли дела и у человеколюбивого Паддона: в 1717 году из-за гнилого провианта в течение месяца из 500 новобранцев умерло 222, а остальные «почитай, помрут с голоду, обретаются в таком бедном состоянии от лишения одежды, что, опасаются, вскоре помрут».
Если с овощами и фруктами дело обстояло из рук вон плохо, то на крепкие напитки судовое начальство не скупилось. Например, английским матросам в XVIII веке выдавали по четыре с половиной литра пива в день, а при ненастной погоде им полагалось утром и вечером по четверти литра рома. Центральноамериканский ром – сравнительно недавнее изобретение – быстро сделался любимым напитком моряков. К тому же это крепчайшее пойло, выгоняемое из сахарного тростника, было сказочно дешевым продуктом. Послушаем Хельмута Ханке: «Первоначально экипажам выдавали настоящий ямайский ром, обладающий приятным запахом и содержащий, как и абсент, 96 процентов алкоголя. Этот неразбавленный дистиллят флибустьеры называли „тофи“ – „постный сахар“. <…> Но со временем ром стали разбавлять водой и продавать его крепостью от 65 до 45 процентов. Вскоре в ход были пущены остатки тростника, пена тростникового сока и другие органические отходы, способные к брожению. Так возник ром, называемый „Негро“ или „Морской“. Происхождение его первого названия было связано с тем, что карибские плантаторы при помощи этой сивухи пытались поднять производительность труда своих черных рабов. Этот напиток отдавал горелым сахаром, а иногда имел резкий кисловатый вкус… <…> Моряк между тем ничего не имел против рома „Негро“ с его терпким и резким вкусом. Он и мертвого делал живым. Команда пила его с большим удовольствием, чем высококачественный, очищенный и выдержанный „Баккарди“ из капитанской каюты. Его быстрое действие вполне мирило моряков с тяжелым похмельем на следующий день». Едва ли можно сомневаться, что употребление крепкого и скверно очищенного алкоголя в сочетании с вечно пересоленной пищей, вызывающей сильнейшую жажду, имело самые разрушительные последствия для здоровья матросов.
С цингой начали бороться во второй половине XVIII столетия. В 1753 году английский врач Джеймс Линд обратил внимание, что неплохой результат дают цитрусовые, а его ирландский коллега Дэвид Макбрайд рекомендовал солодовые настои. Чуть позже доктор Джон Прингл, узнав из старинных рукописей, что еще викинги имели обыкновение брать в дальние походы кислую капусту, настоятельно рекомендовал британскому Адмиралтейству включать этот продукт в ежедневный рацион матросов. Однако легко сказать – трудно сделать. Дело в том, что квашеная капуста дает положительный эффект только при регулярном употреблении, но британские матросы питали к безобидному овощу какое-то непреодолимое отвращение. Казалось, они готовы скорее заболеть цингой, чем взять в рот квашеную капусту. Тогда Джеймс Кук пустился на хитрость. Он приказал, чтобы камбузный юнга демонстративно нес в офицерскую каюту ничем не прикрытое большое блюдо кислой капусты. Трюк удался блестяще, и матросы, не без оснований полагавшие, что офицерам достается все самое лучшее, изменили отношение к ненавистной кислятине. Успех превзошел все ожидания: Кук возвратился из второго кругосветного плавания, не имея на борту ни одного случая смерти от цинги. Чтобы оценить этот поразительный результат, не помешает вспомнить, что еще совсем недавно потери экипажа от скорбута на кораблях дальнего плавания составляли от 30 до 50 процентов.
Но квашеная капуста – отнюдь не панацея: при ежедневном употреблении она быстро приедается и вызывает не меньшее отвращение, чем солонина. Конечно, свежее мясо и свежие овощи способны творить чудеса, возвращая цинготных больных буквально с того света, но кормить моряков такими деликатесами было слишком накладно, не говоря уже о проблеме их длительного хранения. На излете XVIII столетия англичане обнаружили замечательный профилактический эффект лимонного сока при авитаминозе C, и в 1795 году британское адмиралтейство предписало дополнить ежедневную выдачу рома порцией лимонного сока. Поначалу экипажи других флотов от души потешались над этим нововведением, презрительно именуя англичан «лайми» – «лимонниками», но со временем сами были вынуждены прибегнуть к его услугам, поскольку лечение цинготных больных обходилось гораздо дороже.
При таком скверном пищевом довольствии и отвратительных бытовых условиях на борту матросам океанских парусников приходилось выполнять чрезвычайно тяжелую работу. Разумеется, они не сидели на цепи, как галерные рабы в далеком прошлом, но каторжный труд на износ возле помп, на вантах и палубе мало чем отличался от изнурительной ежедневной гребли. Как бы тщательно ни конопатили судно, в трюме все равно накапливалась вода, которую требовалось откачивать каждый день. А чем продолжительнее был рейс, тем заметнее ухудшалось состояние корпуса, и помпы приходилось пускать в ход уже несколько раз в сутки. А работа со шпилем – огромным барабаном, предназначенным для подъема и отдачи тяжелого якоря? Впрочем, его применяли и для замены сломанной мачты, и для установки рея или стеньги[52]. Головка шпиля являлась, по сути дела, осью горизонтально расположенного колеса, а его спицами были 8–10 прочных деревянных шестов – вымбовок. Иными словами, шпиль – это судовой ворот, насаженный на вертикальную ось. Матросы хватались за вымбовки обеими руками и, налегая на них грудью, вращали скрипучий шпиль, наматывая или разматывая якорный канат.
Невероятно тяжелой была работа по обслуживанию гигантского ветрового хозяйства парусного корабля – всех этих бесчисленных тросов и талей, предназначенных для управления реями и парусами. Среди них имелись фалы для подъема рей, брасы для поворота парусов на ветер, шкоты для притягивания нижних углов паруса к борту или палубе, гитовы для подтягивания кверху нижних углов паруса во время взятия рифов, гордени для подтягивания паруса к рее и многие другие снасти. Вдобавок каждая снасть имела свое название, и, чтобы разобраться в этой путанице тросовых джунглей, нужно было в совершенстве овладеть особым птичьим языком старых морских волков. Чего, например, стоит такая команда: «Брамсели и бомбрамсели на гитовы! Кливер и бом-кливер долой! Фок и грот на гитовы! На грот-брасы!» И если в хорошую погоду дело еще кое-как ладилось, то представьте себе парусник, угодивший в свирепый шторм, когда рангоут[53] охает и скрипит, верхушки мачт пляшут как ненормальные, заливаемая водой палуба делается скользкой, будто она смазана мылом, а матросы барахтаются в такелажной паутине на головокружительной высоте между землей и небом. Хельмут Ханке: «В оснастку четырехмачтового барка с 18 прямыми и 15 иными парусами входило не менее 250 ручных талей, каждая из которых имела отличное от других назначение! Ориентирование во всем этом парусно-такелажном лабиринте было чрезвычайно сложным даже в ясный солнечный день и само по себе уже достойно всяческого уважения. Но умение не заблудиться среди всех этих топенантов, брасов, горденей, гитовов, шкотов и прочих многочисленных снастей ночью или в штормовом натиске „ревущих сороковых“ граничит с чудом».
Марсовые, эти проворные вантовые акробаты, раскачивающиеся в поднебесье, открытом всем ветрам, принадлежали к матросской элите, но и остальные вахтенные матросы не сидели без дела: они работали с помпами, теребили паклю, смолили тросы (иной раз канаты натирали шкуркой свиного окорока), драили палубу, красили, конопатили и выполняли множество других работ. Заснуть ночью на вахте – страшное преступление. Такой проступок карался смертью, а если даже штрафнику и сохраняли жизнь, его ожидало протягивание под килем или наказание плетьми. На палубе не знали пощады. Две трети дисциплинарных нарушений, перечисленных во флотских кодексах, наказывались смертью. И в XVII, и в XVIII, а частично и в XIX веке самой распространенной воспитательной мерой на борту было бичевание, для чего применялась так называемая девятихвостая кошка – увесистая плеть, к рукоятке которой цепляли несколько (не обязательно девять) толстых ремней. После 25 ударов этим средневековым орудием пытки наказуемый терял сознание и, случалось, не приходил в себя даже через час. Неделями он был вынужден спать только на животе, пока не заживут гноящиеся рубцы. А ведь 25 ударов «девятихвостой кошкой» считались сравнительно мягким наказанием! Послушаем Ханке: „Девятихвостая кошка“ оставляла на спине жертвы рубцы на всю жизнь. Десять ударов были минимальной нормой. При двойной порции ударов уже сочилась кровь, при тройной или четверной норме кожа лопалась. После семидесяти ударов кожа на спине свисала лохмотьями. И тем не менее мера наказания бывала и до ста ударов плетью! Если врач не прерывал экзекуции – а этим правом пользовались далеко не все врачи, – бичевание продолжалось, даже если становились видны ребра».
Корабельное начальство отличалось редкой изобретательностью. Провинившихся заковывали в цепи, буксировали за кораблем в открытой, захлестываемой волнами шлюпке, высаживали на необитаемых островах или предлагали прогуляться по доске. Хождение по доске – старинный вид казни. Осужденному связывали руки, завязывали глаза и заставляли его идти по незакрепленной и лежащей поперек планшира доске, один конец которой выдавался в море. Всех наказаний не перечесть. Например, бывало, что звучал приказ: «На мачту!» Бедняге заводили веревочную петлю под руки, вокруг груди, и поднимали его на тросе до верхушки грот-мачты, где он должен был провести ночь. Особенно жестокой экзекуцией было протягивание под килем. Несчастного штрафника с помощью каната протаскивали под килем судна от одного борта к другому. Если он оставался в живых, ему давали отдышаться, а затем повторяли процедуру в обратном направлении. Нередко осужденный впоследствии погибал от тяжелых ран, нанесенных ему острыми краями ракушек, которые густо усеивают корабельное днище. Иногда за один-единственный проступок назначалось сразу несколько наказаний. Известен случай, когда матрос на корабле голландского капитана Роггевена самовольно откупорил бочку с вином, за что его сначала протащили под килем, затем нанесли триста ударов плетью и втерли соль в раны, а потом распяли, прибив его запястья к фок-мачте с помощью ножей. Здесь он и должен был умереть от жажды, если на горизонте вдруг не покажется земля, куда его предполагалось высадить… Одним словом, жестокое обращение с матросами стало такой рутиной, что в Англии даже родилась поговорка: «Лучше висеть, чем служить на флоте». Имелось в виду, что смертная казнь через повешение куда предпочтительней…
Энергия пара пришла на морские флоты довольно поздно, в начале XIX столетия, когда американец Роберт Фултон придумал удивительное судно с гребными колесами и паровым движком. Эта посудина, спущенная на воду в 1807 году, совершала короткие рейсы по Гудзону, а ее машина развивала мощность около 20 лошадиных сил. Модная забавная игрушка не впечатлила судовладельцев, но не прошло и тридцати лет, как по малым и большим рекам забегали потомки фултоновского уродца. Впереди всех оказались американцы. Уже в 40-х годах позапрошлого века по Миссисипи двинулись пассажирские колесные пароходы, совершая регулярные рейсы между Сент-Луисом и Новым Орлеаном. Поблескивая стеклом дорогих кают и сверкая надраенной медью палубных причиндалов, они вальяжно проплывали мимо захудалых городков, облепивших берега великой реки. Пароход «Большая Миссури», сидевший в воде на девять футов, подгребал к причалу, как доисторический бронтозавр, вспенивая речную гладь лопатками сорокафутовых колес. В те годы первыми людьми на реке были лоцманы, потому что только эти ребята, вытвердившие переменчивый фарватер капризной Миссисипи наизусть, умели безошибочно провести тяжелое судно между подводными корягами и опасными мелями. В 40-х годах они получали баснословные деньги – до 500 долларов за рейс.
А вот на морях все складывалось далеко не так гладко. Океанские пароходы непременно несли парусную оснастку, поскольку ненадежная и хилая машина могла отказать в любой момент. Вдобавок паруса неплохо экономили топливо при устойчивом попутном ветре. Неповоротливым пароходам было мудрено угнаться за парусниками нового поколения – так называемыми чайными клиперами, которые скользили по волнам как птицы, едва касаясь воды. Их днище обшивали медным листом, а площадь парусов достигала четырех тысяч квадратных метров. Мачты вздымались на головокружительную высоту, до 50–60 метров, и матросы, танцующие в паутине снастей, именовали верхние реи громоздкого судового такелажа «небесными» и «лунными». Даже в полосе смертельно опасных «ревущих сороковых», где корабельные мачты ломаются как спички, клиперы шли на всех парусах и никогда не брали риф. Их максимальная скорость при хорошем ветре достигала 18 узлов, то есть 33 километров в час. Тогдашние паровые суда ходили вдвое медленнее. Только дизель сумел одолеть парус, да и то не сразу. Впрочем, цифры говорят сами за себя: в 1851 году тоннаж парового флота составлял 0,3 млн тонн, а парусного – 9,4 млн тонн, а в 1871-м – 2,4 млн и 15,3 млн тонн соответственно. Даже в самом конце XIX столетия парусные корабли продолжали играть заметную роль.
4. Поросенок с хреном, или что и как ели в старину
– Поросенок есть? – с таким вопросом обратился Чичиков к стоявшей бабе.
– Есть.
– С хреном и со сметаною?
– С хреном и со сметаною.
– Давай его сюда!
Н. В. ГогольЕсли бы наш современник перенесся каким-то чудом лет на семьсот – восемьсот назад, когда бравые рыцари ломали копья во славу прекрасных дам, он был бы разочарован до глубины души. Зеркальный блеск оружейной стали, гордые скакуны, косящие лиловым глазом, и лихие кавалеристы, с головы до пят облаченные в неподъемный турнирный доспех, – это все лирика, романтические фантазии позднейших эпох. В действительности старинное железо никуда не годилось, а чистопородных лошадей в Европе вплоть до начала Крестовых походов было настолько мало, что их везли из солнечной Аравии. Но и в Аравии с конским поголовьем было куда как негусто, так что торговцы лошадьми очень часто оказывались у разбитого корыта – окупить расходы на транспортировку четвероногой скотины им сплошь и рядом не удавалось. Поэтому элитные лошади, годные под рыцарское седло, стоили безумно дорого: за хорошего коня без звука выкладывали круглую сумму, на которую можно было легко приобрести целое коровье стадо в 40 или 50 голов.
Несмотря на изысканную и демонстративную куртуазность, простота нравов поражала воображение, и великий насмешник Марк Твен, никогда не жаловавший дешевой романтики, был совсем недалек от истины, заметив однажды, что если бы леди Ровена[54] заговорила на привычном ей языке, то заставила бы покраснеть любого пьяного проходимца. Но самое главное – не манеры и даже не лингвистика, а быт: убогий, неподвижный, бездарный и напрочь лишенный элементарного комфорта.
Представьте себе, что вас пригласили на обед к знатному сеньору, в поместительный и богатый замок где-нибудь на берегу Луары или Сены. По витой каменной лестнице вы поднимаетесь в большую темную залу с высоким сводчатым потолком, едва освещенную немилосердно чадящими факелами. Хотя на дворе еще белый день, узкие, как бойницы, окна забраны ставнями: время зимнее, и надо беречь тепло, – ведь оконные стекла пока не изобретены. Между тем на улице довольно прохладно – средневековые зимы морозные и снежные. Обеденного стола еще нет и в помине, но к появлению гостей его соберут в два счета. Бесшумно ступающая челядь в остроносых башмаках моментально устанавливает грубые козлы, поверх которых укладываются тяжелые доски. Шаткое сооружение застилается суровым вышитым полотном. Дорогой утвари из золота и серебра сколько угодно, а вот обычных тарелок не видно – их заменяют большие ломти хлеба. Когда они насквозь пропитаются мясной подливкой, их бросят под стол собакам. Ножей хронически не хватает, а вилок нет совсем: хитрый инструмент еще не проник в Европу. Поэтому едят руками, не стесняясь запускать всю пятерню в общее блюдо.
Гости – плечистые бородатые мужики, крепко пахнущие здоровым потом, – вваливаются шумной толпой и рассаживаются на придвинутых к столу лавках. Кравчий[55] подает огромное блюдо с сочной дымящейся медвежатиной, которая так густо наперчена, что обжигает горло. Четверть медведя исчезает в четверть часа. За ней следует бок дикого вепря с точно таким же жгучим соусом, зажаренный целиком олень, лебеди, павлины и всевозможная рыба. Кости летят под стол, где свирепые взъерошенные псы, ворча друг на друга, расправляются с питательными объедками. Вдумчивая, неторопливая трапеза сопровождается обильными возлияниями – вино, мед и пиво текут рекой.
Подлинные средневековые реалии замечательно описаны у братьев Стругацких в романе «Трудно быть богом». Вот как начинается самое обычное утро в славном городе Арканаре, чуточном осколке некогда великой империи: «Завтрак был не очень обильный и оставлял место для скорого обеда. Было подано жареное мясо, сильно сдобренное специями, и собачьи уши, отжатые в уксусе. Пили шипучее ируканское, густое коричневое эсторское, белое соанское. Ловко разделывая двумя кинжалами баранью ногу, дон Тамэо жаловался на наглость низших сословий. „Я намерен подать докладную на высочайшее имя, – объявил он. – Дворянство требует, чтобы мужикам и ремесленному сброду было запрещено показываться в публичных местах и на улицах. Пусть ходят через дворы и по задам. В тех же случаях, когда появление мужика на улице неизбежно, например при подвозе им хлеба, мяса и вина в благородные дома, пусть имеет специальное разрешение министерства охраны короны“».
Конечно, медвежатина или бок дикого вепря, пусть даже поданные на острие ножа, – штука, надо полагать, хорошая, пальчики оближешь, но как же все-таки без вилки? Мало того что горячо, но вдобавок еще и несподручно, не говоря уже о такой мелочи, как гигиена. И когда впервые появился на свет этот непритязательный инструмент? Увы, но историки не могут сказать ничего определенного.
Илья Яковлевич Маршак, младший брат знаменитого переводчика и поэта, писавший под псевдонимом М. Ильин, однажды рассказал на этот счет занятную байку. Некий англичанин по имени Томас Кориат побывал в 1608 году в Италии. Римские виллы и венецианские дворцы, стоящие по колено в воде, совершенно очаровали сурового британца, но больше всего его поразила одна маленькая вещица. В дневнике путешественника есть такая запись: «Когда итальянцы едят мясо, они пользуются небольшими вилами из железа или стали, а иногда из серебра. Итальянцев никак нельзя заставить есть руками. Они считают, что есть руками нехорошо, потому что не у всех руки чистые». Соблазн был велик, и Кориат не смог побороть искушение: перед отъездом домой он обзавелся такими «вилами». Надо сказать, что старинная итальянская вилка не походила на современную – у нее была маленькая короткая ручка и всего лишь два зубца. В общем, сия затейливая бирюлька напоминала скорее не вилку, а камертон.
На званом обеде в родной Англии Кориат вынул из кармана хитрое изделие головастых южан и приступил к трапезе на итальянский манер. Все взоры тут же устремились на него, а над столом моментально повисла тишина, но Томас Кориат продолжал невозмутимо кушать. Когда же его спросили, что это за штука у него в руках, он с готовностью растолковал желающим смысл и предназначение загадочного инструмента. Двузубая вилка обошла весь стол, гости восторгались изяществом отделки и блеском отполированной стали, но в конце концов единодушно решили, что итальянцы большие чудаки, так как есть вилкой очень неудобно. Кориат обиделся и горячо заспорил. Итальянцы не без оснований полагают, заявил он, что лезть руками в общее блюдо нехорошо, потому что руки не у всех чистые. В ответ раздался взрыв возмущения такой силы, что ему пришлось замолчать. Неужели мистер Кориат думает, что в Англии никто не моет рук перед едой, а за столом сидят африканские дикари, не знакомые с правилами хорошего тона? Неужели воспитанному человеку мало своих собственных десяти пальцев, высочайше пожалованных Господом Богом, и он должен добавлять к ним еще пару искусственных? И если уж на то пошло, если забавная иноземная прихоть настолько запорошила ему глаза, то пускай уважаемый мистер Кориат оставит в покое дешевую пустую риторику и наглядно продемонстрирует почтеннейшей публике, легко ли управляться с этой кургузой итальянской штучкой. Кориат принял вызов, но первый же кусок мяса, подцепленный им с общего блюда, соскользнул на дорогую скатерть, выбросив маленький цветной фонтанчик. Под общий громогласный хохот незадачливый едок был вынужден спрятать заморское изделие обратно к себе в карман. Увы и ах, господа, но путешественнику Кориату откровенно не подфартило: еще немало воды утечет, прежде чем твердолобые сыны и дочери туманного Альбиона перестанут хватать мясо руками и с грехом пополам выучатся пользоваться вилкой.
По другой версии, серебряную штучку о двух остроконечных зубцах впервые углядела византийская принцесса, гостившая на исходе второго десятилетия XI века при дворе венецианского дожа Доменико Сильвио. Но есть еще и третья версия: вилку изобрели сами византийцы еще в IV веке, откуда она и пришла в Италию, когда упомянутую принцессу сосватали за венецианского дожа[56]. Этот последний вариант – самый неубедительный: получается, что целых 600 лет (или даже без малого полторы тысячи, если принять во внимание, что даже к началу XVIII столетия вилка продолжала оставаться экзотикой) модное новшество упорно не желало просачиваться на континент. С другой стороны, некая вилоподобная конструкция была знакома еще древним римлянам, вот только использовалась на редкость бездарно: с ее помощью таскали куски мяса из общей жаровни или горшка. Византия IV века – это восточная часть единой Римской державы, интимно связанная с метрополией. Неужели римлянам потребовалась целая тысяча лет, чтобы превратить неуклюжий кухонный агрегат в столовую вилку?
Как бы там ни было, но и в Средние века, и в блистательную эпоху Просвещения итальянская новинка приживалась со скрипом. Через триста лет после исторического обеда при дворе венецианского дожа французы могли похвастаться всего лишь одной-единственной вилкой, но уже сто лет спустя, в годы правления Карла V Мудрого (1338–1380), королевская кухня располагала внушительным арсеналом из нескольких серебряных вилок. Правда, следует иметь в виду, что на протяжении многих лет она продолжала оставаться предметом сугубо кухонной утвари: с ее помощью таскали мясо из общего котла. А вот столовая вилка еще долго находилась под негласным запретом: аристократов, прибегавших к ее услугам, считали безнадежно испорченным людьми. Католическая церковь шагала в ногу со временем: вплоть до XVIII века монастырское начальство строго-настрого запрещало пользоваться вилкой, ибо святые отцы усматривали в безобидном инструменте чуть ли не воплощение князя тьмы. Даже король-солнце Людовик XIV, блистательный европейский монарх, в пьяном угаре однажды провозгласивший, что государство – это он, долго не жаловал заморскую прихоть и только на излете своего правления немного оттаял. Богопротивное изделие наконец удостоилось путевки в жизнь.
Но переломить косную традицию не так-то легко. Даже в конце XVII столетия на вилку поглядывали искоса, а застольный этикет настоятельно рекомендовал не забирать мясо в горсть, но деликатно орудовать тремя пальцами. Точно так же не полагалось влезать по уши в общее блюдо и подносить еду ко рту обеими руками. В «Родословной вещей» Кима Александровича Буровика читаем: «Большим изыском считалось надевать к обеду перчатки: руки оставались чистыми, не надо было обжигаться горячими кусками. Один мемуарист тех времен в назидание современникам и потомкам ссылался на своего знакомого, которому только раз за двенадцать лет пришлось есть салат без перчаток».
Существует легенда, что победное шествие вилки в конце XVI века теснейшим образом связано с модой на пышные кружевные воротники, напоминавшие огромные мельничные жернова. Понятно, что с такой колодкой на шее за столом не развернешься, однако голь на выдумки хитра: чтобы не перепачкать дорогое голландское полотно, стиляги эпохи Возрождения вооружились острозубыми вилками. Что можно сказать по этому поводу? Почти наверняка это выдумка чистейшей воды, заурядный миф из числа тех историй, что разъясняют на пальцах, как человек впервые получил огонь или откуда у кита такая большая глотка. Подобного рода коллизия обыгрывалась не единожды.
«Прометей, не поладив с богами, принес людям огонь. Люди в это время ели сырого мамонта. Прометей подошел к мрачному бородатому человеку и сказал:
– Огонь не нужен?
– Какой еще огонь? – спросил человек, не переставая жевать.
– Очень хороший, качественный огонь, – зачастил Прометей. – Может варить, жарить, греть. Отдаю совершенно бесплатно.
Человек отложил в сторону кость и спросил:
– А себе чего хочешь?
– Ровным счетом ничего! – отвечал Прометей, стуча себя в грудь кулаком.
Человек помрачнел еще больше.
– Проваливай отсюда, – сказал он. – Не на такого напал.
Долго еще Прометей ходил по стойбищу, предлагая людям огонь. Никто у него так и не взял огня. Вдобавок обругали его с ног до головы»[57].
Кстати, весьма любопытно, что деревянная вилка была в большом ходу у некоторых примитивных народов, вот только использовалась она по особо торжественным случаям, исключительно в обрядовых и ритуальных целях. Например, типичная трехзубая вилка аборигенов тихоокеанских островов применялась каннибалами сугубо по прямому назначению – для поедания человеческого мяса.
Нож, как ни странно, тоже долго не мог прижиться за столом, хотя чуть ли не каждый встречный-поперечный таскал его за поясом или за голенищем. Первые ножи появились в глубочайшей древности – несколько десятков тысяч лет тому назад. Их делали из кремня, рога, кости, бивней слонов и мамонтов, вулканического стекла (обсидиана) и кварца, но основным сырьем на протяжении долгого времени оставался все-таки кремень. В свое время ученые испытали настоящее потрясение, когда их взору открылся безупречный каменный инвентарь охотников верхнего палеолита[58]. Специалисты насчитывают больше сотни различных типов орудий каменного века: разнообразные скребки, острия, проколки, сверла, шильца, кремневые наконечники безукоризненной формы, множество разновидностей режущих инструментов и так далее и тому подобное. Позже получает развитие так называемая вкладышевая техника, когда в пазах деревянной или костяной основы с помощью смолы закрепляют миниатюрные кремневые пластинки. Со временем технология обработки кремня становится все более изощренной. От призматической заготовки откалываются острейшие пластины кремня длиной 15–30 см и толщиной всего несколько миллиметров. Попытки повторения этой операции, предпринятые учеными (в частности, французским исследователем А. Тексье), показали, что речь идет о весьма рациональной технологии, овладеть которой совсем не просто. Чтобы добиться успеха, необходимо вникнуть в суть дела и потрудиться на совесть. Полученные опытным путем кремневые наконечники оказываются острее металлических; точно так же и нож из кремня, изготовленный по старинным рецептам, не уступает по остроте железному клинку. Поэтому недооценивать мастеров каменного века не следует.
Почти наверняка реестр материалов и изделий из них был гораздо шире того, что имеется сегодня в распоряжении ученых, поскольку в ход шел отнюдь не только камень. Например, южноамериканские индейцы, раскалывая наискосок бамбуковый стебель, получают острейшие ножи, которые при разделке мясной туши ощутимо эффективнее хорошего стального лезвия. К сожалению, подобные орудия в силу своей хрупкости быстро разрушаются и в культурных слоях верхнего палеолита встречаются крайне редко.
Между прочим, орудия из кремня и кости успешно конкурировали с медными и бронзовыми изделиями, благополучно уживаясь с ними бок о бок тысячи лет, и даже железо далеко не сразу сумело потеснить камень.
Античность уже знала ножи из мягкой стали, появились и ножевых дел мастера. Например, знаменитый древнегреческий поэт и драматург Софокл, живший в V веке до новой эры, и его не менее знаменитый соотечественник Демосфен (384–322 гг. до н. э.), выдающийся оратор и политический деятель, были детьми ножовщиков.
Молва приписывает честь изобретения столового ножа кардиналу Ришелье. Вплоть до первой трети XVII века ножи были остроконечными, поэтому французские дворяне, не искушенные в тонкостях застольного этикета, запросто ковыряли ими в зубах. Рассказывают, что это безобразие возмутило всесильного кардинала до глубины души, и он распорядился закруглить их концы. Якобы именно так появился современный столовый нож.
Что касается ложки, то ее история уходит во тьму веков. Ложки так называемых примитивных народов почти ничем не отличаются от наших, только сделаны не из металла и украшены богатой резьбой. Ложками вовсю пользовались древние египтяне (при раскопках египетских гробниц археологи обнаружили множество разнообразных ложек). Греки и римляне тоже знали этот столовый прибор, хотя за едой предпочитали обходиться собственными пальцами. Говорят, что некий изобретательный гурман по имени Филоксен часами закалял пальцы, окуная их едва ли не в кипяток, дабы впоследствии без труда выхватывать с блюда самые горячие лакомые куски.
При дворе киевского князя Владимира Красное Солнышко (X век) ели серебряными ложками. По преданию, дружинники великого князя однажды возроптали, что отныне не желают, как холопы и смерды, хлебать деревянным барахлом, и Владимир распорядился «изковать» им ложки из серебра. Вероятнее всего, это легенда, потому что на Руси деревянными ложками, не чинясь, обходились все: и простой народ, и родовитые бояре, и мелкопоместные дворяне, и купеческое сословие. К. А. Буровик пишет: «Во второй половине XIX века в Семеновском уезде красили и лакировали до трех миллионов деревянных ложек в год; их делили на виды: баская, полубаская, тонкая, рыбка и грубоватая с крупным черенком – можеумок». На протяжении столетий и в России, и в Западной Европе были весьма популярны оловянные ложки.
А вот с тарелками, как мы помним, была настоящая беда. Долгое время их с успехом заменяли внушительные ломти хлеба, под которые иногда подкладывали деревянные кружки. Отсутствие персональных тарелок тем более удивительно, что столовая посуда в виде разного рода мисок и плошек существовала испокон веков, однако снабдить тарелкой каждого едока почему-то никому не приходило в голову. Однако мало-помалу ситуация все же менялась: появились тарелки из дерева и глины, а в домах побогаче широко применялось олово и серебро. Но тарелок все равно хронически не хватало, и несколько человек были вынуждены хлебать из одной плошки. К. А. Буровик рассказывает, что изобретателем глубокой тарелки для супа был преемник Ришелье, кардинал Мазарини, каковая и «стала, наконец, индивидуальной посудой». И далее: «До этого за столом несколько человек ели из одной посудины. В руководствах по этикету XVII века советовали хорошо вытирать ложку, прежде чем снова зачерпывать ею суп, ведь деликатные люди могут не захотеть супа, в который обмакнули ложку, вынув изо рта (разливных ложек в те времена еще не было). Кавалерам предписывалось не облизывать руки во время еды, не плевать в тарелки и не сморкаться в скатерть». С конца XV века олово и серебро начал понемногу теснить фаянс, а вот фарфоровая посуда появилась только в XVIII столетии.
На Руси дело с тарелками обстояло еще печальнее: вплоть до XVI века даже цари и бояре не жаловали столовую посуду, да и столетие спустя тарелки оставались большой редкостью. Один иностранец, приглашенный на обед к Лжедмитрию I (1606 год), не увидел на столах ни тарелок, ни ложек, а кушанья большей частью состояли из паштетов, весьма дурно приготовленных. А другой европеец, барон А. Мейерберг, бывший послом германского императора при дворе Алексея Михайловича Тишайшего[59] в 1661–1662 годах, свидетельствует: «За обедом для каждого гостя кладут на стол ложку и хлеб, а тарелку, нож и вилку кладут только для почетнейших гостей». Ну что же, бесспорный прогресс налицо. Правда, тарелки чаще служили вовсе не для еды – в них бросали кости…
В труде известного русского историка В. О. Ключевского «Сказания иностранцев о Московском государстве», впервые опубликованном в 1866 году, есть замечательный рассказ путешественника Карлейля, которому довелось обедать при дворе Алексея Михайловича. Карлейль пишет, что каждому гостю подали только по одной тарелке на весь обед, причем серебряная посуда была так нечиста, что походила скорее на свинцовую. Впрочем, не станем пересказывать, а лучше процитируем:
«После раздачи хлеба стольники выходили и приносили водку, которую обыкновенно пили перед обедом, потом жареных лебедей, составлявших первое блюдо на государственных обедах, когда не было поста. Государю подносили трех лебедей, и он пробовал ножом, который лучше. Выбранный тотчас выносился, разрезывался на части и на пяти тарелках приносился опять государю. Отрезав по частичке от разных кусков, государь давал отведать их стольнику, потом отведывал сам и посылал на тарелках послу и кому-нибудь из остальных гостей в знак особой милости <…> Остальные лебеди разрезывались и подавались гостям на тарелках, по четыре куска на каждой. Лебедей ели с уксусом, солью и перцем. Для той же цели во все время обеда стояли на столе сметана, соленые огурцы и сливы. В таком же порядке подавались и прочие блюда, с той, впрочем, разницей, что уже не уносились из столовой подобно жареному. <…> В пост первым кушаньем, которым открывался обед, была икра с зеленью. За ней <…> подали очень понравившуюся ему уху, потом рыбу в разных видах: вареную, жареную, в пирогах; всех блюд было до пятисот. Из напитков на столах стояли обыкновенно мальвазия и другие вина, также разных родов меды. <…> Обед продолжался три или четыре часа, иногда до самой ночи, так что оканчивался уже при огне; обед, данный Карлилю (Карлейлю. – Л. Ш.), тянулся от 2 до 11 часов пополудни».
Не лишены интереса и некоторые подробности угощения послов на квартире. На посольский двор отсылалось несколько телег с напитками и кушаньями, приготовленными на государственной кухне. Были даже предусмотрены специальные «подвижные» плиты для разогревания доставленной снеди. Слово В. О. Ключевскому: «Пристав покрывал скатертью только конец стола, где должен сидеть посол, и только для него клал нож, вилку и ложку; свита должна была обойтись без этого. Кушанья, состоявшие преимущественно из разного рода печений, затейливо приготовленных, так щедро приправлялись маслом, луком и чесноком, что иностранцы с трудом могли есть их, да об этом и не заботились; московское хлебосольство выражалось вовсе не в „яствах“. Пристав приносил с собой длинный список „здоровий“ и в продолжение стола предлагал их одно за другим, начиная с обоих государей, титулы которых сказывались при этом сполна на бумаге, не выходившей из рук пристава до конца обеда. В подаче напитков сохранялся строгий порядок. Для низших служителей посольства выставлялся среди двора большой сосуд с водкой, из которого всякий черпал, сколько хотел».
В допетровской России существовала традиция подачи экзотических блюд на парадных обедах у государя. При дворе можно было отведать лебедя, павлина и жаренных в меду кукушек, которых подавали на больших серебряных подносах, а в особой посудине гостям выносили жареную рысь. В Европе короли тоже были не дураки вкусно покушать: в конце XVII века к столу европейского монарха подавалось до двухсот блюд и до полутора тысяч предметов в сервизах. К. А. Буровик пишет: «Даже такой, в общем, просвещенный правитель, как Людовик XIV, за один присест мог съесть: четыре тарелки супа, целого фазана, куропатку, тарелку салата, два куска ветчины, овощи и варенье».
Молодого лебедя, поданного на золотом блюде, вспоминает и купец Рафаэль Барбарини, итальянец, посетивший Россию в 1565 году. История умалчивает, какое отношение этот купец имеет к знаменитому пизанскому архитектору Иннокентию Барбарини, который примерно в то же время курировал строительные работы в Московском Кремле. Если верить поэту Дмитрию Кедрину, то дорогую заморскую штучку, свысока взиравшую на дремучих московитов, поставил на место зодчий-самородок Федор Конь:
И ноготь Федьки, тверд и грязен, По чертежу провел черту. И Барбарини, старый фрязин, Узрел в постройке высоту!Как бы там ни было, но Рафаэль Барбарини пишет не о затейливых луковках и колокольнях, а о небывалом размахе дворцового пира, который его совершенно ошеломил: «Потом вошло человек двадцать прислуги; они несли огромные блюда с разными жаркими, как то: гусями, бараниной, говядиной и другими грубыми мясами». Следуя придворному протоколу, эти яства долго таскали взад-вперед, пока наконец они снова не явились на столе уже в большем числе <…> и нарезанные кусками на блюдах». Итальянцу вторит датский посол Ульфельдт: «Все столы были настолько тесно заставлены серебряными кубками и блюдами, что совсем не оставалось свободного места, но блюдо ставилось на блюдо, чаша на чашу, одновременно нам подавалось много различных яств, так же как и разные виды меда». Датчанин насчитал 65 перемен, а вот английский посланник Джильс Флетчер не сомневался, что Ивану IV Грозному успели подать не менее 70 блюд. Вот только приготовлены они были «довольно грубо, с большим количеством чесноку и соли, подобно тому, как в Голландии». И далее: «В праздник или при угощении какого-либо посланника приготовляют гораздо более блюд. За столом подают вместе по два блюда и никогда более трех, дабы царь мог кушать их горячие, сперва печенья, потом жареное, наконец, похлебки». Флетчер свидетельствует, что царь Иван, прежде чем отведать еды или отпить вина, всякий раз осенял себя крестным знамением, а за столом орудовал ножом «длиной в половину локтя»[60] и деревянной ложкой, часто прикладываясь к вину и меду, которые подавал стоявший рядом кравчий в золотых чашах, усыпанных жемчугом.
В более просвещенные времена варварская роскошь стала не в чести, и золото и серебро понемногу вытеснялась фарфором (который, между прочим, тоже стоил безумно дорого), но в России дворянство еще долго продолжало отдавать предпочтение благородным металлам. В 1774 году Екатерина II подарила своему фавориту Григорию Орлову уникальный серебряный сервиз с позолотой весом в 130 пудов, стоивший больше миллиона ливров. А у графа Потемкина суп подавали не иначе, как на сто восемьдесят персон, в семипудовой серебряной лохани. Хрупкий фарфор просто не выдержал бы таких нагрузок. Впрочем, молодая аристократия, эти птенцы гнезда Петрова, выпорхнувшие из грязи в князи с легкой руки царя-реформатора, быстро разобрались, с какой стороны у бутерброда масло. В летнем дворце Монплезир (Петергоф) туристам дают подержать в руках совершенно невесомую кофейную чашку (вес пустого спичечного коробка) еще петровских времен из полупрозрачного китайского фарфора.
Но давайте оставим в покое лукулловские пиры царствующих особ и перенесемся в те времена, когда люди еще не умели возделывать полей и питались почти исключительно мясом. Охотники верхнего палеолита, заселившие холодные тундростепи европейского континента около сорока тысяч лет назад, были народом отважным и предприимчивым. Они били крупного зверя – мамонтов, диких быков, пещерных медведей – и смело уходили в долгие походы на многие десятки километров за вожделенной добычей. Это не блажь и не каприз, а суровая необходимость: успешная охота – залог выживания и процветания рода. Охотничьи приемы были отточены до немыслимого совершенства, поэтому картинки в школьных учебниках истории, где неумытая толпа дикарей забрасывает камнями провалившегося в яму мамонта, не имеют с действительностью ничего общего. Чтобы убедиться в полной несостоятельности этих расхожих представлений, достаточно понаблюдать за современными пигмеями, населяющими дождевые тропические леса Экваториальной Африки. Пигмеи охотятся на слонов, и с огромным животным без особого труда справляются три-четыре человека, используя миниатюрные легкие орудия. Главное на охоте – вовсе не грубая сила, а охотничья смекалка в сочетании со знанием повадок и слабых мест зверя.
Вот как выглядит охота крохотных пузатых аборигенов в описании немецкого этнографа Зейверта: «Сначала они намазывают себе все тело слоновьими испражнениями, для того чтобы животное не чуяло опасности, а чувствовало только свой собственный запах, когда люди осторожно к нему приближаются. Ползя на животе, если не представляется иной возможности, они медленно подкрадываются к ничего не подозревающему животному, пока не оказываются под ним, и внезапно со всей силой втыкают сильно отравленное копье в мягкую часть живота, после чего животное быстро сваливается. Затем они немедленно отрубают слону острыми ножами хобот, чтобы он истек кровью».
Охота охотой, но и поедание себе подобных тоже было когда-то вполне заурядной практикой. Человеческие кости в мусорных кучах людей каменного века свидетельствуют об этом совершенно недвусмысленно. Причем все эти кости хранят на себе следы каменных орудий – человек и зверь разделывались по одним и тем же правилам. Французский археолог П. Вилла резюмирует: «Это свидетельство общепринятого регулярного каннибализма у людей каменного века». Да что там далеко ходить за примерами! Мы знаем о ритуальном людоедстве многих примитивных народов, и говорят, что еще триста лет назад воины одного африканского племени бросались в бой с криками: «Мясо, мясо!» Представляете, какой ужас должен был наводить этот боевой клич на отступающего и разбитого противника?
Бытует мнение, что люди каменного века перебивались с хлеба на квас – сегодня густо, а завтра пусто, – а вот доисторические земледельцы, придумавшие одомашнить съедобные растения, катались как сыр в масле. Некоторый резон в подобных рассуждениях имеется: стабильное хозяйство почти всегда надежней погони за увертливой четвероногой дичью. Об этом в свое время неплохо сказал один мудрый индейский вождь, прозорливо и метко живописавший исход противостояния своих соплеменников и белых переселенцев.
«Белые сильнее нас, потому что они едят зерна, а мы едим мясо. Мясу нужно несколько лет, чтобы вырасти, а чудесные зерна, которые белые люди бросают в землю, возвращаются через несколько месяцев с целым выводком своих братьев. У мяса четыре ноги, чтобы убегать от нас, а у нас только две ноги, чтобы его догонять. А зерна всегда остаются там, куда их бросили. Зимой мы коченеем в лесах, проводя целые дни на охоте, а белые люди отдыхают у себя дома. Истинно говорю вам: не успеют сгнить и превратиться в труху вот эти старые деревья, которые высятся у наших вигвамов, как люди, которые едят зерна, победят людей, которые едят мясо».
Безусловно, это был местный Иеремия и Иезекииль в одном лице, но нет пророка в своем отечестве. И кто посмеет бросить в него камень? Безымянный индейский вождь как в воду глядел: традиционная культура конных охотников на бизонов постепенно истаивала дымом и уходила в прошлое, а хищные переселенцы распахивали целинные земли и не ведали пощады.
Спору нет, охотникам и собирателям сплошь и рядом приходилось несладко, но и первые земледельцы, мотыжившие землю кривыми палками (плуг и даже простенькую соху изобретут еще не скоро), кое-как сводили концы с концами. Если пигмеи, убив слона, наедались до рвоты (говорят, что последние куски они заталкивали в глотку пальцем), то оседлый люд, без устали гнувший спину на жалком клочке земли, не мог себе позволить даже такой малости, потому что хозяин без лишних слов забирал львиную долю урожая. Вы спросите, откуда хозяин? Никакого секрета – это азы политической экономии. Была бы только собственность (в данном случае земельный надел), а хозяин всегда найдется.
Оседлые земледельцы смотрелись весьма бледно на фоне своих героических прадедов, истоптавших планету от полюса и до полюса. Даже физически они как-то съежились. Охотники верхнего палеолита поражали воображение. Это были высоченные европеоиды (средний рост – 187 см) с идеально прямой походкой и огромным черепом – от 1600 до 1900 см3 (напомним, что емкость черепной коробки современного европейца колеблется в пределах 1300–1400 см3). Конечно, не все ископаемые Homo sapiens отличались гренадерским ростом, но популяция, проникшая в Европу в разгар последнего (вюрмского) оледенения, была, похоже, очень высокорослой. Жизнь на леднике – это не сахар, и нашим далеким предкам наверняка приходилось голодать, но зубы у них были в полном порядке. Едва ли не поголовный кариес – удел земледельцев, когда радикально изменилась диета.
Отважное и динамичное племя погубил перепромысел – неизбежный бич великих охот. Около 12 тысяч лет назад, когда ледник окончательно растаял, переменился климат и не стало крупных зверей, завершилась героическая эпоха. Выбор у палеолитических охотников был невелик: или бесславно вымереть, или осесть на земле, поменяв привычные стереотипы поведения. Откочевка ничего не давала – перепромысел рано или поздно все равно настигал переселенцев. Не желающие смириться с новым порядком вещей уходили в небытие, а маргиналы, которых раньше никто в грош не ставил, бросили зерна в землю и собрали первый урожай. Жестокий и чуждый сантиментов отбор вновь продемонстрировал, что пластичные и гибкие всегда обойдут упрямых и несговорчивых на длинной дистанции. В истории человечества подобное случалось не раз. На смену отчаянным промысловикам пришли совсем другие люди – немного земледельцы и скотоводы, немного собиратели и чуть-чуть охотники, положившие начало современной цивилизации. Мудрый индейский вождь был тысячу раз прав: люди, которые едят зерна, всегда победят людей, которые едят мясо.
Реконструировать меню людей каменного века сегодня едва ли возможно. Архаические народы, сохранившие традиционный образ жизни до наших дней – австралийские аборигены, южноамериканские индейцы и те же пигмеи, – находятся на грани вымирания и мало напоминают своих героических пращуров эпохи Великих охот. Некоторое представление о быте и кухне людей каменного века могут дать, пожалуй, так называемые культуры охотников на морского зверя – это чукчи и эскимосы, научившиеся выживать в суровых условиях Крайнего Севера. Они охотились на китов и моржей, добывали белого медведя и нерпу, ловили рыбу и разводили ездовых собак. Их диета была почти исключительно мясной, поскольку в насквозь промороженной арктической тундре почти ничего не растет. Во всяком случае, культурные растения там не приживаются. Есть, правда, ягоды – очень вкусные и тающие на языке, – но лето в высоких широтах короткое и пролетает стремительно. Чтобы хоть как-то компенсировать нехватку витаминов, арктические охотники были вынуждены идти на небывалые ухищрения. Они изобрели удивительное блюдо – копанку, моржовое мясо с гнильцой, пролежавшее в вечной мерзлоте несколько месяцев. Современный европеец едва ли захотел бы отведать подобный деликатес, а вот чукчи едят и похваливают.
Морж – по-чукотски рыркы – давал луораветлану[61] все: деликатесную пищу, материал для непромокаемых плащей, прочные эластичные ремни, покрытие для яранги и охотничьей байдары, топливо и, наконец, корм для собак. На моржа охотились круглый год, однако в зависимости от сезона по-разному разделывали тушу. Юрий Рытхэу, сам чукча по крови, пишет:
«Осеннего, лежбищного моржа разделывали несколько иначе, нежели весеннего и летнего. Оставляли на кусках кожу вместе со слоем жира и мяса. Так называемый копальхен. В произведениях тангитанских[62] литераторов и журналистов часто с отвращением описывается специфический запах копальхена. Он и впрямь бьет непривычного человека наповал.
Копальхен готовится следующим образом. Кожу вместе с мясом и жиром сворачивают в своеобразный рулет. Иногда внутрь добавляют куски печени, почек. Получается нечто вроде пакета, сшитого сырым ремнем, вырезанным из той же кожи, что и весь копальхен. Вес этого шмата килограммов тридцать – сорок. По-чукотски это изделие называется кымгыт. Эти кымгыты зарывают в землю, в слой вечной мерзлоты, или перевозят в селение, где каждая семья имела свой собственный увэран, мясное хранилище. Оно неглубокое. В нем копальхен доходит до своей кондиции и набирает тот запах, который так ненавистен тангитанам. Каждая семья готовит столько кымгытов, сколько ей понадобится на долгую зиму. Ведь копальхен служит основной пищей не только человеку, но и собакам. Из одного и того же кымгыта рубятся куски и для семьи, и для упряжки.
Обычно на завтрак мы получали по куску мерзлого копальхена, тонко нарезанного пекулем – специальным женским ножом, и этой еды нам хватало, чтобы не чувствовать голода на протяжении зимнего дня на морозном воздухе.
Отправляясь в путешествие, каюр клал на нарту часть кымгыта, а если предстоял долгий путь, то и целый кымгыт, и этого запаса ему и его собакам хватало надолго.
Я хорошо помню, как кормил собак после долгого пути. <…> Я открывал крышку подземного хранилища увэрана, которое представляло собой обычно китовую лопатку. На меня словно резким ударом устремлялся запертый в тесном помещении аромат копальхена. Я доставал кымгыт и вооружался топором с остро отточенным лезвием. Сначала я разрубал круглый ком замерзшего копальхена посередине, а потом уже рубил большие круглые ломти. Зимний, пролежавший несколько месяцев в слое вечной мерзлоты копальхен в разрезе представлял собой весьма аппетитное зрелище: снаружи шел слой серой кожи, довольно толстой, сантиметра в полтора-два, за ним слой жира, чуть желтоватого, затвердевшего, а потом уже розовое мясо с прожилками нутряного сала. Все эти слои отделялись друг от друга зелеными прокладками острой, необыкновенно острой плесени, напоминающей вкус хорошего рокфора. Слюнки текли от такого зрелища, и, не удержавшись, я отрубал себе тонкий, толщиной с полоску бекона для яичницы, слой копальхена и клал в рот. Собаки с завистью смотрели на меня и глухо ворчали, как бы напоминая о том, что копальхен главным образом полагается им, а не мне.
Я разрубал на плотном снегу или на куске дерева порции копальхена, каждый величиной с мой кулак, и начинал бросать их в разверстые собачьи пасти. <…>
Зимой копальхен был основной едой. Он подавался на завтрак, в дневное время, вечером, когда не было свежего нерпичьего мяса. Если в увэране находилось несколько кымгытов, человек чувствовал себя уверенно, крепко стоял на земле и знал, что ему уже ничего не страшно, даже если зимняя охота на нерпу или белого медведя будет безуспешной несколько недель, а то и месяцев».
А нерпа, охота на которую у ледового разводья требовала адского терпения и нешуточного мастерства? Но если зверя удавалось добыть, его туша шла в дело до последней косточки. Мясо и внутренности, разумеется, съедались, а из шкуры выкраивали ремни, шили одежду и обувь. Нерпичья печенка, особенно мороженая и растолченная в каменной ступе, считалась особым деликатесом. Очищенные и высушенные кишки тоже шли в пищу и вполне заменяли конфеты. Даже ласты обгладывались до мельчайших косточек и розовых ноготков. Юрий Рытхэу пишет:
«И все же для меня самое большое нерпичье лакомство – глаза. Когда нерпу втаскивали в меховой полог на оттайку, мы, ребятишки, усаживались вокруг, глотая слюни в ожидании невыразимого наслаждения.
Глаза вырезались из туши еще до окончательной оттайки. Тетя надрезала острым женским ножом с широким лезвием глазное яблоко и подавала мне. Я с жадностью приникал к отверстию и первым делом втягивал в себя чуть солоноватую, с небольшими льдинками жидкость. Потом ко мне в рот вкатывался небольшой шарик, в котором тут же вязли зубы. Поедание этого шарика, который представлял собой так называемое студенистое тело глаза, занимало много времени. А потом наступал черед самой оболочки глаза, довольно твердой и плотной. Приходилось буквально часами разжевывать остатки нерпичьего глаза.
За всю свою долгую жизнь мне довелось перепробовать множество разнообразной еды. Я уплетал японские суши, огромные вьетнамские креветки, устрицы, сырую говядину на торжественном приеме у императора Хайле Селассие в Аддис-Абебе, кровавые американские бифштексы, нежнейшее оленье мясо, моржовый копальхен, несчетное количество разнообразных рыб, не говоря уже о растительной пище, начиная от банальной картошки до совершенно непонятных для меня овощей, но самым вкусным и навсегда запомнившимся лакомством для меня остался холодный нерпичий глаз!»
А вот индейцы Северной Америки выдумали пеммикан[63] – сублимированный мясной продукт, практически не содержащий влаги. Он представляет собой брикеты из сушеного и растертого в порошок оленьего или бизоньего мяса, смешанного с жиром и соком кислых ягод. Индейцы хранили его в кожаных мешках. Пеммикан отличается очень высокой питательностью и легкой усвояемостью при малом объеме и весе и потому незаменим в дальних переходах. В начале XX века говяжий пеммикан входил в рацион полярных экспедиций; в 1911 году он помог норвежцу Руалу Амундсену покорить Южный полюс.
До недавнего времени считалось, что первые зерна бросили в землю или древние египтяне, или шумеры – загадочный народ, населявший в IV–III тысячелетии до новой эры междуречье Тигра и Евфрата. Именно там, в долине Нила и в Месопотамии, возникли первые городские цивилизации, сделавшие земледелие и скотоводство альфой и омегой своей экономики. На отполированном камне египетских пирамид мы находим изображения людей, растирающих зерна между камнями, но похоже, что земледелие зародилось гораздо раньше.
Около десяти тысяч лет назад на тучных землях благословенного полумесяца, который исполинской закорючкой протянулся от Египта до Анатолии[64], захватив попутно Палестину и Северную Сирию, люди уже умели возделывать съедобные растения. Дожди проливались обильно и регулярно, и вчерашние охотники не успевали собирать урожай – ячмень, чечевицу, горох. А виноград с яблоками и грушами, не говоря уже о такой мелочи, как гранаты и инжир, и вовсе росли сами собой. Люди научились строить глинобитные дома, в хлевах бодро захрюкали поросята, а на полях заколосились злаки. Уже родилось гончарное ремесло, но пройдет по крайней мере еще две тысячи лет, прежде чем такая элементарная штука, как гончарный круг, станет рутинным приспособлением для выделки керамической посуды. В VIII тысячелетии до новой эры на Ближнем Востоке уже существует город Иерихон, где проживает не меньше трех тысяч человек. В Малой Азии обнаружены не менее древние земледельческие поселения, самое знаменитое из них – городище Чатал-Гуюк. Одним словом, земледелие по крайней мере вдвое старше всемирно известных египетских пирамид. А совсем недавно выяснилось, что и VIII тысячелетие до новой эры далеко не предел.
Результаты раскопок на юго-западном берегу Генисаретского озера[65], в коренных библейских местах, буквально ошеломили ученых. В 2004 году израильские и американские археологи нашли остатки древнего поселения, надежно законсервированные в толстом слое ила. Улов превзошел все ожидания: на свет божий были извлечены украшения из бисера, каменные орудия, гравированные кости газели и даже травяной матрас. Но больше всего ученых заинтересовали следы растений – зерна пшеницы и ячменя, малина, фиги, миндаль. Все находки замечательно сохранились, потому что мощные иловые отложения не позволяли воздуху проникнуть вглубь. Поселение назвали Ohalo. Совершенной сенсацией обернулась датировка находок: оказывается, уже около 23 тысяч лет назад люди начали понемногу заниматься земледелием, а меню жителей поселка состояло в основном из растительно-зерновой пищи. Они поджаривали зерна дикой пшеницы и ячменя, толкли их в ступе и выпекали лепешки или готовили кашу. Зерновая диета дополнялась желудями, фисташками, дикими оливками и виноградом. Всего было найдено и идентифицировано около 100 тысяч образцов съедобных растений.
Расцвет поселения совпадает с пиком похолодания последней ледниковой эпохи. В Палестине в ту пору стоял суровый сухой климат, и только на берегу Генисаретского озера неведомо как возник благословенный оазис, своего рода палеолитический Эдем. Правда, ученые и раньше поговаривали вполголоса о нетипичных пищевых пристрастиях обитателей этого региона, но все это было теоретизированием на пустом месте, поскольку найти остатки растительной пищи – задача непростая. Так что поселок Ohalo стал в этом смысле настоящим подарком судьбы. Теперь мы вынуждены признать, что задолго до начала неолитической революции отдельные популяции Homo sapiens почти полностью отказались от мяса и перешли растительно-зерновую диету.
Хлеб, который выпекали шумеры и египтяне, не вызвал бы восторга у нашего современника. Да что там древние египтяне! Всего лишь триста лет тому назад к столу человека среднего достатка подавался такой хлеб, которого сегодня не стал бы есть никто.
Обыкновенная картошка тоже появилась в европейском меню совсем недавно – в XVI столетии. Ее привезли из Южной и Центральной Америки вместе с другими заморскими диковинами – шоколадом, кофе и табаком (впрочем, кофе просочился в Европу чуть раньше из Восточной Африки). Поначалу картошку не принимали всерьез, и она жила не на грядках, а в цветочных горшках у любителей редкой экзотики. Даже в XVIII веке она продолжала оставаться модной новинкой, и французская королева носила в петлице цветы картошки, а вареный картофель ежедневно подавался только к королевскому столу. В Россию этот заморский корнеплод проник при Петре Великом, но активно насаждать его стали при Екатерине II. Дело подвигалось со скрипом – народ, веками сеявший репу, капусту и редьку, упорно не принимал непонятного овоща. А старообрядцы вообще стояли насмерть и называли картофель не иначе, как чертовым яблоком. Например, в Сибири картошку начали выращивать только в XIX веке.
Между прочим, египтяне с шумерами не только научились выпекать хлеб, но и придумали пиво, которое еще в III тысячелетии до новой эры стали варить в промышленных масштабах. На глиняных табличках ученые нашли рецепты 15 сортов пива, записанные «чертами» и «резами» – вавилонской клинописью. Более того, дотошные немецкие пивовары не поленились воспроизвести некоторые из них, и дегустаторы высоко оценили старинный напиток. Правда, шумеры пили пиво не так, как мы сегодня: его разливали в огромные глиняные горшки, закопанные в землю, а наружу выводили тростниковые соломинки – по несколько штук из каждого горшка. Законы вавилонского царя Хаммурапи регламентировали все на свете, в том числе и пивоварение. Заниматься этим непростым ремеслом дозволялось только женщинам, причем отступления от высочайше утвержденной рецептуры карались весьма жестоко. Женщину, завысившую цену на пиво, полагалось утопить в реке, а если был нарушен технологический цикл, ей следовало пить сваренное ею пиво до тех пор, пока не умрет.
В Древнем Египте пиво тоже высоко ценили – наряду с хлебом оно было основным продуктом питания. Египетский иероглиф, обозначающий трапезу, в буквальном переводе звучит как «хлеб и пиво». Крестьянин, занятый на строительных работах, ежедневно получал три куска хлеба, три жбана пива и по пучку чеснока и лука. Как и шумеры, египтяне варили множество сортов любимого напитка, ароматизируя их различными душистыми травами, и присваивали им громкие имена: «Божественное», «Веселый попутчик», «Прекрасное». Врачи рекомендовали тонизирующее пиво с добавками руты, сафлора и мандрагоры.
Пиво знали и в Древней Индии, и в Африке, и в доколумбовой Америке, где его варили из маиса. В дохристианской Европе большими ценителями пива были кельты (они же галлы) – воинственный народ, населявший территорию современной Франции и Великобритании. Пили его и германцы, регулярно тревожившие своими набегами границы Римской империи. Правда, римский историк Публий Корнелий Тацит его не жаловал: «Их напиток – ячменный или пшеничный отвар, превращенный посредством брожения в некое подобие вина». Надо сказать, что греки и римляне больше налегали на вино, разбавляя его водой, а пиво, как и неразбавленное вино, считали напитком варваров. Сергей Викторов в статье «Праздник, который всегда…» пишет: «Возможно, этот напиток не вызвал восторга у Тацита, потому что для получения сусла в германских племенах – в зависимости от местности, где они жили, – использовались помимо зерна дубовая кора, листья ясеня, можжевельник, черника и даже грибы и бычья желчь. У бриттов, кстати, вкус пива был не лучше: там в него добавляли так называемый грут – смесь восковника, шалфея, тысячелистника, лавра и сосновой смолы». Все эти вещества работали как натуральные консерванты: без них пиво могло храниться не более одного-двух дней.
Впрочем, древнеегипетское пиво тоже бы вряд ли пришлось по вкусу нашему современнику – оно было очень сладким. Нынешние кондиции пенный напиток приобрел только тогда, когда в него стали добавлять хмель, который как раз и придает пиву характерный горьковатый привкус и одновременно действует как хороший консервант. Хмель впервые упоминается в дарственной грамоте франкского короля Пипина Короткого (768 год), а в 859 году в Баварии уже вовсю варили пиво с хмелем. У истоков хмелевого пивоварения стояли монастыри, быстро осознавшие доходность этого промысла. Кроме того, при этом свято соблюдался едва ли не главный клерикальный принцип – «жидкость не нарушает поста», а суровыми постами Господь монахов не обидел. В 1031 году монастырь Сант-Эммерама завел специальные хмельники под Регенсбургом и Штраубингом, так что началом современного пивоварения можно считать именно эту дату.
А что же греки и римляне, отдававшие предпочтение натуральным виноградным винам? Чем они закусывали свой благородный напиток? Если верить историкам, греки долгое время были весьма умеренны в еде. В эпоху Гомера они завтракали рано утром пшеничными или ячменными лепешками, размоченными в вине, смешанном с водой. Около полудня наступало время обеда, к столу подавали мясные блюда, хлеб и вино. Ужин ничем не отличался от обеда, только порции были меньше. Мясные блюда обычно готовились из говядины, баранины или мяса дикого вепря. Однако со временем стол греков стал разнообразнее: они охотно и с удовольствием ели колбасы и козьи желудки, начиненные кровью и жиром, а из овощей чаще всего употребляли лук, чеснок, салат и разные виды стручковых. Только неприхотливые спартанцы берегли как зеницу ока суровый быт и старинную простоту нравов; их традиционное блюдо – знаменитую черную похлебку – не мог есть никто, кроме уроженцев Лаконики[66]. Другие же греки по мере расширения торговых связей и особенно в эпоху эллинизма (IV–III века до новой эры) стали откровенно предаваться чревоугодию. Например, в одной из древнегреческих комедий господин дает повару указания насчет рыбных блюд: на столе должны быть нарезанные кусочками щука, морские скаты под соусом, окунь, макрель, фаршированные каракатицы, лягушачьи лапки и брюшко, сельдь, камбала, мурены и крабы.
Но греческие застолья не идут ни в какое сравнение с небывалым размахом патрицианских трапез. В императорском Риме помимо обычной домашней птицы начали разводить фазанов, цесарок и павлинов. Если павлинов впервые подали к столу в 55 году до новой эры, то при Августе готовили деликатесные блюда из аистов, а при Тиберии очередь дошла до соловьев и других певчих птиц. Говорят, что особенно изысканным лакомством считались соловьиные языки. Избалованные аристократы пустились во все тяжкие: на столе появились такие кулинарные изыски, как языки фламинго, кушанья из гусиных лапок с гарниром из петушиных гребней и тому подобное. А легендарный гурман и обжора император Вителлий задавал пиры трижды в день и за несколько месяцев своего правления умудрился промотать только на еду 900 миллионов сестерциев. Он изобрел фантастическое блюдо («щит Минервы»), где были смешаны печень рыбы скар, фазаньи и павлиньи мозги, языки фламинго и молоки мурен, за которыми корабельщики мотались по всему Средиземноморью – «от Парфии[67] до Испанского пролива». В романе Петрония «Сатирикон» описано застолье в доме богатого парвеню Тримальхиона, который подал гостям дикую свинью, нафаршированную живыми дроздами, африканские смоквы, лангустов, певчих птиц и бог знает что еще. Тогда и родилось выражение «Тримальхионов пир», означающее неумеренное чревоугодие. Петроний, надо полагать, писал с натуры, ибо полет фантазии римских кулинаров не ведал границ: они выкармливали улиток цельным молоком, пока тем не становилось тесно в раковинах, сонь помещали в глиняные кувшины и кормили орехами до чрезмерной полноты, а голубям подрезали крылья или ломали лапки и содержали на жеваном хлебе, чтобы они без меры жирели.
С пирами царствующих особ мы худо-бедно разобрались (жареные лебеди, фазаны, запеченные в перьях, кукушки в меду и пр.), а вот что ели люди попроще, и не в полузабытые времена первых Романовых или Ивана Грозного, а 150–200 лет назад, в эпоху Александра Сергеевича и Николая Васильевича? Помните, читатель, эпиграф к этой главе? А ведь Чичиков обедает не в столичной ресторации, а в захудалом придорожном трактире, где мутное зеркало показывает вместо двух четыре глаза. Тем не менее гостю принесли накрахмаленную салфетку (!), убогий нож с пожелтевшей костяной ручкой, «двузубую вилку и солонку, которую никак нельзя было поставить прямо на стол». Что и говорить, небогато, однако «поросенка с хреном и со сметаною» все же подали, и Павел Иванович скушал его с большим аппетитом. Вам часто приходилось отведать жареного поросенка в дороге?
Если так угощали в глухой провинции, где дороги, по выражению Николая Васильевича, расползались, как раки, то что же творилось в обеих столицах? Извольте. Открываем «Евгения Онегина». Герой побаловал себя утренним кофеем, перелистал почту, прогулялся по Невскому в широком боливаре[68] и теперь спешит на обед.
К Talon[69] помчался: он уверен, Что там уж ждет его Каверин. Вошел: и пробка в потолок, Вина кометы брызнул ток; Пред ним roast-beef окровавленный, И трюфли, роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет, И Страсбурга пирог нетленный Меж сыром лимбургским живым И ананасом золотым.Вино кометы – это шампанское урожая 1811 года, когда в небесах повисла жутковатого вида хвостатая звезда, с появлением которой виноделы связывали небывало высокое качество собранного в этом, «кометном» году винограда. Ростбиф (roast beef) – это жареная говядина, вырезанная из хребтовой части туши и приготовленная по-английски – с кровью; модная новинка в 1810–1820 годах. Трюфли, понятно, сорт деликатесных грибов, а вот «Страсбурга пирог нетленный» – это паштет из гусиной печенки, который доставлялся в Россию из Германии в консервированном виде (потому и «нетленный»). Консервы изобрели совсем недавно – в эпоху наполеоновских войн. Ну а лимбургский сыр – острое и сильно пахнущее изделие – экспортировался в Россию из бельгийской провинции Лимбург; он был очень мягок и при разрезании растекался как слизь, поэтому и «живой».
Разумеется, такой обед стоил немалых денег, и крестьянская Россия (свыше 90 процентов населения) трюфелей и бельгийского сыра позволить себе не могла. Мясом баловались нечасто, только по праздникам, а в будни обходились простой едой, следуя известной поговорке: «Щи да каша – пища наша». Впрочем, каши были весьма питательны; они традиционно входили в солдатский рацион и с успехом заменяли картофель даже на фронтах Первой мировой. Кашу запивали квасом, брагой, медом и белым столовым вином – водкой. Квас – изобретение русской допетровской кухни – считался простонародным напитком, но многие иностранцы были от него без ума. Например, Джакомо Казанова, итальянский авантюрист, посетивший Россию в годы правления Екатерины II, писал: «У них есть восхитительный напиток, название которого я позабыл. Но он намного превосходит константинопольский шербет. Слугам, несмотря на всю их многочисленность, отнюдь не дают пить воду, но этот легкий, приятный на вкус и питательный напиток, который к тому же весьма дешев, так как за один рубль его дают большую бочку». В поваренных книгах XVIII столетия приводятся рецепты нескольких десятков квасов, и этот замечательный напиток был в чести не только у простолюдинов, но и у помещиков. Друг Пушкина П. А. Вяземский передавал слова «одного почтенного старичка» о том, что «в Париже порядочному человеку жить нельзя, потому что в нем нет ни кваса, ни калачей».
Небогатые помещики средней руки в начале XIX века предпочитали жить натуральным хозяйством. Помните, как Онегин, поселясь в деревне, затеял ревизию старых шкафов?
В одном нашел тетрадь расхода, В другом наливок целый строй, Кувшины с яблочной водой И календарь осьмого года; Старик, имея много дел, В иные книги не глядел.Брусничная вода, которую подавали в доме у Лариных (Онегин, помнится, все беспокоился, как бы она ему вреда не наделала), это не морс и не квас, а слабоалкогольный напиток домашнего приготовления. Так что бдительные соседи осуждали Евгения вовсе не за пьянство («Он фармазон; он пьет одно / Стаканом красное вино»), а за редкое мотовство, за то, что он безбожно транжирит деньги: вместо напитков домашней фабрикации хлещет стаканами дорогое импортное вино.
Кстати, о винах пушкинских времен. Позволим себе цитату из М. А. Цявловского: «В произведениях Пушкина упоминаются обычные в быту 20–30-х годов вина. Бордо – легкое красное вино. Вина типа бордо – красное бургонское, кло д’вужо и лафит. В 1820 г. особенно славилось вино кло д’вужо, названное по местности в Бургони, составленное из смеси темного и зеленого винограда; существовало также белое вино этой марки. Лафит – красное вино, мягче и слаще бургонского. К бордоским винам относится также белое вино – сотерн. «Горское» вино – кавказское. Мадера (по имени острова, где произрастает виноград, из которого это вино выделывается) – сладкое вино. Мозель – немецкое белое вино, бледно-зеленого цвета, вырабатываемое в бассейне реки Мозель. Молдавское вино – местное бессарабское вино плохого качества. Цимлянское вино – ароматное, густое красное вино, выделываемое в станице того же названия в Области войска Донского. Донское игристое – выделываемое там же. Шабли – лучшее французское белое вино, называемое по городу, где оно вырабатывается; вино это отличается прозрачностью, крепостью и свойством быстрого и легкого опьянения. Шампанское – французское игристое вино, выделываемое в Шампани. Четыре наиболее славящиеся марки шампанского воспеты Пушкиным: Аи – названное по городу в Шампани, Клико, Моэт и St-Pere, Сен-Пере».
Французы славно потрудились на алкогольном поприще. О коньяке наслышаны все, но и кальвадос – обыкновенная яблочная водка, которую обаятельные герои Ремарка пьют как разбавленное пиво, – тоже относится к числу французских ноу-хау. Его выгоняют из сидра – легкой 5-градусной браги, получаемой из мелких кислых яблок, необыкновенно богатых танинами. Родина кальвадоса – одноименный департамент, живописная холмистая местность, раскинувшаяся между Шербуром, Домфроном и Руаном. Перегонка сидра в крепкий алкоголь началась на рубеже XV–XVI веков, когда испанцы познакомили французских виноделов с необычным техническим изобретением – самогонным аппаратом. В 1606 году возникла гильдия производителей яблочного бренди, а еще полтораста лет спустя (в 1741 году) государство попыталось взять под крыло выпуск популярного напитка. В начале XIX века кальвадос уже выпускался в промышленных масштабах.
В пушкинские времена семейные люди предпочитали обедать дома, потому что с приличными ресторанами (даже в Питере и Москве) дело обстояло не лучшим образом. Ю. М. Лотман цитирует дневник молодого холостяка, который обошел едва ли не все столичные трактиры. Претензий великое множество: то живот разболелся, то пирожного не подают, то вино никуда не годится, то совершенно нестерпимый запах из кухни. И только в редких случаях скупая похвала: «10 июня. Обед у Отто, вкусный, сытный и дешевый; из дешевых обедов лучше едва ли можно сыскать в Петербурге». Справедливое замечание: когда Герцен вернулся в Питер по отбытии вятской ссылки и нацелился было обедать по ресторанам, старая знакомая его отца, Ольга Александровна Жеребцова, вздорной затеи не одобрила. Узнав, что Александр Иванович остановился у Демута и обедает иногда там, а иногда у Дюме, она сказала: «На что же это по трактирам-то, дорого стоит, да и так нехорошо женатому человеку. Если не скучно вам со старухой обедать, приходите-ка; а я правда очень рада, что познакомилась с вами; спасибо вашему отцу, что прислал вас ко мне: вы очень интересный молодой человек, хорошо понимаете вещи, даром что молоды. Вот мы с вами потолкуем о том о сем; а то, знаете, с этими куртизанами[70] скучно – все одно, об дворе да кому орден дали – все пустое».
Правда, Чичиков, как мы помним, поросенком остался вполне доволен, хотя и заведение было так себе, и чуточный ножик крутился в пальцах, больше напоминая перочинный, и солонка не желала стоять как следует. Но то Павел Иванович Чичиков, заурядный господин средней руки, а не петербургский изнеженный аристократ, ибо «ни за какие деньги, ниже имения, с улучшениями и без улучшений, нельзя приобресть такого желудка, какой бывает у господина средней руки».
Впрочем, на исходе позапрошлого века из кухни уже не пахло, а стол хорошего ресторана мог удовлетворить самый взыскательный вкус.
Не угодно ли послушать, уважаемый читатель, как встречали гостей в одном из старейших московских трактиров? Дело происходит то ли в 1897-м, то ли в 1898 году.
«– Ну-с, Кузьма Павлович, мы угощаем знаменитого артиста! Сооруди сперва водочки… К закуске чтобы банки да подносы, а не кот наплакал.
– Слушаю-с.
– А теперь сказывай, чем угостишь.
– Балычок получен с Дона… Янтаристый… С Кучугура. Так степным ветерком и пахнет…
– Ладно. Потом белорыбка с огурчиком…
– Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали. Икорка белужья парная… Паюсная ачуевская… калачики чуевские. Поросеночек с хреном…
– Я бы жареного с кашей, – сказал В. П. Далматов.
– Так холодного не надо-с?
И мигнул половому.
– Так, а чем покормишь?
– Конечно, тестовскую селянку, – заявил О. П. Григорович.
– Селяночку с осетринкой, со стерлядкой… живенькая, как золото желтая, нагулянная стерлядка, мочаловская.
– Расстегайчики закрась налимьими печенками…
– А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а-ля Жардиньер. Телятина, как снег, белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с, что-то особенное…
– А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности, по-расплюевски, – улыбается В. П. Далматов.
– Всем поросенка… Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького, корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтела.
– А вот между мясным хорошо бы лососинку Грилье, – предлагает В. П. Далматов.
– Лососинка есть живенькая. Петербургская… Зеленцы пощерботить прикажете? Спаржа, как масло…
– Ладно, Кузьма, остальное на твой вкус… Ведь не забудешь?
– Помилуйте, сколько лет служу!
И оглянулся назад.
В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню.
Моментально на столе выстроились холодная „смирновка“ во льду, английская „горькая“, „шустовская“ „рябиновка“ и портвейн „Леве“ № 50 рядом с бутылкой пикона. Еще двое принесли два окорока провесной, нарезанной прозрачно розовыми, бумажной толщины, ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще-черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона. <…>
Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным расстегаем из налимьих печенок, по рюмке сперва белой холодной „смирновки“ со льдом, а потом ее же, подкрашенной пикончиком, выпили „английской“ под мозги и „зубровки“ под салат оливье…
После каждой рюмки тарелочки из-под закусок сменялись новыми…
Кузьма резал дымящийся окорок, подручные черпали серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелочкам. Розовая семга сменялась янтарным балыком… Выпили по стопке эля „для осадки“. Постепенно закуски исчезали, и на месте их засверкали дорогого фарфора тарелки и серебро ложек и вилок, а на соседнем столе курилась селянка и розовели круглые расстегаи.
– Селяночки-с!..
И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик, подвинул к себе расстегай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов расстегай в десятки узких ломтиков, разбегавшихся от цельного куска серой налимьей печенки на середине к толстым зарумяненным краям пирога.
– Розан китайский, а не пирог! – восторгался В. П. Далматов.
– Помилуйте-с, сорок лет режу, – как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий расстегай. – Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком.
– А давно он был?
– Завтракали. Только перед вами ушли.
– Поросеночка с хреном, конечно, ели?
– Шесть окорочков под водочку изволили скушать. Очень любят с хренком и со сметанкой».
Это цитата из Владимира Алексеевича Гиляровского (1851–1935), бурлака, репортера, спортивного комментатора и знатока старой Москвы. Читателя наверняка удивят размах и неслыханное изобилие деликатесов, но тогда это было в порядке вещей.
Еще раз слово Гиляровскому:
«Так, в левой зале крайний столик у окна с четырех часов стоял за миллионером Ив. Вас. Чижевым, бритым, толстенным стариком огромного роста. Он в свой час аккуратно садился за стол, всегда почти один, ел часа два и между блюдами дремал.
Меню его было таково: порция холодной белуги или осетрины с хреном, икра, две тарелки ракового супа, селянки рыбной или селянки из почек с двумя расстегаями, а потом жареный поросенок, телятина или рыбное, смотря по сезону. Летом обязательно ботвинья с осетриной, белорыбицей и сухим тертым балыком. Затем на третье блюдо неизменно сковорода гурьевской каши. Иногда позволял себе отступление, заменяя расстегаи байдаковским пирогом – огромной кулебякой с начинкой в двенадцать ярусов, где было все, начиная от слоя налимьей печенки и кончая слоем костяных мозгов в черном масле. При этом пил красное и белое вино, а подремав с полчаса, уезжал домой спать, чтобы с восьми вечера быть в Купеческом клубе, есть целый вечер по особому заказу уже с большой компанией и выпить шампанского. Заказывал в клубе он всегда сам, и никто из компанейцев ему не противоречил.
– У меня этих разных фоли-жоли, да фрикасе-курасе не полагается… По-русски едим, зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, полоскаться по заграницам не шатаемся.
И до преклонных лет в добром здравии дожил этот гурман».
Если Гоголя можно еще заподозрить в неумеренной гиперболизации («Редкая птица долетит до середины Днепра»), то Гиляровский был всегда протокольно точен – репортерская выучка. И если бы только он один! Вот, например, свидетельство Сергея Тимофеевича Аксакова, замечательного русского прозаика:
«Можно себе представить, что обед был приготовлен на славу. На этот раз Степан Михайлыч отказался от всех исключительно любимых блюд: сычуга жареного, свиного хребта (красная часть) и зеленой ржаной каши. Достали где-то другого повара, поискуснее. О столовых припасах нечего и говорить: поеный шестинедельный теленок, до уродства откормленная свинья и всякая домашняя птица, жареные бараны – всего было припасено вдоволь. Стол ломился под кушаньями, и блюда не умещались на нем, а тогда было обыкновенье все блюда ставить на стол предварительно. История началась с холодных кушаний: с окорока ветчины и с буженины, прошпигованной чесноком; затем следовали горячие: зеленые щи и раковый суп, сопровождаемые подовыми пирожками и слоеным паштетом; непосредственно затем подавалась ботвинья со льдом, с свежепросольной осетриной, с уральским балыком и целою горою чищеных раковых шеек на блюде; соусов было только два: с солеными перепелками на капусте и с фаршированными утками под какой-то красной слизью с изюмом, черносливом, шепталкой и урюком. Соусы были уступка моде. Степан Михайлыч их не любил и называл болтушками. Потом показались чудовищной величины жирнейший индюк и задняя телячья нога, напутствуемые солеными арбузами, дынями, мочеными яблоками, солеными груздями и опенками в уксусе; обед заключался кольцами с вареньем и битым или дутым яблочным пирогом с густыми сливками. Все это запивалось наливками, домашним мартовским пивом, квасом со льдом и кипучим медом. И всё это кушали, не пропуская ни одного блюда, и всё благополучно переносили гомерические желудки наших дедов и бабок! Кушали, не торопясь, и потому обед продолжался долго».
Конечно, не все московские заведения были таковы, как трактир Ивана Яковлевича Тестова, где подавали нежнейшую, белую, как снег, банкетную телятину и восхитительных молочных поросят. Между прочим, изобретательный Тестов вполне самостоятельно придумал бройлерный метод: поросенку перегораживали ноги особой решеткой, чтобы он, как говаривал Иван Яковлевич, «с жирку не сбрыкнул». В Москве хватало и «простонародных» трактиров, где подавались чай за пять копеек пара (то есть чай и два куска сахара) и немудрящая закуска, а также извозчичьих заведений, где выкладывали свинину, каленые яйца, калачи, подовые ситнички на отрубях и обязательно гороховый кисель. В. А. Гиляровский: «Извозчик в трактире и питается, и согревается. Другого отдыха, другой еды у него нет. Жизнь всухомятку. Чай да требуха с огурцами. Изредка стакан водки, но никогда – пьянства. Раза два в день, а в мороз и три, питается и погреется зимой или высушит на себе мокрое платье осенью, и все это удовольствие стоит ему шестнадцать копеек: пять копеек чай, на гривенник снеди до отвала, а копейку дворнику за то, что лошадь напоит да у колоды приглядит».
О харчевнях и забегаловках Хитрова рынка – злачном месте старой Москвы, навсегда утонувшем в смрадном тумане, – лучше вообще умолчать. Это было дно, неприглядная изнанка Первопрестольной, где едва маячили смутные тени полураздетых оборванцев и где находили приют убийцы, ворье и беглые каторжане. Тускло мерцающие фонари дешевых обжорок кое-как рассеивали зловонную мглу, а приземистые трактиры назывались соответствующе: «Каторга», «Пересыльный», «Сибирь». В. А. Гиляровский наведывался сюда как этнограф, изучающий новогвинейских каннибалов, и никогда не заказывал ничего, кроме водки и печеных яиц. Все остальное, продаваемое за медный грош в этих трущобах – горло, рубец или гнилой студень, – было решительно несъедобно.
Кроме тестовского трактира, который гремел на всю Москву и не чурался модных новинок (селянка, расстегаи и молочные поросята мирно уживались с лососинкой Грилье), были заведения, предлагавшие меню допетровских времен. Французские кушанья здесь не подавались никогда, а вина (вполне европейские) переливали в старинную пузатую посуду с броскими этикетками: фряжское, мальвазия, фалернское, греческое и т. д. Курить строго-настрого запрещалось. Выписанный из Сибири повар делал пельмени и строганину – других блюд в меню не значилось. Завсегдатаями были московские сибиряки и заезжие золотопромышленники. Гиляровский рассказывает, что на двенадцать обедавших было приготовлено 2500 штук пельменей – мясные, рыбные, фруктовые в розовом шампанском и еще какие-то с разными вытребеньками. И хлебали их сибиряки деревянными ложками…
Впрочем, о сибирской кухне стоит поговорить отдельно. Сибирь, от роду не ведавшая крепостного права, жила основательно и с размахом. В отличие от Центральной России, где крестьянин ютился в неказистой хате и еле-еле сводил концы с концами, сибиряк жил в поместительной крепкой избе и почти ни в чем себе не отказывал. Путешественники единодушно свидетельствуют: «Здесь крестьянин богат, здоров и силен физически. Крестьяне <…> употребляют преимущественно мясную пищу <…> холодные и жареные поросята и различным образом приготовленная свинина составляют почти ежедневную пищу крестьян». Один англичанин, посетивший Алтай в начале XX столетия, был до глубины души поражен редким изобилием крестьянского стола, выставлявшим «напоказ индейки, домашнюю птицу и свинину, приготовленную в больших горшках. Имелось большое количество молока, по цене пенни за кварту (около одного литра. – Л. Ш.) <…> сливки, масло, варенье, хлеб домашней выпечки, иногда рыба и все виды деревенских продуктов. Я никогда не имел лучшее или более дешевое продовольствие во всех моих путешествиях, и всюду, где русские поселились, даже далеко на Алтае, в 600 или 700 милях от железной дороги, говорят, отмечено то же самое изобилие».
Не очень понятно, почему «иногда рыба». Вот кяхтинские[71] цены на 1880-е годы: хариус и форель – 4 копейки за фунт, осетрина – 8, а рябчики – 7–8 копеек. В Томске в конце XIX века курица стоила 30 копеек, цыплята – 35–40 за пару, гусь – 1 рубль, молоко – 15–30 копеек за четверть[72], яйца – 1 рубль 20 копеек за сотню. А вот цены на спиртное: ведро (12,3 литра) простого вина (так в Сибири называли спирт, разбавленный до крепости в сорок градусов) стоило 1 рубль 50 копеек, а более изысканные водочные изделия в зависимости от качества «плавали» в диапазоне от 5 рублей 20 копеек до 16 рублей за ведро. Вообще все местные продукты были на редкость дешевы. Известный зоолог Альфред Брем, посетивший Барнаул в 1876 году, писал, что зимой мороженая говядина стоит 40–50 копеек за пуд[73], но и летом цена пуда не превышает 1,3 рубля. «Овощи настолько дешевы, что не стоит и подсчитывать цены: пуд картофеля редко стоит более 15 копеек, кочан капусты от 1 до 1,5 копейки, сотня огурцов в августе – не более рубля, сотня отличных арбузов, которые возделываются здесь, недалеко от города <…> тоже не дороже». По-настоящему дороги были только привозные и так называемые колониальные товары – сахар, кофе и чай (сахар – 10–11 рублей за пуд, кофе – от 80–90 копеек до одного рубля, а чай, который был весьма популярен в Сибири, до 1,7 рубля). Лимоны стоили как три пуда картофеля, а апельсины – как пять пудов. Но в конце XIX века ценовой перекос в значительной мере сошел на нет (по крайней мере, в крупных городах): например, в Томске ассортимент бакалейных и гастрономических магазинов был не меньше, чем в городах европейской России.
Выпить сибиряки тоже любили. И если цены на приличное вино «кусались», то водка стоила гроши. Пили и разведенный до 40 градусов спирт, и так называемую «очищенную», и различные наливки и настойки, и самогонку, которая на местном диалекте называлась самосидкой и особенно ценилась простонародьем за крепость и дешевизну. Кто не имел собственного аппарата, отдавал муку мастерице с платой за ведро водки (12,3 л) 25–30 копеек. А. П. Чехов в своих путевых сахалинских очерках отмечал: «Местная интеллигенция, мыслящая и не мыслящая, с утра до ночи пьет водку, пьет неизящно, грубо и глупо, не зная меры и не пьянея. После первых же двух фраз местный интеллигент непременно уж задает вам вопрос: „А не выпить ли нам водки?“».
Одним словом, даже сибирский крестьянин питался сытно и хорошо, как дай бог чиновнику средней руки в Петербурге. Тогда что уж говорить о людях побогаче! Известный публицист XIX века Н. М. Ядринцев пишет: «У зажиточного тюменца день начинается набиванием желудка пряжениками за чаем, затем через два часа следует закуска с разными соленостями или завтрак с приправою доброго количества водки, что дает ему случай ходить до обеда в довольно приятном тумане, затем следует плотный обед и порция хмельного, заставляющая его соснуть часов до шести вечера; вечером чай с пряжениками, закуска с туманом и затем ужин с окончательно усыпляющей порцией спиртного. Все визиты, встречи, дела и развлечения сопровождаются непременно едой».
Несколько слов о чае, который сибиряки преданно и нежно любили, а с развитием бойкой чайной торговли во второй половине XIX века, когда появились дешевые сорта ароматного заморского напитка, пили его не меньше трех-четырех раз в день. Впрочем, сибиряки познакомились с чаем еще в XVIII столетии, поскольку Китай, откуда его везли в Россию, всегда находился под боком, но в ту пору он был еще слишком дорог и служил скорее мерилом благосостояния. Автор нашумевшей книги «Николаевская Россия» Астольф де Кюстин, маркиз и отпрыск знатного французского рода, посетивший российскую империю в 1839 году, подробно описывает тысячеверстный чайный маршрут. Чай везли в тюках кубической формы через пограничный город Кяхту в Бурятии. Каждый такой тюк представлял собой обтянутую кожей раму с длиной ребра более полуметра. Из Кяхты товар посуху доставляли в Томск, где перегружали его на баржи и везли по воде в Тюмень, откуда затем транспортировали сухим путем до Перми. Из Перми чай путешествовал вниз по Каме к Волге и в конце концов оседал на знаменитой нижегородской ярмарке. Кюстин пишет: «В Россию ежегодно ввозится от 75 до 80 тысяч ящиков чая, из которых половина остается в Сибири и зимой доставляется санным путем в Москву, а другая половина попадает на нижегородскую ярмарку». К середине позапрошлого века чай стал основой кяхтинской торговли, изрядно потеснив ткани, шелк, фарфор, золото и серебро в слитках, бывшие до того главными продуктами, вывозимыми из Китая через Кяхту. В 1839 году в Кяхту привезли около 190 тысяч пудов чая; одних только таможенных сборов поступало в казну до 19 миллионов рублей в год.
К чаю подавали молоко, булки, пряники и варенье, и А. Н. Радищев как-то раз даже посетовал, что, попав в гости к сибиряку, «без шести и восьми чашек чаю не выйдешь». А вот другие путешественники (особенно иностранцы) высказывались куда решительнее: «Чай для сибиряка – что для ирландца картофель; многие его пьют стаканов по сорок в день». Сорок или не сорок, но со временем в купеческих домах возник сложный изысканный ритуал, отдаленно напоминавший дальневосточную чайную церемонию. Впрочем, подавляющее большинство сибиряков, людей расчетливых и практичных, смотрело на вещи просто.
Историк Юрий Гончаров пишет: «В Сибири был распространен так называемый кирпичный чай (прессованная чайная крошка), байховый пили гораздо реже. Байховый чай дорогих сортов преимущественно продавался в Центральной России и крупных сибирских городах. Из Китая привозили также зеленый и цветочный сорта. Старообрядцы предпочитали чаи липовые, малинные, морковные. Пили также в лечебных целях чай из бадана, горного растения с сильными тонизирующими и вяжущими свойствами, которое вывозили из Китая или собирали в Алтайских горах. Чай приготавливали разными способами. Кирпичный чай обычно рубили топором на куски, поскольку он был очень плотно спрессован, затем заваривали в чугунке или чайнике. <…> В Восточной Сибири из дешевого кирпичного чая варили „затуран“ с добавлением соли, молока и муки, поджаренной в каком-либо масле. <…> На севере готовили „пережар“ – чай с мукой, обжаренной на рыбьем жире. На границе с Китаем покупали особого сорта крупнолистый, с веточками, чай, который назывался „шар“. Сахар тогда был дорогим колониальным товаром, поэтому расходовали его крайне экономно (чай с сахаром пили только вприкуску), предпочитая ему алтайский мед, который, между прочим, тоже стоил недешево – от трех до пяти рублей за пуд. Кстати, и воду для чая вплоть до начала XIX столетия грели в медных чайниках на огне, а знаменитые самовары, сделавшиеся визитной карточкой русской кухни, появились гораздо позже…»
Еще пятьсот лет назад чай (как, впрочем, кофе, шоколад и какао) был совершенной экзотикой не только в России, но и в Европе. А вот ушлые китайцы, если верить старинным хроникам, начали его выращивать в 50-м году до новой эры. Однако на первых порах он использовался в лечебных целях, как стимулятор или противоядие, и только значительно позже, в период правления династии Тан (618–907 гг.), оформилась классическая традиция чаепития. В 1610 году голландские купцы впервые привезли чай в Европу с острова Ява. Его называли божественной травой и советовали пить по 40–50 чашек в сутки, в любое время дня и ночи. Один голландский врач при любых хворях и недомоганиях прописывал исключительно чай.
Кофе появился в Европе почти одновременно с чаем, в 1615 году, когда сначала в Венеции, а потом в Риме открылись первые кофейни. А вот турки познакомились с бодрящим напитком раньше европейцев, в 1554 году, и к началу XVII века в Стамбуле насчитывалось уже более 600 кофеен. Родина кофе – восточноафриканская страна Эфиопия. Аборигены этих мест жевали его сырые семена или толкли спелые плоды-костянки, смешивая их с животным жиром, и делали из этой горькой массы шарики, которые давали замечательный стимулирующий эффект. Из Эфиопии кофе проник в Йемен (юго-западная оконечность Аравийского полуострова), где пришелся весьма по вкусу так называемым вертящимся дервишам[74], которые с утра до ночи кружились в бешеном танце. Кофеин подхлестывал обмен во время утомительного танцевального марафона. Не случайно в старинных документах упоминается вино («кахва» – то, что возбуждает и поднимает дух) из перебродившего сока кофейных ягод. Этот горький настой называли аравийским вином. К XIII веку а Аравии уже научились жарить и толочь кофейные зерна и получать из них напиток, мало чем отличающийся от современного. Англичане познакомились с кофе в 1637 году, когда открылось кофейное заведение в Оксфорде, французы – в 1643-м (первая парижская кофейня), а венцы – только в 1680-х годах. Впрочем, у кофе были не только поклонники, но и враги. Одни находили, что пить турецкое зелье ревностным католикам не подобает; другие рассказывали, что министр Кольбер[75] сжег себе им желудок; а некая принцесса заявила напрямик, что ни в коем случае не станет пить «сажу с водой» и что всем этим модным заморским штучкам предпочитает доброе старое пиво.
А что у нас? Путешественник Кемпфер, навестивший Москву в XVII веке, пишет: «За обедом пили пиво и водку, а после обеда мед». О кофе и чае в те времена в России даже не слыхивали. Но прошло не так уж много лет, и врач Самуил Коллинс выписал царю Алексею Михайловичу в 1665 году следующий рецепт: «Вареное кофе, персиянам и туркам знаемое и обычное после обеда, вареное чаге листу хинского изрядное есть лекарство против надмений, насморков и главоболений». Однако немало еще воды утекло, прежде чем в Россию пришла мода на кофе. Вместе с бесовским табачным зельем и поголовным бритьем бород его принялся насаждать государь император Петр Алексеевич со всем присущим ему пылом и рвением. Сам Петр пристрастился к кофе в Голландии и сразу же сделал его непременным атрибутом своих ассамблей. И хотя «поганый кофей» вставал боярам поперек горла, пить следовало не морщась да еще и похваливать, ибо крут и скор на расправу был царь-батюшка.
Шоколад европейцы встретили еще более неприветливо, чем кофе. Говорили, что он сжигает кровь и может даже убить человека, а у женщин от него рождаются черные дети. Родина шоколада – Центральная Америка, а само это слово восходит к ацтекскому «чоколатль», что в переводе означает «горькая вода». Шоколад кровожадных[76] ацтеков совершенно не походил на теперешний. Это был отвар из размолотых бобов какао, куда индейцы добавляли жгучий красный перец, маис и немного меда. Напиток получался горьким, но ацтеки пили его за милую душу, поскольку считали чоколатль пищей богов. По преданию, людям даровал его сам великий бог Кецалькоатль – Пернатый Змей, – так что питье возбуждающего отвара было прикосновением к божеству. Стоил он невероятно дорого: за сотню бобов какао можно было купить раба, а услуги проститутки оценивались всего лишь в пять бобов. Богатые люди хранили драгоценный напиток в специальных горшках с завинчивающейся крышкой и использовали его по мере надобности. Бобы какао ценились куда дороже золота или серебра и служили ацтекам надежной твердой валютой. Впрочем, изобрели шоколад не они, а другой народ Центральной Америки – майя около 100 года новой эры, которые, в свою очередь, позаимствовали его у ольмеков, создавших на территории современной Мексики высокую культуру за тысячу лет до майя и поклонявшихся ягуару.
Первым из европейцев шоколад попробовал испанский конкистадор Эрнан Кортес в 1519 году, но обжигающий горький напиток не вызвал у него большого восторга. Однако сообразительные испанцы догадались видоизменить рецептуру: вместо перца и меда в отвар из бобов какао стали добавлять сахар, ваниль и другие ароматные примеси. Не прошло и десяти лет, как облагороженный кофе проник в Испанию, где сразу же пришелся ко двору – как в прямом, так и в переносном смысле. Он быстро сделался излюбленным лакомством царствующих особ и аристократической знати, в основном из-за его непомерной дороговизны. Гордые идальго, еще совсем недавно сплеча рубившие мавров и проклятых еретиков, влезали в чудовищные долги и закладывали имения, чтобы иметь сомнительную возможность выпивать поутру чашку заморской горечи. Католическая церковь взметнулась на дыбы, требуя запретить языческое зелье, но когда римский папа отведал мексиканский напиток, то решил спустить дело на тормозах: «Не стоит запрещать эту гадость, ведь она никому не может доставить удовольствия». Поклонники шоколада вздохнули с облегчением.
В 1657 году первый шоколадный дом открылся в Лондоне, а король Людовик XV, однажды заявивший, что после нас хоть потоп, непременно выпивал чарку горячего шоколада перед любовными свиданиями. Все дело в том, что шоколад долгое время считался афродизиаком[77], и знаменитый авантюрист XVIII века Джакомо Казанова, великосветский пройдоха и легендарный любовник, всегда имел под рукой бобы какао, спиртовку и ручную мельницу для приготовления возбуждающего напитка. Итальянца провели на мякине: алкалоид теобромин, содержащийся в шоколаде, всего лишь дарует легкую эйфорию, а вот на потенцию не влияет никак.
Французская революция в одночасье порушила набиравший обороты шоколадный бизнес, но не бывает худа без добра. Шоколадных дел мастер Франсуа-Луи Кайе, бежавший в мирную Швейцарию от народного гнева, совершил эпохальное открытие – научился делать твердый шоколад. Это событие имело место в 1819 году, в 1830-м был изобретен шоколад-микст с орехами, а 1876-м придумали молочный шоколад. Тремя годами позже, в 1879 году, швейцарец Рудольф Линд запатентовал машину для быстрого перемешивания жидкого шоколада при высокой температуре, так что на излете позапрошлого столетия все необходимые технологии были уже на мази. И с тех пор мало что изменилось – мастера без устали шлифовали детали, выбрасывая на рынок все новые марки центральноамериканского ноу-хау.
5. Fiat lux
На приеме у психиатра.
– Так, больной, давайте успокоимся и расскажем все по порядку, с самого начала.
– Ну, доктор, вы даете! Вначале я сотворил небо и землю!
АнекдотБольной абсолютно прав: если верить книге Бытия, то Бог вначале сотворил небо и землю и только потом спохватился: «Да будет свет!»[78]. И стал свет. «И был вечер, и было утро: день один». Правда, не совсем понятно, откуда этот свет взялся, поскольку сотворением небесных светил Господь озаботился только на четвертый день, когда уже вовсю зеленела трава. Но пускай в этом разбираются теологи. Между прочим, одно из имен Сатаны в христианской традиции – Люцифер, что в дословном переводе с латыни означает «светоносный». Очередной парадокс: с какого перепугу дух зла и повелитель теней вдруг удостоился столь высокого титула? Вероятно, все дело в непомерной гордыне падшего ангела, когда он вздумал овладеть животворящим Божественным светом, но потерпел фиаско, за что и был низвергнут в преисподнюю. Так или иначе, но мотив горнего света (или антиномия света и тьмы) пронизывает едва ли не все религиозные культы и мифологические построения.
Человек плохо видит в темноте, и, когда землю окутывает мрак, мы зажигаем электричество. Но электрическая лампочка необыкновенно юна по историческим меркам – она родилась чуть более ста лет назад. Люди уже давно ездили на поездах и плавали на пароходах, но долгие вечера по-прежнему коротали при свече и керосиновой лампе.
А как освещались улицы и жилища в старину, когда на грады и веси упадала «пора меж волка и собаки»? Быть может, не все помнят, что сие высказывание принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину, однако тут нет даже тени зоологического привкуса – это всего лишь буквальный перевод французской идиомы, обозначающей время вечерних сумерек. Помните, читатель, как герой бессмертного романа, отобедав трюфелями и нетленным страсбургским пирогом, сначала едет в театр, где великолепная Истомина «летит, как пух от уст Эола», а затем поспешает на вечерний бал?
Перед померкшими домами Вдоль сонной улицы рядами Двойные фонари карет Веселый изливают свет И радуги на снег наводят; Усеян плошками кругом, Блестит великолепный дом; По цельным окнам тени ходят, Мелькают профили голов И дам и модных чудаков.«Двойные фонари карет» – это не электрические лампы-рефлекторы, вспарывающие ночную тьму, а всего лишь немилосердно чадящие факелы, удвоенный набор которых недвусмысленно повествует о щеголеватости и важности седока. Что же касается плошек, то это обыкновенные блюдца, утыканные свечками, которые расставляли по карнизам в праздничные дни. Удивляться тут нечему, поскольку улицы российских городов начали освещать только на излете первой четверти XVIII века. По указу Петра I в 1723 году зажглись огни у Зимнего дворца и здания Адмиралтейства, а через десяток лет настала очередь Москвы. Сенат, неспешно и вдумчиво пожевав губами, провозгласил вердикт: «… на Москве, в Кремле, в Китае, в Белом и Земляном городе и в Немецкой слободе, по большим улицам для зимних ночей… поставить на столбах фонари стеклянные один от другого на 10 сажень… в которых вместо свеч зажигать масло конопляное с фитилем». Промелькнуло сто лет, но многое ли изменилось в российских пенатах? Откроем «Невский проспект» Николая Васильевича Гоголя:
«Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будочник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. <…> Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головой Полицейского моста». Но эта мажорная нота звучит в самом начале повести. А вот финал: «Далее, ради бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольский сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде».
Сделаем скидку на душевные терзания героя (с очаровательной блондинкой у него все вышло как-то сикось-накось), но ведь и паршивый фонарь действительно чадил и брызгал горячим маслом во все стороны! С другой стороны, юному поручику грех жаловаться, потому что двести лет назад улицы российских (и не только российских) городов вообще никак не освещались. Вот что пишет, например, итальянский путешественник Рафаэль Барбарини, посетивший Москву в 1565 году: «Мы впотьмах достигли большого дворцового крыльца. В двадцати шагах от него стояло множество служителей, державших лошадей под уздцы. Они дожидались своих господ, бывших в гостях у царя, для того чтобы проводить их домой. Но чтобы дойти до того места, где стояли лошади, мы должны были в темную ночь брести в грязи по колено».
Барбарини немного лукавит, потому что даже в блестящем Париже первые уличные фонари зажглись только лишь в 1558 году, ну а чтобы французскую столицу осветить как следует, потребовалось еще сто десять лет. Этот подвиг совершил «король-солнце» Людовик XIV, повелевший отковать по сему поводу особую медаль с надписью: «Безопасность города и хорошее освещение». Говорят, что своим великолепным прозвищем он в немалой степени обязан именно этому замечательному деянию, а также венецианским зеркалам в залах Версальского дворца. Тем не менее даже в 1718 году на парижских улицах после захода солнца было весьма неуютно, о чем пишет один высокопоставленный путешественник: «Хотя по улицам и разъезжает конная стража, случаются вещи, которых она не видит. Недавно карета герцога Ричмондского была остановлена в полночь неизвестными недалеко он Нового моста. Один из нападавших ворвался в карету и пронзил герцога шпагой. После десяти или одиннадцати часов вечера невозможно найти даже на вес золота портшез или фиакр[79]. Лучше всего брать с собой слугу, который шел бы впереди вас с факелом в руках».
Кстати, просвещенные европейцы так и поступали: выходя на улицу в темное время суток, прихватывали с собой латерну (так в то время по-латыни назывался фонарь), поскольку средневековые города по ночам погружались в непроглядную тьму. Быть может, в солнечной Италии, на родине Рафаэля Барбарини, дело обстояло несколько иначе, но мы об этом ничего не знаем. Однако не станем ломать копья попусту, ибо в Западной Европе коммунальным благоустройством озаботились все же куда раньше, чем в полудикой азиатской Московии. Европейские города жили по своим собственным законам и не собирались подчиняться баронам и герцогам, у которых было по семи пятниц на неделе. Разумеется, горожане разнились между собой – и по уровню доходов, и по общественному положению, – но если к стенам города неожиданно подступал неприятель – какой-нибудь вздорный барон, собравший с бору по сосенке падкую на халяву дружину, – город выступал как единое целое. А вот на Руси с ее патриархальными нравами и вотчинным землевладением ничего подобного никогда не было и в помине, и потому князья в своих владениях, высочайше пожалованных небрежным росчерком царского пера, били земные поклоны московскому государю и третировали в хвост и в гриву ручных подданных, которые до креста пропивались в царевых кабаках. Правда, Великий Новгород и Псков – богатые торговые города, всегда жившие наособицу, – легко прогоняли неудобных князей и бережно лелеяли вековые традиции самоуправления, но разве могла себялюбивая византийская Москва, только позавчера сокрушившая злых татар, допустить на ближней периферии своих земель существование городов, откровенно нацеленных на Запад?
Однако вернемся к нашим баранам. С того момента, как волосатый неандерталец запалил первый костер, и вплоть до второй половины XVIII столетия, когда в парижской Гран-опера необычно ярко засияла масляная лампа Арганда, человечество из века в век довольствовалось на редкость убогими осветительными приборами. Вместе с кремневым инвентарем и гарпунами из оленьего рога археологи нашли плоские корытца с округлым дном, выдолбленные из гранита или красного песчаника. Лабораторный анализ остатков нагара показал, что в этих каменных плошках жгли самое обыкновенное сало. Можно себе представить, как отчаянно коптил такой примитивный светильник, однако даже масляные лампы Античности были немногим лучше. Поразительный застой технической мысли! Тысячи лет поступательного развития – и совершенно никакого прогресса. Рушились и воздвигались империи, опустевшие города зарастали сорной травой, люди научились обрабатывать землю, строить корабли и выплавлять металлы, а во дворцах и хижинах по-прежнему чадили масляные светильники, почти ничем не отличавшиеся от неуклюжих поделок каменного века. Правда, древние греки и римляне догадались заменить гранит обожженной глиной и выдумали пеньковый фитиль, но на этом их изобретательский порыв захлебнулся. Масляные лампы Античности, щедро украшенные бронзой и серебром, напоминали соусник или чайник, из носика которого торчал крученый фитиль. Средневековые лампы были как две капли воды похожи на своих древнеримских сестер, только с отделкой поплоше и победнее.
Примерно две тысячи лет назад появились наконец первые свечи, однако до XIII века они были весьма дороги, поэтому их жгли лишь во дворцах и церквах. Свечи делали из воска или сала. Связку из нескольких десятков фитилей опускали в котел с расплавленным салом, а чтобы свечка вышла потолще, фитили погружали в сало много раз подряд. Такие свечи назывались макаными. Со временем их научились отливать в специальных формах из жести или олова. Понятно, что литые свечи получались гораздо изящнее и ровнее маканых. Иное дело – восковые свечи: их производством в Средние века занимались профессиональные мыловары и пекари. Сперва из мыла получали воск, а уже потом пекари делали из него свечи. Восковая свеча – это роскошь, доступная в те времена только очень состоятельным людям, но даже сальные свечи были далеко не каждому по карману. Еще каких-нибудь двести лет назад семья среднего достатка проводила вечера при свете одной-единственной свечи, и только лишь к приходу гостей их зажигали две или три штуки. Ну а вельможи и царствующие особы денег на дорогой воск не жалели. Вот что рассказывает один европейский путешественник, навестивший Москву в XVI веке:
«В продолжение пира наступил вечер, так что пришлось зажечь четыре серебряных паникадила, висевших под потолком, из которых большое, напротив великого князя, было о двенадцати свечах, три других – о четырех. Все свечи были восковые. Около поставца с обеих сторон его стояли восемнадцать человек с большими восковыми свечами. Свечи ярко горели, и в комнате было очень светло. На наш стол также подали шесть больших восковых свечей, а подсвечники были яшмовые и хрустальные, в серебряной оправе».
Понятно, что восковые свечи были очень дорогим удовольствием, если гости не поленились пересчитать их поштучно. А вот через двести лет светлейший князь Потемкин-Таврический, у которого денег, как известно, куры не клевали, задал грандиозный бал в честь матушки-императрицы Екатерины II. Очевидцы рассказывают, что в дворцовых залах тогда было зажжено 140 тысяч масляных ламп и 20 тысяч восковых свечей. Размеры его состояния трудно вообразить, ибо помещик, имевший двести или чуть более душ, уже считался весьма богатым человеком. «Как вы поживаете, почтеннейший Мартьян Прокофьевич?» – осведомлялся у таких крепких хозяев сладчайшим голосом костромской губернатор П. А. Шипов, самодур и вельможа, державший губернию в ежовых рукавицах и прозванный за свою железную хватку солигалическим императором. А вот дворянам, у которых душ насчитывалось всего около сотни, он только походя кивал на бегу и говорил между делом торопливой скороговоркой: «Здоровы ли вы, почтеннейший Иван Иванович?» И куда в таком случае следует зачислить Григория Александровича Потемкина, если только за два года ему было пожаловано 37 тысяч душ и около 9 миллионов рублей серебром? Более того, один дотошный француз был уверен, что светлейший за короткое время получил подарков на 50 миллионов рублей, не считая откровенных злоупотреблений и беззастенчивых краж. И хотя совокупное состояние Потемкина было совершенно неисчислимо, долги, обнаруженные после его смерти, выражались астрономической суммой. Какие уж тут восковые свечи, прости господи… Родовитое отечественное дворянство находило пикантную изюмин ку не просто в больших тратах, а в гомерических тратах не по средствам. Впрочем, это совершенно отдельная тема…
Ну а крестьянская голытьба, кое-как перебивавшаяся с хлеба на квас, не могла себе позволить не то что восковых, но даже сальных свечей, поэтому в деревенских избах веками коротали вечера при лучине. От сухого ровного полена откалывали щепку длиной в аршин[80] и вставляли ее в светец – деревянную или железную стойку на подставке. Металлический зажим удерживал лучину под углом, слегка наклонно, горящим концом вниз, чтобы она не погасла. Во избежание пожара светец или ставили на железный лист, или прикрепляли его к небольшому корытцу с водой или песком. Лучина давала очень яркий свет, но коптила и дымила совершенно немилосердно. Вдобавок за ней нужен был глаз да глаз, чтобы вовремя поменять сгоревшую щепу. Для лучины требуется ровное и сухое дерево, а вот если даже плохонькую ветку окунуть в смолу, она будет гореть весьма изрядно. Так родился жаркий факел, который вместе с неприхотливой крестьянской лучиной благополучно дожил чуть ли не до начала прошлого века.
Сальная свеча коптила почем зря. Кроме того, она безбожно текла и оплывала, поэтому чадящий фитиль приходилось все время укорачивать и поминутно снимать нагар особыми щипцами. Да и дорогие восковые свечи тоже коптили на совесть. Беда в том, что ветхозаветный крученый фитиль, придуманный давным-давно, не успевал сгорать до конца, ибо неподвижно торчал в середине пламенеющего язычка, где температура сравнительно невысока. Но как только догадались заменить его на плетеный, дело сразу же пошло на лад. Тугая косичка фитиля нового образца все время плясала, описывая круги, и норовила ускользнуть в зыбкий полупрозрачный контур ослепительного огня, тающего на периферии. Но умный фитиль-подсолнух – это полдела и форменные пустяки. Вонючее свечное сало, долгой слезой ползущее вниз по телу свечи наподобие лавового потока, доставляло массу хлопот, поэтому срочно требовалось отыскать сравнительно дешевый и удобный материал, который бы с успехом заменил дорогостоящий воск. В середине XIX века химики научились выделять из растительных и животных жиров их плотную компоненту – стеарин, представляющий собой смесь насыщенных жирных кислот: пальмитиновой и стеариновой. Эта вязкая масса желтого цвета, смешанная в определенной пропорции с парафином, оказалась идеальным сырьем для изготовления свечей.
Стеариновую свечу изобрели во Франции, и вскоре по всей Европе, как грибы после дождя, начали вырастать стеариновые заводы. Публика была в восторге от модной новинки, поскольку стеариновая свеча горела светло и ярко, не коптила и практически не текла. В. Перовский, родной брат известной народоволки Софьи Перовской[81], вспоминает, как их отец, ездивший по служебным делам в Петербург, привез оттуда целый ящик стеариновых свечей: «Все комнаты и зал для танцев были ярко освещены люстрами и бра-кетами со стеариновыми свечами, что произвело чрезвычайный эффект, и из-за этого празднество было очень многолюдно». Мы пользуемся такими свечами до сих пор, зажигая их в новогоднюю ночь.
А что же наша старая знакомая – масляная лампа? Впервые ее попытался усовершенствовать еще великий Леонардо да Винчи. Если он и не разобрался в природе горения до конца, то, во всяком случае, сообразил, что копоть образуется от нехватки воздуха. Решение напрашивалось само собой: чтобы воздуха было в избытке, нужно обеспечить устойчивую тягу как в хорошей печке. Он разместил над пламенем жестяную трубу, и лампа стала гореть заметно ярче. А еще двести лет спустя французский аптекарь Кенке догадался заменить непрозрачную жесть настоящим ламповым стеклом, которое хотя и пропускало свет, тем не менее располагалось над пламенем. В свое время такие светильники называли кенкетами. Посадить стекло на горелку сообразят только лет через тридцать. Однако даже такая модернизированная лампа со стеклом горела довольно паршиво и давала ненамного больше света, чем обыкновенная свеча. Проблема состояла в том, что фитиль упорно не желал как следует впитывать масло. Но вместо того чтобы радикально изменить конструкцию фитиля, инженеры долгое время ходили вокруг да около, выдумывая разные мудреные технические штучки, призванные хоть как-нибудь подхлестнуть ток масла. Например, итальянский математик и врач Джероламо Кардано (1506–1576) установил масляный резервуар не под горелкой, как обычно, а сбоку и соединил его с фитилем посредством специальной трубки – маслопровода, чтобы масло текло к пламени под давлением сверху вниз. А другой изобретатель решил снабдить лампу насосом с часовым механизмом для принудительного нагнетания масла. Однако толку от всех этих архитектурных излишеств было чуть.
И только швейцарец Эме Арганд в конце XVIII столетия наконец-то обратил внимание на фитиль. Ведь если заменить крученый шнур плоской лентой, то и пламя тоже будет плоским, а тяга моментально улучшится. Но Арганд этим не ограничился и сделал еще один важный шаг: он свернул плоский фитиль в трубку, чтобы воздух мог просачиваться к пламени не только снаружи, но и изнутри. Кроме того, это дало возможность посадить ламповое стекло непосредственно на горелку. Швейцарец решил проблему настолько изящно и остроумно, что впоследствии, когда появились первые керосиновые лампы, круговая полая горелка Арганда сделалась нарасхват, как горячие пирожки. Но промышленное производство керосина начнется еще не скоро, в 50-х годах XIX века, а потому в гостиных, кабинетах и бальных залах, как и сто лет назад, продолжали жарко полыхать масляные лампы и свечи. Горючим для ламп служило так называемое деревянное, то есть дешевое оливковое масло, а также сурепное, маковое и некоторые другие сорта растительных масел. Иногда применялись животные жиры.
На рубеже XVIII–XIX веков у чадящей свечи и неопрятной масляной лампы появился опасный конкурент – газовое освещение. Первые опыты по использованию светильного газа начались в 90-х годах XVIII столетия, когда сначала британец Уильям Мёрдок, а вслед за ним француз Филипп Лебон неожиданно обнаружили, что летучее вещество, образующееся при сухой перегонке угля, замечательно горит ярким пламенем. Вся фишка в том, что уголь надо жечь не в открытой топке, а в герметичном котле без доступа воздуха, и тогда невесомые пары светильного газа можно отводить по трубам куда угодно. Головастый Мёрдок прошел хорошую школу – он был одним из наиболее талантливых учеников великого Джеймса Уатта, творца паровой машины с цилиндром двойного действия, – и в свое время даже приложил руку к созданию первого английского паровоза. Поэтому стоит ли удивляться, что уже в 1803 году яркие газовые фонари осветили заводские корпуса одной из британских фабрик? Ушлые дельцы сразу же заинтересовались новинкой, и к 1812 году в Лондоне уже вовсю заработала Национальная компания газового освещения и отопления, впоследствии переименованная в Газовую и коксовую компанию. Вырабатываемый на заводах светильный газ сначала поступал в так называемые газгольдеры – емкости для хранения газа, а оттуда уже распределялся в городскую сеть, предварительно пройдя через регулятор давления. Ревнивые французы не отставали от англичан. В 1811 году, через семь лет после смерти Лебона, в журнале «Магазин всех новых изобретений, открытий и справлений» появилась заметка следующего содержания: «Господин Лебон в Париже доказал, что рачительно собранным дымом можно произвесть приятную теплоту и весьма ясный свет».
Газовые фонари зажглись на улицах Лондона в 1814 году. В Россию новшество пришло десятью годами позже: в 1825-м яркие газовые фонари установили возле здания Главного штаба в Петербурге, а в 40-х годах осветили Гостиный двор. А вот консервативные москвичи сопротивлялись довольно долго. К. А. Буровик в интересной книге «Родословная вещей» пишет: «Москва поначалу с недоверием отнеслась к газовому освещению; купцы и лавочники боялись пожаров и взрывов и пока больше доверяли конопляному маслу (а позже керосину). Поэтому газовое освещение пришло на московские улицы на четверть века позже, чем в столицу. Пока газ был дорог, власти велели заправлять фонари смесью спирта со скипидаром. Но из спиртового освещения ничего не вышло: горючее редко использовалось по назначению…» Кто бы мог подумать! Все-таки мы живем в уникальной стране, где наверх с пугающей закономерностью всплывают редкие идиоты…
Вплоть до 70-х годов XIX века газовые фонари оставались основным видом уличного освещения в крупных городах всех европейских стран, однако газу так и не удалось полностью вытеснить свечи, керосиновые и масляные лампы. Ничего удивительного в этом нет: железные дороги тоже далеко не сразу одолели конный транспорт. Кроме того, газ для освещения домов был все-таки дороговат, да и вполне реальная угроза взрыва при его внезапной утечке тоже изрядно отравляла жизнь. Поэтому, когда в 40-х годах позапрошлого века английские химики, занимавшиеся разложением нефти и сухой перегонкой каменного угля, получили легкую горючую жидкость, названную впоследствии керосином, а американцы наладили его промышленное производство в 50-х, он моментально завоевал всеобщую популярность. Слово «керосин» заимствовано из английского (kerosene), но восходит к греческому «керос», что означает в буквальном переводе «воск», поскольку греки называли нефть воском земли.
Керосин из-за своей летучести всасывается фитилем гораздо легче, чем вязкое масло, поэтому в конструкции лампы, снабженной кольцевой горелкой Арганда, почти ничего не пришлось менять. Достаточно было выбросить только лишнее, всяческие дополнительные приспособления, побуждающие течь масло к фитилю более активно. Изобретателем первой керосиновой лампы традиционно считают американца Беньямина Силлимана, однако двумя годами раньше, в 1853-м, ее придумал и собрал поляк Игнасий Лукасевич, работавший скромным аптекарем после выхода из российской тюрьмы. И он же, кстати, одним из первых получил бочку керосина путем перегонки нефти.
Между прочим, первая половина XIX века ознаменовалась еще одним важным изобретением – фосфорной спичкой. А как люди добывали огонь в «доспичечную» эпоху? На протяжении веков для этой цели служил компактный набор из трех предметов – огниво (полоска стали), кремень и трут (фитиль, высушенный гриб трутник или просто ветошь). Огнивом били по кремню, высекая искры, и сухой трут воспламенялся. Бензиновая зажигалка устроена точно так же: стальное колесико (сиречь огниво), кремень и пропитанный бензином фитиль, заменяющий трут. Однако если зажигалка – это единый механизм, то в старинном «огневом» приборе все элементы существовали порознь, так что требовался определенный навык, чтобы высечь огонь. Когда европейские путешественники хотели обучить гренландских эскимосов своему способу добывания огня, те решительно отказались, поскольку считали, что их родная метода ничуть не хуже. Они получали огонь трением, по старинке, вращая ремнем палочку, упертую в кусок сухого дерева.
В 1785 году французский химик Клод Луи Бертолле обнаружил, что если капнуть серной кислотой на хлорат калия (впоследствии его назвали бертоллетовой солью в честь первооткрывателя), то он воспламеняется. Начался активный поиск всевозможных «химических огнив», одно другого мудренее. М. Ильин пишет: «Тут были спички, зажигавшиеся от прикосновения к серной кислоте; тут были спички со стеклянной головкой, которую надо было раздавить щипцами, чтобы спичка вспыхнула; были, наконец, целые приборы из стекла, очень сложного устройства. Но все они были неудобны и дорого стоили». И только в 1833 году поиски наконец увенчались успехом: немец И. Ф. Камерер изобрел фосфорную спичку. Однако первые восторги быстро пошли на убыль, так как выяснилось, что производство фосфорных спичек куда вреднее для здоровья работающих, чем даже зеркальное и шляпное производство, где в технологическом процессе используется ртуть. Кроме того, фосфор легко вспыхивает уже при температуре около 60 градусов, поэтому, чтобы зажечь спичку, достаточно ею чиркнуть о стену или даже просто о голенище. При этом спичечная головка взрывается наподобие крохотной бомбы, так что фосфорные спички весьма небезопасны в пожарном отношении. Сгорев, они оставляли по себе скверную память в виде сернистого ангидрида с резким неприятным запахом. И только в 1851 году появилась «безопасная», или «шведская», спичка, быстро завоевавшая всеобщее признание. Такими спичками мы пользуемся до сих пор. Их промышленное производство начали два шведа – братья Лундстремы, отсюда и происходит название. Головка «шведской» спички покрыта безвредным составом, а фосфор в его неядовитом аморфном состоянии наносится в смеси с песком на боковые поверхности спичечного коробка.
Всякая лампа – масляная, керосиновая или газовая, роли не играет, – основана на процессе горения и потому расходует кислород. А нельзя ли обойтись без пламени вовсе? Впервые подобную идею высказал русский ученый Василий Владимирович Петров (1761–1834), открывший явление электрической (или вольтовой) дуги. В 1802 году он построил достаточно мощную по тем временам гальваническую батарею и обнаружил, что при сближении двух угольных электродов между ними вспыхивает пламя, имеющее очень высокую температуру, – электрическая дуга. В своей книге В. В. Петров написал: «Если приближать угли один к другому, то является между ними весьма яркий белого цвета свет или пламя, от которого оные угли скорее или медлительнее загораются и от которого темный покой довольно ясно освещен быть может». Через несколько лет электрическую дугу переоткрыл англичанин Хэмфри Дэви (1778–1829), назвавший ее вольтовой в честь итальянского физика Алессандро Вольта (1745–1827), создавшего первую батарею гальванических элементов. Но В. В. Петров сделал еще одно важное открытие: поместив в безвоздушное пространство кусочек древесного угля, он обнаружил, что тот сильно раскаляется при пропускании через него электротока и начинает излучать яркий белый свет. Таким образом, опыты В. В. Петрова, опередившего свое время на несколько десятилетий, предвосхитили работы как по созданию дуговых ламп, так и лампочек накаливания.
Дуга, конечно, дугой, но сконструировать надежную дуговую лампу долгое время не удавалось, пока за дело не взялся другой русский ученый – Павел Николаевич Яблочков (1847–1894). Чтобы угольные стерженьки не сгорали чересчур быстро, он догадался расположить их не стык в стык, как его бесчисленные предшественники, но параллельно, а пустоту между ними заполнил слоем гипса, который постепенно испарялся от сильного жара вольтовой дуги. Лампа Яблочкова напоминала свечу, рассеченную по вертикальной оси, и горела красивым розоватым или фиолетовым светом. Новинка прошла на ура, и в 70-х годах позапрошлого века la lumiere russe – «русский свет» – вспыхнул на улицах Парижа, Лондона, Берлина и Праги. Более того, свечи Яблочкова зажглись над развалинами Колизея в Риме, в покоях короля Камбоджи и в гареме персидского шаха. А вот на родине изобретателя продолжали пользоваться керосином и светильным газом. Но дуговые лампы горели слишком ярко и довольно дорого стоили, поэтому взоры инженеров-электротехников обратились к волосяной угольной нити, которая ослепительно полыхала, если через нее пропустить электрический ток. Задача была в том, чтобы откачать из лампочки воздух – в противном случае угольный волосок сгорал моментально.
Как известно, лампу накаливания придумал Томас Алва Эдисон[82] в 1879 году, но мало кто помнит, что за несколько лет до него русский ученый Александр Николаевич Лодыгин[83] осветил петербургские улицы пузатыми стеклянными шарами, внутри которых ярко светилась угольная нить. Правда, его первая лампочка довольно быстро перегорела, а новые модели, которые зажглись в магазине Флорана на Большой Морской, были чересчур сложно устроены. Так что приоритет Эдисона оспаривать глупо. Дотошный американец испытал 1600 материалов, пока не остановился на обугленном волокне японского бамбука, и вдобавок изобрел все остальное – цоколь, розетки, выключатели и динамо-машину. Со временем воздух из стеклянных баллонов откачивать перестали, заменив его инертным газом, а бамбуковое волокно поменяли на тугоплавкий металл. Нить накаливания пытались делать из осмия, платины, тантала и различных сплавов, но лучше всех оказался жаростойкий вольфрам с температурой плавления около трех с половиной тысяч градусов.
Однако сторонники газа и керосина не думали сдаваться. Чтобы увеличить мощность светильников при том же самом расходе топлива, они поместили в пламя так называемую сетку Ауэра из тугоплавкого металла, пропитанную солями тория и церия, которая сияла ярким белым светом. Такие лампы называются керосинокалильными. Но электричество в конце концов все-таки победило. Во-первых, оно обходится чуть дешевле, во-вторых, гораздо безопаснее, а в-третьих, не жрет кислород и, значит, не портит воздух. Ведь когда мы говорим, что электрическая лампочка горит, это не более чем метафора, ибо в действительности никакого горения в ней не происходит. И наконец last but not least – последнее по порядку, но не по значению: электроэнергию можно передавать на огромные расстояния. А в XX веке настала эпоха газоразрядных ламп, которые функционируют на принципиально иной основе. В этих источниках холодного света электрическая энергия преобразуется в энергию оптического излучения при прохождении электротока через газы или пары некоторых веществ (например, через пары ртути). Газоразрядные лампы подразделяют на газосветные (ртутные, натриевые, ксеноновые) и люминесцентные. Кстати, феномен люминесценции хорошо известен матушке-природе: холодный свет излучают гниющие деревья, некоторые насекомые и глубоководные рыбы. В люминесцентных лампах сияет слой люминофора[84], нанесенный на внутреннюю поверхность молочно-белой трубки. Срок их службы может превышать десять тысяч часов – лампе накаливания не угнаться. Правда, неживой и холодный свет люминесцентных ламп не каждому по душе.
А в последние годы заговорили о практически вечных светодиодных лампах с идеальной цветопередачей. Но это уже совсем другая история…
6. Тик-так
Покамест в утреннем уборе, Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар И там гуляет на просторе, Пока недремлющий брегет Не прозвонит ему обед. Александр ПушкинБрегет – это карманные часы с боем (или с «репетицией», как говорили раньше), названные в честь знаменитого французского механика и часовщика, члена Парижской Академии наук Абрахама-Луи Бреге (1747–1823). Стоило только надавить на головку, и раздавался необыкновенно мелодичный звон. Крохотные молоточки отбивали сначала часы, потом четверти и, наконец, минуты. В пушкинские времена часы фирмы «Брегет» были в большой моде, что объяснялось не только точностью их хода, но и тем обстоятельством, что мастер Абрахам никогда не повторялся. Каждый образец, вышедший из-под его рук, был совершенно уникален. В музейном собрании Московского Кремля хранится брегет с семью циферблатами, показывающий часы, минуты, месяцы революционного (часы выпущены в 1792 году) и григорианского календарей, дни, недели и декады.
Правда, нашему Евгению с его претензией на дендизм («Как dandy лондонский одет») следовало бы отказаться от часов вообще. Английский писатель Эдуард Джордж Бульвер-Литтон, автор романа «Пелэм, или Приключения джентльмена», оставил нам весьма выразительный портрет настоящего денди:
«– Скажите, мистер Пелэм, а вы уже купили часы у Бреге?
– Часы? – переспросил я. – Неужели вы полагаете, что я стал бы носить часы? У меня нет таких плебейских привычек. К чему, скажите на милость, человеку точно знать время, если он не делец, девять часов в сутки проводящий за своей конторкой и лишь один час – за обедом? Чтобы вовремя прийти туда, куда он приглашен? – скажете вы; согласен, но, – прибавил я, небрежно играя самым прелестным из моих завитков, – если человек достоин того, чтобы его пригласить, он, разумеется, достоин и того, чтобы его подождать».
Однако мы отвлеклись. Часы «с репетицией» изобрел не Бреге, он их только значительно усовершенствовал. Первый хронометр, отбивавший удары при нажатии на головку, выдумали английские часовщики еще во второй половине XVII века. Рассказывают, что британский монарх Карл II Стюарт презентовал такие часы французскому «королю-солнце» Людовику XIV, а чтобы нельзя было проникнуть в тайну их мелодичного звона, английский мастер снабдил их весьма хитроумным замком. Придворный часовщик Людовика Мартиньи бился над заморской штучкой дни и ночи напролет, но разобраться в трудном механизме так и не сумел. Тогда по его совету решили послать в кармелитский монастырь за девяностолетним часовщиком Жаном Трюше. Старик, ни о чем не спрашивая, без особого труда открыл крышку и разгадал секрет английского мастера. Каково же было его удивление, когда он узнал, что за эту плевую работу, не стоящую выеденного яйца, ему назначена пенсия в шестьсот ливров в год!
Механические часы – сравнительно недавнее изобретение. Впервые они появились в Европе на излете Средних веков или в эпоху Возрождения, а все более ранние упоминания серьезного внимания не заслуживают. По количеству, разнообразию и точности механизмов, подлежащих монтажу, более сложного технического устройства не существовало до самого конца XVII столетия, поэтому крайне маловероятно, чтобы их придумали еще в VI веке то ли в Китае, то ли в Византии, как пишут некоторые историки. Правда, имеются глухие упоминания, что к изобретению механических часов приложил руку выдающийся механик и математик Герберт, среди учеников которого числились короли и даже один император Священной Римской империи (Оттон), а сам он впоследствии сделался папой Римским под именем Сильвестра II (999–1003). Говорят, что он долгое время изучал арабскую науку в Испании и сделал множество открытий, в частности усовершенствовал (а фактически изобрел заново) астролябию – прибор для измерения высоты небесных светил над горизонтом. Увы, но информация об изобретениях и работах Герберта настолько скудна, что большинство исследователей отказывают ему в праве называться изобретателем первых механических часов. Другие ученые отдают пальму первенства некоему Пацификусу из Вероны (IX век), но это фигура совсем уже легендарная, о которой ровным счетом ничего не известно.
Вообще-то измерять время можно совершенно по-разному. Любой процесс, имеющий фиксированную длительность, годится на роль эталона, подобно тому как любой протяженный предмет может быть мерой длины. Чтобы прочесть эту страницу, вам пришлось затратить некоторое время, следовательно, количество прочитанных страниц вполне может выступать в качестве своеобразных часов. В старину нередко так и делали. Например, брат Августин, монах Бенедиктинского ордена, подвизавшийся у себя в монастыре звонарем, должен был еженощно в три часа пополуночи будить братьев к заутрене. Наручных часов у него, разумеется, не было, поэтому, чтобы не промахнуться, он раскрывал Псалтырь[85] и начинал читать вслух. И как только добирался до слов: «Начальнику хора Идифумова. Псалом Асафов», опрометью бежал на колокольню. Однако и на старуху бывает проруха. Однажды брат Августин задремал над книгой, а когда проснулся, солнце уже стояло высоко. Мало того что он не разбудил коллег вовремя, так еще и весь город переполошил, ибо по удару колокола поднимались не только монахи, но и добропорядочные миряне, поспешавшие кто в лавку, кто в мастерскую, а кто на ярмарку. Некоторые чересчур богобоязненные горожане, увидев яркое солнце посреди ночи, встревожились не на шутку, полагая, что свершилось чудо, но более здравые соседи быстро остудили их пыл: дескать, солнце вина не пьет, а за братом Августином этот грешок водится. Незадачливому звонарю крепко влетело от настоятеля монастыря, отца Дезидерия.
Чтение псалмов вслух – дело хлопотное, поэтому в монастырях широко практиковали другой, куда более надежный способ. Обыкновенная свеча или масло в лампаде сгорают за определенное время, следовательно, их можно использовать не только по прямому назначению, но и как своего рода часы. За ночь успевали сгореть три свечи, и если на вопрос: «Который час?» – звучал ответ: «Две свечи», это означало, что рассвет уже близок, так как миновало две трети ночи. Для более точного отсчета времени на свечу наносили деления, а иногда и вовсе превращали осветительный прибор в своеобразный «огненный» будильник: в одно из делений втыкали булавку с прицепленным к ней грузиком, и когда свеча догорала до этого места, грузик со звоном падал на металлический поднос. На Востоке были в большом ходу «огненные» будильники несколько иной конструкции. Они представляли собой миниатюрную лодочку с просмоленным прутиком, уложенным вдоль ее длинной оси. Поперек лодочки натягивали нитку с металлическими шариками на ее концах. Прутик поджигали, и как только пламя доползало до нитки, она перегорала, и шарики сыпались в медную плошку. Излишне говорить, что «огненные» часы не отличались особой точностью хода: лампадное масло горело неровным коптящим пламенем, а свечи были неодинаковой толщины. Откалибровать такой хронометр как следует – задача почти непосильной сложности. Кроме того, восковые свечи стоили очень дорого, поэтому предпочтение отдавалось дешевым сальным свечам – фитилям, опущенным в расплавленное сало.
Но исторически первыми были, разумеется, солнечные часы, и это вполне естественно, потому что небо всегда занимало людей ничуть не меньше земли. Днем по хрустальной голубизне небесного свода бегает солнечный диск, описывая замысловатую кривую, а ночью в чернильной вышине зажигаются звезды. Рисунок созвездий никогда не меняется, но они выныривают из-за горизонта в строгом порядке и неслышно плывут во тьме, чтобы вновь утонуть за краем земли. Однако солнце все же удобнее, поскольку освещенные им предметы отбрасывают четкую тень, которая то скукоживается до малозаметного пятнышка, то опять начинает расти. Люди подметили эту закономерность давным-давно: в одной из комедий Аристофана[86] жена говорит мужу: «Когда тень будет в десять шагов, умасти себя благовониями и приходи ужинать». Что она имела в виду? Греки определяли время по длине и направлению тени от вертикального столба – гномона. Ранним утром, сразу после восхода солнца, длина тени максимальна, в полдень она укорачивается до предела, а на закате снова растет. Вообще-то гномон использовался как прибор для астрономических наблюдений (с его помощью оценивали высоту солнца над горизонтом), но параллельно он играл роль простейших солнечных часов. Конечно, мерить время шагами не шибко сподручно, но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. Кроме того, техника не стояла на месте: у вавилонян[87] – древнего и мудрого народа, обитавшего в междуречье Тигра и Евфрата, – греки научились делить сутки на равные отрезки времени – часы. По преданию, они же придумали солнечные часы с циферблатом, а греки немедленно подхватили ценное изобретение. Правда, у этих часов не было стрелок: их заменяла треугольная пластина в центре, тень от которой описывала круг наподобие часовой стрелки, по мере того как солнце путешествовало по небу. Древнегреческие солнечные часы пережили века, сохранив все свои конструктивные особенности. В годы правления Екатерины II ими нередко оборудовали дорожные верстовые столбы на больших трактах. Они были похожи на свою античную родню как две капли воды: плита с треугольной железной пластиной в центре и римскими цифрами по периметру.
От эпохи к эпохе часы уменьшались в размерах: греки и римляне со временем научились делать переносные и даже миниатюрные карманные солнечные часы. Правда, карманов в ту пору еще не придумали, поэтому их носили на цепочке или шнурке. Такие изящные вещицы, изготовленные из бронзы, ценных пород дерева или слоновой кости, ученые находят при археологических раскопках. В книге «Истории обыкновенных вещей» В. В. Богданов и С. Н. Попова пишут: «Эти солнечные часики, сделанные из посеребренной меди, имели форму окорока, на котором прочерчены линии. Шпилем – стрелкой часов – служил свиной хвостик. Часы были небольшие». А в другой книге рассказывается об остроумном изобретении индийских факиров – дорожном посохе, с помощью которого можно было определять время. В отличие от обыкновенной трости или палки он имел в сечении не круглую, а восьмигранную форму. Наверху в каждой грани высверливалось отверстие, куда вставлялся маленький стерженек. Чтобы узнать, который час, факир поднимал свой посох вертикально, держа его за специальный шнурок, и тень, ложившаяся от стерженька на грань отвесно висящего посоха, указывала время. На грань заранее наносились часовые отметки, следовавшие друг за другом с фиксированными интервалами, поэтому каждый раз измерять длину тени необходимости не было. А для чего нужны восемь граней? Разве нельзя обойтись одной-единственной? Все дело в том, что видимый путь солнца на протяжении года ощутимо меняется. Летом солнце поднимается над горизонтом значительно выше, чем зимой, поэтому и тень, отбрасываемая стерженьком в летний полдень, будет короче зимней. Каждая грань дорожного посоха индийского факира привязана к определенному времени года.
М. Ильин, автор увлекательной книжки «Рас сказы о вещах», пишет: «Положим, дело происходит в начале октября. Факир втыкает палочку в ту грань, на которой начертано древнее слово „Ариман“ – название месяца, который продолжается с середины нашего сентября до середины октября».
Однако солнечные часы любой конструкции имели один весьма существенный недостаток: они работали исключительно днем, да и то не всегда, а только в ясную погоду. Поэтому люди еще в древности изобрели водяные часы, которые могли „ходить“ круглосуточно. Генеральная идея лежала на поверхности и не потребовала серьезных мозговых затрат: если взять емкость фиксированного объема с дыркой внизу, то вода постепенно из нее вытечет, причем время опорожнения сосуда будет примерно одним и тем же. А если вдобавок разметить стенку водяного бака делениями, то можно отслеживать убыль воды ежечасно. Правда, тут есть одна тонкость: пока воды много, она вытекает бодрой и упругой струей, но когда уровень жидкости в сосуде падает, то давление в полном соответствии с законами гидравлики понижается, и водичка начинает бежать через пень-колоду – еле-еле и кое-как. Впрочем, древние были не лыком шиты, и выход из положения нашли быстро: во-первых, интервалы между делениями можно делать неодинаковой ширины – вверху больше, а внизу меньше, – а во-вторых, они догадались заменить цилиндрическую емкость опрокинутым конусом, поставленным на острие. Тогда и с разметкой не нужно особенно париться – часовые метки могут следовать друг за другом с равномерными интервалами.
Итак, с циркуляцией жидкости внутри заковыристого прибора наши предки худо-бедно разобрались. Но водяных часовщиков подстерегала еще одна фундаментальная трудность. Беда в том, что ни древние египтяне, ни греки с римлянами почему-то не удосужились разделить суточный цикл на фиксированные временные интервалы, хотя решение лежало буквально на поверхности и, казалось бы, напрашивалось само собой. Вместо этого они упорно считали дневные и ночные часы порознь (причем и тех и других было одинаковое количество), а поскольку дни и ночи плавают в довольно широком диапазоне даже в южных широтах, получилось форменное безобразие: длина летнего дневного часа растягивалась сверх всякой меры, а короткий зимний дневной час наоборот «усыхал» до 50 минут по нашим часам. Такая неразбериха объясняется элементарно: продолжительность светового дня летом гораздо больше, чем зимой. Понятно, что в холодное время года наблюдается прямо противоположная картина. Что же делать? Неужели строить часы в двух вариантах – для летнего и зимнего времени?
Проще всего, как уже говорилось, унифицировать час, но древним сия нехитрая мысль почему-то не приходила в голову, и они двинулись к цели окольным путем. Коли зимний день короче летнего, то зимой можно обойтись меньшим объемом воды. Казалось бы, решение найдено, но не тут-то было! Ведь воронку так или иначе необходимо заполнять доверху, до самой первой отметки, а если воды будет меньше, то фокус не пройдет. Тогда античные часовщики придумали хитрую штуку. Послушаем Ильина: «По форме воронки сделали конус – такую же воронку, но не пустую внутри, а сплошную. Если этот конус погрузить в воронку, положим, до середины, в ней останется меньше свободного места, и воды в ней поместится меньше. Зимой, значит, конус придется опускать, летом поднимать. А чтобы всякий мог это делать, линейка, на которой держится конус, разделена черточками. Эти черточки показывают, на какую глубину нужно опускать конус, смотря по времени года».
В Греции водяные часы назывались клепсидрами. Самые простые клепсидры – сосуды небольшого объема с дырой в нижней части – стояли в залах суда. Вода из таких часов вытекала примерно за пятнадцать минут, поэтому если чье-нибудь выступление растягивалось, допустим, на целый час, то говорили: «Его речь продолжалась четыре клепсидры». Однако со временем греки научились собирать очень сложные и даже автоматические водяные часы. Например, Платона, знаменитого античного философа и ученика Сократа, считают изобретателем водяного будильника. Часы его конструкции состояли из двух емкостей, расположенных друг над другом. В верхний сосуд наливалась вода, откуда понемногу стекала в нижний, вытесняя из него воздух, который по трубке устремлялся к флейте, и она начинала звучать. Платоновский будильник регулировался в зависимости от времени года.
Еще более хитроумные водяные часы построил александрийский изобретатель и механик Ктесибий около 270 года до новой эры. Клепсидра его конструкции безупречно функционировала в автоматическом режиме и представляла собой вращающуюся колонну с двумя вертикальными шкалами. Арабские цифры обозначали дневные часы, а римские – ночные. Стрелку заменяла фигурка крылатого мальчика с указкой в руках. Мальчик медленно поднимался снизу вверх и ровно через двадцать четыре часа достигал верхней части колонны. Затем он стремительно падал вниз, чтобы снова начать свое неторопливое путешествие наверх. А поскольку длительность часа в ту эпоху сильно разнилась в зависимости от времени года, водяной хронометр Ктесибия имел не один циферблат, а целых двадцать – свой для каждого месяца. Колонна автоматически поворачивалась вокруг оси, и напротив крылатой фигурки всегда оказывался тот циферблат, который был необходим по сезону. В нижней части колонны прятался сложный механизм из водостоков, труб и шестеренок, обеспечивающий бесперебойную работу клепсидры. Полный оборот вокруг оси колонна совершала ровно за год. Желающих разобраться в устройстве водяных часов Ктесибия более подробно мы отсылаем к вышеупомянутой книжке М. Ильина «Рассказы о вещах».
После падения Западной Римской империи в 476 году клепсидры в Европе стали большой редкостью. Северные варвары – франки, вандалы, готы и лангобарды, основавшие на обломках могущественной империи собственные королевства, – делать часов не умели. А вот в Византии и на арабском Востоке специалистов по клепсидрам хватало. Например, в 807 году багдадский халиф Гарун-ар-Рашид, тот самый, что любил инкогнито посещать восточные рынки в одеянии нищего дервиша, подарил королю франков Карлу Великому водяные часы из позолоченной бронзы. Это был подарок, достойный халифа, и настоящее чудо инженерного мастерства по тем временам.
Друг и советник Карла Великого так описывает этот удивительный механизм: «Абдала, посол персидского короля, и два иерусалимских монаха предстали перед императором. Монахи Георгий и Феликс поднесли Карлу несколько подарков от персидского короля и между прочим золоченые часы, изготовленные весьма искусно. Особый механизм, приводимый в движение водой, указывал часы. Каждый час раздавался бой. Несколько медных шариков, а именно столько, сколько нужно, падало в медный таз, расположенный у подножия часов. Каждый час открывалась одна из двенадцати дверей, ведущих внутрь часов. В полдень из всех двенадцати дверей выезжало двенадцать маленьких рыцарей, которые закрывали за собой двери. Было здесь много других удивительных вещей, которых еще никогда не приходилось видеть нашим французам».
Тот же самый принцип – опорожнение сосуда за единицу времени – положен и в основу песочных часов, которые широко использовались на флотах всего мира вплоть до конца XVIII столетия. Они представляют собой две конусообразные емкости, соединенные узкой горловиной, одна из которых частично заполнена песком. Чтобы запустить такие часы, их нужно всего лишь перевернуть. Время, за которое песок пересыпается из верхнего сосуда в нижний, может составлять от нескольких часов до нескольких секунд. К приготовлению песка для часов в старину подходили весьма ответственно, так как считалось, что это дело требует особого умения. М. Ильин пишет: «Говорили, что самый лучший песок получается из мраморных опилок, если их прокипятить девять раз с вином, снимая каждый раз пену, а после этого высушить на солнце».
Чем же объясняется невероятная «живучесть» песочных часов, если к XVIII столетию человечество уже давным-давно располагало вполне приличными механическими хронометрами? Во-первых, они были очень удобны для отсчета вахтенного времени: число ударов судового колокола обозначало время, прошедшее с начала четырехчасовой вахты; каждый двойной удар отмечал час, а одинарный – полчаса. Морские песочные часы назывались склянками. А во-вторых, даже надежные механические часы с маятником, изобретенные в конце XVII века голландским физиком Христианом Гюйгенсом (речь о них пойдет чуть ниже), к сожалению, не оправдали возлагавшихся на них ожиданий: они исправно работали только на твердой земле, а в море корабельная качка ощутимо влияла на точность их хода. Поэтому для измерения скорости судна с помощью лага песочные часы были совершенно незаменимы. Помните главу «Весло и парус»? Лаг представлял собой деревянный сектор, буксируемый за кораблем на тонком тросе – лаглине, на котором через определенные промежутки были завязаны узлы. Отсчитывали, сколько узлов на лаглине успевало уйти за борт, пока песок в часах пересыпался из одной половинки в другую. Чем быстрее шел корабль, тем больше было таких узлов, а интервалы между ними выбирались так, чтобы один узел соответствовал скорости, равной одной миле в час. С помощью такого незатейливого устройства удавалось измерить скорость судна с довольно высокой точностью. Отсюда, кстати, и узел – мера скорости корабля, составляющая одну морскую милю в час.
Как уже говорилось в начале этой главы, имя изобретателя первых механических часов нам неизвестно. Имеются основания полагать, что европейцы познакомились с этим устройством в эпоху Крестовых походов. Во всяком случае, хроники сообщают, что египетский султан Саладин[88] преподнес германскому королю Фридриху II[89] искусно сделанные часы с гирями. Стоила эта забавная игрушка пять тысяч дукатов – сумма по тем временам огромная. Честно говоря, история какая-то мутная и довольно невразумительная, ибо механические часы тысячелетней давности были совершенно неподъемным сооружением – их монтировали по винтику на городских ратушах и крепостных башнях. Переезд многопудового монстра исключался по определению. Поэтому немедленно возникает вопрос: что именно презентовал египетский султан германскому королю? Вдобавок и годы жизни Саладина и Фридриха Второго плохо стыкуются. Тогда, быть может, хронист перепутал даты, и эксклюзивный подарок предназначался другому Штауфену – рыжебородому королю Фридриху I Барбароссе, тоже императору Священной Римской империи, участнику бесславного Третьего крестового похода и жестокому усмирителю мятежных городов Северной Италии? Тоже не вытанцовывается, ибо первый Фридрих до Палестины не доехал – утонул во время неудачной переправы через одну из безымянных речек в Малой Азии. А если даже предположить, что уникальный подарок был все-таки вручен – которому из Фридрихов, роли не играет, – то как и на чем он был доставлен в Европу? Одним словом, тайна сия велика есть, поэтому эпоху механических часов лучше считать от английского короля Эдуарда I[90], который распорядился их установить над зданием лондонского парламента – на Вестминстерской башне – во второй половине XIII века. Знаменитый Биг-Бен с минутной стрелкой трех с половиной метров длины, одолевающей одним прыжком расстояние в 15 сантиметров, и маятником свыше 200 килограммов весом появится гораздо позже. Первые башенные часы, ставшие визитной карточкой английской столицы, назывались Большим Томом. Неутомимый Том отбивал время четыре века подряд.
Французы, вечные соперники англичан, косившиеся ревнивым оком на успехи северного соседа, мириться с таким вопиющим безобразием не желали. Поэтому французский король Карл V Валуа[91] выписал из Германии часового мастера Генриха де Вика, чтобы тот ему поставил часы на башне королевского дворца в Париже. Немецкий мастер работал как проклятый восемь лет, получая шесть су[92] в день, и все это время жил при часах, в той же самой башне. А несколькими годами позже другой мастер, на этот раз француз по имени Жан Жуванс, спроектировал и собрал часы для одного из королевских замков. Что же касается России, то первые башенные часы были установлены в 1404 году в Московском Кремле монахом Лазарем Сербиным. На святой Руси всегда предпочитали жить собственным умом, не оглядываясь на латинскую ересь, поэтому и часы получились довольно необычные, как и все, что делается в родных пенатах. У этих диковинных часов вращался циферблат, а стрелка в виде маленького солнца с лучами оставалась неподвижной. Кроме того, на циферблате было обозначено не двенадцать часов, как всюду принято, а целых семнадцать. Барон Августин Мейерберг, посол германского императора при дворе российского царя Алексея Михайловича во второй половине XVII века, свидетельствует:
«Они показывают часы дня от восхождения до заката солнечного… Русские разделяют сутки на двадцать четыре часа, но считают часы по присутствию или отсутствию солнца, так что при восхождении оного часы бьют один, потом продолжают бить до самого заката. После этого начинают счет с первого ночного часа вплоть до наступления дня… Когда бывают самые долгие дни, часы показывают и бьют до семнадцати, и тогда ночь продолжается семь часов». И далее: «На всякой улице поставлены сторожа, которые каждую ночь, узнавая время по бою часов, столько же раз колотят в сточные желоба или в доски, чтобы стук этот давал знать об их бдительности шатающимся по ночам негодяям».
Одним словом, античность в полный рост – дневные и ночные часы, как в Древней Греции или Риме. А в Москве, судя по всему, было по ночам неспокойно: «Мы ребята-ежики, в голенищах ножики, любим выпить, закусить, в пьяном виде пофорсить». Куда девались со Спасской башни старинные часы работы Лазаря Сербина, история умалчивает. В XVIII веке на ней установили новые часы, выписанные царем-реформатором Петром I из Голландии, которые и по сей день исправно отбивают время.
Между прочим, история первых башенных часов – стационарных, монструозных, с неподъемными гирями, которые весили десятки пудов, – не дает покоя историкам, ибо побуждает задуматься о беспристрастности тех хронистов, которые писали о даре Саладина то ли в конце XII, то ли в начале XIII столетия. Скептиков можно легко понять: когда английскому Большому Тому исполнилось без малого двести лет, при дворе Людовика XI[93], французского короля, озаботившегося созданием централизованного государства, появились первые переносные часы. Однако карманными они не были: неуклюжий и хрупкий механизм возила лошадь, а особый конюх, приставленный к капризному агрегату, ухаживал за ним сутки напролет.
Средневековые мастера, водружавшие первые механические часы на ратушных башнях, берегли свои секреты как зеницу ока, да и королевские особы, раскошелившиеся на модный эксклюзив, тоже предпочитали сидеть ровно и по струнке, не распространяясь о шестереночном ноу-хау. Но мы все-таки заглянем внутрь старинных башенных часов, дабы познакомиться с их начинкой. Одной из важнейших составных частей любого механизма является двигатель. В нашем случае его роль играет самая обыкновенная гиря, соединенная цепью с вращающимся валом. Вспомните деревенский колодец с воротом. Если спихнуть ведро в колодезный проем и отпустить ворот, цепь начнет разматываться, и ведро полетит вниз, стремительно наращивая скорость. Аналогично ведет себя и гиря в часах – скользит вниз под собственной тяжестью, а вращающийся вал приводит в движение стрелки на циферблате. Однако на этом буквальное сходство кончается: если колодезный ворот с каждой секундой крутится все быстрее, то гиря должна опускаться плавно, чтобы стрелка не вертелась как ненормальная, а двигалась равномерно. Следовательно, необходим механизм, который бы тормозил разматывание веревки и падение тяжелой гири. Такое устройство называется регулятором хода.
Однако воздействовать непосредственно на вал очень трудно, а вот если соединить его с зубчатым колесом, такая возможность появляется. В старинных часах сбоку от зубчатого колеса помещали вертикальную ось, своего рода веретено с двумя лопатками, которые были направлены в противоположные стороны и разнесены на диаметр зубчатого колеса. Это и есть регулятор хода. Когда верхняя лопатка застревает между зубцами, колесо, продолжая вращаться, давит и отжимает ее, чтобы избавиться от неожиданного препятствия. В результате веретено делает полоборота, и теперь уже нижняя лопатка вклинивается между двумя нижними зубцами. Еще один шаг – и все повторяется сначала. А чтобы зубчатое колесо не освобождалось от назойливых лопаток чересчур легко, на верхний конец веретена насаживали поперечный брус с двумя грузиками. Теперь колесо будет вращаться не спеша – равномерно и толчкообразно, поэтому и стрелка тоже станет двигаться соответственно. Веретено, регулирующее ход часов, называется балансиром, а соединенное с ним зубчатое колесо – спускным, или ходовым. Здесь изложен основной принцип, а механизм реальных башенных часов был немного сложнее и включал, по крайней мере, еще пару зубчатых колес – для передачи движения на стрелку и на ось ходового колеса.
Первые механические часы представляли собой на редкость грубое, примитивное и капризное устройство, поэтому и врали они совершенно безбожно. У них была только одна-единственная стрелка – часовая, – а заводить их приходилось несколько раз в сутки. Однако лиха беда начало. Постепенно конструкция часов совершенствовалась, мастера набирались опыта, и французский монарх Людовик XI, как мы помним, уже вовсю пользовался переносным хронометром, хотя и весьма громоздким. А около 1500 года часовщик Петер Генлейн из Нюрнберга изобрел наконец первые карманные часы. Перед ним стояла очень непростая задача. Прежде всего надо было придумать, чем заменить гирю, ибо веревку с грузом в корпус миниатюрных часиков при всем желании не запихнешь. Вдобавок гиревой механизм боится тряски и требует вполне определенного фиксированного положения, тогда как карманные часы не висят на стенке неподвижно, а с утра до вечера путешествуют вместе с владельцем. Нюрнбергский мастер догадался использовать упругие свойства пружины (первоначально это была обычная свиная щетинка, а потом – туго скрученная стальная лента). Он поместил пружину в латунный барабан, причем внутренний ее конец намертво прикрепил к оси, на которой барабан сидит, а наружный – к стенке барабана. Заводя часы, вы вращаете барабан и тем самым все туже закручиваете спрятанную в нем пружину. Однако, предоставленная самой себе, она моментально начинает разворачиваться в обратном направлении, и барабан, сделав несколько оборотов назад, вновь занимает исходное положение. А чтобы затормозить раскручивание пружины, Петер Генлейн снабдил механизм таким же балансиром, как и в больших часах. Первые карманные часы заводили специальным ключом, который насаживался на четырехугольную ось маленького зубчатого колеса, а хитроумная система из нескольких разнокалиберных колес передавала движение на барабан и стрелку. Часовое стекло отсутствовало, а стрелка по-прежнему бегала по циферблату в гордом одиночестве. Минутная стрелка появится еще очень не скоро, в самом конце XVII века, и только пятьдесят – шестьдесят лет спустя придумают наконец секундную. Старинные карманные часы щедро украшали эмалью, миниатюрами и драгоценными камнями, так что они были скорее забавной и дорогой игрушкой, чем полезным инструментом, показывающим точное время. Их прозвали нюрнбергскими яйцами, хотя мастера довольно рано стали придавать своему тикающему товару самую экзотическую форму – сердца, лилии, звезды, желудя, креста и даже мертвой головы. Размеры часов тоже постоянно уменьшались: например, датская принцесса, выданная замуж за английского короля Якова I[94], носила перстень с вмонтированными в него крохотными часиками. Представляете, сколько могла стоить такая уникальная штучная работа?
В 1657 году великий голландский ученый Христиан Гюйгенс (1629–1695) значительно усовершенствовал часы, оснастив их регулятором хода нового типа – маятником и анкерным механизмом. Правда, итальянец Галилео Галилей, другой выдающийся физик, еще лет за двадцать до Гюйгенса пришел к идее маятника, наблюдая за раскачиванием лампад в пизанском соборе во время богослужения. Он обратил внимание на тот факт, что период колебаний любого маятника (а лампада, подвешенная на цепи, есть не что иное, как маятник) не зависит ни от его формы, веса или размаха (амплитуды), а только лишь от длины шнура, на котором он висит. Если раскачать маятник, он всегда будет совершать колебательные движения за одно и то же время. И когда амплитуда маятника максимальна, и когда он едва трепещет возле точки равновесия, готовый вот-вот застыть, периоды его колебаний совершенно идентичны, как близнецы-братья. Итальянский ученый сразу понял, что ему наконец-то повезло отыскать периодический процесс, который может служить регулятором хода в часовом механизме, однако построить такие часы Галилею было не суждено.
А вот Гюйгенс не только блистательно разрешил непростую задачу, но и вывел строгий закон, безукоризненно описывающий колебательные движения любого маятника. Если мы заглянем в потаенное щелкающее нутро гюйгенсовых часов, то не увидим практически ничего нового: тот же самый убогий набор шестеренок и зубчатых передач, что и в неподъемных башенных чудищах минувших эпох. Увесистая гиря тоже никуда не делась – она по-прежнему неторопливо сползает вниз, обеспечивая слаженную работу всего механизма. Единственное отличие – это бойкий маятник, равномерно шагающий взад-вперед, и загадочное приспособление в форме качающейся вилки, оседлавшей ходовое колесо. Эта назойливая вилка, то и дело тормозящая его бег, называется анкером, что в буквальном переводе с немецкого означает «якорь». Послушаем М. Ильина: «Положим, сейчас левый крючок якоря застрял между зубцами ходового колеса. На мгновение оно остановится. Но сейчас же гиря сделает свое дело и заставит ходовое колесо оттолкнуть от себя крючок, который ему мешает. От этого толчка крючок поднимется и пропустит один зубец колеса. Но от этого же толчка маятник качнется влево, а правый крючок якоря опустится и опять застопорит ходовое колесо».
Одним словом, механика этого щебечущего устройства проста как правда. А поскольку маятниковые эволюции абсолютно предсказуемы, не зависят от амплитуды и всегда укладываются в один и тот же временной отрезок, не составит большого труда подобрать длину нити таким образом, чтобы маятник совершал одно колебание, скажем, за две секунды, то есть с ежесекундным размахом взад и вперед. И тогда мы будем иметь надежный прибор, совершающий некие действия строго регулярно – с интервалом точно в одну секунду. Забегая немного вперед, отметим на всякий случай, что температурные перепады могут оказывать существенное влияние на длину маятниковой подвески, поэтому в особо точных часах применяются специальные сплавы, минимизирующие эту помеху. Остается ответить на сакраментальный вопрос, каким образом ходовое колесо, которое вертится довольно быстро, умудряется крутить вальяжную часовую стрелку столь неспешно, что она только за двенадцать часов кое-как успевает обогнуть сравнительно небольшой циферблат. Удивляться тут совершенно нечему, ибо наука умеет много гитик: если чуточную шестеренку о шести зубцах состыковать с большим колесом, у которого их насчитывается 72 штуки, то последнее будет вращаться в 12 раз медленнее маленькой, но верткой фитюльки. Иными словами, элементарная система зубчатых передач, оснащенная неутомимым маятником и якорной вилкой, всегда позволит отрегулировать ход любого часового механизма.
Однако Христиан Гюйгенс не ограничился ревизией стационарного хронометра, но догадался придумать маятник и для карманных часов. Он соединил пружину Петера Генлейна с осью увесистого маховичка в виде колесика с поперечной перекладиной. Эту деталь механизма карманных часов принято называть балансиром. Балансир сидит на вертикальной оси и равномерно покачивается взад-вперед. Когда пружина скручивается в тугую спираль, она тут же начинает проявлять свои упругие свойства, ибо действие равно противодействию. Если бы не увесистое колесо, она бы просто раскрутилась – и делу конец, но тяжелый маховик сразу остановить невозможно. Он продолжает двигаться по инерции и закручивает пружину снова – на этот раз в противоположную сторону. Скукоженная пружина опять норовит выпрямиться в полный рост, и колесо нехотя и со скрипом уступает насилию. А чтобы трение не остановило колебательный процесс досрочно, между маховичком и ходовым колесом, передающим движение на стрелку, беспрестанно снует наш старый знакомец – анкер. М. Ильин: «При каждом колебании балансира соединенный с ним анкер задерживает ходовое колесико то одним, то другим зубцом. А ходовое колесико, в свою очередь, отталкивает анкер и заставляет его качаться, а вместе с ним и балансир». Другими словами, маховик-балансир в тесном союзе с упругой пружиной и анкерной передачей играет роль маятника в карманных часах.
А теперь скажите на милость, каким образом античные мудрецы умудрились не только измерить окружность земного шара, но и вычислить расстояние до Луны? Эратосфен Киренский, живший в III веке до новой эры, пришел к выводу, что окружность нашей планеты составляет 39 700 километров (современный результат – около 40 тысяч километров). Более того, он с умопомрачительной точностью определил расстояние до Луны. Его вердикт гласил – 384 000 километров. Вы будете смеяться, но современные измерения дают 356 610 км в перигее – точке минимального удаления – и 406 700 км в апогее – точке максимального удаления. А средняя величина составляет круглым счетом 384 400 километров. Выходит, наш грек ошибся всего лишь на 400 километров. Ну и как тут не согласиться с ревизионерами всех мастей, топчущих ортодоксальную хронологию? Ведь измерения такого уровня точности не могли быть выполнены раньше XVII столетия! Любой человек, знающий небесную механику кое-как, с пятого на десятое, немедленно возмутится и тут же скажет, что для сколько-нибудь точных астрономических наблюдений совершенно необходимы часы с секундной стрелкой. Мы уже не говорим об измерении углов между небесными телами, ибо подобных инструментов у древних греков просто-напросто не было. А как Гиппарх во II веке до новой эры сумел рассчитать продолжительность лунного месяца (29 суток 12 часов 44 минуты 2,5 секунды)? Для справки: современный результат – 29 суток 12 часов 44 минуты 3,5 секунды. Как он сумел ошибиться всего на одну секунду (и как считал половинки секунд), не имея механических часов? Клепсидры тут не помогут.
В наше время придумано великое множество немеханических часов, но все они так или иначе эксплуатируют некий периодический процесс. В электромагнитных часах тоже присутствует маятник, только в роли движка выступает не упругая пружина, а миниатюрная батарейка. Кварцевые часы, созданные в 30-х годах прошлого века, работают на принципиально иной основе и дают погрешность суточного хода не более одной тысячной секунды. Еще точнее атомные (или квантовые) часы, в основу действия которых положен переход атомов из одного энергетического состояния в другое: их погрешность выражается фантастической цифрой 10–13 секунд. Это, конечно, профессиональные игрушки (с помощью атомных часов были в свое время проверены некоторые положения специальной теории относительности), но если вы человек пунктуальный, а денег у вас куры не клюют, то вполне можно обзавестись и таким удивительным хронометром на зависть коллегам. Желающие могут приобрести радиоуправляемые часы с солнечным питанием: за 150 тысяч лет они допускают отклонение от астрономического времени всего лишь на одну секунду и вдобавок снабжены автоматическим переключателем сезонного и поясного времени. Созданы наручные часы с видеокамерой, часы-термометр, измеряющие температуру не только тела, но и воздуха и воды, а также часы – толковый словарь с приличным лексиконом на несколько тысяч слов. Одним словом (пардон за невольный каламбур), дерзайте – изобретательская мысль не дремлет…
7. Письмецо в конверте
Последним умирает слово. Но небо движется, пока Сверло воды проходит снова Сквозь жесткий щит материка. Арсений ТарковскийКак известно, самыми неприспособленными к жизни древние греки полагали тех, кто не умеет читать и плавать. Впрочем, ценность писаного слова еще долго подвергалась сомнению: например, Сократ излагал свои философские взгляды только устно, а его лучший ученик Платон однажды обмолвился, что изобретение письменности способствовало ухудшению памяти. Замечание справедливое: если верить историкам, гомеровские поэмы не менее двухсот лет передавались изустно, пока не были записаны особой комиссией, созданной афинским тираном Писистратом (560–527 до н. э.). Рассказывают, что греки воспроизводили их по памяти слово в слово, а ведь «Илиада» с «Одиссеей» в переводе Н. И. Гнедича – это около 700 страниц мелким шрифтом. А длиннейшие полинезийские генеалогии, бытовавшие исключительно в устной традиции, ибо письменности народы Океании не знали? На Маркизских островах некоторые родословные насчитывают 160 поколений, и если принять, что продолжительность жизни одного поколения составляет примерно 25 лет, то исходная точка утонет во мгле веков – около 2000 года до новой эры. Правда, многие этнографы подвергают их решительному усекновению, поскольку начало генеалогического перечня предельно мифологизировано, но даже 50–60 поколений – это, согласитесь, не фунт изюму.
Впрочем, как бы писаное слово ни влияло на память, возникновение письменности было прорывом фундаментального значения, сопоставимым по своей важности с овладением членораздельной речью. Здесь не место говорить о проблеме происхождения языка, тем более что этот вопрос едва ли будет разрешен в обозримом будущем. Теорий происхождения языка существует великое множество, и большая их часть представляет на сегодняшний день сугубо исторический интерес. Отметим только, что, хотя в повседневной жизни термины «язык» и «речь» сплошь и рядом употребляются как синонимы, языковеды знака равенства между этими понятиями не ставят. Что-либо сообщить можно и не прибегая к речи, яркий тому пример – жестовый язык глухонемых. Языками в широком смысле слова являются и азбука Морзе, и флажковая сигнализация, и разнообразные способы имитации речи посредством свиста, и даже система правил дорожного движения. Такие языки иногда называют языками вспомогательного общения, и многие из них строятся на базе естественного человеческого языка. Как хорошо известно, сигнализация имеется и в мире животных, причем нередко весьма изощренная. Таковы, например, пение птиц, язык свиста дельфинов или сигнальный язык шимпанзе.
Если вслед за выдающимся швейцарским лингвистом Фердинандом де Соссюром определить язык как «систему дифференцированных знаков, соответствующих дифференцированным понятиям», то человек в ходе эволюционного развития, казалось бы, мог избрать любой способ коммуникации, но почему-то остановил свой выбор именно на членораздельной речи. Все прочие варианты – жест, свист, пантомима – оказываются или производными от речи, или настолько менее совершенными, что употребляются почти исключительно в особых ситуациях. Ларчик открывается просто: мы способны воспринимать и понимать членораздельную речь, внутри которой частота следования фонем (минимальных звуковых единиц) составляет 25–30 единиц в секунду. А вот скорость передачи текста с помощью флажкового семафора никогда не бывает больше, чем 60–70 знаков в минуту, т. е. передача информации осуществляется в 25 раз медленнее по сравнению с живой речью. Из одного только этого примера хорошо видно, насколько оптические каналы связи уступают акустическим.
Около сорока тысяч лет назад Homo sapiens, человек современного типа, уже почти наверняка говорил, и, надо полагать, говорил неплохо. Более того, многие лингвисты убеждены, что язык появился еще раньше, около ста тысяч лет назад. Что же касается других представителей рода Homo – неандертальцев, эректусов, габилисов и иже с ними, – то вопрос, в какой мере они владели членораздельной речью, остается открытым. Язык буквально взорвал историю человечества, ибо речь давала уникальную, ни с чем не сравнимую возможность надежно фиксировать бесценный опыт в длинном ряду поколений, и критерием успеха доисторического коллектива отныне стали не унаследованные с генами полезные признаки, а внегенетически передаваемая информация. История немедленно понеслась вскачь.
Если языку не меньше 40–50 тысяч лет, то письмо гораздо моложе – ему от силы пять-шесть тысяч лет. Правда, этот тезис справедлив только в том случае, если говорить о письме как о системе условных знаков для передачи языковых элементов. Такое письмо – ровесник первых городов, возникших на Ближнем Востоке и в долине Нила, и можно с уверенностью сказать, что становление городской цивилизации немыслимо без развитой письменности. Археологические находки однозначно свидетельствуют, что важнейшей функцией письма тогда была регистрация хозяйственных и торговых операций. Но это только одна сторона вопроса. При ближайшем рассмотрении оказывается, что задолго до того, как в междуречье Тигра и Евфрата выросли первые города, люди уже умели кодировать информацию и отправлять вполне осмысленные сообщения. Иными словами, письмо ближневосточных земледельцев выросло не на пустом месте, а имело под собой богатую традицию наглядных картинок. Другое дело, что трактовка этих рисуночных посланий была сопряжена с немалыми трудностями и почти никогда не могла быть однозначной. Поэтому многие специалисты отказываются считать людей каменного века изобретателями письма. По их мнению, геометрические символы, украшающие предметы обихода или оружие доисторического охотника, не несли коммуникативной функции, а были всего лишь схематизацией рисунков как таковых. Скажем, известный американский ученый И. Е. Гельб даже придумал специальный термин – «предписьменность», под которым следует понимать такой способ подачи информации, где имеется только картинка, а членение на слова, морфемы, слоги или звуки отсутствует. Это не письмо как таковое, а его набросок, завязь, неуклюжий эскиз, из которого только со временем разовьется настоящее письмо. На этом зыбком основании он объявляет «системами ограниченных возможностей» даже иероглифику ацтеков и майя: «Ни одно из племен американских аборигенов не обладало письмом в подлинном смысле слова». Позицию И. Е. Гельба разделяет и отечественный лингвист И. М. Дьяконов: «Настоящее письмо возникает только там, где… каждое слово в речи и все грамматические отношения между словами находят свое воспроизведение в начертательных знаках и, таким образом, воспроизводится не только общий смысл сообщения, но и его дословное содержание».
Что тут скажешь? Позиция небезупречная и весьма сомнительная, так как письмо непрерывно эволюционировало. Пиктограммы охотников и собирателей передавали лишь общее содержание речи, идеографическое письмо шумеров и китайцев отражало не только лексику и синтаксис, но и звучание слова в некоторых случаях, а слоговое и алфавитное письмо уже эксплуатировало фонетику по полной программе. Однако, подобно тому как «мысль изреченная есть ложь», никакое письмо не в силах передать все оттенки живой устной речи, ибо жест, интонация и мимика – неизменные спутники любой беседы – на бумагу не ложатся. При этом Гельб прекрасно понимает, что в основе письма непременно лежит рисунок, точно так же, как членораздельная речь родилась из подражания звуку: «…все великие системы Древнего Востока, такие как шумерская, египетская, хеттская, китайская и др., первоначально представляли собой чисто рисуночное письмо», – но упорно спроваживает иероглифику майя в пыльный архив.
Между тем рисунок явился на свет божий почти одновременно с речью и довольно быстро стал играть коммуникативную роль. Наш предок рисовал много и охотно. Мы не знаем, какие цели он при этом преследовал – эстетические, культовые, магические или какие-то иные. Возможно, наскальная живопись выступала в роли своеобразного наглядного пособия, хотя это представляется маловероятным. Ведь чтобы закрепить полезный навык, объект непременно следует потрогать руками, и потому отнюдь не случайно студентов-медиков до сих пор предпочитают «натаскивать» у трупа в анатомичке, хотя есть рисунки, таблицы, анатомические атласы и тому подобное. А вот полноценное общение – это совсем другой коленкор. Язык первобытного человека был еще нерасчлененным конгломератом самых разнообразных значащих элементов, поскольку речь в чистом виде в те далекие времена не обеспечивала коммуникативной достаточности. Австралийские аборигены и южноамериканские индейцы до сего дня широко используют пантомиму и жест, а если находят эти приемы не вполне убедительными, то старательно чертят изображение того, о чем хотят рассказать, на песке или на земле. Таким образом, представляется весьма вероятным, что первоначальным источником палеолитической живописи был наспех сделанный ситуативный рисунок, призванный уточнить высказывание или усилить его эффект. И только спустя много веков, по мере совершенствования членораздельной речи, пантомима и графическое изображение приобрели самодовлеющую ценность и стали нагружаться дополнительными смыслами – обрядовыми, эстетическими, культовыми и прочими. Во всяком случае, специалисты не исключают подобной коэволюции.
Подавляющее большинство ученых – от психолингвистов до зоопсихологов – сегодня практически единодушны в том, что первоначальный этап становления языка был путем от озвученной пантомимы к членораздельной речи. По мере усложнения социальных связей внутри первобытного коллектива и увеличения разнообразия ситуаций (трудовых, охотничьих, боевых), в которых оказывался наш далекий предок, падал удельный вес пантомимы и возрастала доля вербальных систем коммуникации. Одновременно с языком рождалось и синкретическое первобытное искусство, бывшее поначалу нерасчленимым конгломератом графического изображения, игрового действия и звукового сопровождения. Известный специалист в области фоносемантики С. В. Воронин пишет: «…язык имеет изобразительное происхождение, и языковой знак на начальном этапе филогенеза отприродно (примарно) мотивирован, изобразителен».
Уже в первых рисунках кроманьонского[95] человека мы находим взыскательный вкус, уверенную линию, безупречную пропорциональность и даже очевидную гиперболизацию, недвусмысленно свидетельствующую о солидной культурной традиции. Краска поначалу используется крайне скупо – в основном для обрисовки контура. Преобладает гравировка по кости или мягким известковым стенам карстовых пещер. Вот тяжело ступающий грозный мамонт из Фон-де-Гом, вот трогательная маленькая лань из Альтамиры, а вот бесчисленные резные изображения на бивне мамонта, рогах и костях животных. Рисуют умело, точно, легко, иногда намеренно отсекая лишнее, чтобы подчеркнуть динамику несущихся вскачь фигур. Искушенный художник прекрасно знал, что обилие подробностей только «утяжелит» изображение. При этом нужные детали всегда на месте – свою четвероногую натуру древние мастера знали наизусть. По рисункам лошадей и оленей можно изучать зоологию верхнего палеолита, а изображение мамонта из пещеры Фон-де-Гом помогло ученым реконструировать особенности строения хобота вымершего исполина (когда в слоях вечной мерзлоты стали находить сохранившиеся туши мамонтов, оказалось, что доисторический художник был точен даже в мелочах). На заре Ориньяка[96] появляется круглая скульптура – мастерски выполненные статуэтки обнаженных женщин с пышными формами, которые получили название палеолитических Венер. Материалом для их изготовления был не только податливый известняк, но и кость, бивень и даже обожженная глина, а фигурка женщины из убежища Масс д’Азиль и вовсе сделана из зуба лошади.
Со временем полнокровный реализм Ориньяка трансформируется, уступая место предельно лаконичным стилизованным картинкам, которые в дальнейшем еще более схематизируются. Перед нами уже не рисунок, а какой-то затейливый штриховой узор. Вершиной условности являются памятники так называемой азильской культуры: сотни расколотых галек, покрытых цветными точками, узорами и крестами. Правда, ученые так и не решились объявить интересную находку ранним письмом (или хотя бы предписьменностью в духе И. Е. Гельба), а договорились считать, что эти значки в предельно схематизированной форме изображают животных и орудия охоты. Разумеется, азильская находка не единична: наскальную графику, которая несла полезную информацию и могла быть истолкована как текст, в изобилии находят в пещерах Сибири или Северной Испании. Возраст таких артефактов порой насчитывает несколько десятков тысяч лет. Не менее интересно и другое: судя по всему, охотники и собиратели умели неплохо считать и внимательно следили за движением небесных светил.
Ученые долгое время думали, что календарь – это изобретение первых земледельцев, и все находки древних календарей автоматически приписывали им. Однако на стенах палеолитических пещер сохранились значки, которые проще всего истолковать как счетные, и загадочные рисунки, напоминающие топографические планы местности. Находят археологи и камни со стрелами-указателями, опять же в сопровождении каких-то непонятных значков. В 1977 году была обнаружена пластина, изготовленная из рога коровы, на которой последовательно нанесен ряд углублений. Американский исследователь А. Маршак выдвинул гипотезу, согласно которой рисунок этих углублений является разновидностью лунного календаря, а цветные полосы, пересекающие изображение, добавлены для лучшего разграничения лунных фаз. Разумеется, это не единичная находка: с тех пор было найдено несколько лунных календарей, определенно относящихся ко времени охотников и собирателей каменного века, с насечками по числу дней и обозначениям над ними фаз Луны.
Вообще-то ничего удивительного в этом нет, поскольку оседлому земледельцу лунный календарь как-то без надобности. В гораздо большей степени его занимают вещи фенологические, т. е. связанные с природными циклами: когда то или иное растение начинает цвести, когда оно плодоносит, когда появляются первые птицы и так далее. Лунные фазы, совершающиеся по строгому математическому закону, никак не могут помочь в этих зыбких материях. Совсем иное дело – охотники, ушедшие далеко от родного очага. Представим себе, что промысловая группа из тактических соображений решила разделиться надвое и обозначила некую точку рандеву. Как им не разминуться, если наручных часов и мобильных телефонов тогда еще не было и в помине? Проще всего это сделать по фазам Луны, поскольку наш естественный спутник висит над головой у всех и меняет свою конфигурацию, подчиняясь строгому математическому закону. Охотники могут условиться, что они совпадут там-то и там-то, когда лунный диск превратится в крутой серп, обращенный выпуклой стороной к восходящему солнцу. Быть может, каменные святилища, в изобилии рассыпанные по лику ветхозаветной Европы, первоначально использовались как механизмы, отслеживающие перемещение небесных светил, а сакральную нагрузку получили много позже, когда оседлые земледельческие племена окончательно потеряли интерес к бестолковой небесной мельтешне и сделали ставку на более понятные земные явления. У всех на слуху знаменитый британский Стоунхендж – гигантская каменная счетная машина, позволявшая с высокой точностью определять даты весенних равноденствий и зимних солнцестояний. Но Стоунхендж не уникален – на рубеже мезолита и неолита в Европе (и не только в Европе) возводится тьма-тьмущая впечатляющих каменных сооружений, которые могут работать как солнечно-лунная обсерватория. Исполинские конструкции из необработанного камня заполоняют Евразию: тут и хитроумные спиральные лабиринты на побережье Ледовитого океана, и нагромождение тяжеленных каменных плит, вздернутых неведомой силой друг на друга, и торчащие как перст вертикальные менгиры – огромные камни, отдаленно напоминающие стилизованную человеческую фигуру.
Недавние раскопки на юго-востоке Турции, в верховьях Тигра и Евфрата, затеянные учеными из Германского археологического института под руководством Клауса Шмидта, вызвали самую настоящую сенсацию. Раскопав голый холм Гёбеклитепе (Пуповинная гора), археологи обнаружили доисторическое святилище. Каменные стены вздымались ввысь и описывали прихотливую кривую, а известняковые Т-образные столбы, достигавшие в высоту трех метров, были богато украшены зооморфными рельефами, исполненными весьма натуралистично. Неведомый художник изобразил целый зоопарк: леопарды, лисы, дикие ослы, змеи, утки, кабаны, быки и даже журавль. Еще больше исследователей впечатлили четыре десятка поставленных торчком монолитов, каждый из которых весил не менее двадцати тонн. Их волокли из расположенной неподалеку каменоломни, для чего нужно было задействовать десятки, а то и сотни людей. Судя по всему, мастера не собирались останавливаться на достигнутом – в каменоломне нашли неоконченный монолит семиметровой длины и весом около 50 тонн.
Но самое неожиданное – это датировка находок. Эксперты пришли к выводу, что обнаруженные артефакты имеют возраст около 11 тысяч лет. Получается, что они создавались охотниками и собирателями, жившими на рубеже мезолита и неолита, не знавшими еще ни скотоводства, ни земледелия. Таким образом, это древнейшее на сегодняшний день культовое сооружение человечества (в его культовом характере археологи не сомневаются), каковое обстоятельство переворачивает все устоявшиеся представления о предыстории Homo sapiens. До сих пор считалось, что сакральная архитектура возникла много позже, когда люди стали переходить к оседлому образу жизни и возделывать съедобные растения.
В неуютных интерьерах Гёбеклитепе, похоже, никто постоянно не жил, поскольку археологам не удалось найти в ходе раскопок никаких предметов повседневного обихода, жилых комнат, очагов и погребений. По единодушному мнению специалистов, это было крупное межплеменное святилище, и люди здесь не селились, а приходили исключительно для того, чтобы почтить богов. При этом непростой архитектурный комплекс возводился вполне целенаправленно: анализ особенностей постройки показал, что здесь работали профессиональные каменотесы – люди, владевшие уважаемым ремеслом и не отвлекавшиеся на заботы о хлебе насущном. По оценке Шмидта, в дни крупных религиозных праздников в окрестностях Гёбеклитепе могли проживать до пятисот человек. Впрочем, надолго никто не задерживался: религиозные церемонии подходили к концу, люди возвращались восвояси, а открытое всем ветрам каменное святилище, пустое и строгое, затихало в ожидании следующего праздника, привечая редких случайных паломников.
Почти две тысячи лет грандиозный неолитический храм был своеобразной Меккой для окрестных племен охотников и собирателей, пока не произошло странное. Около 7500 года до новой эры Гёбеклитепе внезапно пустеет, и теперь уже навсегда. Звериные рельефы старательно закрывают новой каменной кладкой, а само святилище бережно засыпают землей. Складывается впечатление, что совершается некий погребальный обряд: старых богов торжественно предают земле в точности так же, как всегда хоронили вождей и старейшин, воздавая почести и следуя раз и навсегда заведенному ритуалу. Дело в том, что VIII тысячелетие до новой эры – это время, когда жизнь людей, населявших Переднюю Азию, стремительно менялась. Мир отважных охотников уходил в прошлое, а освободившуюся нишу постепенно занимали первые земледельцы. Люди покидают сожженные солнцем голые холмы и предпочитают теперь селиться не в глуши, а по берегам рек, где много пригодной для обработки плодородной земли. Охотничий промысел превратился в эпизодическое занятие, а престиж охотников упал, как никогда, низко. На старых и бессильных богов махнули рукой – на смену им пришли новые культы, и только горстка жрецов – приверженцев и поборников старины решила воздать подобающие почести древним духам-покровителям. Некогда грозные магические ритуалы пережившего свое время клира оказались никому не нужными, но служители умирающего культа, сохранившие верность заветам отцов, не пожелали отдать единственную святыню на растерзание новым варварам, и храм на Пуповинной горе навсегда скрылся под землей.
Однако монументальное зодчество далеко не самое любопытное. Немецкие археологи сразу же обратили внимание, что геометрические символы и фигурки животных, покрывающие известняковые монолиты, расположены не хаотично, они обнаруживают некую упорядоченность. На простой орнамент это не похоже, а скорее напоминает своего рода текст. Предоставим слово Александру Волкову, который в одном из номеров журнала «Знание – сила» написал о Гёбеклитепе интересную статью: «…громадные рукотворные столбы, и на них нанесены самые разные значки: Н, повернутое на 90 градусов, Н с овалом, круг, горизонтальный и вертикальный полумесяц, горизонтальная планка. Рядом с ними – стилизованные „алефы“ несусветной древности: значки, в очертаниях которых легко угадываются бычьи головы, фигурки лис и овец, змеи, свернувшиеся клубком, пауки. Вот пример некой фразы, составленной из подобных пиктограмм. На столбе номер 33 знаки выстроились цепочкой: здесь дважды встречается Н в окружении змеиного клубка, пауков и крохотной овцы».
По мнению руководителя экспедиции Клауса Шмидта, мы здесь имеем дело с какой-то очень древней системой кодирования информации, с неким посланием, которое было понятно людям той далекой эпохи. Но о письменности осторожные ученые говорить все-таки избегают, поскольку это решительно противоречит привычным представлениям об этапах развития человеческой культуры. К. Шмидт: «…строители Гёбеклитепе пользовались сложной символикой для составления сообщений и передачи их другим людям». Мы не станем вмешиваться в спор специалистов, а скажем только, что грань, разделяющая стилизованные идеографические элементы и «настоящую» письменность, выглядит весьма зыбкой; более того, сами ученые не очень хорошо понимают, каким образом шел процесс становления письма.
Неизбежная фрагментарность находок позволяет идентифицировать только ключевые этапы. Исторически первым, как мы уже знаем, было рисуночное (или пиктографическое) письмо, возникшее давным-давно, еще в незапамятные времена. Рисуночное письмо благополучно дожило до наших дней: на рубеже XIX–XX веков к его услугам нередко продолжали прибегать американские индейцы, народы Океании и Крайнего Севера – чукчи, эскимосы и юкагиры. Вот как выглядит пиктограмма, описывающая (или скорее изображающая) военный поход одного индейского племени против другого. На этом рисунке можно видеть базовый лагерь атакующей стороны (а), вождя, затеявшего поход (б), и неприятельского вождя (д), палатки врагов (в) и берег реки (г), где произошла решающая схватка. Картинки (е) и (ж) обозначают тела убитых и захваченные трофеи. А вот пиктограмма эскимосов, живописующая охоту на тюленей. Перед нами – растянувшиеся в линию человеческие фигурки в разных позах и несколько лаконичных изображений, смысл которых прочитывается не сразу. Текст следует читать слева направо. Первая фигурка обозначает рассказчика, он вытянутой рукой показывает направление, где разворачивались события. Его сосед справа держит над головой весло, указывая путь охотничьего каяка. Третий человечек одну руку приложил к голове («спать»), а другую с поднятым вверх пальцем вытянул вперед («одна ночь»). Дальше нарисован кружок с двумя точками: это первая остановка, островок, где имелись две хижины. Затем вновь появляется рассказчик; он указывает на второй остров, где жилья не было, а охотники провели две ночи (одна рука приложена к голове, два пальца подняты вверх). Наконец, охотники увидели двух тюленей (очередная фигурка указывает на них характерным жестом), а дальше следует изображение тюленя, но убиты они были не гарпуном, а стрелой, выпущенной из лука (еще одна фигурка справа от тюленя с луком в руках). Подстрелив зверя, охотники засобирались домой (изображение лодки с опущенными вниз веслами), где наконец-то смогли хорошенько отоспаться (символическое изображение иглу – эскимосского жилья).
С помощью рисуночного письма иногда удается выразить довольно абстрактные понятия. Хороший тому пример – пиктограмма юкагирской девушки, исправно кочующая из книжки в книжку по истории письма. Ее послание гласит: «Ты уходишь. Ты любишь русскую, которая преграждает тебе путь ко мне. Пойдут дети, и ты будешь радоваться, глядя на них. Я же вечно буду грустить и думать только о тебе, хотя и есть другой, кто любит меня». В этой картинке разобраться весьма непросто, поскольку девушка оперирует достаточно условными значками. Линии A и B означают дом, где живет опечаленная девушка (C), изображенная в виде узкого конуса (юкагирская национальная одежда – вееробразная юбка). Пунктир – это коса, а нарисованные крест-накрест два пучка линий символизируют печаль. Слева от дома девушки стоит второй дом, но его рамка обрезана: это означает, что жильцы G и F отсутствуют. G – возлюбленный девушки, а F – русская женщина, о чем говорит ее более широкая юбка. Несмотря на чинимые препятствия (линия J, пересекающая линии K и L – безответную любовь юкагирки), мысли девушки (линия M в виде кудрявого облачка) витают над головой любимого. Конус O справа изображает влюбленного в девушку юкагира, а P и Q – детей F и G.
Как мы видим, расшифровать подобное сообщение нелегко. И хотя с помощью наглядных картинок можно в отдельных случаях управляться с абстрактными понятиями, этот путь совершенно непродуктивен и в конце концов заводит в тупик. Во-первых, по мере накопления знаний о мире количество значков начинает лавинообразно расти. Кроме того, возникает проблема однозначного толкования изображений, что, безусловно, заметно ограничивает потенциальные возможности рисуночного письма. И наверно, лучше согласиться с теми специалистами, которые отказывают ему в праве именоваться настоящим письмом. Тем не менее в нем присутствуют два важных элемента любой письменности: бесспорная знаковая форма текста, последовательно развертывающаяся скупой серией лаконичных картинок, и непременное предварительное знакомство со смыслом отдельных фигур. Рисунки такого рода не рассчитаны на художественный эффект и почти наверняка служили только целям коммуникации.
Прежде чем перейти к следующему этапу в развитии письменности, необходимо сказать хотя бы несколько слов о так называемом предметном письме, которое широко бытовало у многих народов в древности и даже сегодня нередко встречается у некоторых отсталых племен. Классический пример – это дары, врученные персидскому царю Дарию во время его знаменитого скифского[97] похода в причерноморские степи. Воинственные скифы преподнесли владыке Ахеменидской державы скромный презент: птицу, мышь, лягушку и пять стрел. А когда Дарий спросил, что сие может означать, посланец ушел от прямого ответа: дескать, умный человек и так сообразит, что к чему, ну а дураку хоть кол на голове теши – все равно не поймет. Сам же он человек маленький – ему приказали, он передал. Дарий рассудил, что это не что иное, как изъявление покорности. Устрашенные персидской военной мощью скифы подымают лапки кверху и отдают ему власть над землей и водой своей страны, ибо мышь живет в земле, питаясь ее плодами, а лягушка обитает в воде. Птица своей быстротой напоминает коня, а пятерка стрел – это отказ от сопротивления. Однако Дарий крупно обмишурился. Смысл послания был совершенно другим: «Если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или как мыши не зароетесь в землю, или как лягушки не затаитесь в болоте, то не вернетесь домой и все погибнете от наших стрел». Кстати, персидский военный поход оказался чистейшей воды авантюрой: он провалился со страшным треском, и Дарию пришлось срочно уносить ноги.
Любопытной разновидностью предметного письма являются и так называемые жезлы вестников – обычные деревянные палки с зарубками, употребление которых прослеживается в древней и средневековой Европе на протяжении многих столетий. Впрочем, в Австралии и Древнем Китае их тоже широко использовали. Конечно, это не настоящее письмо, а своего рода мнемотехника: глядя на зарубки, вестник должен был припомнить все свои поручения. Менее известны вампумы – пояса североамериканских индейцев, сплетенные из шнуров с нанизанными на них разноцветными морскими раковинами. Вампумы были многофункциональным изделием: они служили и деньгами, и украшением, а также элементарным средством коммуникации, поскольку цвету раковин приписывалось особое значение. Фиолетовый и черный цвета извещали об опасности, красный говорил о войне, а белый – о мире и благоденствии. Таким образом, индейцы могли пересылать важные сообщения от одного племени к другому.
Узелковое письмо кипу, бывшее некогда в ходу у перуанских инков, тоже числят по этому ведомству. Правда, многие ученые говорят, что кипу вообще не письменность, а примитивный доисторический калькулятор. И если присмотреться к особенностям материала как следует, подобная точка зрения отнюдь не покажется невероятной. Кипу – это хитроумная вязь разноцветных шнуров, стянутых в узлы различной формы, которая может использоваться в качестве простейшего арифмометра. Эрнст Добльхофер, специалист по истории письма, справедливо полагает, что приписывать узелковой паутине несвойственные ей функции совершенно неправомерно. И. Е. Гельб высказывается еще более категорично: «Все сообщения о предполагаемом употреблении кипу для передачи хроник и исторических событий – чистейшая фантазия. Ни перуанское письмо, ни современные узелковые письменности Южной Америки и японских островов Рюкю не имели и не имеют никакого иного назначения, кроме записи простейших данных учетного характера». Между прочим, кипу выдумали не инки – его история уходит во тьму веков. Узелковым письмом пользовались ольмеки на рубеже II–I тысячелетий до новой эры и жители таинственного города Караль, недавно обнаруженного в сотне километров от Лимы, столицы современного Перу. Возраст этого поселения сопоставим с древнейшими городами египтян и шумеров.
У индейцев Северной Америки было в свое время много условных знаков, каждый из которых что-то обозначал. След мокасина, дым, камень на камне – все эти приметы читались как открытая книга. Например, один дым указывал на то, что здесь находится привал. Два дыма – тревога или потерявший дорогу путник, три – хорошие вести. Четыре дыма – явление крайне редкое, свидетельствующее о неординарном событии, например о Великом совете племен. Один камень, поставленный на другой, читается просто: «вот дорога». Если же маленький камушек лежит слева от двух камней, то это означает «мы повернули налево». Три камня один на другом – «верная тропа», а куча камней, разбросанных в беспорядке, указывает на место привала. Шошоны воздвигали на грудах камней сигнальные столбы, указывавшие точное направление места, где находится вода, а эскимосы размечали дорогу при помощи палок с пучками травы, которые следовали друг за другом через определенные интервалы. Одним словом, надежных примет существовало великое множество, и путник, хорошо владеющий предметным письмом, никогда не терял дороги.
Однако пора вернуться к рисуночному письму, чтобы проследить его дальнейшую эволюцию. Знак-рисунок (пиктограмма) трансформируется постепенно в знак-идею (идеограмму). При этом рисуночный характер знака остается в целости и сохранности, а вот вложенный в него смысл ощутимо меняется. Если, скажем, круг с расходящимися лучами некогда обозначал «солнце», то теперь он может быть дополнительно истолкован как «жара», «тепло» или «горячий». Иными словами, знак теперь означает уже не только сам предмет, а связанное с ним понятие. За счет расширения смысла появляется возможность передавать даже весьма абстрактные понятия, хотя средства репрезентации продолжают оставаться конкретно-наглядными. Например, понятие «старость» изображается в виде древнего старика, опирающегося на палку, а глагол «идти» – парой ног. При этом важно помнить, что характернейшей чертой любого рисуночного письма (пиктографического или идеографического – роли не играет) является полное отсутствие связи между изображением и звуками живой речи. В качестве примера давайте рассмотрим так называемую палетку Нармера, на которой, как полагают ученые, отражено завоевание Нижней страны в дельте Нила легендарным царем Менесом, основателем Верхнего Египта. Сие эпохальное событие имело место около 3000 года до новой эры.
На обратной стороне палетки мы видим изображение египетского царя и коленопреклоненную фигуру его поверженного врага. Сокол вверху справа (он символизирует фараона) держит в когтистой лапе конец веревки, которая продета через губы человеческой головы. Подобным варварским способом в те жестокие времена конвоировали пленных. На спине пленника торчат веером шесть цветков лотоса. А поскольку цветок лотоса обозначал тысячу (он в изобилии рос в болотах Верхнего Нила), следовательно, фараон захватил шесть тысяч пленных. Если сравнивать палетку Нармера с пиктограммами американских индейцев, немедленно бросается в глаза четкое выделение семантических единиц (фараон, шесть тысяч, пленник), однако сценический элемент по-прежнему решительно преобладает, несмотря на известную стандартизацию знаков. Перед нами опять тупик. Если каждое новое понятие снабжать своим индивидуальным знаком, «рисуночная азбука» безбожно разбухает. Если же обратиться к услугам стилизации и метафорической символики, употребляя знаки в переносном смысле, то моментально возникают проблемы с однозначным истолкованием текста. Где же выход из положения?
Казалось бы, решение напрашивается само собой: нужно «развести» изображение и понятие, навсегда отказаться от иконических (рисуночных) знаков и придумать символы для звуков живой речи. Однако задним умом все крепки. Это только с наших «алфавитных» высот кажется, что дело не стоит выеденного яйца, а в действительности подобная эволюция заняла не менее двух тысяч лет. Прежде всего совершенно неясно, как должны выглядеть такие знаки для звуковых комплексов и сколько их должно быть. Разбить язык на фонемы люди догадаются еще не скоро. А рисунок из-за своей наглядности представлялся оптимальным средством передачи информации. Тем не менее модернизация иероглифического письма хоть и медленно, но подвигалась вперед.
Первым делом сообразили уменьшить количество символов за счет одинаковых по звучанию, но разных по значению слов. Такие слова, как известно, называются омонимами, и в любом языке их сколько угодно. Допустим, вы хотите в наглядных картинках сообщить, что ваша знакомая по имени Роза пила чай. Нет ничего легче: вы рисуете розу (цветок), пилу (ножовку) и пачку чая. Фраза готова. А по контексту вы без труда сумеете догадаться, что означает изображение пилы в каждом конкретном случае – столярный инструмент или глагол прошедшего времени. Примерно так и поступали шумеры и египтяне, когда задались благородной целью урезать свою громоздкую «азбуку». Например, «сум» по-шумерски – это лук, но кроме того, это еще и одна из форм глагола «давать». Поэтому со временем значком, придуманным для обозначения лука, стали записывать и этот глагол. Вдобавок и в Двуречье, и в долине Нила широко применяли так называемый ребусный принцип, когда слово разбивается на звуковые структуры, каждой из которых присваивается свой персональный ярлык, но, слитые воедино, они приобретают новое значение. Рассмотрим пример из русского языка: слово «коньяк» можно записать, нарисовав бок о бок коня и яка, слово «банкнота» – банку и ноту, а слово «узкий» – ус и кий. И совершенно неважно, что слово «узкий» пишется через «з», поскольку на слух мы все равно воспринимаем его как «уский». А вот английский пример, который приводит Франклин Фолсом в своей «Книге о языке». Фраза «Bill believes I saw Rose» (Билл считает, что я видел Розу) запишется таким образом: изображение купюры (в Америке для бумажных денег употребляется слово bill[98]), пчела (bee по-английски), три зеленых листика (leaves), глаз (eye[99]), пила (по-английски saw, что совпадает с глаголом saw – видел) и, наконец, изображение розы (цветка). Правда, по-русски писать таким письмом гораздо труднее из-за сравнительно небольшого количества односложных слов и множества окончаний, которые никак не нарисуешь. А вот в английском языке, как и в шумерском, односложные слова преобладают.
Таким образом, шумеры и египтяне догадались разбить слова на отдельные слоги, что позволило заметно сократить количество символов. Если в древнейшем шумерском письме число знаков приближалось к 2000, то уже через пятьсот лет их стало около 800, а в ассирийский период и вовсе съежилось до 600. Немецкий ученый Фридхардт Кликс пишет: «В процессе все более интенсивного использования аффиксов для изменения значения, переструктурирования и новообразования слов из сходных слоговых компонентов были открыты комбинаторные способы систематического расширения лексикона без увеличения числа базовых графических знаков. Тем самым была почти решена проблема создания удобного инструментария графического выражения и фиксации потенциально бесконечного многообразия мыслей и образов». Та же самая тенденция характерна и для египетского письма.
Кроме того, словесно-слоговое письмо впервые взяло на вооружение фонетический подход, который стал весьма активно применяться. И хотя фонетика не смогла вытеснить иконический знак окончательно, это был серьезный прорыв. К сожалению, даже широкое использование фонограмм было сопряжено с немалыми трудностями. Дело в том, что и египтяне, и шумеры писали без огласовок, то есть на письме передавались только согласные, и наполнять эти блоки гласными читателю приходилось самостоятельно. Один и тот же каркас согласных мог быть одинаковым для нескольких совершенно различных в семантическом отношении понятий. Ф. Кликс приводит характерный пример из древнеегипетского языка: «Слово „м-н-х“ имело три значения: 1) папирус (в смысле „растение“), 2) юноша, 3) воск. Чтобы добиться при чтении большей однозначности, вводились так называемые детерминативы. Фактически они представляли собой нечто среднее между родовыми понятиями и семантическими маркерами, указывающими ту область смыслового пространства, в которой локализовано значение слова в данном контексте. Когда имелся в виду папирус, то этому слову предшествовал идеографический знак папируса, определявший его связь с растениями. При значении „юноша“ изображалась мужская коленопреклоненная фигурка, а при значении „воск“ – знак в виде четырех кружочков для веществ и минералов».
От эпохи к эпохе письмо постепенно теряло наглядность, делалось все более стилизованным, эволюционируя в направлении от иконической репрезентации к своеобразной скорописи, которая уже не имела ничего общего с исходными пиктограммами. Это хорошо видно на примере трех вариантов древнеегипетской письменности – иероглифической, иератической и демотической. И хотя все три варианта долгое время существовали параллельно, они представляют собой последовательные стадии развития графических элементов. Иероглифическое письмо с детальной прорисовкой знака использовалось по особо торжественным случаям и не употреблялось для практических нужд (слово «иероглиф» в буквальном переводе означает «священное письмо на камне»). Иератика и демотика – упрощенное письмо с непрерывными переходами от знака к знаку – применялись гораздо шире, в том числе для оформления торговых сделок. Остается добавить, что у египтян была еще тайнопись, которая получила название энигматического (загадочного) письма. Если в обычном письме насчитывалось 700–800 иероглифов, то в энигматическом число знаков превышает шесть тысяч. Энигматические тексты не расшифрованы до сих пор.
История шумеро-вавилоно-ассирийской клинописи ничуть не менее показательна. Древнейшее шумерское письмо, как и египетское, было фигуративным – пиктографическим. Однако оно довольно рано потеряло наглядность, быть может, потому, что шумеры писали не на папирусе, как египтяне, а на мягкой глине. Глиняные таблички потом высушивали на солнце и обжигали, так что в распоряжении археологов сегодня имеется более полумиллиона таких керамических документов, где зафиксированы не только своды законов и хозяйственные расчеты, но даже поэтические произведения. Прорисовывать детали на мягкой глине не очень сподручно, поэтому для письма шумеры использовали специальные палочки в форме трехгранной призмы, которые оставляли характерные клиновидные рубцы в материале. Россыпь таких заноз, названная впоследствии клинописью, может показаться совершенной абракадаброй, но в действительности это было удобное письмо, быстро завоевавшее всеобщее признание. Примерно в середине III тысячелетия до новой эры на многострадальный Шумер обрушились семитоязычные племена аккадов, сокрушившие древнюю и хрупкую культуру в низовьях Тигра и Евфрата. Но глиняная азбука не умерла: пришельцы по достоинству оценили «черты и резы» аборигенов и наполнили чужие знаки звуковыми формами своего языка. Видимо, шумерам повезло изобрести чрезвычайно гибкий и емкий код, куда более совершенный, чем древнеегипетская иероглифика. И отнюдь не случайно он на протяжении многих столетий выполнял функции дипломатического международного языка, на котором беседовали владыки ближневосточных держав. В период между 2300 и 1600 годами до новой эры тексты почти всех межгосударственных соглашений записывались с помощью шумеро-вавилонской клинописи.
Шумерское письмо, возникшее около 3200 года до новой эры (или даже еще раньше), древнее египетского и оказало на него, по мнению некоторых ученых, значительное влияние. Разумеется, египтяне переняли у шумеров не клинописные символы как таковые, а саму идею знаковой репрезентации языковых структур. Например, И. Е. Гельб не сомневается, что все великие системы письма Старого Света, коих насчитывается ровно семь, генетически восходят к шумерскому письму. Подчеркнем на всякий случай, что речь идет не о пиктографии в широком смысле слова, так как рисунок в целях коммуникации применялся разными народами испокон веков, а о подлинном письме, открывшем принцип фонетизации. Давайте перечислим эти великие древние письменности:
– шумерская в Месопотамии (Двуречье), 3200 год до новой эры – 75 год новой эры;
– протоэламская в Эламе, 3000–2200 годы до новой эры;
– протоиндская в долине Инда, около 2200 года до новой эры;
– китайская в Китае, 1300 год до новой эры и по настоящее время;
– египетская в Египте, 3000 год до новой эры – 400 год новой эры;
– критская на Крите и в Греции, 2000–1200 годы до новой эры;
– хеттская в Анатолии и Сирии, 1500–777 годы до новой эры.
Элам соседствовал с Шумером и на протяжении всей своей истории находился в орбите его культурного влияния, так что вторичность эламского письма сомнений практически не вызывает. Древнеиндийская цивилизация (города Мохенджо-Даро и Хараппа) обнаруживает артефакты вероятного месопотамского происхождения, а цилиндрические печати, найденные археологами в долине Инда, напоминают шумерские изделия как две капли воды. Кроме того, историки располагают информацией о тесных культурных контактах между этими странами. Что же касается Древнего Китая, то культура Шан-Инь вообще родилась, как Афина из головы Зевса в полном боевом вооружении, – с колесницами, высочайшей технологией обработки бронзы и развитым письмом. Она не имеет почти никаких точек соприкосновения с более ранними местными культурами и производит впечатление импортированной, полученной в готовом виде. Во всяком случае, многие историки уверены в ее иноземном происхождении. Труднее с Египтом, но отдельные факты свидетельствуют о том, что около 3000 года до новой эры, когда в долине Нила появились первые письменные памятники, Египет находился под сильным месопотамским культурным влиянием.
Жители острова Крит, создавшие на рубеже III–II тысячелетий до новой эры величественную минойскую[100] культуру с пышной фресковой живописью и монументальным каменным зодчеством, сначала писали иероглифами, а потом выдумали так называемое линейное письмо, которое существовало в двух вариантах – линейное письмо А и линейное письмо Б. Это были слоговые системы, включавшие 80 и 88 знаков соответственно. К настоящему времени удалось прочитать только самую молодую азбуку – линейное письмо Б, которым пользовались и на Крите, и в Элладе. Язык линейного письма Б оказался греческим языком (правда, очень архаичным), и ученые полагают, что он проник на Крит в XIV веке до новой эры, когда островом овладели ахейцы – выходцы из материковой Греции. А вот тексты, написанные линейным письмом А, которые датируются как раз временем расцвета минойской культуры (1750–1450 годы до н. э.) и представляют наибольший интерес, не прочитаны до сих пор. Точнее, читать мы их можем, но вот понять решительно не в состоянии, поскольку они написаны на неизвестном языке. Ясно только, что этот язык не греческий и, вполне вероятно, не индоевропейский. В некоторых областях Крита линейное письмо А оставалось в ходу вплоть до XII века до новой эры, то есть уже после ахейского завоевания. Еще хуже обстоит дело с критской иероглификой, возраст которой, по оценкам специалистов, составляет 40–45 веков. Ясно только, что слоговое линейное письмо создавалось на базе ранних иероглифов, которые сегодня не может прочитать ни одна живая душа.
А вот откуда взялись иероглифы? Местного они происхождения или украдены у соседей? Многие историки указывают на Древний Египет как возможный источник иероглифической письменности, поскольку критская морская держава торговала по всему Средиземноморью и долгое время находилась под сильным египетским влиянием. При раскопках критских городищ в изобилии обнаруживают артефакты из долины Нила, и даже практически вся критская хронология, как справедливо пишет И. Е. Гельб, «реконструируется почти исключительно на основании синхронизмов с привозными египетскими предметами, найденными в критских слоях». Впрочем, другие специалисты настаивают на автохтонном происхождении критской иероглифики.
С хеттами, соперниками египтян в борьбе за гегемонию в Передней Азии, тоже нет полной ясности. Однако независимое происхождение хеттского письма вызывает большие сомнения, поскольку в 1500 году до новой эры Анатолия была окружена высокоразвитыми цивилизациями, давным-давно располагавшими своими письменностями. В такой ситуации куда разумнее заимствовать чужое письмо, чем изобретать собственное.
Вернемся, однако, к шумеро-вавилонской клинописи. Несмотря на ее впечатляющие успехи и статус международного языка, она, тем не менее, была весьма далека от совершенства даже в ассирийский период. Работы предстоял еще непочатый край, и довести дело до логического завершения – полной и окончательной фонетизации письма – было суждено другому семитоязычному народу – финикийцам, обосновавшимся на восточном берегу Средиземного моря у подножия Ливанских гор. Тороватые купцы и прославленные морские бродяги, они создали первый в истории алфавит, состоявший из 22 букв, которые обозначали только согласные звуки. Его триумфальное шествие по свету поражает воображение, поскольку не сопровождалось военными походами и культурной ассимиляцией народов сопредельных земель. На Ближнем Востоке финикийский алфавит лег в основу арамейского письма, из которого впоследствии развились арабская, индийские, персидская и древнееврейская (иврит) системы письменности. На Западе его моментально подхватили греки, добавив к 22 финикийским согласным шесть гласных букв. Тем самым они окончательно установили прямое соответствие между знаковым рисунком речи и его графической символизацией. Эта реформа была совершенно необходима, ибо греческий – не арамейский и не иврит, и разобраться в неогласованном греческом тексте весьма проблематично. Западная ветвь греческого алфавита дала начало этрусскому, латинскому и древнегерманскому руническому письму, а его восточная ветвь, из которой родилась классическая греческая и византийская азбука, легла в основу славянской глаголицы и кириллицы, а также армянского и отчасти грузинского письма. Из кириллицы вырос современный русский алфавит, а латинское письмо взяли на вооружение почти все народы Европы. Остается, пожалуй, добавить, что изложенная выше схема, возводящая едва ли не все древнейшие системы письменности к шумерскому письму, разделяется далеко не всеми лингвистами. Многие ученые настаивают на полигенезе письма и говорят как минимум о трех (Египет, Шумер и Китай) или даже четырех (еще остров Крит) независимых центрах его возникновения.
Худо-бедно разобравшись с генезисом раннего письма, зададимся сакраментальным вопросом: чем и на чем писали в старину? Как решалась проблема писчего материала в древности? Бумаги в ту пору, разумеется, не было, не говоря уже о типографском станке, который появится только в эпоху Возрождения. Какая-то мутная история: люди веками писали на чем придется, и вдруг как черт из табакерки выныривает на свет божий белый бумажный лист.
Первопроходцами бумажного дела ученые считают арабов, которые еще в VIII веке после Рождества Христова научились получать ее из ветхого тряпья. К X веку она проникла в Египет и Северную Африку; говорят, что в Каире бумажных дел мастера населяли тогда целые кварталы. В XII столетии экзотический материал для письма просочился из Северной Африки в Испанию, где его вырабатывали сначала из хлопка, а потом стали делать из ветоши и старых канатов. Высоким качеством бумаги славились богатые города Валенсия и Толедо. Технология бумажного производства была весьма сложной и трудоемкой и включала не менее 30 операций – очистка и промывка тряпья, толчение его в деревянных корытах пестами и так далее. Затем пришел черед солнечной Италии, где бумагу научились делать уже в 1154 году, а центром ее производства стал город Фабриано: к началу XIV века там насчитывалось до 40 бумажных мельниц. Венеция также активно развивала бумажную промышленность, и со временем лучшие в Европе итальянские мастера значительно усовершенствовали неповоротливую и косную технологию, предложив уникальные ноу-хау.
На первых порах качество бумаги оставляло, как говорится, желать лучшего: она была рыхлой, непрочной и вдобавок имела сероватый или желтоватый оттенок. Однако прогресс не топтался на месте, а летел вскачь, не разбирая дороги, и уже к XIII веку на ломких бумажных листах появились зыбкие тени, просвечивающие изнутри. Это были первые водяные знаки. Дело в том, что каждая бумажная мельница имела свой собственный уникальный торговый знак – филигрань, который вышивался тончайшей проволокой на специальной металлической сетке, служившей формой для ручного отлива бумаги. Когда сетку с жидкой массой вынимали из бочки и встряхивали, на выпуклости оседало меньше волокон, и на готовом листе это место начинало просвечивать. Такой знак, незримо притаившийся в бумажной толще, замечательно просматривался на свет, и его было весьма трудно подделать. Изобретение в середине XV века печатного станка Иоганном Гутенбергом изрядно подхлестнуло бумажное производство, предъявив к нему новые требования. Бумага сделалась значительно глаже, ровней и прочней и вдобавок научилась хорошо впитывать краску. И в дальнейшем типографское дело и выделка бумаги дружно шагали рука об руку, по мере сил помогая друг другу. Во второй половине пятнадцатого века в Европе уже достаточно широко использовались металлические литеры, а к 1500 году книгопечатание распространилось на двенадцать европейских стран; суммарный тираж всех печатаных книг достиг к этому времени 40 тысяч.
Гутенберг отливал свои шрифты из сплава свинца, олова и сурьмы. В 1455 году он выпустил первую печатную Библию, и типографское дело заработало на полную катушку. В 1465 году печатные книги появляются в Италии, в 1468-м – в Чехии и Швейцарии, в 1469-м – в Голландии, в 1470-м – во Франции, в 1473-м – в Польше и Венгрии, в 1474-м – в Испании и Бельгии, а в 1477-м – в Англии. На протяжении XV века в Европе открылось не менее 1100 типографий, причем только в Венеции около 150.
Правда, некоторые историки утверждают, что в Китае бумагу якобы научились делать еще во II веке, а книгопечатание с использованием деревянных клише родилось чуть ли не в VI столетии, но мы этого вопроса касаться не будем, поскольку в Китае, как известно, все выдумали раньше всех – от компаса и пороха до сейсмографов и ручных огнеметов. Кроме того, бумага является термодинамически неравновесным материалом, поэтому срок ее жизни не превышает одной тысячи лет. И если даже на мгновение допустить, что некий безымянный китайский гений сподобился изобрести бумагу во II веке, практического значения сие открытие не имеет, ибо столь древние образцы давным-давно превратились в пыль.
В Россию бумага путешествовала долго. Мы покупали этот хитрый заморский товар на протяжении 260 лет, и только при Иване IV Грозном было наконец решено завести собственное бумажное производство. Тогда же на Русь пришло и книгопечатание – через сотню с небольшим лет после эпохального изобретения Гутенберга. В царствование Петра I бумажное дело получило новый толчок, ибо суровый государь-реформатор повелел «во всякой губернии учинить бумажные заводы». Бумагу научились делать различных сортов, в том числе так называемую картузную, на которую тут же положили глаз бравые петровские генералы. Очень плотная картузная бумага предназначалась для упаковки артиллерийских зарядов, потому что металлических гильз в ту пору еще не придумали.
Вплоть до середины XIX века бумагу во всем мире продолжали выделывать из тряпья, а поскольку потребность в ней непрерывно росла, то сырья, как водится, хронически не хватало. Сбором и продажей ветоши и обносков занимались тысячи бродяг, но бумажные фабрики все равно сидели на голодном пайке. Например, в Нью-Йорке, чтобы купить книгу, требовалось не только оплатить ее стоимость, но и сдать определенное количество старых тряпок. Одним словом, бумажная промышленность срочно нуждалась в доступном и дешевом сырье, которое могло бы с успехом заменить стремительно дорожающее тряпье. И хотя известный французский физик Рене Антуан Реомюр, предложивший температурную шкалу, названную впоследствии его именем, еще в 1719 году высказал идею, что материалом для изготовления бумаги может быть древесина, создать надежную технологию, пригодную для массового производства, долгое время не удавалось. Решение было найдено только в 1843 году немецким переплетчиком Фридрихом Келлером. Он измельчал древесину в агрегате собственной конструкции – ручном дефибрере, смешивал ее с тряпичной массой и получал хорошую плотную бумагу. Со временем ручной дефибрер был заменен механическим. В. В. Богданов и С. Н. Попова пишут: «Как только в середине позапрошлого века удалось выделить из древесины ее наиболее ценное вещество – целлюлозу, с кустарным производством бумаги было покончено. Химия позволила также не только выделить целлюлозу, но и облагородить ее. С помощью различных химических реагентов ей придают ту или иную степень белизны, прочности, изготавливая в результате различные виды бумаги».
Итак, бумага по историческим меркам сравнительно молода. А вот на чем люди писали до ее изобретения? Да на чем угодно, в дело годился почти любой материал: камень, дерево, глина, черепица, керамические изделия и даже мягкие металлы – свинец, золото и медь. Пиктограммы, высеченные или нарисованные на скалах, называются петроглифами: это был, вероятно, древнейший писчий материал, но с одним существенным недостатком – такое письмо никому не отправишь. Новгородцы в Средние века писали на бересте (в распоряжении ученых имеются сотни, если не тысячи, так называемых берестяных грамот), а индийцы – на связках пальмовых листьев. Китайцы в старину писали на деревянных навощенных дощечках, а потом на тканях тушью. Лучше всего для этого подходил, конечно, шелк, но он, к сожалению, чересчур дорого стоил. В разное время для письма использовались кожа, древесная кора и кость – одним словом, всего не перечислишь. А шумеры, как мы помним, остановили свой выбор на глине. Глиняная традиция пережила века и была унаследована едва ли не всеми народами Ближнего Востока. Сжав в горсти хрупкую деревянную палочку, эламиты, вавилоняне, ассирийцы и даже персы старательно и трудолюбиво выдавливали значки на податливой глине. В дворцовом саду ассирийского царя Ашшурбанипала, правившего с 669-го по 633-й год до новой эры, археологи обнаружили грандиозную библиотеку клинописной керамики, бережно и любовно сохранившей наследие канувших в небытие племен. Этот необычный царь, библиофил и подвижник, вознамерившийся собрать в одном месте всю мудрость ушедших эпох, писал: «Охотиться в архивах за ценными табличками, которых нет в Ассирии, и посылать их мне… Я написал чиновникам… и никто не должен утаить от нас ни единой таблички, и если вы узнаете о какой-нибудь <…>, о которой я не писал вам, но которая, по вашему мнению, может оказаться полезной для моего дворца, то найдите ее, приобретите и пришлите ко мне».
Между прочим, ассирийцы создали одну из самых эффективных почтовых служб на Ближнем Востоке, которая работала бесперебойно, как часы, и перевозила не только важную деловую корреспонденцию, но и личные письма. Трехдюймовые глиняные таблички, усеянные оспенными отметинами клинописных значков, запечатывали в глиняные конверты с именем и адресом получателя, и курьер вихрем летел по мощеной дороге, меняя лошадей на почтовых станциях. А какие вопросы в первую очередь занимали грамотных ассирийцев? Увы, но приходится признать, что мир за истекшие три тысячи лет мало переменился: «Я получил твои указания и в тот же день, когда пришла табличка с твоим письмом, дал твоим агентам три мины серебра для покупки свинца. Так что, если ты еще брат мне, то верни мои деньги с курьером».
Персы, сокрушившие ассирийскую державу в VI веке до новой эры, оказались достойными учениками жестоковыйных ассирийцев и поставили курьерскую службу на широкую ногу. Императорская дорога, построенная Киром Великим, растянулась почти на 1600 миль – от малоазийского города Сарды на берегу Эгейского моря и до Суз, персидской столицы, – причем почтовые станции следовали друг за другом на расстоянии одного дня пути. Древнегреческий историк Геродот писал, что нет ничего на свете быстрее персидских курьеров, которые мчатся как безумные днем и ночью и в любую погоду.
Но глиняная корреспонденция была все-таки слишком громоздкой. Авторы юмористической «Всеобщей истории», которая выходила в начале прошлого века под эгидой журнала «Сатирикон», ядовито шутили: «Для того чтобы влюбленный мог как следует изложить предмету своей любви волнующие его чувства, ему приходилось отправлять ей целую подводу кирпичей». Быть может, именно по этой причине греки и римляне глину не жаловали, а основными писчими материалами в античном мире довольно быстро стали папирус и пергамент. Первыми папирус научились делать египтяне. Его изготовляли из стеблей нильской лилии – многолетнего травянистого растения семейства осоковых. Сначала стебли разрезали на узкие полоски, затем крест-накрест укладывали их в два слоя на плоской каменной плите, а после этого накрывали куском ткани и выколачивали плоским камнем. В результате получалась цельная пленка, которую потом сушили и разглаживали. Изготовленные с помощью таких несложных операций полосы папируса достигали 30–40 см в ширину и нескольких десятков метров в длину. Писали на нем обыкновенно тушью с помощью простой заостренной палочки.
В Древнем Египте папирус в качестве материала для письма стали применять в III тысячелетии до новой эры, а около V века до Рождества Христова он проникает в Грецию. В позднейшие века Римской империи папирус практически полностью вытесняется пергаментом, который получали из особым образом обработанной телячьей кожи. Традиционно считается, что слово «пергамент» происходит от названия города Пергам в Малой Азии, где во II веке до новой эры его начали впервые изготовлять. Однако по другой версии пергамент был известен давным-давно (самый древний образец, найденный археологами в Палестине под Хевроном, датируется VII веком до новой эры), а мастера Пергамского царства всего лишь усовершенствовали технологию его получения. Если раньше для изготовления пергамента брали грубые и толстые воловьи кожи, то теперь стали выделывать нежную кожу телят, ягнят, ослов и коз. Технология была непростой: специально обработанные шкуры животных долго вымачивали, а затем выскабливали, растягивали и шлифовали. Готовый материал резали на листы, которые потом сшивали для получения манускриптов. В отличие от свернутых в рулон папирусных свитков шитые пергаментные изделия напоминали бумажную книгу позднейших эпох: их можно было открыть на любой странице. Легенда гласит, что греческий правитель Пергамского царства Евмен II сначала хотел закупить папирус в Египте, ибо задумал построить фундаментальную библиотеку, которая могла бы соперничать со знаменитой Александрийской. Однако бдительные египтяне, убоявшись конкуренции, решительно отказали царю. Выгодная сделка не состоялась, и торговые люди Евмена вернулись домой несолоно хлебавши. Вот якобы тогда Евмен и распорядился наладить собственное производство.
Как бы там ни было, но папирус, а в особенности пергамент были материалами очень и очень недешевыми. Скажем, процесс изготовления последнего включал множество весьма тонких и достаточно трудоемких операций (например, химическая обработка кож при помощи пемзы), поэтому нередко возникали ситуации, когда пергамента катастрофически не хватало, следствием чего становилось широкое использование так называемых палимпсестов – перга-ментов, с которых губкой смывали первоначальный текст, выскабливали листы и писали поверх заново. Ввиду крайней дороговизны материала обладание пергаментной книгой было привилегией немногих избранных. Папирус стоил дешевле, но и он был далеко не каждому по карману. А ведь греки и римляне писали много и охотно. Говорят, что свободное население Афин в V веке до новой эры было едва ли не поголовно грамотным. Древнегреческий историк Полибий сочинил сорок томов, из которых до наших дней сохранилось только пять (остальные известны во фрагментах), а фундаментальный труд Тита Ливия «Римская история от основания города» и вовсе когда-то насчитывал сто сорок две книги (уцелели всего тридцать пять, что тоже, согласитесь, немало). Но ведь Геродот, Фукидид или Полибий, Аристотель и Платон, Архимед и Евклид – это все фигуры первого эшелона, вершина античной мысли. У них наверняка были коллеги, чьих имен сегодня не помнит уже никто, но которые тоже что-то писали. Причем крайне маловероятно, чтобы вся эта высоколобая братия сочиняла исключительно друг для друга или поголовно «в стол», не принимая в расчет широкий круг грамотной, читающей публики. Одним словом, куда ни кинь, всюду клин. Очень нелегко вообразить (даже на мгновение), чтобы такие дорогие и сравнительно редкие материалы, как пергамент и папирус, могли покрыть нужды огромного числа пишущих – философов, поэтов, историков, политологов и публицистов, не говоря уже о рядовой интеллигенции. Скажите на милость, каким образом с помощью непростого в изготовлении пергамента решалась проблема тиражей, если на протяжении веков сплошь и рядом использовались палимпсесты?
В свое время автор этих строк уже высказывался об изысканном слоге античных сочинений. Откройте книгу любого античного мыслителя или прозаика – Платона, Лукиана, Апулея, далее везде. Тяжеловесные придаточные предложения, сложные грамматика и синтаксис, пышные метафоры, многословные отступления… Писать столь неторопливо и обстоятельно можно только в том случае, если писчего материала у вас сколько угодно. Более того, подобный слог не рождается сам собой, а вырабатывается посредством длительных упражнений. Представляете, сколько пергамента в детстве и юности должен был извести наш писатель, чтобы добиться такой стилистической отточенности? Правда, историки говорят, что в школах и для повседневных рабочих записей в древности широко применялись вощеные дощечки, на которых писали с помощью стилуса – заостренной металлической или костяной палочки. Написанное периодически стирали обратным расплющенным концом стилуса, и дощечка была вновь готова к работе. Так-то оно так, писать можно и по сырой глине, как это делали в Двуречье, но существуют серьезные сомнения, что в результате столь кустарных упражнений, без книг и специальных прописей, можно выработать слог наподобие лукиановского. До эры книгопечатания просто не существовало универсальных правил грамматики, синтаксиса и орфографии. Что мы находим на берестяных грамотах новгородцев или глиняных табличках шумеров, безусловная древность которых никаких сомнений не вызывает? Личную переписку, скупые хозяйственные записи или лаконичные тексты в виде афоризмов и притч, напрочь лишенные стилистических красот. В крайнем случае – религиозные гимны и куцые юридические кодексы, изложенные предельно лапидарно. Гладких и долгих периодов Лукиана и Фукидида там нет и в помине.
А теперь прочитайте отрывок из Лукиана. Дело происходит в III веке до нашей эры. Автор гуляет в порту и глазеет на корабли. «Я, бродя без дела, узнал, что прибыл в Пирей огромный корабль, необычайный по размеру, один из тех, что доставляют из Египта в Италию хлеб… Мы остановились и долго смотрели на мачту, считая, сколько полос кожи пошло на изготовление парусов, и дивились мореходу, взбиравшемуся по канатам и свободно перебегавшему по рее, ухватившись за снасти… А между прочим, что за корабль! Сто двадцать локтей в длину, говорил кораблестроитель, в ширину свыше четверти того, а от палубы до днища – там, где трюм наиболее глубок, – двадцать девять. А остальное… что за мачта, какая на ней рея и каким штагом поддерживается она! Как спокойно полукругом вознеслась корма, выставляя свой золотой, как гусиная шея, изгиб. На противоположном конце соответственно возвысилась, протянувшись вперед, носовая часть, неся с обеих сторон изображение одноименной кораблю богини Исиды. Да и красота прочего снаряжения: окраска, верхний парус, сверкающий как пламя, а кроме того, якоря, кабестаны и брашпили и каюты на корме – все это мне кажется достойным удивления. А множество корабельщиков можно сравнить с целым лагерем. Говорят, что корабль везет столько хлеба, что его хватило бы на год для прокормления всего населения Аттики. И всю эту громаду благополучно доставил к нам кормчий, маленький человек уже в преклонных годах, который при помощи тонкого правила поворачивает огромные рулевые весла…» Да ведь это же Николай Васильевич Гоголь с его гиперболизмом – «редкая птица долетит до середины Днепра»! Неужто сие написано в III веке до нашей эры?
Фукидид, правда, писал куда суше и строже (на то он и историк), но тоже не без красот, да и жил он лет за двести до Лукиана. Итак, V век до Рождества Христова, речь идет об отправке на войну флота. «В момент, когда отправляющимся и провожающим предстояло уже расстаться друг с другом, они были обуреваемы мыслями о предстоявших опасностях. Рискованность предприятия предстала им теперь яснее, чем в то время, как они подавали голоса за отплытие. Однако они снова становились бодрее при сознании своей силы в данное время, видя изобилие всего, что было перед их глазами». И далее: «Тогда на всех кораблях одновременно, а не на каждом порознь, по голосу глашатая исполнились молитвы, полагавшиеся перед отправлением войска. В то же время по всей линии кораблей матросы и начальники, смешав вино с водою в чашах, совершили возлияние из золотых и серебряных кубков. В молитве принимала участие и остальная толпа, стоявшая на суше: молились все граждане, так и другие из присутствовавших, сочувствовавшие афинянам.
После молитвы о даровании победы и по совершении возлияний корабли снялись с якоря. Сначала они шли в одну линию, а затем до Эгины соревновались между собой в быстроте. Афиняне торопились прибыть в Корфу, где собиралось и остальное войско союзников». Нехило умели писать в V веке до н. э., и что бы ни утверждали современные историки, я готов согласиться с Николаем Александровичем Морозовым (1854–1946), ученым-энциклопедистом, отмотавшим 25 лет в казематах Шлиссельбургской крепости, который прокомментировал этот фрагмент так: «Это не древность, а отправка генуэзского или венецианского флота с крестоносцами, где Афины (в переводе – порт) лишь перепутаны с одним из этих мореходных городов». Оговорюсь на всякий случай: не будучи поклонником альтернативных исторических версий в духе академика А. Т. Фоменко, вынужден признать, положа руку на сердце, что не все спокойно в Датском королевстве. Впрочем, пусть читатель решает сам…
Чуть выше мимоходом упоминалось, что гомеровские «Илиада» и «Одиссея» (далеко не самый объемистый труд Античности), набранные убористым шрифтом, насчитывает в современном русском переводе не менее 700 страниц. «История» Геродота им ничуть не уступит, не говоря уже о фундаментальных трактатах Аристотеля, Фукидида или Полибия. Чтобы читатель мог себе в живых образах представить невообразимую сложность изготовления рукописных книг, обратимся к сравнительно недавнему прошлому – началу книгопечатания на Руси. Создателем так называемого старопечатного стиля был Иван Федоров (ок. 1510–1583), самостоятельно разработавший печатный шрифт на основе московского полуустава и выпустивший в 1564 году роскошно орнаментированный «Апостол». Это издание считается первой русской датированной печатной книгой. И хотя первопечатник получил полный карт-бланш от самого Ивана Грозного, его судьба складывалась куда как непросто. Кипучая деятельность Ивана Федорова встретила ожесточенное сопротивление со стороны части бояр и духовенства. Сегодня трудно сказать, почему мастер не апеллировал к царю. Вероятнее всего, переменчивый Грозный попросту махнул рукой на затейливую заморскую забаву, не видя в ней большого смысла, и с головой погрузился в любимые опричные дела и перипетии Ливонской войны. Так или иначе, но в конце концов типографию Ивана Федорова сожгли, а сам он в 1566 году вместе с помощником Петром Тимофеевичем Мстиславцем был вынужден бежать в Литву. Основатель российского книгопечатания умер во Львове и похоронен в Онуфриевском монастыре.
Причастность православной церкви к этому безобразию почти не вызывает сомнений, поскольку противниками печатного дела в ту пору выступали богатые монастыри, державшие в своих руках монополию на переписывание церковных книг. Это была едва ли не важнейшая статья их дохода, расставаться с которой за здорово живешь они не собирались. Хорошо известно, что на переписывание одного-единственного экземпляра Библии уходило около года (над так называемой Острожской Библией работали несколько мастеров в течение 203 дней). Это был невероятно трудоемкий и кропотливый процесс – ежесуточно переписывалось не более ста строк. Малейшая ошибка, и испорченный лист летел в корзину: все нужно было начинать сначала. Поэтому мастера получали за свою работу огромные по тем временам деньги – до четырех тысяч рублей серебром. Готовый текст стоил безумно дорого. Достаточно сказать, что цена рукописной Библии была вполне сопоставима со стоимостью дворянского поместья вместе с титулом[101]. Понятно, что нарождавшееся книгопечатание удешевляло этот процесс в разы, лишая монастырских монополистов удобного источника шальных денег. Сегодня уже почти никто не сомневается, что за разгромом первой русской типографии стоял высокопоставленный клир богатейших монастырей, видевший в подвижных литерах Ивана Федорова непосредственную угрозу своему экономическому благополучию.
А как выглядели старинные письменные принадлежности? Понятно, что инструмент для нанесения знаков и фактура писчего материала – вещи взаимосвязанные, поэтому тростниковые палочки египтян даже отдаленно не напоминают призматические стержни шумеров. В Двуречье работали с глиной, прижимая к податливой мягкой «странице» треугольную в сечении палочку под определенным углом. При таком способе письма чернила или какой-то иной красящий состав, разумеется, не нужны, а вот как выходили из положения египтяне, царапавшие хрупкой тростинкой отполированный папирусный лист? Все гениальное просто. Для приготовления чернил они смешивали золу сожженных корней все того же универсального папируса с раствором камеди – густым клейким соком акации или вишни, – а чтобы конец тростниковой палочки стал мягче, его просто разжевывали зубами. Античные чернила как две капли воды походили на древнеегипетские: при раскопках Геркуланума – римского города, засыпанного вулканическим пеплом, – археологи нашли глиняную плошку с высохшим осадком на дне. Химический анализ показал, что это не что иное, как самая обыкновенная сажа, разведенная в масле. Видимо, консервативная технология была на мази и не менялась веками – золу, не мудрствуя лукаво, просто-напросто смешивали с любой клейкой основой. И только самостийные китайцы, как всегда, двинулись особым путем: они пользовались густой тушью, которая плохо стекала с пера, и потому рисовали иероглифы мягкой кисточкой.
Со временем рецептура традиционных чернил усложнилась за счет дополнительных ингредиентов, порой весьма экзотических. В. В. Богданов и С. Н. Попова цитируют старинный рецепт: «Взять немного дубовой коры, да ольховой, да ясеневой, сварить их в воде… а потом кинуть кусок железа, подлить поварешку щей покислей да кружку кваса медового». Говорят, что именно такими чернилами писали на Руси в XV веке. Голь на выдумки хитра, и мастера пускались во все тяжкие, отваривая резиновую кожуру зеленых каштанов, оболочку грецких орехов и спелые ягоды бузины. А как вам, читатель, такой рецепт: «Положите меду-патоки с грецкую горошину, а золота листов с пять или шесть». После растирания этой гремучей смеси и бережного удаления избытка меда получался драгоценный состав, пятнавший бумажный лист золотыми буквами. Не иначе рецептуру украли в Константинополе, ибо профессиональные византийские переписчики испокон веков широко использовали по особым случаям золото и серебро, окрашивая при этом пергамент в пурпурный цвет.
Но все эти кустарные технологии «времен очаковских и покоренья Крыма», дорогостоящие и весьма трудоемкие, немедленно сдали в архив, когда вдруг неожиданно выяснилось, что из крохотных орешков-галлов – паразитических наростов на дубовых листьях – можно без труда получать замечательные чернила. Из них выжимали сок, смешивали его с железным купоросом, добавляли немного клея – и готово дело: чернильный дубовый экстракт хорошо держался на пере и легко ложился на бумагу, оставляя по себе красивый блеск. У новых чернил был только один серьезный минус: написанное читалось не сразу, а спустя 10–12 часов, поскольку галловый состав был поначалу водянистым, блеклым и невыразительным и только со временем проступал во всей красе. В ту эпоху уже вовсю писали гусиными перьями (перья воронов, павлинов и некоторых других птиц тоже широко использовались), но эта принадлежность любого грамотного человека не имела ничего общего с той пошлой картинкой, которую нам показывают режиссеры нынешних сериалов. Никакого пышного опахала не было даже в помине, его безжалостно отсекали, и птичье перо приобретало кургузый вид современной авторучки. Чтобы перо легко скользило по бумаге и не брызгало поминутно кляксами, его сначала очищали в раскаленном песке, а потом обрезали под определенным углом и затачивали. Хорошие перья очень высоко ценились, поэтому их нередко дарили. Например, в кабинете Пушкина хранилось собственное перо Гёте в богатом футляре, присланное в подарок великому русскому поэту.
Первые стальные перья, изобретенные в XVIII веке, немилосердно пачкали бумагу, потому что не имели прорези на рабочем конце, но как только ее придумали, гусиному перышку пришлось собираться в отставку. Расщепленное перо из упругой стали хорошо удерживало чернила и почти не оставляло клякс, однако стоило довольно дорого, так что еще немало воды утекло, прежде чем легкие птичьи перья окончательно сдали в архив. Вспомним Александра Сергеевича, который до конца жизни пользовался гусиным пером и не жаловался. Ну а в школьный портфель стальное перо перекочевало только в самом начале прошлого века. Чуть позже выдумали пузатые авторучки с резервуаром для чернил, а в 1938 году венгерский химик Биро запатентовал шариковую ручку. В годы Второй мировой она приглянулась британским пилотам, так как не текла на высоте при резких перепадах атмосферного давления и была незаменима в кабине самолета. После войны шариковая ручка сделалась очень модной, ну а в нашу страну попала гораздо позже – в конце 60-х – начале 70-х годов. Бдительные советские педагоги опасались, что она может навсегда испортить почерк, и автор этих строк, когда пошел в школу, весь первый год царапал бумагу неудобным стальным пером № 86, поминутно окуная его в чернильницу-непроливайку. Между прочим, самую настоящую авторучку, которую не нужно было то и дело макать в чернильницу, придумали еще древние египтяне. Внутри изящной свинцовой трубочки с заостренным концом помещалась тростинка, заполненная красителем, и когда острием трубочки водили по папирусу, на нем оставался отчетливый черный след. Археологи нашли такую ручку в гробнице Тутанхамона.
Перо и чернила – вещь, бесспорно, хорошая, но все время таскать с собой пузырек с краской довольно обременительно. Не проще ли работать карандашом? Историки нас уверяют, что графитовые стержни для письма и рисования были хорошо знакомы еще древним грекам, но после того, как античный мир обрушился под натиском северных варваров, «грифельная» технология канула в небытие. Наработки античных мастеров переоткрыли в эпоху Возрождения. Гениальный Леонардо придумал «красный мел» – сангину, которой до сих пор охотно пользуются художники, а во Франции изобрели пастель – нежные и бархатистые цветные мелки, отливающие радужными полутонами наподобие крыла бабочки. Ее получали, смешивая растертые в тонкий порошок краски со смолой деревьев, молоком, гипсом и тальком. Тогда же выдумали соус, или парижский карандаш, – смесь обыкновенной ламповой сажи с белой глиной. Во второй половине XVI века в английском графстве Камберленд отыскали графит – податливый минерал, окрашивающий бумагу в радикально черный цвет. Однако вплоть до петровских времен предпочтение отдавалось свинцовому карандашу, который оставлял полупрозрачную линию серого цвета. Ее можно было легко удалить хлебным мякишем. А вот серебряный штифт давал резкую темную черту, которая на воздухе быстро коричневела.
Карандаш, отдаленно напоминающий современный, появился только в конце XVIII века, когда чешский фабрикант Йозеф Гартмут совершенно случайно обнаружил, что глина, смешанная с графитом, оставляет на листе бумаги куда более четкий след, чем графит в чистом виде. Будучи человеком любознательным, он начал смешивать графит и глину в разных пропорциях, в результате чего на свет божий явились удобные стержни для письма, получившие гордое название «кохинор», то есть «не имеющие равных». А французский живописец Конте, тоже экспериментировавший с порошком графита и глиной, догадался одеть ломкий грифель в надежную деревянную оболочку. Так родился привычный нам всем карандаш, и за двести лет технология его изготовления не претерпела существенных изменений.
Сегодня карандаши делают так: графит измельчают до состояния тонкой косметической пудры, потом смешивают его с глиной (чем тверже карандаш, тем больше глины потребуется), продавливают эту массу через отверстия, а полученные графитовые стержни высушивают в специальной печи. Слово В. В. Богданову и С. Н. Поповой: «Немало трудностей и с „одеждой“ для карандашей. Ведь годится далеко не любая древесина. Лучше всего подходит кедр, но он стал дорогим и редким сырьем, поэтому в дело идут тополь, липа, ольха. Сначала выпиливают дощечки величиной с ладонь. Они должны вылежаться, высохнуть, потом древесину (если это не кедр) облагораживают (пропитывают специальным составом), делают в дощечке шесть пазов, в которые укладывают грифели. Но сначала дощечки промазывают клеем. Сверху кладут такие же дощечки и прижимают их друг к другу. После высыхания клея дощечки разрезают на шесть заготовок, которые шлифуют. Затем четырежды покрывают краской, дважды лаком. И наконец карандаш получает „паспорт“ – его маркируют. В нашей стране ставят буквы: М – мягкий, Т – твердый, ТМ – средней твердости – и цифры, показывающие степень твердости или мягкости». Не правда ли любопытно – вроде бы такая фитюлька, а сколько хлопот!
Подытоживая эту главу, остается сказать, что письмо было одним из самых величайших изобретений человечества, буквально перевернувшим мир. Если бы не «черты и резы», которые наш предок старательно выводил на глине или камне, мы бы и сегодня обжигали концы рогатин в пламени костра, рисовали несущихся вскачь оленей на отполированных степными ветрами скалах и поклонялись висящим над головой звездам. Цивилизация и письменность неразделимы. Прозорливые люди понимали это еще в то время, когда с трудом выводили первые буквы. Свыше четырех тысяч лет назад один безымянный египетский писец начертал на папирусе: «Человек исчезает, тело его становится прахом, все близкие его исчезают с поверхности земли, но писания заставляют вспомнить его устами тех, кто передает это в уста других. Книга нужнее построенного дома, лучше роскошного дворца, лучше памятника в храме».
8. Эволюция выгребной ямы
Губит людей не пиво, Губит людей вода. Народная мудростьВ свое время Илья Ильф обмолвился, что романы Виктора Гюго порой напоминают ему испорченный унитаз, который сутки напролет молчит вглухую, не подавая никаких признаков жизни, и вдруг глубокой ночью, среди полной тишины, неожиданно обрушивается грохочущим водопадом, нарушая мирный сон добропорядочных горожан. Блистательный советский сатирик конечно же имел в виду многостраничные отступления великого француза, уводящие далеко в сторону от магистральной темы и ломающие сюжетную канву. Однако Ильф совершенно напрасно ерничал: эти увлекательно написанные вставные новеллы читаются на одном дыхании и вдобавок обладают бесспорной познавательной ценностью. Достаточно вспомнить хотя бы интереснейшую «Утробу Левиафана» в знаменитых «Отверженных», посвященную истории парижской канализации.
Об этом весьма неаппетитном предмете вообще стоит почитать. Мы убеждены, что далеко не все наши современники имеют сколько-нибудь внятное представление о поистине ужасающем состоянии коммунального хозяйства в недавнем прошлом. Париж Жана Вальжана[102] был городом сажи и мусора и стоял, как и двести или триста лет тому назад, буквально на гноищах и выгребных ямах, источавших невообразимое зловоние. Только во второй половине XIX века ситуация стала понемногу меняться. Для этого префекту французской столицы барону Османну пришлось по сути дела разрушить Париж, чтобы затем отстроить его заново.
Не поленитесь прочесть нижеследующее. «Крестьянин в окрестностях Лиможа, если не считать кое-какие мелочи в одежде и орудиях, обрабатывал свою землю примерно так же, как его предок времен Верцингеторикса[103]». Хотя в Париже было тогда более миллиона жителей, улицы освещались масляными лампами, а воду для стола и мытья развозил водовоз, те же, кто победнее, ходили к фонтану. «Трубы чистили подростки из Оверни: они залезали в трубу, носили на голове цилиндр, а за пазухой – сурка. Сахар продавали в „головах“: дома их разбивали зубилом и молотком, откуда и сохранилось выражение „бить сахар“. Когда тушили пожар, по цепочке передавали друг другу ведра с водой. Не было сточных ям – по той простой причине, что не было канализации. В обиходе прочно царствовал ночной горшок. Богатые люди не без сожаления и далеко не везде начали расставаться со стульчаком. Овощи выращивали на огородиках позади дома или покупали у огородника по соседству. Вино подавали в кувшинах; бутылки считались роскошью, их выдували подростки на стекольных фабриках – многие из этих молодых людей умирали от чахотки, – не было двух бутылок одинаковой емкости. Мясники резали скот у себя во дворе или возле лавки; хозяйки, приходившие за котлетами, оказывались перед жрецом в фартуке и с руками, залитыми кровью <…> Продолжительность жизни во Франции составляла в среднем тридцать пять лет».
Как вы полагаете, уважаемый читатель, какая эпоха здесь описана? Шестнадцатый век? А может быть, семнадцатый или восемнадцатый? Ничуть не бывало – это Париж 1845 года, край несбыточных грез, место, где кончается радуга и куда следует стремиться, в описании Жана Ренуара, сына знаменитого художника. Продолжим нашу цитату: «Нечего и говорить, что ванной комнаты не было: мылись губкой в большом ушате. Грязную воду сливали в отверстие на площадке лестницы. Эта система стока, представлявшая по тем временам последнее слово техники, называлась „свинцы“, вероятно потому, что трубы, проложенные по стенам лестничной клетки, были сделаны из этого металла. Уборные входили в эту же систему „свинцов“. Зубные щетки считались предметом роскоши. Утром и вечером полоскали рот соленой водой, а зубы чистили палочкой, которую выбрасывали после употребления. Иногда для одного из членов семьи заказывали ванну. Это была целая история. Двое рабочих вносили медную ванну и ставили ее посередине комнаты. Спустя четверть часа они возвращались с четырьмя ведрами горячей воды и выливали их в ванну. После того как счастливец, которому предназначалась ванна, кончал мытье, а детвора, воспользовавшись этим, полоскала ноги в еще теплой воде, рабочие возвращались и все уносили под осуждающими взглядами соседей, порицавших подобную хвастливую демонстрацию».
Впечатляет, не правда ли? Оказывается, эпоха пара и электричества (около 1845 года был уже изобретен электрический телеграф) мало чем отличалась от сумерек Средневековья, когда практически все города Центральной и Западной Европы утопали по колено в грязи. Например, средневековый Париж был загажен до такой степени, что жители, выходя на улицу, могли это делать или верхом, или обувшись в высокие сапоги. Канализации не существовало в принципе. В пыльных архивах сохранились распоряжения городских магистратов, призывающие граждан придерживаться во время прогулок середины улицы, ибо из окон запросто выплескивали нечистоты, так что опасность попасть под ароматную струю была вполне реальной.
Правда, кое-какие меры все-таки принимались. Примерно с XIV века городские власти начинают проявлять заботу о городском коммунальном хозяйстве. Содержание улиц в порядке и чистоте становится предметом их неусыпного внимания. В Париже XIV века уже исправно функционирует служба мусорных повозок, а в городах поменьше жители нередко нанимают мусорщиков за свой счет. Мусор и нечистоты обычно сваливали в реки и рвы. Коммунальный прогресс зашагал семимильными шагами. Каждому гражданину вменялось в обязанность заботиться о состоянии улицы перед его собственным домом, прежде всего ее требовалось замостить. К середине XIV века улицы важнейших французских городов украсились мостовыми, примерно тогда же они появились и в Праге. Чуть позже, в XIV–XV веках, начинают все чаще оборудовать водосточные канавы, но это баловство коснулось только самых крупных городов.
Водоснабжение, по сути, дела отсутствовало. Во дворах копали колодцы или накапливали дождевую влагу в специальных цистернах, размещенных на чердаках. Важным источником пресной воды были городские фонтаны. За неимением канализации грязную воду и нечистоты сливали в специально оборудованные ямы, которые время от времени очищали. Банное дело в Средние века было поставлено из рук вон плохо: частное жилье бань не имело в принципе, а общественными почти не пользовались. Увы, но наши дремучие предки не догадывались, что где грязь – там и зараза, поэтому повальные эпидемии, моры и лихорадки были в старину заурядным явлением. Опустошительная пандемия чумы (она получила название «черной смерти»), разразившаяся в 1347 году, за пять лет выкосила четверть населения европейского континента – примерно 25 миллионов человек. По другим оценкам, истинное число погибших было значительно больше (свыше 30 %), а некоторые страны совершенно обезлюдели. Например, в Норвегии умерли четыре пятых всего населения. В Венеции погибло около ста тысяч человек (70 % ее граждан), а Лондон превратился в гигантское кладбище: эпидемия чумы унесла в могилу девять десятых его жителей. Живые не успевали хоронить мертвых. И слава богу, что в Средние века на европейском континенте еще оставалось довольно много пустых земель, дороги были плохими, а города разделяли дремучие чащобы. Если бы плотность населения была выше, последствия эпидемии могли оказаться куда печальнее.
И хотя в портовых городах Италии еще в 1348 году придумали карантины[104], а в 1403 году на острове Св. Лазаря (в венецианской лагуне) открылись первые лазареты, толку от этого было чуть. Драконовские меры помогали плохо: жуткая «черная смерть», не ведающая преград и запросто проникавшая из чумных бараков на городские улицы и в неприступные каменные твердыни феодальной знати, с одинаковой легкостью убивала старых и малых, праведных и грешных, простолюдинов и аристократов, не делая исключений ни для кого. Казалось, наступал конец света. Отяжелевшие лисицы и бездомные псы страдали одышкой, а вороны разжирели и не могли летать.
Да что толковать о Средних веках! Каждый, кто хоть немного интересовался историей материальной культуры, мог еще в детстве познакомиться с увлекательной книгой М. Ильина, брата С. Я. Маршака, под названием «Рассказы о вещах». Из этой полезной книжки можно почерпнуть массу любопытной информации, в частности узнать, что вплоть до начала XIX века элементарная гигиена в просвещенной Европе находилась, в нашем сегодняшнем понимании, на откровенно пещерном уровне. В XVII–XVIII веках великосветские гостиные кишели паразитами, а знатные дамы, прихорашиваясь перед балом, всерьез интересовались, как им сегодня следует помыть шею – для малого декольте или для большого. Простейшие гигиенические навыки (ежедневное утреннее умывание, мыло, душ, горячая ванна) пришли в Европу только в позапрошлом веке.
А вот в Древней Греции за четыре столетия до Рождества Христова, оказывается, строили публичные бани с водопроводом и канализацией. В Сиракузах[105] еще в V веке до н. э. исправно функционировал водопровод, а в Афинах – так и вовсе в шестом. Мы уже не говорим о таких мелочах, как поставленная на широкую ногу мелиорация, управление разливом рек и механические водоподъемные сооружения. Не уступали грекам и римляне. В I веке до н. э. система водоснабжения в Древнем Риме работала как часы. Говорят, что именно тогда родился термин «гидравлика», а некто Сикст Юлиус Фронтиус написал трактат о трубопроводной технике.
Санитарному состоянию античных площадей, улиц и дворов может позавидовать любой современный город. Разветвленная система водостоков, обложенных каменной кладкой и перекрытых плитами, содержалась в образцовом порядке. Разумеется, существовала и канализация. Вопросами городского благоустройства ведали специальные должностные лица – астиномы, в круг обязанностей которых входил, в частности, неусыпный надзор за уборщиками нечистот. Античные золотари должны были сваливать свое добро не абы где, а не ближе 10 стадиев[106] от городской стены. Жилые дома были оборудованы ванными комнатами, канализацией и водопроводом, трубы которого делали из обожженной глины. А вот с отоплением дела обстояли поплоше – в холодную погоду комнаты обогревались переносными глиняными сосудами, куда насыпали раскаленный древесный уголь. Правда, в помещениях для мытья под полом прокладывали специальные трубы, по которым проходил горячий воздух из топки. Но уже в VI веке до Рождества Христова глиняные плошки, набитые древесным углем, перестали устраивать капризных древних греков. Появляется центральное отопление – сначала в храмах и банях, а потом и в жилых домах и гимнасиях для нагревания воды в бассейнах. Отопительный прибор состоял из жаровни, так называемого гипокаустона, и емкости для нагревания воды; по трубам горячая вода поступала в бассейн.
В конце I века н. э. в Риме проживало около миллиона человек, так что обеспечение горожан чистой водой было непростой инженерной задачей. Для этой цели использовались акведуки – весьма внушительные архитектурные сооружения в виде моста или эстакады с трубой, лотком или каналом наверху. Многие из них неплохо сохранились до наших дней. В Риме существовал даже налог на воду: магистральный водопровод был снабжен бронзовой насадкой с официальной меткой, а по свинцовым, керамическим или деревянным отводным трубам вода поступала в жилье владельца, который платил налог в зависимости от диаметра трубы. Если верить хроникам, римляне ежедневно потребляли до трехсот галлонов воды, что примерно в шесть раз больше, чем расходуется в современном городе.
Нечистоты текли по канализационным стокам в Большую клоаку – грандиозный канал, пересекающий городской центр и построенный еще при этрусках[107]. На протяжении шести веков он оставался открытым всем ветрам и благоухал от души, пока в 33 году до новой эры император Октавиан Август не распорядился возвести над ним прочный каменный свод. В результате получился впечатляющий подземный тоннель с великолепной кирпичной кладкой, по которому без труда могла пройти лошадь с повозкой. Большая клоака выплескивала свое содержимое в Тибр. В домах богатых горожан были оборудованы полусливные уборные, нередко с мраморными сиденьями, удобными для мытья. Нечистоты уносились проточной водой. Однако большинство жителей Рима пользовалось общественными туалетами, которых уже в 315 году до н. э. насчитывалось целых 144 штуки.
Да что там греки и римляне! Нас уверяют, что в городах Хараппа и Мохенджо-Даро, привольно раскинувшихся на берегах Инда, водопровод и канализация были вполне заурядным явлением еще в III тысячелетии до новой эры. Тысячу лет спустя могущественные критские владыки, некогда безраздельно хозяйничавшие в Средиземноморье, оборудовали свои дворцы-лабиринты хитроумной системой терракотовых труб для подачи воды и удаления нечистот. В Месопотамии тоже не дремали. В целях бесперебойного снабжения доброкачественной пресной водой жителей Древнего Вавилона был в два счета построен акведук, протяженность которого равнялась расстоянию от Парижа до Лондона. Историки говорят, что для своего времени он был самым настоящим техническим чудом, как и висячие сады Семирамиды. Спорить с этим не приходится, но вся беда в том, что подобное сооружение было бы техническим чудом не только во времена царя Хаммурапи[108], но и в годы правления Екатерины II или Александра I. Впору только руками развести. За много веков до Рождества Христова люди безошибочно вы числили окружность земного шара и рассчитали расстояние до Луны, построили великолепные дороги, перебросили надежные мосты через реки, возвели монументальные здания, придумали водопровод и центральное отопление и установили, что на всякое тело, погруженное в жидкость, действует направленная вверх выталкивающая сила, равная весу вытесненной им жидкости.
А потом случилось то, что случилось. Империя, раскинувшаяся от Британии до Персидского залива, накрылась медным тазом, а на обломках былого великолепия выросли варварские королевства. Блестящие достижения античной мысли благополучно легли под сукно на несколько столетий. Люди разучились читать и писать, перестали мыться и стричь бороду и вновь начали топить печи по-черному. Некогда многолюдные города лежали в руинах и зарастали сорной травой. На римском форуме среди поваленных мраморов паслись стада коз. Богатейшее античное наследие оказалось никому не нужным, и на европейский континент опустилась непроглядная тысячелетняя ночь Средневековья.
Воля ваша, господа историки, но здесь какая-то неувязка. Полное забвение едва ли не всех культурных, бытовых и технологических навыков выглядит совершенно невероятным. Во всяком случае, более или менее надежно документированный исторический период (примерно с X века н. э.) подобных перерывов постепенности не ведает. Наоборот, мы видим неуклонное, от эпохи к эпохе, приращение по крупицам нового знания без каких-либо катаклизмов планетарного масштаба. Дурная цикличность, бесконечная череда взлетов и падений культур навсегда остались в далеком прошлом. А вот Античность поразительным образом демонстрирует совсем иную тенденцию – движение к состоянию полного хаоса и дезорганизации вплоть до обвала населения целого континента в почти первобытную культурную дикость. Вообразить подобную эволюцию наоборот нелегко, что, по-видимому, и вызвало к жизни альтернативные сценарии, отрицающие справедливость традиционной хронологии и само существование Античности в привычном понимании. Впрочем, разбор концепций еретиков от исторической науки не входит в наши задачи, хотя их аргументация нередко представляется вполне здравой и обоснованной. Поэтому оставим в покое «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» и вернемся в эпоху относительно неплохо изученную – Новое время.
Место действия – снова Париж. Время действия – 1790 год, заря Великой французской революции, когда культурную Мекку Европы посетил выдающийся русский историк и писатель Николай Михайлович Карамзин. Легендарный Париж предстал перед ним во всем своем блеске небывалого великолепия и потрясающей нищеты: с одной стороны, пышные здания, гранитные мосты и очаровательные берега Сены, а с другой – кучи гниющих яблок и сельдей подле кривых лавок и грязь и даже кровь, текущие ручьями из мясных рядов. Карамзин назвал «Париж самым великолепным и самым гадким, самым благовонным и самым вонючим городом. Улицы все без исключения узки и темны от огромности домов, славная Сент-Оноре всех длиннее, всех шумнее и всех грязнее. Горе бедным пешеходам, а особливо когда идет дождь! Вам надобно или месить грязь на средине улицы, или вода, льющаяся с кровель через дельфины[109], не оставит на вас сухой нитки. Карета здесь необходима, по крайней мере для нас, иностранцев; а французы умеют чудесным образом ходить по грязи, не грязнясь, мастерски прыгают с камня на камень и прячутся в лавки от скачущих карет. Славный Турнфор, который объездил почти весь свет, возвратился в Париж и был раздавлен фиакром[110] оттого, что он в путешествии своем разучился прыгать серною на улицах: искусство, необходимое для здешних жителей!»
В 1780-х годах с парижских улиц вывозили по 270 тысяч кубометров мусора в год, а еще около 30 тысяч приходилось на содержимое отхожих мест. Бытовой мусор вперемешку с требухой, испражнениями и падалью сваливали в сточные канавы, протянувшиеся вдоль улиц; туда же летели и трупы недоношенных младенцев. Даже в просвещенные времена одна из самых блестящих европейских столиц продолжала оставаться в точности такой же вонючей дырой, как на излете Средних веков. Вплоть до конца XIX столетия префекты исправно издавали циркуляр за циркуляром, предписывавшие обязательное захоронение мертвого плода, но результат был практически нулевой, поскольку даже за самые дешевые похороны надо было выложить среднюю пятидневную зарплату. Сточные канавы напоминали овраги в распутицу, во время ливней по ним с ревом неслись мутные грязевые потоки, и бедняки промышляли тем, что за небольшую плату помогали своим богатым согражданам форсировать эти нешуточные водные преграды по самодельным мосткам. Нечистоты текли в Сену, и река, понятное дело, благоухала на совесть, отравляя жизнь не только простых граждан, но и титулованных особ. Именно нестерпимое зловоние в районе Лувра подвигло в свое время короля Франциска I на приобретение замка Тюильри ниже по течению, но и там воняло, как в обезьяннике.
Юджин Вебер в своей статье «От грязи – к порядку» пишет: «Выгребные ямы чистили по ночам, шум стоял, как при артобстреле. Трубы текли, тяжелые телеги корежили здания, продавливали тротуары, беспокоили спящих. Однако в ямах скапливалась лишь часть отходов. Судебные архивы 1840-х годов содержат немало дел о привлечении к ответственности домовладельцев и слуг за опорожнение ночных горшков из окон верхних этажей. В этом же десятилетии появились первые общественные уборные (pissotieres или vespasiennes), но мужчины и некоторые женщины продолжали мочиться, а иногда и испражняться у порогов домов, возле столбов, церквей, статуй и даже у витрин магазинов».
Содержимое выгребных ям просачивалось в землю, заражая питьевую воду в колодцах, а воздух дымился от гнилых испарений. В повести «Златоокая девушка» (1834 год) Бальзак описывает дома, «стоящие по колено в грязи и мусоре». Напомним читателю на всякий случай, что Париж XIX века отнюдь не был какой-то уникальной фабрикой нечистот. Другие европейские столицы – Лондон, Берлин, Вена или Петербург – выглядели в те времена немногим лучше. И нас после этого хотят уверить, что общественные туалеты исправно функционировали в Риме еще в IV веке до Рождества Христова? Неужели античные города действительно были образцом коммунального благоустройства, а греческие и римские инженеры, жившие более двух тысяч лет назад, блистательно разрешили проблему канализации и водоснабжения, которая долгое время была не по зубам цивилизованным европейцам? Вопросы эти, понятно, риторические, так что вернемся к нашим баранам.
Когда Жан Ренуар пишет, что в Париже 1840-х годов «не было сточных ям – по той простой причине, что не было канализации», он немного лукавит. Канализации не существовало только лишь в привычном смысле этого слова, как системы отводных труб, соединявших жилые и бо́льшую часть общественных зданий с городским сточным коллектором. А вот разветвленную сеть подземных штолен и галерей, запутанный лабиринт водостоков, сбегающих к Сене, начали сооружать еще в Средние века, и к моменту опубликования романа «Отверженные» совокупная длина парижских клоак, лежащих под ногами горожан, составляла более 60 миль. Этот огромный незримый город, похороненный в земной тверди, этот рукотворный кишечник, неутомимо выплевывающий нечистоты, не ведает покоя ни на минуту, как чудовищный головоногий моллюск с десятками тысяч щупальцев. Он непрерывно растет по мере роста города наверху. Всякий раз, когда Париж обзаводится новой улицей, клоака выбрасывает очередную лапу. Гюго пишет, что если бы Париж снимался как крышка, то с высоты птичьего полета нашему взору открылся бы прихотливый узор, некое подобие затейливой арабской вязи или толстого сука с побегами, привитого к реке.
Вплоть до середины позапрошлого столетия парижская клоака была символом социальной патологии, потому что веками надежно укрывала в своем чреве изгоев и отверженных – бродяг, воров, убийц и бездомных детей. Но не одно только городское отребье находило пристанище в ее смрадной утробе. В непроглядной тьме извилистых коридоров, напоенных ядовитыми испарениями, прятались бунтари, еретики и вольнодумцы всех мастей: шайки свирепых майотенов[111] в четырнадцатом веке, гугеноты[112] в шестнадцатом и иллюминаты[113] Морена в семнадцатом. Около шестисот лет тому назад в паутине водостоков не единожды скрывался от правосудия Франсуа Вийон[114], перекати-поле и завсегдатай всех злачных мест Парижа, бывший школяр, уголовник, висельник и блестящий поэт, самокритично однажды заметивший: «Я Франсуа, чему не рад, / Увы, ждет смерть злодея. / И сколько весит этот зад, / Узнает скоро шея». Сохранилась даже легенда, что поэт-маргинал, облюбовавший парижское дно, как-то раз беседовал с великим Рабле[115] через железные прутья смотрового колодца, так сказать, de profundis[116], хотя к моменту рождения создателя бессмертного «Гаргантюа» Вийону должно было исполниться около семидесяти лет. А куда уходит Жан Вальжан с раненым Мариусом на плечах после катастрофы 1832 года? Все туда же, в зловонный лабиринт под мостовыми французской столицы. Так что Юджин Вебер совершенно прав, когда пишет, что, с точки зрения рядового парижанина, коммунальное и социальное неблагополучие всегда шагают рука об руку и являются по сути дела аверсом и реверсом одной и той же монеты. И в самом деле: июльская революция 1830 года сопровождается эпидемией холеры в 1832-м, а февральская революция 1848-го влечет за собой холеру 1849-го. «Революция и Реставрация породили в обществе страх перед вызревающими в подземельях „пороховыми за-говорами“, перед революционерами типа Марата и Бланки, которые казались исчадьями бездонного городского чрева». И хотя инсургенты XIX столетия вынашивали свои разрушительные планы отнюдь не в парижской клоаке, а в местах куда более уютных и комфортабельных, богатые домовладельцы и аристократы, напуганные взбудораженной чернью, усматривали самую непосредственную связь между потаенной жизнью катакомб родного города и социальной активностью его граждан. Если древние римляне на все лады воспевали свою клоаку, воздавая ей чуть ли не божественные почести, то скептические парижане – прагматики до мозга костей, чуждые восторженного пафоса, – именовали свою канализацию не иначе как Вонючей дырой. И у них были к тому все основания, поскольку капризное подбрюшье французской столицы неоднократно выплескивалось вовне. Слово Виктору Гюго:
«Наводнение 1802 года – одно из незабываемых воспоминаний в жизни парижан, достигших восьмидесятилетнего возраста. Грязь разлилась крест-накрест по площади Победы, где возвышается статуя Людовика XIV; она затопила улицу Сент-Оноре из двух выходных отверстий клоаки на Елисейских Полях, улицу Сен-Флорантен из отверстия на Сен-Флорантен, улицу Пьер-а-Пуассон из отверстия на улице Колокольного Звона, улицу Попенкур из отверстия над мостиком Зеленой Дороги, Горчичную улицу из отверстия на улице Лапп; она заполнила сточный желоб Елисейских Полей до уровня тридцати пяти сантиметров. В южных кварталах через водоотвод Сены, гнавший ее в обратном направлении, она прорвалась на улицу Мазарини, улицу Эшоде и улицу Марэ, где растеклась на сто девять метров и остановилась за несколько шагов от дома, где жил Расин, выказав таким образом больше уважения к поэту XVII века, чем к королю. Наводнение достигло наиболее высокого уровня на улице Сен-Пьер, где грязь поднялась на три фута выше плит, прикрывающих выходные отверстия сточных труб, а наибольшего протяжения – на улице Сен-Сабен, где она распространилась на двести тридцать восемь метров в длину».
Первая попытка исследовать тенета парижских клоак принадлежит французскому королю Генриху II из династии Валуа (1519–1559). В наши дни трудно сказать, насколько успешной оказалась разведка Филибера Делорма (а именно этому человеку король поручил инспекцию подземных свалок Парижа), ибо все карты и путеводители (если таковые имелись в наличии) давным-давно растаяли в пыльных архивах. И только без малого триста лет спустя нашелся смельчак, рискнувший спуститься в парижские катакомбы.
Гюго рассказывает, как однажды в 1805 году на прием к императору Наполеону Бонапарту явился на утренний прием министр внутренних дел и заявил буквально следующее.
«– Государь, – сказал Наполеону министр внутренних дел, – вчера я видел самого бесстрашного человека во владениях вашего величества.
– Кто же это? – резко спросил император. – И что он сделал?
– Он задумал сделать нечто невозможное, государь.
– Что именно?
– Исследовать клоаки Парижа.
Такой человек действительно существовал, и звали его Брюнзо».
Неутомимый Брюнзо обследовал всю клоаку от верховьев и до устья. Он отыскал клеймо, оставленное Делормом в 1550 году, прошел крытыми сводами XVII и XVIII веков и тщательно обследовал ветхую кладку окружного водостока, проложенного еще в 1412 году. Его беспримерный поход был самым настоящим подвигом, перед которым бледнеют успехи маленького капрала[117] под Маренго, Нови и Аустерлицем. Работая в полной тьме, в атмосфере удушливых испарений, он был вынужден совмещать разведку с очисткой. Приходилось разгребать непролазную вековую грязь и одновременно производить измерения: фиксировать стоки, отсчитывать решетки и смотровые колодцы, наносить на карту места разветвлений и новых каналов, указывать очертания подземных водоемов, обозначать координаты мелких притоков главного рукава, определять их нивелировку, высоту и ширину. Фонари едва тлели и поминутно гасли в ядовитых испарениях, а неверный грунт вдруг неожиданно расседался, проваливаясь в бездонную пропасть. Местами стены были покрыты отвратительными грибными наростами, мертвенно-белыми, как лягушачье брюхо, а под ногами сновали крысы величиной с небольшую кошку. Изыскания Брюнзо продолжались целых семь лет – с 1805 года по 1812 год.
Первопроходцев, рискнувших окунуться во мглу и смрад парижской клоаки, иногда подстерегали опасности совершенно особого рода. Мерзкая живность, кишащая в топком иле, вонючая жижа, хлюпающая под ногами, и нестерпимое зловоние – это сущие пустяки по сравнению с грозными плывунами, которые разверзаются нежданно-негаданно, чтобы проглотить беспечного ходока. Что такое плывун? Это зыбучие пески, упрятанные под землю. И хотя феномен зыбучих песков не понаслышке знаком жителям Бретани или, скажем, Шотландии, но и на старуху бывает проруха.
На прибрежной отмели во время отлива неосторожного путника нередко подстерегает смертельная опасность. На первый взгляд отмель как будто суха, под ногами – слежавшийся плотный песок, но при каждом шаге, едва только приподнимешь ногу, след тут же заполняется водой. Казалось бы, пока ничто не предвещает беды, и только каким-то шестым чувством путник вдруг угадывает, что каждый следующий шаг дается ему со все бо́льшим трудом. Он начинает волноваться и уже с некоторой тревогой поглядывает на берег, как вдруг неожиданно проваливается сразу по щиколотку. Песок словно превратился в некое подобие липкой смолы, которая держит так же прочно, как стальной медвежий капкан. Человек бросается влево, вправо и немедленно увязает сначала до колен, а затем по пояс. И тогда он с ужасом понимает, что попал в зыбучие пески, что у него под ногами та жуткая стихия, которая и не земля, и не вода, а что-то иное, текучее и вязкое одновременно, и откуда нет и не может быть спасения. Проходит совсем немного времени, и он с головой окунается в бездонную трясину, только ласковый морской бриз треплет пряди волос, торчащие из песка. Иногда пески засасывают всадника вместе с лошадью, пишет Гюго, иногда возницу вместе с повозкой. Это совсем не то же самое, что сгинуть в морской пучине: здесь человека затопляет былинная мать сыра земля, вволю напоенная океаном.
Нечто подобное иногда случается и под землей, в топких галереях клоаки, когда в рыхлые породы, залегающие под настилом тоннеля, просачиваются вездесущие грунтовые воды. И тогда настил, будь он сложен из каменных плит, как в старинных водостоках, или из бетона на известковом растворе, расседается и сползает в бездну. Это и есть плывун. Глубина такого провала может достигать нескольких десятков метров и более, а порой чистильщикам выгребных ям так и не удавалось отыскать дно. Гибель в стылом чреве этой трясины, напоминающей царство теней древних греков, где обитали души умерших, страшна вдвойне. Если на морском берегу тонущий вдыхает полной грудью напоенный ароматами свежий воздух, то здесь, во «мрачных пропастях земли», его со всех сторон окружают непроглядная тьма, убийственный смрад и ядовитые испарения.
Самоотверженный труд Брюнзо положил начало реконструкции парижской клоаки. Проводились земляные работы, закрывались открытые стоки, прокладывались новые линии, обустраивалось дно старых штреков, чтобы обеспечить бесперебойное течение воды, однако все это были по большому счету полумеры, пока в 50–60-х годах позапрошлого века за дело не взялся префект Парижа барон Османн. Между прочим, он вплотную занялся не только канализацией, но и городскими свалками, и это отдельная, ничуть не менее увлекательная история. С 1781 года весь Париж обслуживала, по сути дела, одна-единственная городская свалка Монфокон, расположенная на северо-востоке столицы. Это было поистине жуткое место, как будто сошедшее со страниц дантова «Ада», ибо когда-то здесь стояли виселицы, и трупы казненных гнили и разлагались вперемешку с дохлым зверьем посреди терриконов мусора, карабкающихся все выше и выше. Вдобавок сюда же, в Монфокон, везли туши едва ли не со всех парижских скотобоен. Юджин Вебер пишет:
«К 1840 году здесь образовался громадный пятиметровый пласт из жирных белых червей, питавшихся неиссякающими потоками крови. Червей продавали рыбакам, а процесс естественного гниения превратил Монфокон в огромный смердящий пруд. Большая часть этого месива просачивалась в землю, оттуда – в колодцы северной части Парижа, ветер же разносил зловоние по всему городу».
Османн, прагматик до мозга костей, никогда не уставал учиться и всегда поглядывал на соседей, угнездившихся за нешироким проливом, так как антисанитария терзала Британию испокон веков. Правда, Карамзин, навестивший величественный Лондон в том же, 1790 году, был в полном восторге. Его восхитила неброская аккуратность островитян: изрядно и без претензий на роскошь мощенные улицы, основательные двери, сработанные из красного дерева и отполированные воском до зеркального блеска, богатые лавки, радующие глаз изобилием товара, и стройный ряд фонарей по обеим сторонам проезжей части.
«Какая розница с Парижем! – восклицал Николой Михайлович. – Там огромность и гадость, здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка; там палаты, из которых ползут бледные люди в раздранных рубашках, здесь из маленьких кирпичных домиков выходят здоровье и довольствие, с благородным и спокойным видом – лорд и ремесленник, чисто одетые, почти без всякого различия; там распудренный, разряженный человек тащится в скверном фиакре, здесь поселянин скачет в хорошей карете на двух гордых конях; там грязь и мрачная теснота, здесь все сухо и гладко – везде светлый простор, несмотря на многолюдство».
Одним словом, город Арканар[118] в пору его имперского благополучия: добротные каменные дома на главных улицах, приветливый фонарик над входом в таверну и сытые благодушные лавочники за чистыми столами, неспешно потягивающие свое вечернее пиво.
Думается, что Николай Михайлович просто-напросто не разглядел изнанки, поскольку был очарован и ушиблен британской опрятностью и уютом: феномен, до боли знакомый советским гражданам, впервые очутившимся за рубежом на излете 70-х годов прошлого века. А между тем благоустроенный и почти стерильный Лондон, как и вонючий Париж, продолжали сотрясать эпидемии кишечных инфекций. В 1849 году холера унесла в могилу 14 тысяч жителей британской столицы, а через пять лет – в 1854-м – еще 10 тысяч. Королевская резиденция – Виндзорский замок – стоял на переполненных нечистотами выгребных ямах, а в Темзу ежегодно сливалось более девяти миллионов кубических футов жидких отходов. И только в начале 50-х годов позапрошлого столетия, когда гордые британцы сподобились наконец перелопатить родную клоаку, кривая смертности резко поползла вниз.
Когда барон Османн еще только приступал к своим эпохальным реформам (восторженный Гюго в свое время окрестил их революциями, и, быть может, не без оснований), он, конечно, держал в голове бесценный английский опыт. В 50–60-х годах XIX столетия длина парижских улиц всего лишь удвоилась, а протяженность канализации выросла аж в пять раз. В смрадных тоннелях заработала вентиляция, а энергия текучей воды окончательно победила зловоние: от выворачивающих наизнанку тошных испарений остался неуловимый легкий запашок. Триумфальное шествие механической цивилизации в очередной раз обернулось сокрушительным крахом средневекового варварства. Из подземного чрева Парижа выгнали бродяг и бандитов, а в запутанных лабиринтах канализационных стоков (1214 километров в 1911 году и 2100 километров в 1985-м) проложили сначала трубы, затем телеграфные и телефонные провода (и даже пневматическую почту), а еще через некоторое время – электропроводку, регулирующую работу светофоров. Парижская клоака, веками наводившая смертельный ужас на горожан, сделалась ручной и домашней. В 1867 году состоялась первая экскурсия по канализационным тоннелям. Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Слово Юджину Веберу:
«Впрочем, отходы никуда не могли исчезнуть, только борьба с ними переместилась в пригороды. Еще в 1870-х годах содержимое разросшейся канализационной системы по-прежнему сбрасывалось в Сену безо всякой очистки. Хуже всего было в Клиши и Сен-Дени, мимо которых ежедневно проплывало 450 тонн неочищенной, бурлящей от газов массы. Она загрязняла берега, мешала судоходству, а зимой не позволяла реке покрыться льдом. Однажды отходы попытались использовать для укрепления набережной в Аньере, но новые берега стали гнить и смердеть. Прелестная река, знакомая нам по полотнам импрессионистов, на деле была отвратительным месивом – вплоть до Мелана и Медона (соответственно 75 и 100 километров от Парижа вниз по течению). К середине 1880-х годов, когда Сёра писал свою картину „Купание в Аньере“, проблема была уже почти решена, но никто, даже Рейд[119], не обратил внимания на то, что большинство импрессионистских пейзажей созданы в Аржантее, Шату, Понтуазе и Буживале, потому что эти места отделяла от вонючего Аньера крутая излучина Сены.
Свет в конце тоннеля появился лишь к лету 1880 года, когда люди, измученные отвратительными испарениями реки, подняли шум в прессе и потребовали прекратить сброс неочищенных отходов в Сену. Клоаку в Клиши закрыли в 1899 году. Последняя эпидемия холеры в 1892 году заставила принять закон (1894), обязывающий всех домовладельцев подсоединиться к городской канализации. Однако даже в 1904 году большинство зданий в Париже все еще не имело отводных труб, и лишь к 1910 году 60 процентов хозяев установят все необходимое, а в пригородах начнут использовать другое (английское) изобретение: септические емкости. Только накануне Первой мировой войны водоснабжение Парижа придет в соответствие с потребностями города, а единая канализационная система появится много позже. Но времена, когда Сена представляла собой „открытую канализационную трубу“, остались в прошлом».
А как обстояли дела в России? Каналы для отвода атмосферных и сточных вод были обнаружены археологами в Великом Новгороде XI века и в Московском Кремле (XIV век). Увы и ах, но несмотря на изобилие леса и вековые банные традиции, мы почти ничем не отличались от Европы: когда в 1867 году в Москве власти озаботились прокладкой газовых труб, то ненароком обнаружили остатки деревянных мостовых XV–XVI веков. Картина была удручающей. Поверх самой древней мостовой лежал слой грязи на целый аршин, затем шла опять мостовая, более юная, и опять слой непролазной грязи поверх. К середине XVIII века спохватились и начали усиленно копать сточные канавы для отвода загрязненных вод в обеих столицах, так что уже во второй половине XIX столетия в Москве появились внушительные сооружения – Неглинный и Самотечный каналы. Примерно тогда же были оборудованы и первые смывные уборные. Тем не менее санитарное благоустройство едва ли не всех российских городов (Москвы и Петербурга в том числе) колебалось возле точки замерзания.
Неглинный проезд до самого Кузнецкого моста и Трубную площадь при каждом сильном ливне заливало так, что клокочущая вода хлестала в двери магазинов и в нижние этажи муниципального жилья. Дело было в том, что подземную клоаку Неглинки, протянувшейся от Самотеки под Цветным бульваром, Театральной площадью и Александровским садом вплоть до Москвы-реки, отродясь не чистили, и потому в дождливый сезон она вскипала, как тропическая река. Капризную Неглинку взяли в трубу еще при Екатерине: наколотили свай, перекрыли ее каменным сводом, обустроили сброс уличных вод через специальные колодцы и положили надежный деревянный настил. Однако богатые домовладельцы быстро смекнули что к чему и оперативно провели тайные водостоки для слива нечистот, вместо того чтобы вывозить их в бочках золотарей, как это было повсеместно принято в Москве до устройства настоящей канализации.
Легендарный дядя Гиляй – известный русский писатель Владимир Алексеевич Гиляровский, неугомонный репортер и знаток старой Москвы, – однажды затеял ревизию московских клоак.
«Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку… Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. <…> Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слыхал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину. <…> В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого мрака. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами. <…> С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо, приходилось нагибаться, и все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное. <…>
Через несколько минут мы наткнулись на возвышение под ногами. Здесь была куча грязи особенно густой, и, видимо, под грязью было что-то навалено… Полезли через кучу, осветив ее лампочкой. Я ковырнул ногой, и под моим сапогом что-то запружинило… <…> В одном из таких заносов мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Особенно трудно было перебраться через последний занос перед выходом к Трубной площади, где ожидала нас лестница… Здесь грязь была особенно густа, и что-то все время скользило под ногами. Об этом боязно было думать. А Федю все-таки прорвало: „Верно говорю: по людям ходим“».
Канализацию в России строили не спеша: Одесса и Тифлис (1874-й), Царское Село (1880-й), Гатчина (1882-й), Ялта (1886-й), Ростов-на-Дону (1892-й), Киев (1892-й) и, наконец, Москва (1898 год). Для очистки сточных вод в Киеве, Москве и Одессе были построены поля орошения. Спору нет, трудились на совесть, однако еще много воды утекло, прежде чем нужник, убогий кривой пенал, расположившийся в чистом поле, и вечный символ неподвижной российской жизни, уступил место фаянсовому ватерклозету, сверкающему ослепительной белизной. Хотите знать, уважаемый читатель, как выглядел стандартный помещичий особняк пушкинских времен в российской глубинке, который сегодня чуть ли не обожествляют как очаг уюта и домашнего благополучия? Извольте. Прежде всего, он строился по типовому проекту, с четырьмя унылыми колоннами на фасаде. У более зажиточных хозяев колонны были оштукатурены (с капителями наверху), а у менее успешных – срублены из тощих сосновых бревен. О капителях, понятное дело, разговора нет. Впрочем, слово специалисту:
«Входное парадное крыльцо, с огромным выдающимся вперед деревянным навесом и двумя глухими боковыми стенами в виде пространной будки, открытой спереди. Внутреннее устройство было совершенно одинаково везде; оно повторялось без всяких почти изменений в Костромской, Калужской, Орловской, Рязанской и прочих губерниях и было следующее. В будке парадного крыльца была боковая дверь в ретирадное место[120] (всегда, конечно, холодное), и потому вход в дом не всегда отличался благовонием»[121].
Что сказать в заключение? Канализацию в России начали активно сооружать еще в конце позапрошлого века, но только лишь в 1952 году подавляющее большинство фабрик и заводов, равно как и тысячи городов и рабочих поселков, обзавелись наконец уборными современного типа.
Список литературы
Башкирова Г. Б. Наедине с собой. – М.: Молодая гвардия, 1975.
Бароян О. В. Закономерности и парадоксы. Раздумья об эпидемиях и иммунитете, о судьбах ученых и их труде. – М.: Знание, 1986.
Биография. – М., 2007, № 10.
Биография. – М., 2009, № 9.
Богданов В. В., Попова С. Н. Истории обыкновенных вещей. – М.: Педагогика-Пресс, 1992.
Буровик К. А. Родословная вещей. – М.: Знание, 1991.
Бушков А. А. Россия, которой не было. – М.: ОЛМА-ПРЕСС; СПб.: «Нева»; Красноярск: «Бонус», 1997.
Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – М.: Высшая школа, 1988.
Виргинский В. С. Очерки истории науки и техники XVI–XIX веков. – М.: Просвещение, 1984.
Вокруг света. – М., 2005, № 9.
Вуд Дж. Солнце, Луна и древние камни. – М., 1981.
Гельб И. Е. Опыт изучения письма. – М.: Радуга, 1982.
Герцен А. И. Собрание сочинений в восьми томах. Тома IV и V. – М.: Издательство «Правда». Библиотека «Огонек», 1975.
Гиляровский В. А. Москва и москвичи. – СПб.: Азбука-классика, 2004.
Гуревич А. Я. Походы викингов. – М.: КДУ, 2005.
Гюго В. Отверженные. – М.: ОГИЗ, 1948.
Джеймс П., Торп Н. Древние изобретения. – Мн.: ООО «Попурри», 1997.
Джонс Г. Викинги. Потомки Одина и Тора. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2005.
Добльхофер Эрнст. Знаки и чудеса. – М.: Восточная литература, 1963.
Звезда. – М., 2009, № 4.
Знание – сила. – М., 2002, № 2.
Ильин М. Рассказы о вещах. – М.: Детская литература, 1968.
Истрин В. А. Возникновение и развитие письма. – М.: Наука, 1965.
Калюжный Д. В., Жабинский А. М. Другая история войн. От палок до бомбард. – М.: Вече, 2004.
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Повести. – М.: Правда, 1980.
Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. – М.: Прогресс, 1983.
Ланге П. В. Горизонты Южного моря: История морских открытий в Океании. – М.: Прогресс, 1987.
Липс Ю. Происхождение вещей. – М.: Иностранная литература, 1954.
Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий: Пособие для учителя. – Л.: Просвещение, 1983.
Маркиз де-Кюстин. Николаевская Россия. – М.: «Терра», 1990.
Ренуар Ж. Огюст Ренуар. – М.: Искусство, 1970.
Родина. – М., 2002, № 7.
Родина. – М., 2004, № 12.
Словарь иностранных слов. – М.: Рус. яз., 1986.
Снисаренко А. Б. Властители античных морей. – М.: Мысль, 1986.
Советский энциклопедический словарь. – М.: Сов. энциклопедия, 1987.
Сорокина Т. С. История медицины: Учебник. – М.: ПАИМС, 1994.
Те Ранги Хироа (П. Бак). Мореплаватели солнечного восхода. – М.: Географгиз, 1959.
Фолсом Франклин. Книга о языке. – М.: Прогресс, 1977.
Ханке Х. Люди, корабли, океаны. – Л.: Судостроение, 1976.
Ханке Х. На семи морях: Моряк, смерть и дьявол. Хроника старины. – М.: Мысль, 1989.
Примечания
1
Ныне город Энгельс Саратовской области.
(обратно)2
Один дюйм – 2,54 см, так что шестидюймовый ствол имеет в поперечнике более 15 сантиметров.
(обратно)3
Гран ку – великий подвиг. В старину индейцы называли большую победу просто «ку», а великий подвиг – «гранку». Терминология, вероятнее всего, была позаимствована у канадских французов. Каждый индеец вел особый счет своим «ку», и за каждый подвиг он имел право воткнуть в свою шапку еще одно орлиное перо, а в случае особой удачи – с красной волосяной кисточкой на конце.
(обратно)4
Носок (или носик) – верхняя угловая часть лезвия в отличие от пятки – нижнего угла.
(обратно)5
Война между Англией и Францией, спровоцированная династической неразберихой. Продолжалась с перерывами больше ста лет (с 1337 по 1453 год) и закончилась изгнанием англичан с континента.
(обратно)6
Йомен (английское yeomen) – свободный английский крестьянин, ведший самостоятельное хозяйство.
(обратно)7
Апачи – одно из племен североамериканских индейцев.
(обратно)8
Владимир I Святой (Владимир Красное Солнышко русских былин) – младший сын Святослава, князь новгородский с 969 года и киевский – с 980-го. В 988 году утопил в Днепре языческих идолов и ввел на Руси христианство в качестве государственной религии. Год рождения неизвестен, умер в 1015 году.
(обратно)9
Неолит – новый каменный век, охватывает период с VIII по III тысячелетие до новой эры.
(обратно)10
Август II Сильный (1670–1733) – курфюрст Саксонии с 1694 года и польский король в 1697–1706 и 1709–1733 годах.
(обратно)11
Юстиниан I (483–565) – византийский император с 527 года. Восстановил Римскую империю почти в прежних границах (отвоевал Северную Африку, Сицилию, Италию и часть Испании) и построил храм св. Софии в Константинополе.
(обратно)12
Полевой шпат – один из самых распространенных минералов в земной коре. По химическому составу представляет собой изоморфную смесь алюмосиликатов калия, натрия и кальция. При изготовлении фарфора его иногда заменяют другим алюмосиликатом – слюдой.
(обратно)13
Фаянс (от французского faience, по названию итальянского города Faenza – Фаэнца, где производили фаянс) отличается от фарфора не только режимом обжига, но и несколько иным соотношением компонентов. Производство фаянса в Европе началось в XVI веке.
(обратно)14
Поташ – это карбонат калия, а сода – карбонаты натрия. Мел – тонкозернистый мягкий известняк, сложенный известковыми скелетами микроорганизмов.
(обратно)15
Сурик – природный пигмент. Бывает двух видов: железный в виде оксида железа Fe2O3, в диапазоне цветовой гаммы от желто-красного до вишневого, и свинцовый в виде оксида свинца Pb2O4 – от светло-оранжевого до красного.
(обратно)16
Древнеримские города Помпеи, Геркуланум и Стабия погибли при извержении Везувия в 79 году после Рождества Христова.
(обратно)17
Упанишады («сокровенное знание» в переводе с санскрита) – древнеиндийское сочинение религиозно-философского характера, комментарий к Ведам.
(обратно)18
Лев X (1475–1521) – римский папа с 1513 года.
(обратно)19
Никон, в миру Никита Минов (1605–1681), получил сан патриарха в 1652 году. Автор церковной реформы XVII века, спровоцировавшей раскол.
(обратно)20
Четвертичные гоминиды – наши далекие предки, уверенно ходившие на двух ногах. Научились обтесывать гальку с одного края, но внешне мало чем отличались от обезьян. И хотя возраст древнейших каменных орудий составляет 2,6 миллиона лет, современные антропологи считают, что очеловечивание началось много раньше – около семи миллионов лет назад.
(обратно)21
Homo erectus, человек прямоходящий, впервые откопанный голландцем Эженом Дюбуа на острове Ява в 1891 году. Его окрестили питекантропом, то есть обезьяночеловеком, что не совсем справедливо. Несмотря на плоский череп с убегающим назад лбом, он был строен, как пальма, и лихо орудовал ручным рубилом, а его потомки жгли костры и охотились на крупных копытных, бросая в них заостренные сосновые копья.
(обратно)22
Homo neanderthalensis (он же палеоантроп), по современным представлениям, поздний подвид эректуса, сгинувший в коридорах эволюции около 30 тысяч лет назад. Возможно, был истреблен (и съеден) людьми современного типа – Homo sapiens.
(обратно)23
Неолит (новый каменный век) – примерно VIII–III тысячелетие до новой эры, время перехода от присваивающего хозяйства (охота и собирательство) к производящему (земледелие и скотоводство).
(обратно)24
Месопотамия (Двуречье) – историческая область в среднем и нижнем течении Тигра и Евфрата (на территории современного Ирака), один из древнейших очагов цивилизации. Как и в Древнем Египте, колесо здесь начали применять еще в IV тысячелетии до новой эры.
(обратно)25
Ольмекская культура датируется II–I тысячелетием до новой эры, а город Караль, обнаруженный недавно археологами в Перу, является ровесником Шумера и раннединастического Египта. Оказывается, ступенчатые пирамиды умели строить еще в конце IV – начале III тысячелетия до новой эры.
(обратно)26
Дени Дидро (1713–1784) – французский писатель и философ.
(обратно)27
Жан Лерон Д’Аламбер (1717–1783) – французский математик, механик и философ-просветитель.
(обратно)28
Ватерлоо – городок в Бельгии, возле которого Наполеон Бонапарт потерпел сокрушительное поражение от войск английского герцога Веллингтона. Как известно, маршал Груши безнадежно опоздал, а вот пруссак Блюхер, союзник британцев, явился вовремя, решив исход сражения.
(обратно)29
Известный французский банкир, основатель могущественной финансовой империи.
(обратно)30
Речное плоскодонное судно с мачтой, используемое в качестве парома.
(обратно)31
Почтальоны.
(обратно)32
Франсуа Рене де Шатобриан (1768–1848) – известный французский писатель и политический деятель.
(обратно)33
Пятнадцать копеек.
(обратно)34
Характер – в данном контексте «положение».
(обратно)35
Предания и воспоминания В. В. Селиванова. СПб., 1881.
(обратно)36
Дежурное выражение Чеботарева.
(обратно)37
Этимология слова «вокзал» весьма примечательна. Первоначально Vauxhall – это увеселительный парк под Лондоном, названный так по фамилии владелицы Джейн Вокс. Впоследствии термин проделал семантическую эволюцию, и вокзалами стали называть станционные здания для пассажиров.
(обратно)38
Каботаж – плавание вдоль берегов.
(обратно)39
Римляне называли карфагенян пунами или пунийцами.
(обратно)40
Около 64-го градуса северной широты.
(обратно)41
Галфинд (от голландского halfwind, буквально – «половина ветра»), курс парусного судна, при котором его продольная ось перпендикулярна направлению ветра. Бейдевинд – курс парусного судна, когда его продольная ось образует с направлением ветра угол меньше 90 градусов (если считать углы от носа судна).
(обратно)42
Портовый город на юго-западе Норвегии.
(обратно)43
Неведомая земля (лат.).
(обратно)44
Океания – россыпь коралловых и вулканических островов в центральной и юго-западной части Тихого океана, между Австралией и Малайским архипелагом на западе и широкой, лишенной островов полосой Великого океана на востоке, севере и юге. Иногда выделяется в самостоятельную часть света и подразделяется на Меланезию, Микронезию и Полинезию.
(обратно)45
Род древовидных растений.
(обратно)46
Узел – одна морская миля в час. Морская миля равна 1,852 км.
(обратно)47
Поворот парусного судна против ветра с одного галса на другой, когда судно пересекает линию ветра носом.
(обратно)48
Ганза – торговый и политический союз северо-немецких городов в XIV–XVI веках во главе с Любеком, которому принадлежала торговая гегемония в Северной Европе. Важнейшие опорные пункты – Брюгге, Новгород, Лондон, Берген.
(обратно)49
Носовой отсек на судне, расположенный непосредственно у форштевня.
(обратно)50
Твиндек – межпалубное помещение для экипажа, пассажиров или груза на судах, имеющих несколько палуб.
(обратно)51
Небольшой островок из группы Малых Антильских островов в бассейне Карибского моря.
(обратно)52
Рангоутное дерево, продолжение мачты.
(обратно)53
Рангоут – совокупность круглых деревянных частей оснащения судна (мачты, стеньги, бушприт, гафели и т. д.).
(обратно)54
Героиня романа Вальтера Скотта «Айвенго».
(обратно)55
Кравчий – слуга, подающий мясо.
(обратно)56
Дож – глава Венецианской республики с конца VII и по XVIII век, избирался пожизненно.
(обратно)57
Цитата (по памяти) из повести Александра Житинского.
(обратно)58
Палеолит – буквально древний каменный век. Верхний палеолит обычно связывают с орудийной деятельностью человека современного типа, когда произошла своего рода промышленная революция в сфере каменных технологий.
(обратно)59
Алексей Михайлович Тишайший (1629–1676) – второй русский царь из династии Романовых (с 1645 года), отец Петра I.
(обратно)60
Старинная мера длины, равнявшаяся 38–46 сантиметрам.
(обратно)61
Луораветланы – самоназвание чукчей, что в переводе означает «настоящие люди».
(обратно)62
Тангитанами чукчи называли русских.
(обратно)63
Слово происходит от английского pemmican, которое, в свою очередь, заимствовано из языка индейцев алгонкинов.
(обратно)64
Анатолия – Малая Азия, территория современной Турции.
(обратно)65
Генисаретское озеро (оно же Тивериадское) расположено на территории современного Израиля. Через него протекает река Иордан.
(обратно)66
Лаконика (Лакония, Лакедемон) – юго-восточная часть Пелопоннеса, где в древности располагалась Спарта.
(обратно)67
Парфия – государство к юго-востоку от Каспия, на территории современного Ирана. Испанский пролив – Гибралтарский пролив.
(обратно)68
Модная шляпа, названная в честь Симона Боливара (1783–1830), возглавившего в начале XIX столетия борьбу за независимость испанских колоний в Южной Америке.
(обратно)69
Известный петербургский ресторатор.
(обратно)70
Демут и Дюме – известные питерские рестораторы. Куртизаны (от французского courtisan) здесь – царедворцы. Замечание О. А. Жеребцовой в духе времени: семейному человеку считалось неприличным обедать в ресторации, где по вечерам собирался устойчивый круг шумной холостой молодежи. Пушкин писал жене: «Обедаю у Дюме часа в два, чтоб не встретиться с холостою шайкою».
(обратно)71
Кяхта – город в Бурятии на границе России и Монголии.
(обратно)72
Около трех литров.
(обратно)73
Шестнадцать килограммов.
(обратно)74
Дервиш – нищенствующий мусульманский монах, член суфийского ордена. Суфизм – религиозно-мистическое направление в исламе, отрицающее мусульманскую обрядность и проповедующее аскетизм.
(обратно)75
Кольбер – министр финансов «короля-солнце» Людовика XIV.
(обратно)76
Ацтеки практиковали человеческие жертвоприношения: на вершине ступенчатой пирамиды жрец особым ритуальным ножом из обсидиана вскрывал пленнику грудную клетку и вырезал сердце.
(обратно)77
Препарат, подстегивающий половое влечение.
(обратно)78
По-латыни – Fiat lux, хотя доподлинно неизвестно, на каком языке Господь Бог произнес эти слова.
(обратно)79
Портшез – носилки, разновидность паланкина. Фиакр – наемный городской экипаж.
(обратно)80
Аршин – старинная мера длины, примерно 71 сантиметр.
(обратно)81
Софья Львовна Перовская (1853–1881) – революционерка, член исполкома «Народной воли», участница и организатор покушений на Александра II. Повешена в Петербурге третьего апреля 1881 года.
(обратно)82
Томас Алва Эдисон (1847–1931) – выдающийся американский ученый, запатентовавший свыше тысячи изобретений, главным образом в различных областях электротехники.
(обратно)83
Александр Николаевич Лодыгин (1847–1923) – российский электротехник. Изобрел угольную лампу накаливания в 1872 году (патент 1874 года). Впоследствии предложил лампочку с металлической нитью.
(обратно)84
Люминофоры – органические и неорганические вещества, способные светиться под действием извне.
(обратно)85
Псалтырь (Псалтирь) – сборник псалмов, одна из книг Библии, содержащая 150 псалмов. Псалмы – религиозные песнопения иудеев, вошедшие в христианский культ.
(обратно)86
Аристофан (445–385 до новой эры) – древнегреческий поэт-комедиограф, заслуживший почетный титул «отца комедии».
(обратно)87
У вавилонян, выдающихся математиков и геометров Древнего мира, была в ходу шестидесятиричная система счисления (десятичную и двенадцатиричную они тоже широко использовали), осколки которой благополучно дожили до наших дней. Мы и сегодня делим час на 60 минут, а минуту – на 60 секунд.
(обратно)88
Саладин (Салах-ад-дин) – египетский султан с 1171 года и основатель династии Айюбидов. Успешно воевал с крестоносцами.
(обратно)89
Фридрих II Штауфен – король Сицилии с 1197 года, германский король с 1212-го, император Священной Римской империи с 1220 года.
(обратно)90
Эдуард I (1239–1307) из династии Плантагенетов стал английским королем в 1272 году.
(обратно)91
Карл V Мудрый из династии Валуа (1338–1380) стал королем Франции в 1364 году. Таким образом, французы обзавелись башенными часами через сто лет после англичан.
(обратно)92
Французская монета (сначала золотая, а затем серебряная и медная) достоинством в одну двадцатую ливра.
(обратно)93
Людовик XI (1423–1483) – король Франции из династии Валуа, занявший престол в 1461 году. Расчетливый и хитрый монарх, умело стравливавший своих недругов – от бургундского герцога Карла Смелого до выборных правителей свободных швейцарских кантонов. Читайте роман Вальтера Скотта «Квентин Дорвард».
(обратно)94
Яков I Стюарт (1566–1625) – сын Марии Стюарт и английский король с 1603 года.
(обратно)95
Кроманьонский человек (или кроманьонец) – человек современного типа, проникший в Европу около 40 тысяч лет назад. Получил свое имя в честь грота Кроманьон, где французский археолог Ларте впервые обнаружил ископаемые останки доисторических «сапиенсов».
(обратно)96
Культура верхнего палеолита в Западной Европе, отличающаяся изумительным по качеству выделки каменным инвентарем первых кроманьонцев.
(обратно)97
Скифы – кочевой народ в Северном Причерноморье (VII–III века до новой эры), тревоживший набегами страны Ближнего Востока.
(обратно)98
Слово bill первоначально означало «счет» или «вексель».
(обратно)99
Слова eye (глаз) и I (я) произносятся совершенно одинаково.
(обратно)100
Критская культура бронзового века получила название минойской в честь легендарного царя Миноса.
(обратно)101
А если бы Острожская Библия писалась не на дешевой бумаге, а на дорогом пергаменте, сколько бы она тогда стоила и во что обошлась потенциальному библиофилу?
(обратно)102
Один из главных героев «Отверженных». Действие романа происходит в 20–30-х годах XIX века.
(обратно)103
Вождь галлов в I веке до новой эры.
(обратно)104
От итальянского quarante – «сорок». Подозрительных на чуму людей изолировали на сорок суток в специальных помещениях, и если за это время никто из них не заболевал, их свободно выпускали в город.
(обратно)105
Древнегреческий город-государство на острове Сицилия, основанный в VIII веке до новой эры.
(обратно)106
Аттический стадий равнялся 185 м, а вавилонский – 195 м, но полной ясности в этих вопросах нет. Как бы там ни было, но 10 стадиев это весьма приличное расстояние – около двух километров.
(обратно)107
Этруски – загадочный народ, населявший в древности северо-запад Апеннинского полуострова. До установления в Риме республики (509 год до н. э.), в так называемый царский период, они оказали заметное влияние на римские дела и культуру, а последние римские цари из династии Тарквиниев и вовсе были этрусками по происхождению.
(обратно)108
Вавилонский царь, правивший в 1792–1750 годах до новой эры.
(обратно)109
Водосточные желоба, заканчивающиеся головой дельфина с открытым ртом.
(обратно)110
То же, что кеб в Англии – легкий наемный экипаж.
(обратно)111
Майотены (молотобойцы) – участники народного восстания 1382 года, выступавшие против роста налогового гнета во времена Столетней войны 1337–1453 гг.
(обратно)112
Французские кальвинисты, жестоко преследовавшиеся католической церковью. В ночь на 24 августа 1572 года католики учинили массовую резню на улицах Парижа, получившую название Варфоломеевской ночи.
(обратно)113
Иллюминаты – тайная религиозно-мистическая секта. Морена сожгли в Париже как еретика в 1663 году.
(обратно)114
Великий французский поэт XV века (1431 – после 1463), грабитель и убийца, приговоренный однажды к смертной казни через повешение, но впоследствии помилованный. Некоторые из его поэм до сих пор не расшифрованы, поскольку написаны на средневековом воровском арго.
(обратно)115
Франсуа Рабле – французский писатель-гуманист (1494–1553), автор сатирического философского романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».
(обратно)116
Из глубины (лат.).
(обратно)117
Прозвище Наполеона Бонапарта.
(обратно)118
Раскавыченная и вольная цитата из романа братьев Стругацких «Трудно быть богом».
(обратно)119
Дональд Рейд, автор книги о парижской канализации, на которую Вебер неоднократно ссылается в своей статье.
(обратно)120
Туалет.
(обратно)121
Записки графа М. Д. Бутурлина. – «Русский архив», 1897, №№ 5–8.
(обратно)


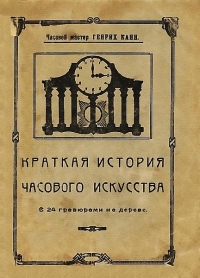

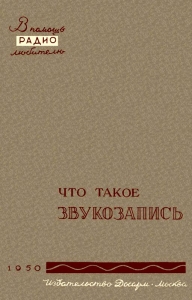



Комментарии к книге «1000 сногсшибательных фактов из истории вещей», Лев Вадимович Шильников
Всего 0 комментариев