Евгений Тарле Наполеон
Глава I. Молодые годы Наполеона Бонапарта
В городе Аяччо, на острове Корсике, 15 августа 1769 г. 19-летняя жена одного местного дворянина, занимавшегося адвокатской практикой, Летиция Бонапарте, находясь вне дома, почувствовала внезапное приближение родовых мук, успела вбежать в гостиную и тут родила ребенка. Около родильницы никого в этот момент не оказалось, и ребенок из чрева матери упал на пол. Так совершилось прибавление семейства у небогатого адвоката корсиканского городка Аяччо Карло Бонапарте. Адвокат решил дать в будущем своему сыну воспитание не корсиканское, а французское и, когда мальчик подрос, добился определения его на казенный счет в одно из французских военных училищ: учить сына на свой счет у многодетной семьи средств не было.
Остров Корсика, долгое время принадлежавший Генуэзской торговой республике, восстал против Генуи под предводительством одного местного землевладельца (Паоли) и в 1755 г. прогнал генуэзцев. Это было, по-видимому, восстанием мелкопоместных дворян и землевладельцев, поддержанных в данном случае охотниками, скотоводами в горах, беднотой в немногих городах, словом, населением, желавшим избавиться от беззастенчивой эксплуатации со стороны совершенно чуждой им купеческой республики, от фискального и административного гнета. Восстание увенчалось успехом, и с 1755 г. Корсика жила в качестве самостоятельного государства под управлением Паоли. На Корсике были сильны еще (особенно во внутренних частях острова) пережитки родового быта. Жили кланами, ведшими иногда долгую и ожесточенную войну между собой. Кровная месть (вендетта) была в очень большом ходу и нередко кончалась громадными побоищами между отдельными кланами.
В 1768 г. Генуэзская республика продала свои уже фактически несуществующие «права» на Корсику французскому королю Людовику XV, и весной 1769 г. французские войска разгромили отряд Паоли (дело было в мае 1769 г., за три месяца до рождения Наполеона). Корсику провозгласили владением Франции.
Годы детства Наполеона проходили, таким образом, как раз тогда, когда на острове еще живы были сожаления о так внезапно вновь утраченной политической самостоятельности, а вместе с тем частью землевладельцев и городской буржуазии овладевала мысль, не стать ли окончательно, не за страх, а за совесть, подданными Франции. Отец Наполеона, Карло Бонапарте, примкнул к «французской» партии, но маленький Наполеон жалел об изгнанном защитнике Корсики Паоли и ненавидел французских пришельцев.
Характер у Наполеона с раннего детства оказался нетерпеливым и неспокойным. «Ничто мне не импонировало, — вспоминал он впоследствии, — я был склонен к ссорам и дракам, я никого не боялся. Одного я бил, другого царапал, и все меня боялись. Больше всего приходилось от меня терпеть моему брату Жозефу. Я его бил и кусал. И его же за это бранили, так как бывало еще до того, как он придет в себя от страха, я уже нажалуюсь матери. Мое коварство приносило мне пользу, так как иначе мама Летиция наказала бы меня за мою драчливость, она никогда не потерпела бы моих нападений!»
Наполеон рос ребенком угрюмым и раздражительным. Мать любила его, но воспитание и ему и другим своим детям дала довольно суровое. Жили экономно, но нужды семья не испытывала. Отец был человек, по-видимому, добрый и слабохарактерный. Истинным главой семьи была Летиция, твердая, строгая, трудолюбивая женщина, в руках которой находилось воспитание детей. Любовь к труду и к строгому порядку в делах Наполеон унаследовал именно от матери.
Обстановка этого уединенного от всего света острова, с его довольно диким населением в горах и лесных чащах, с нескончаемыми междуклановыми столкновениями, с родовой кровной местью, с тщательно скрываемой, но упорной враждой к пришельцам-французам, сильно отразилась на юных впечатлениях маленького Наполеона.
В 1779 г., после больших хлопот, отцу удалось отвезти двух старших детей — Жозефа и Наполеона — во Францию и поместить их в Отенский колледж, а весной того же 1779 г. 10-летний Наполеон был переведен и помещен на казенную стипендию в военном училище в г. Бриенне, в восточной Франции. В Бриеннском военном училище Наполеон оставался угрюмым, замкнутым мальчиком; он быстро и надолго раздражался, не искал ни с кем сближения, смотрел на всех без почтения, без приязни и без сочувствия, очень в себе уверенный, несмотря на свой малый рост и малый возраст. Его пробовали обижать, дразнить, придираться к его корсиканскому выговору. Но несколько драк, яростно и не без успеха (хотя и не без повреждений) проведенных маленьким Бонапартом, убедили товарищей в небезопасности подобных столкновений. Учился он превосходно, прекрасно изучил историю Греции и Рима. Он увлекался также математикой и географией. Учителя этой провинциальной военной школы сами не очень были сильны в преподаваемых ими науках, и маленький Наполеон пополнял свои познания чтением. Читал он и в этот ранний период и впоследствии всегда очень много и очень быстро. Французских товарищей удивлял и отчуждал от него его корсиканский патриотизм: для него французы были тогда еще чуждой расой, пришельцами-завоевателями родного острова. Со своей далекой родиной, впрочем, он в эти годы общался только через письма родных: не такие были у семьи средства, чтобы выписывать его на каникулы домой.
В 1784 г., 15 лет, он с успехом окончил курс и перешел в Парижскую военную школу, откуда уже выпускались офицеры в армию. Здесь были собраны первостепенные преподавательские силы: достаточно сказать, что среди преподавателей были знаменитый математик Монж и астроном Лаплас. Наполеон с жадностью слушал лекции и читал. Тут было чему и у кого поучиться. Но в первый же учебный год его постигло несчастье: он поступил в Парижскую школу в конце октября 1784 г., а в феврале 1785 г. скончался его отец Карло Бонапарте от той самой болезни, от которой впоследствии умер и сам Наполеон: от рака желудка. Семья осталась почти без средств. На старшего брата Наполеона, Жозефа, надежда была плоха: он был и неспособен и ленив, 16-летний юнкер взял на себя заботу о матери, братьях и сестрах. После годичного пребывания в Парижской военной школе он вышел 30 октября 1785 г. в армию с чином подпоручика и отправился в полк, стоявший на юге, в г. Валенсе.
Трудно жилось молодому офицеру. Большую часть жалованья он отсылал матери, оставляя себе только на самое скудное пропитание, не позволяя себе ни малейших развлечений. В том же доме, где он снимал комнату, помещалась лавка букиниста, и Наполеон все свободное время стал проводить за чтением книг, которые давал ему букинист. Общества он чуждался, да и одежда его была так невзрачна, что он и не хотел и не мог вести сколько-нибудь светскую жизнь. Читал он запоем, с неслыханной жадностью, заполняя заметками и конспектами свои тетради.
Больше всего его интересовали книги по военной истории, математике, географии, описания путешествий. Читал он и философов. Именно в эту пору он ознакомился с классиками просветительной литературы XVIII в. — Вольтером, Руссо, Даламбером, Мабли, Рэйналем.
Трудно установить, когда именно появляются в нем первые признаки того отвращения к идеологам революционной буржуазии и ее философии, которое так для него характерно. Во всяком случае, 16-летний подпоручик пока еще не столько критиковал, сколько учился. Это тоже коренная черта его ума: ко всякой книге, так же как и ко всякому новому человеку, он приближался в эти начальные годы своей жизни с жадным и нетерпеливым желанием поскорее и как можно полнее извлечь то, чего он еще не знает и что может дать пищу его собственной мысли.
Читал он и беллетристику и стихи; увлекался «Страданиями молодого Вертера» и некоторыми другими вещами Гете; читал Расина, Корнеля, Мольера, нашумевшую тогда книгу стихов, приписанных средневековому шотландскому барду Оссиану (это была искусная литературная подделка); от этого чтения снова бросался к математическим трактатам, к книгам военного содержания, особенно к сочинениям об артиллерийском деле.
В сентябре 1786 г. он испросил себе долговременный отпуск и уехал в Аяччо, на родину, устраивать материальные дела своей семьи. Умирая, его отец завещал небольшое имение и довольно запутанные дела. Наполеон деятельно и успешно занялся этими делами и поправил материальное положение семьи. Отпуск свой ему удалось продлить до середины 1788 г., хотя, по-видимому, и без сохранения содержания. Но результаты его работы по дому и имению покрыли все.
Вернувшись в июне 1788 г. во Францию, он вскоре со своим полком был отправлен в г. Оксонн. Здесь он жил уже не на частной квартире, а в казарме и продолжал с прежней жадностью читать решительно все, что попадало под руку, и в частности основные труды по военным вопросам, волновавшим военных специалистов XVIII в. Однажды, посаженный за что-то на гауптвахту, он совершенно случайно нашел в помещении, где был заперт, неизвестно как попавший сюда старый том юстиниановского сборника (по римскому праву). Он не только прочел его от доски до доски, но потом, почти 15 лет спустя, изумлял знаменитых французских юристов на заседаниях по выработке Наполеоновского кодекса, цитируя наизусть римские дигесты. Память у него была исключительная.
Способность к упорнейшему умственному труду, к долгому размышлению сказалась в нем уже в этот ранний период. «Если кажется, что я всегда ко всему подготовлен, то это объясняется тем, что раньше чем что-либо предпринять, я долго размышлял; уже прежде я предвидел то, что может произойти. Вовсе не гений внезапно и таинственно (en secret) открывает мне, что именно мне должно говорить и делать при обстоятельствах, кажущихся неожиданными для других, — но мне открывает это мое размышление. Я работаю всегда, работаю во время обеда, работаю, когда я в театре; я просыпаюсь ночью, чтобы работать», — так говорил он неоднократно впоследствии. О своей гениальности он упоминал часто с каким-то легким налетом иронии или насмешливости, а о своей работе — всегда с большой серьезностью и с большой настойчивостью. Он гордился своей колоссальной работоспособностью больше, чем какими бы то ни было другими дарами, какими наделила его столь неограниченно щедрая к нему природа.
Тут, в Оксонне, он и сам берется за перо и составляет небольшой трактат по баллистике («О метании бомб»). Артиллерийское дело окончательно становится его излюбленной военной специальностью. Остались в его бумагах от этого времени также и кое-какие беллетристические наброски, философско-политические этюды и т.п. Здесь он частенько высказывается более или менее либерально, иногда прямо повторяет некоторые мысли Руссо, хотя в общем его никак нельзя назвать последователем идей «Общественного договора». В эти годы его жизни бросается в глаза одна черта: полное подчинение страстей и желаний воле и рассудку. Он живет впроголодь, избегает общества, не сближается с женщинами, отказывает себе в развлечениях, работает без устали, сидит за книгами все свободное от службы время. Согласился ли он окончательно удовольствоваться своей долей — долей небогатого провинциального офицера, корсиканского дворянина из бедных, на которого аристократы-товарищи и аристократы-начальники всегда будут смотреть сверху вниз?
Он не успел ясно сформулировать ответ на этот вопрос и еще меньше успел конкретно развить планы будущего, как сначала зашаталась, потом надломилась, потом провалилась та сцена, на которой он готовился действовать: грянула Французская революция.
Те бесчисленные биографы и историки Наполеона, которые склонны наделять своего героя сверхъестественными качествами мудрости, пророческого дара, вдохновенного следования своей звезде, хотят уловить в 20-летнем артиллерийском поручике оксоннского гарнизона предчувствие того, чем для него лично будет разразившаяся в 1789 г. революция.
На самом деле все обстояло гораздо проще и естественнее: по социальному своему положению Наполеон мог только выиграть от победы буржуазии над феодально-абсолютистским строем. В Корсике дворяне (а особенно мелкопоместные) никогда не пользовались даже и в генуэзские времена теми правами и преимуществами, какими так дорожили дворяне французские; на большую и быструю карьеру по военной службе мелкопоместный провинциал с далекого, недавно французами завоеванного дикого итальянского острова ни в коем случае рассчитывать не мог. Если чем и могла пленить его революция 1789 г., так это именно тем, что только теперь личные способности могли содействовать восхождению человека по социальной лестнице. Для начала артиллерийскому поручику Бонапарту ничего больше не требовалось.
Практические заботы охватили его. Как для него выгоднее всего использовать революцию? И где сделать это лучше? Ответов было два: 1) на Корсике, 2) во Франции. Преувеличивать размеры и температуру его корсиканского патриотизма в тот момент ни в коем случае не следует. Поручик Бонапарт в 1789 г. не напоминал уже того 10-летнего злого волчонка, который так больно дрался во дворе Бриеннской военной школы, когда товарищи передразнивали его корсиканский акцент. Теперь он знал, что́ такое Франция и что́ такое Корсика, мог сравнивать масштабы и понимал, конечно, всю несоизмеримость этих масштабов. Но дело в том, что даже и в 1789 г. он не мог надеяться на то место во Франции, которое именно теперь, когда разразилась революция, он мог, при счастливых обстоятельствах, занять на Корсике. Спустя два с половиной месяца после штурма Бастилии Наполеон отпросился в отпуск и уехал на Корсику.
Между многими другими литературными набросками Наполеон как раз в 1789 г. закончил очерк истории Корсики, который он в рукописи дал для отзыва Рэйналю, и очень был обрадован лестным отзывом этого тогда популярного писателя. Самая тема показывает живейший его интерес к родному острову еще до появления возможности начать там политическую деятельность. Прибыв домой, к матери, он немедленно объявил себя сторонником возвратившегося из долгого изгнания Паоли, но тот отнесся к молодому лейтенанту весьма холодно, а очень скоро обнаружилось, что им и вовсе не по пути. Паоли норовил совершенно освободить Корсику от французского владычества, а Бонапарт учитывал, что французская революция открывает новые пути для развития Корсики, а может быть, — и это главное — для его собственной карьеры.
Пробыв на Корсике несколько месяцев и не добившись никаких результатов, он снова уезжает в полк и увозит с собой младшего брата Людовика, чтобы несколько уменьшить расходы по дому для матери. Братья поселились в Валансе, куда снова перевели полк. Лейтенант Бонапарт должен был теперь жить вдвоем с братом и давать ему воспитание на свое очень скудное жалованье. Иногда приходилось обедать одним куском хлеба. Наполеон продолжал усиленно работать по службе и читать запоем разнообразнейшую литературу, усердно налегая на военную историю.
В сентябре 1791 г. он снова попал на Корсику, куда ему удалось получить перевод по службе. На этот раз он окончательно разошелся с Паоли, потому что тот уже прямо вел дело к отторжению острова от Франции, чего Наполеон ни в коем случае не хотел. Когда в апреле 1791 г. разгорелась борьба между контрреволюционным духовенством, всецело поддерживавшим сепаратиста Паоли, и представителями революционных властей, то Бонапарт даже стрелял в мятежную толпу, напавшую на предводительствуемый им отряд. В конце концов он стал подозрителен к властям, так как сделал попытку завладеть крепостью (без распоряжения сверху). Он уехал во Францию, где ему необходимо было немедленно явиться в Париж, в военное министерство, чтобы оправдаться в своем несколько сомнительном поведении на Корсике. Приехал он в столицу в конце мая 1792 г. и был личным свидетелем бурных революционных событий этого лета.
У нас есть точные данные, чтобы судить, как 23-летний офицер отнесся к двум центральным событиям этих месяцев: к вторжению народной массы в Тюильрийский дворец — 20 июня — и к свержению монархии — 10 августа 1792 г. Будучи не участником, а лишь посторонним, случайным свидетелем и имея возможность высказаться оба раза в интимном кругу, он мог совершенно свободно дать простор истинным своим чувствам, всем своим инстинктам. И его высказывания не оставляют никаких сомнений в смысле их полнейшей ясности и недвусмысленности: «Пойдем за этими канальями», — сказал он Бурьену, с которым был на улице, видя толпу, шедшую к королевскому дворцу 20 июня. Когда перепуганный этой грозной демонстрацией Людовик XVI поклонился толпе из окна, к которому подошел в красной фригийской шапке (одной из эмблем революции), Наполеон сказал с презрением: «Какой трус! Как можно было впустить этих каналий! Надо было смести пушками 500–600 человек, — остальные разбежались бы!» Я смягчаю эпитет, примененный Наполеоном к Людовику XVI, так как передать его в точности в печати нет ни малейшей возможности. 10 августа (в день штурма Тюильри и низвержения Людовика XVI) он снова на улице и снова повторяет этот эпитет по отношению к королю, а революционных повстанцев обзывает «самой гнусной чернью».
Конечно, он не мог, стоя в толпе и глядя на штурм Тюильри 10 августа 1792 г., знать, что французский трон, с которого в этот момент сгоняют Людовика XVI, тем самым очищается именно для него, Бонапарта, так же как стоявшие вокруг него массы, восторженными криками приветствовавшие рождение республики, не могли подозревать, что этот незаметный, затерянный в толпе, худой, маленький молодой офицер в поношенном сюртуке задушит эту республику и станет самодержавным императором. Но интересно отметить этот инстинкт, заставлявший Наполеона уже тогда думать о картечи как о наиболее подходящем способе отвечать на народные восстания.
Он побывал еще раз на Корсике. Но приехал он туда как раз в тот момент, когда Паоли окончательно решил отделить Корсику от Франции и предался англичанам. Наполеону удалось незадолго до захвата острова англичанами, после долгих приключений и опасностей, бежать с Корсики и увезти с собой мать и всю семью. Это было в июне 1793 г. Едва они скрылись, как дом их был разграблен сепаратистами — приверженцами Паоли.
Начались годы тяжелой нужды. Большая семья была совсем разорена, и молодому капитану (Наполеон получил незадолго до того этот чин) приходилось содержать мать и семерых братьев и сестер. Он их устроил кое-как сначала в Тулоне, потом в Марселе. Потянулась трудная и скудная жизнь, шел месяц за месяцем, не принося никакого просвета, и вдруг служебная лямка прервалась самым неожиданным образом.
На юге Франции разразилось контрреволюционное восстание. Роялисты Тулона в 1793 г. изгнали или перебили представителей революционной власти и призвали на помощь крейсировавший в западной части Средиземного моря английский флот. Революционная армия осадила Тулон с суши.
Осада шла вяло и неуспешно. Руководил осадой некий Карто. Политическим руководителем армии, усмирявшей восстание роялистов на юге, был знакомый Бонапарта, корсиканец Саличетти, вместе с ним выступавший против Паоли. Бонапарт посетил своего земляка в лагере возле Тулона и тут указал ему единственный способ взять Тулон и прогнать английский флот от берега. Саличетти назначил молодого капитана помощником начальника осадной артиллерии.
Штурм, произведенный в первых числах ноября, не удался, потому что командовавший в этот день Доннэ велел отступать, вопреки мнению и желанию Бонапарта, в самый решительный момент. Бонапарт был уверен, что победа осталась бы за французами, если бы не эта грубая ошибка. Сам он шел впереди штурмующей колонны и был ранен. После долгого сопротивления и проволочек со стороны высших властей, не очень доверявших какому-то совсем неизвестному молодому человеку, случайно очутившемуся в лагере, новый командующий Дюгомье разрешил ему, наконец, привести свой план в исполнение. Расположив батареи, как он давно хотел, Бонапарт, после страшной канонады, штурмом, в котором он лично участвовал, взял тот пункт (Эгильет), который был командной высотой над рейдом, и открыл огонь по английскому флоту.
После двухдневной ожесточенной канонады республиканцы 17 декабря пошли штурмом на укрепления. Штурмующих было 7 тысяч человек, и они были, после ожесточенного боя, отброшены. Но тут подоспел Бонапарт с резервной колонной, и это вмешательство решило победу. На другой день началось повальное бегство из города всех, кого англичане согласились взять на корабли. Тулон сдался на милость победителей. Республиканская армия вошла в город. Английский флот успел уйти в открытое море.
«У меня слов не хватает, чтобы изобразить тебе заслугу Бонапарта: у него знаний столь же много, как и ума, и слишком много характера, и это еще даст тебе слабое понятие о хороших качествах этого редкого офицера», — писал генерал Дютиль в Париж, в военное министерство, и с жаром рекомендовал министру сохранить Бонапарта для блага республики. Огромная роль Бонапарта и в расположении орудий, и в искусном ведении осады и канонады, и, наконец, в решающий миг штурма была ясна всему осадному корпусу.
Этот штурм произошел 17 декабря 1793 г. Таково было первое сражение, данное и выигранное Наполеоном. От 17 декабря 1793 г., когда были взяты укрепления Тулона, по 18 июня 1815 г., когда побежденный император удалился с покрытого трупами ватерлооского поля, — 22 года (с перерывами) длилась эта долгая, кровавая карьера, которая внимательно изучалась на протяжении всей эпохи национально-освободительных войн в Европе и опыт которой до сих пор подвергается систематическому исследованию.
Наполеон дал на своем веку около 60 больших и малых сражений (количественно несравненно больше, чем в совокупности дали Александр Македонский, Ганнибал, Цезарь и Суворов), и в этих битвах участвовали гораздо бо́льшие людские массы, чем в войнах его предшественников по военному искусству. Но несмотря на обилие грандиозных побоищ, с которыми связано поприще Наполеона, Тулонская победа, при всей своей сравнительной скромности, навсегда заняла в наполеоновской эпопее совсем особое место. Он впервые обратил на себя внимание. О нем впервые узнали в Париже. Комитет общественного спасения был очень рад, что наконец удалось покончить с тулонскими изменниками и отогнать от берега англичан.
Это развитие событий обещало скорую ликвидацию роялистской контрреволюции на всем юге. Тулон считался такой неприступной крепостью, что многие верить не хотели вести о его падении, о том, что какой-то никому неведомый Бонапарт мог взять его. К счастью для победителя, в осаждающем лагере, кроме Саличетти, находился еще один человек, гораздо более влиятельный: Огюстен Робеспьер, младший брат Максимилиана. Он присутствовал при взятии города, и он же описал событие в докладе, посланном в Париж. Результаты сказались немедленно: постановлением от 14 января 1794 г. Наполеон Бонапарт получил чин бригадного генерала. Ему было в этот момент 24 года отроду. Начало было сделано. Время, когда Бонапарт взял Тулон, было периодом полного владычества монтаньяров в Конвенте, временем колоссального влияния Якобинского клуба в столице и провинции, временем расцвета революционной диктатуры, победоносно и беспощадно боровшейся против внешних врагов и внутренней измены, против восстаний, поджигаемых роялистами, жирондистами, не присягнувшими священниками.
В происходившей яростной внутренней борьбе Наполеон Бонапарт не мог не видеть, что нужно выбирать между республикой, которая ему все может дать, и монархией, которая все у него отнимет и не простит ему ни взятия Тулона, ни его как раз в это время изданной небольшой брошюры «Ужин в Бокере», в которой он доказывает восставшим на юге городам, что их положение безнадежно. Весной и в начале лета комиссары Конвента на юге (и особенно Огюстен Робеспьер, под прямым влиянием Бонапарта) подготовляли вторжение в Пьемонт, в северную Италию, чтобы оттуда угрожать Австрии. Комитет общественного спасения колебался, Карно был тогда против этого плана. Влияя через Огюстена Робеспьера, Бонапарт мог надеяться на осуществление этой своей мечты: принять участие в завоевании Италии. Самая мысль была в тот момент еще необычной для французского правительства: идея защищаться от интервенции не обороной от контрреволюционной Европы, а прямым нападением на Европу, казалась еще слишком дерзкой. Планам Бонапарта не суждено было осуществиться в 1794 г. Внезапная, абсолютно не предвиденная им политическая катастрофа перевернула все вверх дном.
Чтобы поддержать лично перед своим братом и перед Комитетом общественного спасения план итальянского похода, Огюстен Робеспьер отправился в Париж. Наступило лето, нужно было решить этот вопрос. Бонапарт находился в Ницце, куда он вернулся из Генуи, выполнив секретное поручение, данное ему в связи с затевающимся походом. И вдруг из Парижа грянуло известие, которого не ждала не только далекая южная провинция, но не ждала и сама столица: пришла поразительная весть об аресте в день 9 термидора, на самом заседании Конвента, Максимилиана Робеспьера, его брата Огюстена, Сен-Жюста, Кутона, затем, попозже, их приверженцев и казни их всех на другой день без суда в силу простого объявления их вне закона. Немедленно по всей Франции начались аресты лиц, особенно близких или казавшихся близкими к главным деятелям павшего правительства. Генерал Бонапарт после казни Огюстена Робеспьера сразу оказался под ударом. Не прошло и двух недель после 9 термидора (27 июля), как он был арестован (10 августа 1794 г.) и препровожден под конвоем в антибский форт на Средиземноморском побережье. После заключения, продолжавшегося 14 дней, Бонапарт был выпущен: в его бумагах не нашлось ничего, что бы дало повод к преследованию.
Правда, в эти дни термидорианского террора погибло много людей, в той или иной степени близких к Робеспьеру или робеспьеристам, и Бонапарт мог почитать себя счастливым, что избежал гильотины. Во всяком случае по выходе из тюрьмы он сразу убедился, что времена переменились и что его счастливо начатая карьера приостановилась. Новые люди относились к нему подозрительно, да и знали его еще очень мало. Взятие Тулона не успело еще создать ему большой военной репутации. «Бонапарт? Что такое — Бонапарт? Где он служил? Никто этого не знает», — так реагировал отец молодого поручика Жюно, когда тот сообщил ему, что генерал Бонапарт хочет взять его к себе в адъютанты. Тулонский подвиг уже был забыт и во всяком случае расценивался уже не так высоко, как в первый момент после события.
А тут еще подвернулась новая неприятность. Неожиданно термидорианский Комитет общественного спасения приказал ему ехать в Вандею на усмирение мятежников, и когда генерал Бонапарт прибыл в Париж, то узнал, что ему дают командование пехотной бригадой, тогда как он был артиллеристом и не хотел служить в пехоте. Произошло запальчивое объяснение между ним и членом комитета Обри, и Бонапарт подал в отставку.
Опять наступил для Наполеона период материальной нужды. 25-летний генерал в отставке, поссорившийся с начальством, без всяких средств, невесело просуществовал в Париже эту трудную зиму 1794/95 г. и еще более трудную и голодную весну. Казалось, все его забыли. Наконец в августе 1795 г. он оказался зачисленным как генерал артиллерии в топографическое отделение Комитета общественного спасения. Это был прообраз генерального штаба, созданный Карно, фактически главнокомандующим армиями. В топографическом отделении Наполеон составляет «инструкции» (директивы) для итальянской армии республики, которая вела операции в Пьемонте. Он и в эти месяцы не переставал учиться и читать; он посещал знаменитый парижский Ботанический сад, посещал обсерваторию, жадно слушал там астронома Лаланда.
Должность эта не давала Наполеону большого заработка, и иногда единственным ресурсом в смысле получения обеда оказывался визит в семью Перно, где его очень любили. Но ни разу в эти тяжелые для него месяцы не пожалел он о своей отставке, ни разу не пожелал пойти в пехоту, — быть может, потому, что теперь это было бы уже возможно только путем унизительных просьб. И вот снова судьба выручила его: снова он понадобился республике, и опять против тех же врагов, что и в Тулоне.
1795 год был одним из решающих поворотных лет в истории Французской буржуазной революции. Буржуазная революция, низвергнув абсолютистско-феодальный строй, лишилась 9 термидора самого острого своего оружия — якобинской диктатуры, и, добившись власти, став на путь реакции, буржуазия блуждала в поисках новых способов и форм прочного установления своего владычества. Термидорианский Конвент в зиму 1794/95 г. и весной 1795 г. неуклонно передвигался в политическом смысле слева направо. Буржуазная реакция еще далеко не была так сильна и так смела в конце лета 1794 г., тотчас после ликвидация якобинской диктатуры, как поздней осенью того же 1794 г., а осенью 1794 г. правое крыло Конвента не говорило и не действовало и вполовину так свободно и бесцеремонно, как весной 1795 г. В то же время все разительнее делался бытовой контраст в эту страшную голодную зиму и весну между люто голодавшими рабочими предместьями, где матери кончали с собой, предварительно утопив или зарезав всех своих детей, и развеселой жизнью буржуазии, попойками и кутежами, обычными для «центральных секций», для тучи финансистов, спекулянтов, биржевых игроков, больших и малых казнокрадов, высоко и победно поднявших свои головы после гибели Робеспьера.
Два восстания, исходившие из рабочих предместий и прямо направленные против термидорианского Конвента, грозные вооруженные демонстрации, перешедшие дважды — 12 жерминаля (1 апреля) и 1 прериаля (20 мая) 1795 г. — в прямое нападение на Конвент, не увенчались успехом. Страшные прериальские казни, последовавшие за насильственным разоружением Сент-Антуанского предместья, надолго прекратили возможность массовых выступлений для плебейских масс Парижа.
И, конечно, разгул белого террора неизбежно воскресил потерянные было надежды «старой», монархической части буржуазии и дворянства: роялисты предположили, что их время пришло. Но расчет был ошибочный. Сломившая парижскую плебейскую массу буржуазия вовсе не затем разоружала рабочие предместья, чтобы облегчить триумфальный въезд претендента на французский престол, графа Прованского, брата казненного Людовика XVI. Не то, чтобы собственнический класс Франции дорожил хоть сколько-нибудь республиканской формой правления, но он очень дорожил тем, что ему дала буржуазная революция. Роялисты не хотели и не могли понять того, что совершилось в 1789–1795 гг., что феодализм рухнул и уже никогда не вернется, что начинается эра капитализма и что буржуазная революция положила непроходимую пропасть между старым и новым периодами истории Франции и что их реставрационные идеи чужды большинству городской и сельской буржуазии.
В Лондоне, Кобленце, Митаве, Гамбурге, Риме — во всех местах скопления влиятельных эмигрантов — не переставали раздаваться голоса о необходимости беспощадно карать всех, принимавших участие в революции. Со злорадством повторялось после прериальского восстания и диких проявлений белого террора, что, к счастью, «парижские разбойники» начали друг друга резать и что роялистам нужно нагрянуть, чтобы без потери времени перевешать и тех и других — и термидорианцев и оставшихся монтаньяров. Нелепая затея повернуть назад историю делала бесплодными все их мечты, осуждая на провал все их предприятия. Людей, покончивших 9 термидора с якобинской диктатурой, а 1–4 прериаля — с грозным восстанием парижских санкюлотов, — всех этих Тальенов, Фреронов, Бурдонов, Буасси д’Англа, Баррасов, — можно было совершенно справедливо обвинить и в воровстве, и в животном эгоизме, и в зверской жестокости, и в способности на любую гнусность, но в трусости пред роялистами их обвинять было нельзя. И когда поторопившиеся роялисты при деятельной поддержке Вильяма Питта организовали высадку эмигрантского отряда на полуострове Киберон (в Бретани), то руководители термидорианского Конвента без малейших колебаний отправили туда генерала Гоша с армией и после полного разгрома высадившихся сейчас же расстреляли 750 человек из числа захваченных.
Роялисты после этого разгрома вовсе не сочли своего дела потерянным. Не прошло и двух месяцев, как они снова выступили, но на этот раз в самом Париже. Дело было в конце сентября и в первых числах октября, или, по революционному календарю, в первой половине вандемьера 1795 г.
Обстановка была такова: Конвент уже выработал новую конституцию, по которой во главе исполнительной власти должны были стоять пять директоров, а законодательная власть сосредоточивалась в двух собраниях: Совете пятисот и Совете старейшин. Конвент готовился ввести эту конституцию в действие и разойтись, но, наблюдая все более и более усиливающиеся в слоях крупнейшей «старой» буржуазии монархические настроения и страшась, как бы роялисты, действуя чуть-чуть умнее и тоньше, не воспользовались этим настроением и не проникли бы в большом количестве в будущий выборный Совет пятисот, руководящая группа термидорианцев во главе с Баррасом провела в самые последние дни Конвента особый закон, по которому две трети Совета пятисот и две трети Совета старейшин должны были обязательно быть избранными из числа членов, заседавших до сих пор в Конвенте, и лишь одну треть можно было выбирать вне этого круга.
Но на этот раз в Париже роялисты были далеко не одни; они находились даже и не на первом плане ни при подготовке дела, ни при самом выступлении. Это-то и делало в вандемьере 1795 г. положение Конвента особенно опасным. Против произвольного декрета, имеющего явной и неприкрыто эгоистической целью упрочить владычество существовавшего большинства Конвента на неопределенно долгий срок, выступила довольно значительная часть крупной денежкой буржуазной аристократии и верхушка буржуазии так называемых «богатых», т.е. центральных, секций г. Парижа. Выступили они, конечно, с целью совсем развязаться с той частью термидорианцев, которая уже не соответствовала настроениям сильно качнувшихся вправо наиболее зажиточных кругов как в городе, так и в деревне. В парижских центральных секциях, взбунтовавшихся внезапно в октябре 1795 г. против Конвента, признанных, настоящих роялистов, мечтавших о немедленном возвращении Бурбонов, было, конечно, не очень много, но они, ликуя, видели, куда направляется, и, восхищаясь, предугадывали, чем кончится это движение. «Консервативные республиканцы» парижской буржуазии, для которых уже и термидорианский Конвент казался слишком революционным, расчищали дорогу реставрации. И Конвент сразу же, начиная с 7 вандемьера (т.е. с 29 сентября), когда стали поступать тревожнейшие сведения о настроениях центральных частей Парижа, увидел прямо перед собой грозную опасность. В самом деле: на кого он мог опереться в этой новой борьбе за власть? Всего за четыре месяца до того, после зверской прериальской расправы с рабочими предместьями, после длившихся целый месяц казней революционных якобинцев, после полного и проведенного с беспощадной суровостью разоружения рабочих предместий, — Конвент не мог, разумеется, рассчитывать на активную помощь широких масс.
Рабочие Парижа смотрели в тот момент на комитеты Конвента и на самый Конвент как на самых лютых своих врагов. Сражаться во имя сохранения власти в будущем Совете пятисот за двумя третями этого Конвента рабочим не могло бы и в голову прийти. Да и сам Конвент не мог и помыслить вызвать к себе на помощь плебейскую массу столицы, которая его ненавидела и которой он страшился. Оставалась армия, но и здесь дело было неблагополучно. Правда, солдаты без колебаний везде и всегда стреляли в ненавистных изменников-эмигрантов, в роялистские шайки и отряды, где бы они их ни встречали: и в нормандских лесах, и в вандейских дюнах, и на полуострове Кибероне, и в Бельгии, и на немецкой границе. Но, во-первых, вандемьерское движение выставляло своим лозунгом не реставрацию Бурбонов, а якобы борьбу против нарушения декретом Конвента самого принципа народного суверенитета, принципа свободного голосования и избрания народных представителей, а во-вторых, если солдаты были вполне надежными республиканцами и их только сбивал или мог сбить с толку ловкий лозунг вандемьерского восстания, то с генералами дело обстояло значительно хуже. Взять хотя бы начальника парижского гарнизона генерала Мену. Одолеть налетом Антуанское рабочее предместье 4 прериаля, покрыть город бивуаками, арестовывать и отправлять на гильотину рабочих целыми пачками — это генерал Мену мог сделать и делают с успехом; и когда вечером 4 прериаля его войска с музыкой проходили, уже после победы над рабочими, по центральным кварталам столицы, а высыпавшая на улицу нарядная публика с восторгом приветствовала и самого Мену и его штаб, то здесь было полное единение сердец и слияние душ между теми, кто делал овацию, и тем, кто был предметом овации. Мену мог чувствовать себя вечером 4 прериаля представителем имущих классов, победивших враждебную неимущую массу, предводителем сытых против голодных. Это было ему ясно, понятно и приятно. Но во имя чего он будет стрелять теперь, в вандемьере, в эту самую, некогда его приветствовавшую, нарядную публику, плотью от плоти и костью от кости которой он сам является? Если между Мену и термидорианским Конвентом можно было бы установить какую-нибудь разницу, то именно в том, что этот генерал был значительно правее, реакционнее настроен, чем самые реакционные термидорианцы. Центральные секции домогались права свободно избрать более консервативное собрание, чем Конвент, и расстреливать их за это генерал Мену не захотел.
И вот в ночь на 12 вандемьера (4 октября) термидоианские вожди слышат ликующие крики, несущиеся со всех сторон: демонстративные шествия, громогласные восторженные восклицания распространяют по столице известие, что Конвент отказывается от борьбы, что можно будет обойтись без сражения на улицах, что декрет взят назад и выборы будут свободны. Доказательство приводится одно единственное, но зато неопровержимое и реальнейшее: начальник вооруженных сил одной из центральных секций Парижа (секция Лепеллетье), некто Делало, побывал у генерала Мену, переговорил с ним, и Мену согласится на перемирие с реакционерами. Войска уводятся в казармы, город во власти восставших.
Но ликование оказалось преждевременным. Конвент решил бороться. Сейчас же, в ту же ночь на 13 вандемьера, по приказу Конвента генерал Мену был отставлен и тут же арестован. Затем Конвент назначил одного из главных деятелей 9 термидора, Барраса, главным начальником всех вооруженных сил Парижа. Сейчас же, ночью, нужно было начать действовать, потому что возмутившиеся секции, узнав об отставке и аресте Мену и поняв, что Конвент решил бороться, со своей стороны, без колебаний и с лихорадочной поспешностью стали скопляться в ближайших к дворцу Конвента улицах и готовиться к утреннему бою. Их победа казалась и им, и их предводителю Рише-де-Серизи, и даже многом в самом Конвенте почти несомненной. Но они плохо рассчитали.
Барраса современники считали как бы коллекцией самых низменных страстей и разнообразнейших пороков. Он был и сибарит, и казнокрад, и распутнейший искатель приключений, и коварный, беспринципный карьерист и всех прочих термидорианцев превосходил своей продажностью (а в этой группе занять в данном отношении первое место было не так-то легко). Но трусом он не был. Для него, очень умного и проницательного человека, с самого начала вандемьера было ясно, что начавшееся движение может приблизить Францию к реставрации Бурбонов, а для него лично это обозначало прямую опасность. Дворянам, пошедшим в революцию, вроде него, было очень хорошо известно, какой ненавистью пылают именно к таким отщепенцам от своего класса роялисты.
Итак, нужно было дать немедленно, через несколько часов, бой. Но Баррас не был военным. Необходимо было сейчас же назначить генерала. И тут Баррас совершенно случайно вспомнил худощавого молодого человека в потертом сером пальто, который несколько раз являлся к нему в последнее время в качестве просителя. Все, что Баррас знал об этом лице, сводилось к тому, что это — отставной генерал, что он отличился под Тулоном, но что потом у него вышли какие-то неприятности и что сейчас он перебивается с большим трудом в столице, не имея сколько-нибудь значительного заработка. Баррас приказал найти его и привести. Бонапарт явился, и сейчас же ему был задан вопрос, берется ли он покончить с мятежом. Бонапарт просил несколько минут на размышление. Он не долго раздумывал, приемлема ли для него принципиально защита интересов Конвента, но он быстро сообразил, какова будет выгода, если он выступит на стороне Барраса, и согласился, поставив одно условие: чтобы никто не вмешивался в его распоряжения. «Я вложу шпагу в ножны только тогда, когда все будет кончено», — сказал он.
Он был тотчас назначен помощником Барраса. Ознакомившись с положением, он увидел, что восставшие очень сильны и опасность для Конвента огромная. Но у него был определенный план действий, основанный на беспощадном применении артиллерии. Позднее, когда все было кончено, он сказал своему другу Жюно (впоследствии генералу и герцогу д’Абрантес) фразу, показывающую, что свою победу он приписывал стратегической неумелости мятежников: «Если бы эти молодцы дали мне начальство над ними, как бы у меня полетели на воздух члены Конвента!» Уже на рассвете Бонапарт свез к дворцу Конвента артиллерийские орудия.
Наступил исторический день — 13 вандемьера, сыгравший в жизни Наполеона гораздо бо́льшую роль, чем его первое выступление — взятие Тулона. Мятежники двинулись на Конвент, и навстречу им загремела артиллерия Бонапарта. Особенно страшным было избиение на паперти церкви св. Роха, где стоял их резерв. У мятежников тоже была возможность ночью овладеть пушками, но они упустили момент. Они отвечали ружейной пальбой. К середине дня все было кончено. Оставив несколько сот трупов и уволакивая за собой раненых, мятежники бежали в разных направлениях и скрылись по домам, а кто мог и успел, покинул немедленно Париж. Вечером Баррас горячо благодарил молодого генерала и настоял, чтобы Бонапарт был назначен командующим военными силами тыла (сам Баррас немедленно сложил с себя это звание, как только восстание было разгромлено).
В этом угрюмом, хмуром молодом человеке и Баррасу и другим руководящим деятелям очень импонировала та полная бестрепетность и быстрая решимость, с которой Бонапарт пошел на такое до тех пор не употреблявшееся средство, как стрельба из пушек среди города в самую гущу толпы. В этом приеме подавления уличных выступлений он был прямым и непосредственным предшественником русского царя Николая Павловича, повторившего этот прием 14 декабря 1825 г. Разница была лишь в том, что царь со свойственным ему лицемерием рассказывал, будто он ужасался и долго не хотел прибегать к этой мере и будто только убеждения князя Васильчикова возобладали над его примерным великодушием и человеколюбием, а Бонапарт никогда и не думал ни в чем оправдываться и на кого-нибудь сваливать ответственность. У восставших было больше 24 тысяч вооруженных людей, а у Бонапарта не было в тот момент и полных 6 тысяч, т.е. в четыре раза меньше. Значит, вся надежда была на пушки; он их и пустил в ход. Если дошло до битвы, — подавай победу, чего бы это ни стоило. Этого правила Наполеон всегда без исключения придерживался. Он не любил попусту тратить артиллерийские снаряды, но там, где они могли принести пользу, Наполеон никогда на них не скупился. Не экономничал он и 13 вандемьера: паперть церкви св. Роха была покрыта какой-то сплошной кровавой кашей.
Полная беспощадность в борьбе была характернейшей чертой Наполеона. «Во мне живут два разных человека: человек головы и человек сердца. Не думайте, что у меня нет чувствительного сердца, как у других людей. Я даже довольно добрый человек. Но с ранней моей юности я старался заставить молчать эту струну, которая теперь не издает у меня уже никакого звука», — так в одну из редких минут откровенности говорил он одному из людей, к которому благоволил, — Луи Редереру.
И уже во всяком случае эта струна решительно никогда даже и не начинала звучать в Наполеоне, когда речь шла о сокрушении врага, осмелившегося на открытый бой.
13 вандемьера в наполеоновской эпопее сыграло громадную роль. Историческое значение разгрома вандемьерского восстания заключалось в следующем: 1) Упования роялистов на близкую победу, на возвращение Бурбонов потерпели еще один крах, более тяжкий, чем даже на Кибероне. 2) Высшие слои городской буржуазии убедились, что они слишком уж торопятся взять непосредственно, открытым вооруженным выступлением, государственную власть в свои руки. Забывали даже о тех элементах городской и сельской буржуазии, которые стояли за республику и продолжали опасаться слишком быстрого и бесцеремонного усиления реакции. Кто такой был Рише де Серизи, предводительствовавший восстанием? Роялист. Ясно, как могли отнестись к этому восстанию крестьяне-собственники, т.е. громадная масса сельской мелкой буржуазии, видевшая в реставрации Бурбонов воскрешение феодального режима и отнятие только что купленных ими участков из конфискованных у дворян-эмигрантов и из секвестрованных у церкви земельных фондов. 3) Наконец, еще раз было продемонстрировано, что антиреставрационные настроения деревни особенно резко влияли на армию, на солдатские массы, на которые можно было вполне положиться, поскольку речь шла о борьбе против сил, так или иначе, прямо или косвенно, частично или полностью связанных с Бурбонами. Таков был исторический смысл 13 вандемьера. Что касается лично Бонапарта, то этот день сделал его имя впервые известным не только в военных кругах, где его уже отчасти знали по Тулону, но и во всех слоях общества, даже там, где до той поры о нем и не слыхивали. На него стали смотреть как на человека очень большой распорядительности, быстрой сметливости, твердой решимости. Политики, завладевшие властью с первых же времен Директории (т.е. с того же вандемьера 1795 г.), а во главе их Баррас, сделавшийся сразу самым влиятельным из пяти директоров, благосклонно взирали на молодого генерала. Они полагали тогда, что на него и впредь можно положиться в том случае, если понадобится пустить в ход военную силу против тех или иных народных волнений.
Но сам Бонапарт мечтают о другом. Его тянуло на театр военных действий, он мечтал уже о самостоятельном командовании одной из армий Французской республики. Хорошее отношение к нему директора Барраса, казалось, делало эти мечтания вовсе не такими несбыточными, какими они были до вандемьера, когда отставной 26-летний генерал бродил по Парижу, ища заработка. Круто, в один день, изменялось все. Он стал командующим парижским гарнизоном, любимцем могущественного директора республики Барраса, кандидатом на самостоятельный пост о действующей армии.
Вскоре после своего внезапного возвышения молодой генерал встретился впервые с вдовой казненного при терроре генерала, графа Богарне, и влюбился в нее. Жозефина Богарне была на шесть лет старше его, у нее было в жизни немало романтических приключений, и никаких особенно пылких чувств к познакомившемуся с ней Бонапарту она не питала. С ее стороны действовал, по-видимому, больше материальный расчет: после 13 вандемьера Бонапарт был очень на виду и уже занимал важный пост. С его стороны была внезапно налетевшая и захватившая его страсть. Он потребовал немедленно же свадьбы и женился. Жозефина некогда была близка с Баррасом, и этот брак еще шире открыл Бонапарту двери могущественных лиц республики.
Среди почти 200 тысяч названий работ, посвященных Наполеону и зарегистрированных известным библиографом Кирхейзеном и другими специалистами, нашла себе место и обильная литература, посвященная отношениям Наполеона к Жозефине и к женщинам вообще. Чтобы уже покончить с этим вопросом и больше к нему не возвращаться, скажу, что ни Жозефина, ни вторая его жена, Мария-Луиза Австрийская, ни г-жа Ремюза, ни актриса м-ль Жорж, ни графиня Валевская и никто вообще из женщин, с которыми на своем веку интимно сближался Наполеон, никогда сколько-нибудь заметного влияния на него не только не имели, но и не домогались, понимая эту неукротимую, деспотическую, раздражительную и подозрительную натуру. Он терпеть не мог знаменитую г-жу Сталь еще до того, как разгневался на нее за оппозиционное политическое умонастроение, и возненавидел он ее именно за излишний, по его мнению, для женщины политический интерес, за ее претензии на эрудицию и глубокомыслие. Беспрекословное повиновение и подчинение его воле — вот то необходимейшее качество, без которого женщина для него не существовала. Да и не хватало ему времени в его заполненной жизни много думать о чувствах и длительно предаваться сердечным порывам.
Так вышло и теперь: 9 марта 1796 г. состоялась свадьба, а уже спустя два дня, 11 марта, Бонапарт простился с женой и уехал на войну.
В истории Европы начиналась новая глава — долгая и кровавая.
Глава II. Итальянская кампания. 1796–1797 гг.
С того самого времени, как Бонапарт разгромил монархический мятеж 13 вандемьера и вошел в фавор к Баррасу и другим сановникам, он не переставал убеждать их в необходимости предупредить действия вновь собравшейся против Франции коалиции держав — повести наступательную войну против австрийцев и их итальянских союзников и вторгнуться для этого в северную Италию. Собственно, эта коалиция была не новая, а старая, та самая, которая образовалась еще в 1792 г. и от которой в 1795 г. отпала Пруссия, заключившая сепаратный (Базельский) мир с Францией. В коалиции оставались Австрия, Англия, Россия, королевство Сардинское, Королевство обеих Сицилий и несколько германских государств (Вюртемберг, Бавария, Баден и др.). Директория, как и вся враждебная ей Европа, считала, что главным театром предстоящей весенней и летней кампании 1796 г. будет, конечно, западная и юго-западная Германия, через которую французы будут пытаться вторгнуться в коренные австрийские владения. Для этого похода Директория готовила самые лучшие свои войска и самых выдающихся своих стратегов во главе с генералом Моро. Для этой армии не щадились средства, ее обоз был прекрасно организован, французское правительство больше всего рассчитывало именно на нее.
Что касается настойчивых уговариваний генерала Бонапарта относительно вторжения из южной Франции в граничащую с ней северную Италию, то Директория не очень увлекалась этим планом. Правда, приходилось учитывать, что это вторжение могло быть полезным как диверсия, которая заставит венский двор раздробить свои силы, отвлечь свое внимание от главного, германского, театра предстоящей войны. Решено было пустить в ход несколько десятков тысяч солдат, стоявших на юге, чтобы побеспокоить австрийцев и их союзника, короля Сардинского. Когда возник вопрос, кого назначить главнокомандующим на этом второстепенном участке фронта войны, Карно (а не Баррас, как долго утверждали) назвал Бонапарта. Остальные директора согласились без труда, потому что никто из более важных и известных генералов этого назначения очень и не домогался. Назначение Бонапарта главнокомандующим этой предназначенной действовать в Италии («итальянской») армии состоялось 23 февраля 1796 г., а уже 11 марта новый главнокомандующий выехал к месту своего назначения.
Эта первая война, которую вел Наполеон, окружена была всегда в его истории особым ореолом. Его имя пронеслось по Европе впервые именно в этом (1796) году и с тех пор уже не сходило с авансцены мировой истории: «Далеко шагает, пора унять молодца!» — эти слова старика Суворова были сказаны именно в разгаре итальянской кампании Бонапарта. Суворов один из первых указал на поднимающуюся грозовую тучу, которой суждено было так долго греметь над Европой и поражать ее молниями.
Прибыв к своей армии и произведя ей смотр, Бонапарт мог сразу догадаться, почему наиболее влиятельные генералы Французской республики не очень добивались этого поста. Армия была в таком состоянии, что походила скорее на скопище оборванцев. До такого разгула хищничества и казнокрадства всякого рода, как в последние годы термидорианского Конвента и при Директории, французское интендантское ведомство еще никогда не доходило. На эту армию, правда, не очень много и отпускалось Парижем, но и то, что отпускалось, быстро и бесцеремонно разворовывалось. 43 тысячи человек жили на квартирах в Ницце и около Ниццы, питаясь неизвестно чем, одеваясь неизвестно во что. Не успел Бонапарт приехать, как ему донесли, что один батальон накануне отказался исполнить приказ о переходе в другой указанный ему район, потому что ни у кого не было сапог. Развал в материальном быту этой заброшенной и забытой армии сопровождался упадком дисциплины. Солдаты не только подозревали, но и воочию видели повальное воровство, от которого они так страдали.
Бонапарту предстояло труднейшее дело: не только одеть, обуть, дисциплинировать свое войско, но сделать это на ходу, уже во время самого похода, в промежутках между сражениями. Откладывать поход он ни за что не хотел. Его положение могло осложниться трениями с подчиненными ему начальниками отдельных частей этой армии вроде Ожеро, Массена или Серрюрье. Они охотно подчинились бы старшему или более заслуженному (вроде Моро, главнокомандующему на западногерманском фронте), но признавать своим начальником 27-летнего Бонапарта им казалось просто оскорбительным. Могли произойти столкновения, и стоустая казарменная молва на все лады повторяла, переиначивала, распространяла, изобретала, вышивала по этой канве всякие узоры. Повторяли, например, пущенный кем-то слух, будто во время одного резкого объяснения маленький Бонапарт сказал, глядя снизу вверх на высокого Ожеро: «Генерал, вы ростом выше меня как раз на одну голову, но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это отличие». На самом деле, с самого начала Бонапарт дал понять всем и каждому, что он не потерпит в своей армии никакой противодействующей воли и сломит всех сопротивляющихся, независимо от их ранга и звания. «Приходится часто расстреливать», — мельком и без всяких потрясений доносил он в Париж Директории.
Бонапарт резко и немедленно повел борьбу с безудержным воровством. Солдаты это сейчас же заметили, и это гораздо больше, чем все расстрелы, помогло восстановлению дисциплины. Но Бонапарт был поставлен в такое положение, что откладывать военные действия до того, когда будет закончена экипировка армии, значило фактически пропустить кампанию 1796 г. Он принял решение, которое прекрасно сформулировано в его первом воззвании к войскам. Много было споров о том, когда именно это воззвание получило ту окончательную редакцию, в которой оно перешло в историю, и теперь новейшие исследователи биографии Наполеона уже не сомневаются, что только первые фразы были подлинны, а почти все остальное это красноречие прибавлено позже. Замечу, что и в первых фразах можно ручаться больше за основной смысл, чем за каждое слово. «Солдаты, вы не одеты, вы плохо накормлены... Я хочу повести вас в самые плодородные страны в свете».
Бонапарт с первых же шагов считал, что война должна сама себя кормить и что необходимо заинтересовать непосредственно каждого солдата в предстоящем нашествии на северную Италию, не откладывать нашествия до того, как все нужное будет армией получено, а показать армии, что от нее самой зависит забрать силой у неприятеля все необходимое и даже больше того. Молодой генерал объяснялся со своей армией так только на этот раз. Он всегда умел создавать, усиливать и поддерживать свое личное обаяние и власть над солдатской душой. Сентиментальные россказни о «любви» Наполеона к солдатам, которых он в припадке откровенности называл пушечным мясом, ровно ничего не значат. Не было любви, но была большая заботливость о солдате. Наполеон умел придавать ей такой оттенок, что солдаты объясняли ее именно вниманием полководца к их личности, в то время как на самом деле он стремятся только иметь в руках вполне исправный и боеспособный материал.
В апреле 1796 г., начиная свой первый поход, Бонапарт был в глазах своей армии только способным артиллеристом, хорошо служившим два с лишком года тому назад под Тулоном, генералом, расстрелявшим в вандемьере бунтовщиков, шедших на Конвент, и только за это получившим свой командный пост в южной армии, — вот и все. Личного обаяния и безоговорочной власти над солдатом Бонапарт еще не имел. Он и решил подействовать на своих полуголодных и полуобутых солдат лишь прямым, реальным, трезвым указанием на материальные блага, ожидающие их в Италии.
9 апреля 1796 г. Бонапарт двинул свои войска через Альпы.
Знаменитый автор многотомной истории наполеоновских походов, ученый стратег и тактик, генерал Жомини, швейцарец, бывший сначала на службе у Наполеона, а потом перешедший в Россию, отмечает, что буквально с первых дней этого первого своего командования Бонапарт обнаружил доходящую до дерзости смелость и презрение к личным опасностям: он со своим штабом прошел по самой опасной (но краткой) дороге, по знаменитому «Карнизу» Приморской горной гряды Альпийских гор, где во все время перехода они находились под пушками крейсировавших у самого берега английских судов. Тут впервые сказалась одна черта Бонапарта. С одной стороны, в нем никогда не было той рисовки молодечеством, лихой отвагой и бесстрашием, какая была присуща, например, его современникам — маршалам Ланну, Мюрату, Нею, генералу Милорадовичу, а из позднейших военачальников — Скобелеву; Наполеон всегда считал, что без определенной, безусловной необходимости военачальник не должен во время войны подвергаться личной опасности по той простой причине, что его гибель сама по себе может повлечь за собой смятение, панику и проигрыш сражения или даже всей войны. Но, с другой стороны, он полагал, что если обстоятельства сложатся так, что личный пример решительно необходим, то военачальник должен не колеблясь идти под огонь.
Путешествие по «Карнизу» с 5 по 9 апреля 1796 г. прошло благополучно. Бонапарт очутился в Италии и немедленно принял решение. Перед ним были совместно действовавшие австрийские и пьемонтские войска, разбросанные тремя группами на путях в Пьемонт и Геную. Первое сражение с австрийским командующим Держанто произошло в центре, у Монтенотте. Бонапарт, собрав свои силы в один большой кулак, ввел в заблуждение австрийского главнокомандующего Болье, который находился южнее — на пути к Генуе, и стремительно напал на австрийский центр. В несколько часов дело кончилось разгромом австрийцев. Но это была только часть австрийской армии. Бонапарт, дав самый краткий отдых своим солдатам, двинулся дальше. Следующая битва (при Миллезимо) произошла через два дня после первой, и пьемонтские войска потерпели полное поражение. Масса перебитых на поле сражения, сдача пяти батальонов с 13 орудиями в плен, бегство остатков сражавшейся армии — таковы были результаты дня для союзников. Немедленно Бонапарт продолжил свое движение, не давая врагу оправиться и прийти в себя.
Военные историки считают первые битвы Бонапарта — «шесть побед в шесть дней» — одним сплошным большим сражением. Основной принцип Наполеона выявился вполне в эти дни: быстро собирать в один кулак большие силы, переходить от одной стратегической задачи к другой, не затевая слишком сложных маневров, разбивая силы противника по частям.
Проявилась и другая его черта — уменье сливать политику и стратегию в одно неразрывное целое: переходя от победы к победе в эти апрельские дни 1796 г., Бонапарт все время не упускал из виду, что ему нужно принудить Пьемонт (Сардинское королевство) поскорее к сепаратному миру, чтобы остаться лицом к лицу с одними австрийцами. После новой победы французов над пьемонтцами при Мондози и сдачи этого города Бонапарту пьемонтский генерал Колли начал переговоры о мире, и 28 апреля перемирие с Пьемонтом было подписано. Условия перемирия были весьма суровы для побежденных: король Пьемонта, Виктор-Амедей, отдавал Бонапарту две лучшие свои крепости и целый ряд других пунктов. Окончательный мир с Пьемонтом был подписан в Париже 15 мая 1796 г. Пьемонт всецело обязывался не пропускать через свою территорию ничьих войск, кроме французских, не заключать отныне ни с кем союзов, уступал Франции графство Ниццу и всю Савойю; граница между Францией и Пьемонтом сверх того «исправлялась» к очень значительной выгоде Франции. Пьемонт обязывался доставлять французской армии все нужные ей припасы.
Итак, первое дело было сделано. Оставались австрийцы. После новых побед Бонапарт отбросил их к реке По, заставил их отступить к востоку от По и, перейдя на другой берег По, продолжал преследование. Паника объяла все итальянские дворы. Герцог Пармский, который, собственно, вовсе и не воевал с французами, пострадал одним из первых. Бонапарт не внял его убеждениям, не признал его нейтралитета, наложил на Парму контрибуцию в 2 миллиона франков золотом и обязал доставить 1700 лошадей. Двинувшись дальше, он подошел к местечку Лоди, где ему нужно было перейти через реку Адду. Этот важный пункт защищал 10-тысячный австрийский отряд.
10 мая произошло знаменитое сражение под Лоди. Тут снова, как при марше по «Карнизу», Бонапарт нашел нужным рискнуть жизнью: самый страшный бой завязался у моста, и главнокомандующий во главе гренадерского батальона бросился прямо под град пуль, которыми австрийцы осыпали мост. 20 австрийских орудий буквально сметали картечью все на мосту и около моста. Гренадеры с Бонапартом во главе взяли мост и далеко отбросили австрийцев, которые оставили на месте около 2 тысяч убитыми и ранеными и 15 пушек. Немедленно Бонапарт начал преследование отступающего неприятеля и 15 мая вошел в Милан. Еще накануне этого дня, 14 мая (25 флореаля), он писал Директории в Париж: «Ломбардия принадлежит сейчас (Французской) республике».
В июне французский отряд под начальством Мюрата занял, согласно приказу Бонапарта, Ливорно, а генерал Ожеро занял Болонью. Бонапарт в середине июня лично занял Модену, затем наступила очередь Тосканы, хотя герцог Тосканский был нейтрален в происходившей франко-австрийской войне. Бонапарт не обращал на нейтралитет этих итальянских государств ни малейшего внимания. Он входил в города и деревни, реквизировал все нужное для армии, забирал часто и все вообще, что ему казалось достойным этого, начиная с пушек, пороха и ружей и кончая картинами старых мастеров эпохи Ренессанса.
Бонапарт смотрел на эти тогдашние увлечения своих воинов очень снисходительно. Дело дошло до мелких вспышек и восстаний. В Павии, в Луго, произошли нападения местного населения на французские войска. В Луго (недалеко от Феррары) толпа убила 5 французских драгун, за что город подвергся каре: изрублено было несколько сот человек, а город отдан был на поток и разграбление солдатам, которые перебили всех жителей, подозревавшихся во враждебных намерениях. Такие же жестокие уроки были даны и в других местах. Значительно усилив свою артиллерию пушками и снарядами, как взятыми у австрийцев с бою, так и отнятыми у нейтральных итальянских государств, Бонапарт двинулся дальше, к крепости Мантуе, одной из сильнейших в Европе по естественным условиям и по искусственно созданным укреплениям.
Бонапарт едва успел приступить к правильной осаде Мантуи, как узнал, что на помощь осажденной крепости спешит специально посланная для этого из Тироля 30-тысячная австрийская армия под начальством очень дельного и талантливого генерала Вурмзера. Эта весть необычайно ободрила всех врагов французского нашествия. А ведь за эту весну и лето 1796 г. к католическому духовенству и североитальянскому полуфеодальному дворянству, ненавидевшим самые принципы буржуазной революции, которые несла с собой в Италию французская армия, прибавились многие и многие тысячи крестьян и горожан, жестоко пострадавших от грабежей, чинимых армией генерала Бонапарта. Разгромленный и принужденный к миру Пьемонт мог возмутиться в тылу у Бонапарта и перерезать его сообщения с Францией.
16 тысяч человек Бонапарт предназначил на осаду Мантуи, 29 тысяч у него были в резерве. Он ждал подкрепления из Франции. Навстречу Вурмзеру он послал одного из лучших своих генералов — Массена. Но Вурмзер отбросил его. Бонапарт отрядил другого, тоже очень способного своего помощника, который еще до него был уже в генеральских чинах, — Ожеро. Но и Ожеро был отброшен Вурмзером. Положение становилось отчаянным для французов, и тут Бонапарт совершил свой маневр, который, по мнению и старых теоретиков и более новых, мог бы сам по себе обеспечить ему «бессмертную славу» (выражение Жомини), даже если бы тогда, в самом начале своего жизненного пути, он был убит.
Вурмзер уже торжествовал близкую победу над страшным врагом, уже вошел в осажденную Мантую, сняв с нее, таким образом, осаду, как вдруг он узнал, что Бонапарт со всеми силами бросился на другую колонну австрийцев, действовавших на сообщениях Бонапарта с Миланом, и в трех битвах их разбил. Это были сражения при Лонато, Сало и Брешии. Вурмзер, узнав об этом, вышел из Мантуи со всеми своими силами и, разбив заслон, поставленный против него французами под начальством Валлета, отбросив в ряде стычек еще и другие французские отряды, наконец 5 августа встретился под Кастильоне с самим Бонапартом и потерпел тяжкое поражение благодаря блестящему маневру, в результате которого часть французских войск вышла в тыл австрийцам.
После ряда новых сражений Вурмзер с остатками разбитой армии сначала кружил у верхнего течения Адидже, потом заперся в Мантуе. Бонапарт возобновил осаду. На выручку уже на этот раз не только Мантуи, но и самого Вурмзера в Австрии была снаряжена в спешном порядке новая армия, под начальством Альвинци, тоже (подобно Вурмзеру, эрцгерцогу Карлу и Меласу) одного из лучших генералов Австрийской империи. Бонапарт пошел навстречу Альвинци, имея 28 500 человек, оставив 8300 человек осаждать Мантую. Резервов у него почти не было, их не насчитывалось и 4 тысяч. «Генерал, который очень уж исключительно заботится перед сражением о резервах, непременно будет разбит», — это на все лады повторял всегда Наполеон, хотя он был, конечно, далек от отрицания огромного значения резервов в длительной войне. Армия Альвинци была значительно больше. Альвинци отбросил несколько французских отрядов в ряде стычек. Бонапарт велел эвакуировать Виченцу и еще несколько пунктов. Он сосредоточил около себя все свои силы, готовясь к решающему удару.
15 ноября 1796 г. начался, а вечером 17 ноября окончился упорный и кровопролитный бой при Арколе. Альвинци, наконец, столкнулся с Бонапартом. Австрийцев было больше, и сражались они с чрезвычайной стойкостью — тут были отборные полки Габсбургской монархии. Одним из самых важных пунктов был знаменитый Аркольский мост. Трижды французы бросались на штурм и брали мост и трижды с тяжкими потерями отбрасывались оттуда австрийцами. Главнокомандующий Бонапарт повторил в точности то, что он сделал за несколько месяцев до того при взятии моста в Лоди: он бросился лично вперед со знаменем в руках. Около него было перебито несколько солдат и адъютантов. Бой длился трое суток с небольшими перерывами. Альвинци был разбит и отброшен.
Больше полутора месяцев после Арколе австрийцы оправлялись и готовились к реваншу. В середине января 1797 г. наступила развязка. В трехдневной кровопролитной битве при Риволи 14 и 15 января 1797 г. генерал Бонапарт наголову разбил всю австрийскую армию, на этот раз тоже собранную, уже в подражание молодому французскому полководцу, в один кулак. Спасшись с остатками разбитой армии, Альвинци уже не смел и помыслить о спасении Мантуи и запертой в Мантуе армии укрывавшегося там Вурмзера. Через две с половиной недели после битвы при Риволи Мантуя капитулировала. Бонапарт обошелся при этом весьма милостиво с побежденным Вурмзером.
После взятия Мантуи Бонапарт двинулся на север, явно угрожая уже наследственным габсбургским владениям. Когда спешно вызванный на итальянский театр военных действий в начале весны 1797 г. эрцгерцог Карл был разбит Бонапартом в целом ряде сражений и отброшен к Бреннеру, куда отступил с тяжкими потерями, в Вене распространилась паника. Она шла из императорского дворца. В Вене стало известно, что спешно запаковывают и куда-то прячут и увозят коронные драгоценности. Австрийской столице угрожало нашествие французов. Ганнибал у ворот! Бонапарт в Тироле! Бонапарт завтра будет в Вене! Такого рода слухи, разговоры, возгласы остались в памяти современников, переживавших этот момент в старой богатой столице Габсбургской монархии. Гибель нескольких лучших австрийских армий, страшные поражения самых талантливых и способных генералов, потеря всей северной Италии, прямая угроза столице Австрии — таковы были тогда итоги этой годовой кампании, начавшейся в конце марта 1796 г., когда Бонапарт впервые вступил в главное командование французами. В Европе гремело его имя.
После новых поражений и общего отступления армии эрцгерцога Карла австрийский двор понял опасность продолжения борьбы. В начале апреля 1797 г. генерал Бонапарт получил официальное уведомление, что австрийский император Франц просит начать мирные переговоры. Бонапарт, следует заметить, сделал от себя все зависящее, чтобы окончить войну с австрийцами в такой благоприятный для себя момент, и, наседая со всей своей армией на поспешно от него отступающего эрцгерцога Карла, он в то же время извещал Карла о своей готовности к миру. Известно любопытное письмо, в котором, щадя самолюбие побежденных, Бонапарт писал, что если ему удастся заключить мир, то этим он будет гордиться более, «чем печальной славой, которая может быть добыта военными успехами». «Разве не достаточно убили мы народа и причинили зла бедному человечеству?» — писал он Карлу.
Директория согласилась на мир и только раздумывала, кого послать для ведения переговоров. Но пока она размышляла об этом и пока ее избранник (Карл) ехал в лагерь Бонапарта, победоносный генерал уже успел заключить перемирие в Леобене.
Но еще до начала леобенских переговоров Бонапарт покончил с Римом. Папа Пий VI, враг и непримиримый ненавистник Французской революции, смотрел на «генерала Вандемьера», ставшего главнокомандующим именно в награду за истребление 13 вандемьера благочестивых роялистов, как на исчадие ада и всячески помогал Австрии в ее трудной борьбе. Как только Вурмзер сдал французам Мантую с 13 тысячами гарнизона и с несколькими сотнями орудий и у Бонапарта освободились войска, прежде занятые осадой, — французский полководец отправился в экспедицию против папских владений.
Папские войска были разгромлены Бонапартом в первой же битве. Они бежали от французов с такой быстротой, что посланный Бонапартом в погоню за ними Жюно не мог их догнать в продолжение двух часов, но, догнав, часть изрубил, часть же взял в плен. Затем город за городом стали сдаваться Бонапарту без сопротивления. Он брал все ценности, какие только находил в этих городах: деньги, бриллианты, картины, драгоценную утварь. И города, и монастыри, и сокровищницы старых церквей предоставили победителю громадную добычу и здесь, как и на севере Италии. Рим был охвачен паникой, началось повальное бегство состоятельных людей и высшего духовенства в Неаполь.
Папа Пий VI, охваченный ужасом, написал Бонапарту умоляющее письмо и отправил с этим письмом кардинала Маттеи, своего племянника, и с ним делегацию просить мира. Генерал Бонапарт отнесся к просьбе снисходительно, хотя сразу же дал понять, что речь идет о полной капитуляции. 19 февраля 1797 г. уже был подписан мир с папой в Толентино. Папа уступал очень значительную и самую богатую часть своих владений, уплачивал 30 миллионов франков золотом, отдавая лучшие картины и статуи своих музеев. Эти картины и статуи из Рима, так же как еще раньше из Милана, Болоньи, Модены, Пармы, Пьяченцы, а позже из Венеции, были отправлены Бонапартом в Париж. Перепуганный до последней степени папа Пий VI моментально согласился на все условия. Сделать это ему было тем легче, что Бонапарт в его согласии нисколько и не нуждался.
Почему Наполеон уже тогда не сделал того, что он совершил несколько лет спустя? Почему он не занял Рим, не арестовал папу? Это объясняется, во-первых, тем, что еще предстояли мирные переговоры с Австрией, а слишком крутой поступок с папой мог взволновать католическое население центральной и южной Италии и создать этим для Бонапарта необеспеченный тыл. А, во-вторых, мы знаем, что за время этой блестящей первой итальянской войны с ее непрерывными победами над большими, могущественными армиями грозной тогда Австрийской империи у молодого генерала была одна такая бессонная ночь, которую он всю прошагал перед своей палаткой, впервые задавая себе вопрос, который раньше не приходил ему в голову: неужели всегда ему и впредь придется побеждать и завоевывать новые страны для Директории, «для этих адвокатов»?
Много лет должно было пройти и много воды и крови должно было утечь, пока Бонапарт рассказал об этом своем уединенном ночном размышлении. Но ответ на этот заданный себе тогда вопрос он, конечно, дал вполне отрицательный. И в 1797 г. 28-летний завоеватель Италии уже видел в Пие VI не запуганного, трепещущего хилого старика, с которым можно было сделать, что угодно: Пий VI был для Наполеона духовным повелителем многих миллионов людей в самой Франции, и всякий, кто думает об утверждении своей власти над этими миллионами, должен считаться с их суевериями. Наполеон на церковь в точном смысле этого слова смотрел как на удобное полицейско-духовное орудие, помогающее управлять народными массами; в частности католическая церковь, с его точки зрения, была бы особенно удобна в этом отношении, но, к сожалению, она всегда претендовала и продолжает претендовать на самостоятельное политическое значение, и все это в значительной степени оттого, что она обладает законченной и совершенной, стройной организацией и повинуется как верховному владыке папе.
Что касается именно папства, то к нему Наполеон относился как к выработавшемуся исторически и укрепившемуся почти двумя тысячелетиями чистейшему шарлатанству, которое выдумали в свое время римские епископы, ловко воспользовавшись благоприятными для них местными и историческими условиями средневековой жизни. Но, что и такое шарлатанство может быть серьезнейшей политической силой, это он понимал очень хорошо.
Смирившийся, потерявший лучшие свои земли, трепещущий папа уцелел пока в Ватиканском дворце. Наполеон не вошел в Рим; он поспешил, покончив дело с Пием VI. обратно в северную Италию, где нужно было заключить мир с побежденной Австрией.
Прежде всего нужно сказать, что и леобенское перемирие, и последовавший затем Кампо-Формийский мир, и все вообще дипломатические переговоры Бонапарт вел всегда по собственному своему произволению и вырабатывал условия тоже ни с чем, кроме своих соображений, не считаясь. Как это стало возможным? Почему это сходило ему с рук? Здесь прежде всего действовало старинное правило: «победителей не судят». Республиканских генералов (самых лучших, вроде Моро) австрийцы как раз в этом же 1796 году и в начале 1797 г. били на Рейне, а рейнская армия требовала и требовала денег на свое содержание, хотя с самого начала была хорошо экипирована. Бонапарт же с ордой недисциплинированных оборванцев, которую он превратил в грозное и преданное войско, ничего не требовал, а, напротив, посылал в Париж миллионы золотой монетой, произведения искусства, завоевал Италию, в бесчисленных боях уничтожая одну австрийскую армию за другой, принудил Австрию просить мира. Битва при Риволи и взятие Мантуи, завоевание папских владений — последние подвиги Бонапарта окончательно сделали непререкаемым его авторитет.
Леобен — это город в Штирии, австрийской провинции, которая в этой своей части находится в каких-нибудь 250 километрах от подступов к Вене. Но чтобы окончательно и формально утвердить за собой все желаемое в Италии, т.е. все уже завоеванное и все, что еще захочется подчинить своей власти на юге, и вместе с тем чтобы заставить австрийцев пойти на серьезные жертвы на далеком от Бонапарта западногерманском театре военных действий, где французам очень не везло, — необходимо было все-таки дать Австрии хоть какую-нибудь компенсацию. Бонапарт знал, что хотя его авангард и стоит уже в Леобене, но что доведенная до крайности Австрия будет яростно защищаться и что пора кончать. Где же взять эту компенсацию? В Венеции. Правда, Венецианская республика была вполне нейтральна и делала все, чтобы не дать никакого повода к нашествию, но Бонапарт решительно никогда не затруднялся в таких случаях. Придравшись к первому же попавшемуся поводу, он послал туда дивизию. Еще раньше этой посылки он в Леобене заключил с Австрией перемирие именно на таких основаниях: австрийцы отдавали французам берега Рейна и все свои итальянские владения, занятые Бонапартом, а взамен им была обещана Венеция.
Собственно, Бонапарт решил разделить Венецию: город на лагунах отходил к Австрии, а материковые владения Венеции — к той «Цизальпийской республике», которую завоеватель решил создать из главной массы занятых им итальянских земель. Конечно, эта новая «республика» являлась отныне фактически владением Франции. Оставалась небольшая формальность: объявить венецианскому дожу и сенату, что их государство, бывшее самостоятельным с момента своего основания, т.е. с середины V в., перестало существовать, так как это понадобилось генералу Бонапарту для успешного завершения его дипломатических комбинаций. Он даже и свое собственное правительство, Директорию, уведомил о том, что́ собирается сделать с Венецией, лишь когда уже начал приводить в исполнение свое намерение. «Я не могу вас принять, с вас каплет французская кровь», — написал он венецианскому дожу, умолявшему о пощаде. Тут имелось в виду, что на рейде в Лидо был кем-то убит один французский капитан. Но даже и предлога не требовалось, все было ясно. Бонапарт приказал генералу Барагэ д’Илье занять Венецию. В июне 1797 г. все было кончено: после 13 столетий богатейшая событиями самостоятельной исторической жизни купеческая республика прекратила свое существование.
Итак, в руках Бонапарта оказался тот богатый объект для дележа, которого только и недоставало для окончательного и выгоднейшего замирения с австрийцами. Но случилось так, что завоевание Венеции сослужило Бонапарту и еще одну, совсем уже неожиданную, службу.
В один майский вечер 1797 г. к главнокомандующему французской армией, генералу Бонапарту, находившемуся тогда в Милане, прибыла экстренная эстафета от подчиненного ему генерала Бернадотта из Триеста, уже занятого, по приказу Бонапарта, французами. Примчавшийся курьер передал Бонапарту портфель, а донесение Бернадотта объясняло происхождение этого портфеля. Оказывалось, что портфель взят у некоего графа д’Антрэга, роялиста и агента Бурбонов, который, спасаясь от французов, бежал из Венеции в Триест, но тут и попал в руки уже вошедшего в город Бернадотта. В этом-то портфеле и оказались поразительные документы. Чтобы понять все значение этой неожиданной находки, нужно хоть в нескольких словах напомнить о том, что́ в тот момент творилось в Париже.
Те слои крупнейшей финансовой, торговой буржуазии и землевладельческой аристократии, которые были как бы «питательной средой» вандемьерского восстания в 1795 г., вовсе не были и не могли быть разгромлены пушками Бонапарта. Разгромлена была лишь их боевая верхушка, руководящие элементы секций, выступавшие в этот день рука об руку с активными роялистами. Но эта часть буржуазии не переставала и после вандемьера находиться в глухой оппозиции к Директории.
Когда весной 1796 г. был раскрыт заговор Бабефа, когда призрак нового пролетарского выступления, нового прериаля, начал вновь жестоко тревожить собственнические массы в городе и в деревне, то побежденные в вандемьере роялисты снова приободрились и подняли голову. Но они снова ошиблись, как ошиблись в 1795 г., летом на Кибероне и в вандемьере в Париже; они снова не учли, что хотя массы новых землевладельцев желают в защиту своей собственности создания сильной полицейской власти, хотя новая разбогатевшая на распродаже национального имущества буржуазия готова принять монархию, даже монархическую диктатуру, но возвращение Бурбона поддержит, может быть, лишь ничтожнейшая доля крупнейшей буржуазии города и деревни, потому что Бурбон всегда будет дворянским королем, а не буржуазным, и с ним вернутся феодализм и эмиграция, которая потребует обратно свои земли.
И все-таки, так как роялисты были из всех контрреволюционных группировок лучше всех организованы, сплочены, снабжены активной помощью и средствами из-за границы, имели на своей стороне духовенство, они и на этот раз взяли в свои руки руководящую роль в подготовке низвержения Директории весной и летом 1797 г. Это и должно было в конечном счете погубить и на этот раз возглавляемое ими движение. Дело в том, что всякий раз частичные выборы в Совет пятисот давали ясный перевес правым, реакционным, иногда даже явственно роялистским элементам. Даже в самой Директории, находившейся под угрозой контрреволюции, были колебания. Бартелеми и Карно были против решительных мер, а Бартелеми и вообще тайно сочувствовал многому в поднимающемся движении. Остальные три директора — Баррас, Ребель, Ларевельер-Лепо — постоянно совещались, но не решались ничего предпринять, чтобы предупредить готовящийся удар.
Одним из обстоятельств, которые очень тревожили Барраса и его двух товарищей, не желавших без борьбы отдавать свою власть, а может быть, и жизнь и решившихся бороться всеми мерами, было то, что генерал Пишегрю, прославленный завоеванием Голландии в 1795 г., оказался в лагере оппозиции. Он был избран президентом Совета пятисот, главой высшей законодательной власти в государстве, и его предназначали в верховные руководители готовящегося нападения на республиканских «триумвиров» — так называли трех директоров (Барраса, Ларевельер-Лепо и Ребеля).
Таково было положение вещей летом 1797 г. Бонапарт, воюя в Италии, зорко следил за тем, что делается в Париже. Он видел, что республике грозит явная опасность. Сам Бонапарт республику не любил и вскоре республику задушил, но он вовсе не намерен был допустить эту операцию преждевременно, а самое главное, вовсе не желал, чтобы это пошло на пользу кому-либо другому. В бессонную итальянскую ночь он уже ответил себе, что не всегда ему суждено побеждать только в пользу «этих адвокатов». Но еще меньше он хотел побеждать в пользу Бурбона. Его тоже, как и директоров, беспокоило, что во главе врагов республики стоит один из популярных генералов — Пишегрю. Это имя могло в решающий миг сбить с толку солдат. Они могли пойти за Пишегрю именно потому, что верили в его искренний республиканизм, и могли не понять, куда он их ведет.
Теперь уже без труда можно представить себе, что́ должен был почувствовать Бонапарт, когда ему прислали из Триеста с такой поспешностью толстый портфель, отобранный у арестованного графа д’Антрэга, и когда в этом портфеле он нашел непререкаемые доказательства измены Пишегрю, тайных его переговоров с агентом принца Конде, Фош-Борелем, прямые свидетельства о давнем его предательском поведении относительно республики, которой он служил. Только одна маленькая неприятность несколько замедлила отправку этих бумаг прямо в Париж, к Баррасу. Дело в том, что в одной из бумаг (и притом в самой важной для обвинения Пишегрю) другой агент Бурбонов, Монгайар, между прочим рассказывал, что он побывают в Италии у Бонапарта в главной квартире армии и пытался с ним тоже вести переговоры. Хотя ничего больше и не было, кроме этих ничего не значащих строк, хотя Монгайар и мог под каким-нибудь предлогом действительно побывать под чужим именем у Бонапарта, но генерал Бонапарт решил, что лучше эти строки уничтожить, чтобы не ослаблять впечатления касательно Пишегрю. Он приказал доставить к себе д’Антрэга и предложил ему тут же переписать этот документ, выпустив нужные строки, и подписать его, грозя иначе расправиться с ним. Д’Антрэг мигом сделал все, что от него требовалось, и был спустя некоторое время выпущен (т.е. ему было устроено мнимое «бегство» из-под стражи). Документы вслед за тем были Бонапартом отправлены и доставлены Баррасу. Это развязало руки «триумвирам». Они не сразу опубликовали ужасающую бумагу, которую им доставил Бонапарт, но сначала подтянули особенно верные дивизии, затем подождали генерала Ожеро, которого спешно отрядил Бонапарт из Италии в Париж на помощь директорам. Кроме того, Бонапарт обещал прислать из вновь реквизированных в Италии денег 3 миллиона франков золотом для усиления средств Директории в предстоящий критический момент.
В 3 часа ночи 18 фрюктидора (4 сентября 1797 г.) Баррас приказал арестовать двух подозрительных по своей умеренности директоров; Бартелеми был схвачен, а Карно успел бежать. Начались массовые аресты роялистов, чистка Совета пятисот и Совета старейшин, за арестами последовала высылка их без суда в Гвиану (откуда не очень многие вернулись впоследствии), закрытие заподозренных в роялизме газет, массовые аресты в Париже и провинции. Уже на рассвете 18 фрюктидора всюду красовались огромные плакаты: это были напечатанные документы, подлинники которых, как сказано, прислал в свое время Бонапарт Баррасу. Пишегрю, председатель Совета пятисот, был схвачен и тоже увезен в Гвиану. Никакого сопротивления этот переворот 18 фрюктидора не встретил. Плебейские массы ненавидели, роялизм еще больше, чем Директорию, и открыто радовались удару, сокрушившему надолго старых приверженцев династии Бурбонов. А «богатые секции» на этот раз на улицу не вышли, хорошо помня страшный вандемьерский урок, который преподал им в 1795 г. при помощи артиллерии генерал Бонапарт.
Директория победила, республика была спасена, и победоносный генерал Бонапарт из своего далекого итальянского лагеря горячо поздравляют Директорию (которую он уничтожил спустя два года) со спасением республики (которую он уничтожит спустя семь лет).
Бонапарт был доволен событием 18 фрюктидора еще и в другом отношении. Леобенское перемирие, заключенное с австрийцами еще в мае 1797 г., так и оставалось перемирием. Австрийское правительство вдруг стало летом обнаруживать признаки бодрости и почти грозить, и Бонапарт прекрасно знал, в чем тут дело; Австрия, как и вся монархическая Европа, затаив дыхание, следила за тем, что разыгрывалось в Париже. В Италии ждали со дня на день свержения Директории и республики, возвращения Бурбонов и ликвидации поэтому всех французских завоеваний. 18 фрюктидора с разгромом роялистов, с публичным изобличением измены Пишегрю положило конец всем этим мечтаниям.
Генерал Бонапарт стал резко настаивать на скорейшем подписании мира. Из Австрии был послан для переговоров с Бонапартом искусный дипломат Кобенцль. Но тут коса нашла на камень. Кобенцль во время долгих и трудных переговоров жаловался своему правительству, что редко можно встретить «такого сутягу и такого бессовестного человека», как генерал Бонапарт. Здесь еще больше, чем когда-либо, обнаружились дипломатические способности Бонапарта, по мнению многих источников той эпохи, не уступавшие его военному гению. Только раз он поддался одному из тех припадков ярости, которые впоследствии, когда он уже чувствовал себя владыкой Европы, овладевали им часто, но теперь пока еще были внове. «Ваша империя — это старая распутница, которая привыкла, чтобы все ее насиловали... Вы забываете, что Франция победила, а вы побеждены... Вы забываете, что вы тут со мной ведете переговоры, окруженные моими гренадерами...» — бешено кричал Бонапарт. Он швырнул об пол столик, на котором стоял привезенный Кобенцлем драгоценный фарфоровый кофейный сервиз, подарок австрийскому дипломату от русской императрицы Екатерины. Сервиз разбился вдребезги. «Он вел себя, как сумасшедший», — доносил об этом Кобенцль. 17 октября 1797 г. в местечке Кампо-Формио был подписан наконец мир между Французской республикой и Австрийской империей.
Почти все то, на чем настаивал Бонапарт и в Италии, где он побеждал, и в Германии, где австрийцы вовсе не были еще побеждены французскими генералами, было им достигнуто. Венеция, как и желал Бонапарт, послужила компенсацией Австрии за эти уступки на Рейне.
Бурным ликованием встретили в Париже весть о мире. Страна ждала торгового и промышленного оживления. Имя гениального военного вождя было у всех на устах. Все понимали, что война, проигранная прочими генералами на Рейне, была выиграна одним Бонапартом в Италии и что этим был спасен также и Рейн. Официальным, официозным и совсем частным печатным и устным восхвалениям победоносного генерала, завоевателя Италии, не было конца. «О, могущественный дух свободы! Ты один мог породить... итальянскую армию, породить Бонапарта! Счастливая Франция!» — восклицал в своей речи один из директоров республики, Ларевельер-Лепо.
Между тем Бонапарт наскоро заканчивал организацию новой вассальной Цизальпинской республики, куда включил часть завоеванных им земель (прежде всего Ломбардию) Другая часть его завоеваний была непосредственно присоединена к Франции. Наконец, третья часть (вроде Рима) оставлена была до поры до времени в руках прежних государей, но с фактическим подчинением их Франции. Бонапарт организовал эту Цизальпинскую республику так, что при видимости существования совещательного собрания представителей из состоятельных слоев населения вся фактическая сила должна была находиться в руках французской оккупационной военной власти и присланного из Парижа комиссара. Ко всей традиционной фразеологии об освобождении народов, о братских республиках и т д. он относился с самым откровенным презрением. Он ничуть не верил тому, что в Италии есть хоть сколько-нибудь значительное число людей, которые были бы охвачены тем энтузиазмом к свободе, о котором он сам говорил в своих воззваниях к населению завоевываемых им стран.
Распространялась по Европе официальная версия о том, как великий итальянский народ сбрасывает долгое иго суеверий и притеснений и несметной массой берется за оружие, чтобы помогать освободителям-французам, а на деле вот что — не для публики, а для Директории сообщал доверительно Бонапарт: «Вы воображаете себе, что свобода подвинет на великие дела дряблый, суеверный, трусливый, увертливый народ... В моей армии нет ни одного итальянца, кроме полутора тысяч шалопаев, подобранных на улицах, которые грабят и ни на что не годятся...» И дальше он говорит, что только с умением и при помощи «суровых примеров» можно держать Италию в руках. А итальянцы уже имели случай узнать, что́ именно он понимает под суровыми мерами. Он жестоко расправился с жителями г. Бинаско, с г. Павией, с некоторыми деревнями, около которых были найдены убитыми отдельные французы.
Во всех этих случаях действовала вполне планомерная политика Наполеона, которой он держался всегда: ни одной бесцельной жестокости и совсем беспощадный массовый террор, если это ему было нужно для подчинения завоеванной страны. Он уничтожил в завоеванной Италии всякие следы феодальных прав, где они были, он лишил церковь и монастыри права на некоторые поборы, он успел за те полтора года (с весны 1796 до поздней осени 1797 г.), которые он провел в Италии, ввести кое-какие законоположения, которые должны были приблизить социально-юридический строй жизни северной Италии к тому, который успела выработать буржуазия во Франции. Зато он тщательно и аккуратно эксплуатировал все итальянские земли, где только побывал, много миллионов золотом он отправил Директории в Париж, а вслед за этим и сотни лучших творений искусства из итальянских музеев и картинных галерей. Не забыл он и лично себя и своих генералов: они вернулись из похода богатыми людьми. Однако, подвергая Италию такой беспощадной эксплуатации, он понимал, что как ни трусливы (по его мнению) итальянцы, но что очень любить французов (армию которых они же и содержали из своих средств) им не за что и что даже их долготерпению может наступить внезапный конец. Значит, угроза военным террором — главное, что может на них действовать в желательном для завоевателя духе.
Ему еще не хотелось покидать завоеванную страну, но Директория ласково, однако очень настойчиво звала его после Кампо-Формио в Париж. Директория назначила его теперь главнокомандующим армии, которая должна была действовать против Англии. Бонапарт уже давно почуял, что Директория начала его побаиваться. «Они завидуют мне, я это знаю, хоть они и курят фимиамом под моим носом; но они меня не одурачат. Они поспешили назначить меня генералом армии против Англии, чтобы убрать меня из Италии, где я больше государь, чем генерал», — так оценивал он свое назначение в доверительных беседах.
7 декабря 1797 г. он прибыл в Париж, а 10 декабря был триумфально встречен Директорией в полном составе в Люксембургском дворце. Несметная толпа народа собралась у дворца, самые бурные крики и рукоплескания приветствовали Наполеона, когда он прибыл к дворцу. Речи, которыми встретили его Баррас, первенствующий член Директории, и другие члены Директории, и лукавый, дальше всех проникающий мыслью в будущее, умный и продажный министр иностранных дел Талейран, и остальные сановники, восторженные славословия толпы на площади — все это принималось 28-летним генералом с полным наружным спокойствием, как нечто должное и нисколько его не удивляющее. В душе он никогда особой цены восторгам народных толп не придавал: «Народ с такой же поспешностью бежал бы вокруг меня, если бы меня вели на эшафот», — сказал он после этих оваций (конечно, не во всеуслышание).
Едва приехав в Париж, Бонапарт принялся проводить через Директорию проект новой большой войны: в качестве генерала, назначенного действовать против Англии, он решил, что есть место, откуда можно грозить англичанам более успешно, чем на Ла-Манше, где их флот сильнее французского. Он предложил завоевать Египет и создать на Востоке подступы и плацдармы для дальнейшей угрозы английскому владычеству в Индии.
Не сошел ли он с ума? — спрашивали себя в Европе многие, когда уже летом 1798 г. узнали о совершившемся, потому что строжайшая тайна окружала до той поры новый план Бонапарта и обсуждение этого плана весной 1798 г. в заседаниях Директории.
Но то, что казалось издали обывательскому уму фантастической авантюрой, на самом деле тесно связывалось с определенными и стародавними устремлениями не только революционной, но и дореволюционной французской буржуазии. План Бонапарта оказался приемлемым.
Глава III. Завоевание Египта и поход в Сирию. 1798–1799 гг.
В исторической карьере Наполеона египетский поход — вторая большая война, которую он вел, — играет особую роль, и в истории французских колониальных завоеваний эта попытка тоже занимает совсем исключительное место.
Буржуазия Марселя и всего юга Франции с давних пор вела обширнейшие и крайне выгодные для французской торговли и промышленности сношения со странами Леванта, другими словами, с берегами Балканского полуострова, с Сирией, с Египтом, с островами восточной части Средиземного моря, с Архипелагом. И тоже с давних пор постоянным стремлением этих слоев французской буржуазии было упрочение политического положения Франции в этих прибыльных, но довольно беспорядочно управляемых местах, где торговля постоянно нуждается в охране и престиже силы, которую купец может в случае нужды призвать к себе на помощь. К концу XVIII в. умножились соблазнительные описания природных богатств Сирии и Египта, где хорошо бы завести колонии и фактории. Французская дипломатия с давних пор приглядывалась к этим так, казалось, слабо оберегаемым Турцией левантийским странам, которые числились владениями константинопольского султана, землями Оттоманской Порты, как называлось тогда турецкое правительство. С давних пор также французские правящие сферы смотрели на Египет, омываемый и Средиземным и Красным морями, как на такой пункт, откуда можно угрожать торговым и политическим конкурентам в Индии и Индонезии. Еще знаменитый философ Лейбниц подавал в свое время Людовику XIV доклад, в котором советовал французскому королю завоевать Египет, чтобы этим подорвать положение голландцев на всем Востоке. Теперь, в конце XVIII в., не голландцы, а англичане были главным врагом, и после всего сказанного ясно, что руководители французской политики вовсе не смотрели на Бонапарта, как на сумасшедшего, когда он предложил им нападение на Египет, и вовсе не удивились, когда холодный, осторожный, скептический министр иностранных дел Талейран стал самым решительным образом этот план поддерживать.
Еще едва только овладев Венецией, Бонапарт приказал одному из подчиненных генералов захватить Ионические острова и тогда уже говорил об этом захвате как об одной из деталей в деле овладения Египтом. У нас есть и еще неопровержимые данные, показывающие, что в течение всей своей первой итальянской кампании он не переставал возвращаться мыслью к Египту. Еще в августе 1797 г. он писал из своего лагеря в Париж: «Недалеко уже то время, когда мы почувствуем, что для того, чтобы в самом деле разгромить Англию, нам нужно овладеть Египтом». В течение всей итальянской войны в свободные минуты он, как всегда, много и с жадностью читал, и мы знаем, что он выписал и прочел книгу Вольнэя о Египте и еще несколько работ на ту же тему. Захватив Ионические острова, он так ими дорожил, что, как он писал Директории, если бы пришлось выбирать, то лучше отказаться от только что завоеванной Италии, чем от Ионических островов. И одновременно, еще не заключив окончательно мира с австрийцами, он настойчиво советовал овладеть островом Мальтой. Все эти островные базы на Средиземном море были ему нужны для организации будущего нападения на Египет.
Теперь, после Кампо-Формио, когда с Австрией — временно, по крайней мере — было покончено и Англия оставалась главным врагом, Бонапарт все свои усилия направил на то, чтобы убедить Директорию дать ему флот и армию для завоевания Египта. Его всегда манил Восток, и в эту пору его жизни его воображение было больше занято Александром Македонским, чем Цезарем или Карлом Великим или кем-либо из других исторических героев. Несколько позже, уже странствуя по египетским пустыням, он полушутя, полусерьезно высказывал спутникам сожаление, что слишком поздно родился и уже никак не может, подобно Александру Македонскому, тоже завоевавшему Египет, провозгласить себя тут же богом или божьим сыном. И совсем уже серьезно он говорил потом, что Европа мала и что настоящие великие дела совершать можно лучше всего на Востоке.
Эти его внутренние влечения как нельзя больше соответствовали тому, что требовалось в тот момент с точки зрения его дальнейшей политической карьеры. В самом деле: с той самой бессонной ночи в Италии, когда он решил, что не всегда же ему побеждать только для Директории, им был взят курс на овладение верховной властью. «Я уже не умею повиноваться», — открыто заявлял он в своем штабе, когда им велись переговоры о мире с австрийцами, а из Парижа приходили раздражавшие его директивы. Но свергнуть Директорию сейчас, т.е. в зиму с 1797 на 1798 г. или весной 1798 г., еще было нельзя. Плод еще не созрел, а Наполеон в эту пору если уже потерял способность повиноваться, то еще пока не утратил способности терпеливо ждать момента. Директория еще недостаточно себя скомпрометировала, а он, Бонапарт, еще недостаточно стал любимцем и кумиром всей армии, хотя на те дивизии, которыми он командовал в Италии, он уже вполне мог положиться. Как же лучше можно использовать то время, которое еще нужно переждать, если не употребив его на новое завоевание, на новые блестящие подвиги в стране фараонов, стране пирамид, идя по следам Александра Македонского, создавая угрозу индийским владениям ненавистной Англии?
В высшей степени ценной была для него в этом деле поддержка Талейрана. Вряд ли вообще можно говорить об «убеждениях» Талейрана. Но возможность создать богатую, процветающую, полезную в экономическом отношении французскую колонию в Египте для Талейрана была бесспорна. Он прочел об этом доклад в Академии еще до того, как узнал о замыслах Бонапарта. Аристократ, пошедший из соображений карьеризма на службу республике, Талейран в данном случае являлся выразителем стремлений класса, особенно заинтересованного в левантийской торговле, — французского купечества. Теперь к этому прибавилось со стороны Талейрана еще и желание расположить к себе Бонапарта, в котором лукавый ум этого дипломата раньше всех предугадал будущего властелина Франции и наиболее верного душителя якобинцев.
Но Бонапарту и Талейрану не очень много пришлось и трудиться, чтобы убедить Директорию дать деньги, солдат и флот для этого далекого и опасного предприятия. Во-первых (и это самое важное), Директория по указанным уже общим экономическим и особенно военно-политическим причинам тоже видела пользу и смысл в этом завоевании, а во-вторых (это было несравненно менее существенно), кое-кто из директоров (например, Баррас) мог и в самом деле усмотреть в затеваемой далекой и опасной экспедиции некоторую пользу именно от того, что она такая далекая и такая опасная... Внезапная колоссальная и шумная популярность Бонапарта уже давно их тревожила; что он «разучился повиноваться», это Директория знала лучше, чем кто-либо другой: ведь Бонапарт заключил Кампо-Формийский мир в таком виде, как он захотел, и вопреки некоторым прямым желаниям Директории. На чествовании его 10 декабря 1797 г. он вел себя не как молодой воин, с волнением благодарности принимающий похвалу от отечества, а как древнеримский император, которому подобострастный сенат устраивает триумф после удачной войны: он был холоден, почти угрюм, неразговорчив, принимал все происходившее как нечто должное и обыденное. Словом, все его ухватки тоже наталкивали на беспокойные размышления. Пусть едет в Египет: вернется — хорошо, не вернется — что же, Баррас и его товарищи уже наперед были готовы безропотно перенести эту утрату. Экспедиция была решена. Главнокомандующим был назначен генерал Бонапарт. Это случилось 5 марта 1798 г.
Немедленно началась самая кипучая деятельность главнокомандующего по подготовке экспедиции, по осмотру кораблей, по отбору солдат для экспедиционного корпуса. Тут еще больше, чем в начале итальянской кампании, обнаружилась способность Наполеона, затевая самые грандиозные и труднейшие предприятия, зорко следить за всеми мелочами и при этом нисколько в них не путаться и не теряться — одновременно видеть и деревья, и лес, и чуть ли не каждый сук на каждом дереве. Инспектируя берега и флот, формируя свой экспедиционный корпус, внимательно следя за всеми колебаниями мировой политики и за всеми слухами о передвижении эскадры Нельсона, которая могла потопить его во время переезда, а пока крейсировала у французских берегов, — Бонапарт в то же время чуть не поодиночке отбирал для Египта солдат, с которыми воевал в Италии. Он знал громадное количество солдат индивидуально; его исключительная память всегда и впоследствии поражала окружающих. Он знал, что этот солдат храбр и стоек, но пьяница, а вот этот очень умен и сообразителен, но быстро утомляется, потому что болен грыжей. Он не только впоследствии хорошо выбирал маршалов, но он хорошо выбирал и капралов и удачно отбирал рядовых солдат там, где это нужно было. А для египетского похода, для войны под палящим солнцем, при 50° и больше жары, для перехода по раскаленным необъятным песчаным пустыням без воды и тени нужны были именно отборные по выносливости люди. 19 мая 1798 г. все было готово: флот Бонапарта отплыл из Тулона. Около 350 больших и малых судов и барок, на которых разместилась армия в 30 тысяч человек с артиллерией, должны были пройти вдоль почти все Средиземное море и избежать встречи с эскадрой Нельсона, которая расстреляла бы и потопила их.
Вся Европа знала, что готовится какая-то морская экспедиция; Англия, сверх того, прекрасно знала, что во всех южнофранцузских портах идет кипучая работа, что туда непрерывно прибывают войска, что во главе экспедиции будет генерал Бонапарт и что уже это назначение показывает всю важность дела. Но куда отправится экспедиция? Бонапарт очень искусно распространил слух, что он намерен пройти через Гибралтар, обогнуть Испанию и затем попытаться сделать высадку в Ирландии. Этот слух дошел до Нельсона и обманул его: он сторожил Наполеона у Гибралтара, когда французский флот вышел из гавани и пошел прямо на восток, к Мальте.
Мальта принадлежала еще с XVI в. Ордену мальтийских рыцарей. Генерал Бонапарт подошел к острову, потребовал и добился его сдачи, объявил его владением Французской республики и после нескольких дней остановки отплыл дальше в Египет. Мальта была примерно на полпути; и подошел он к ней 10 июня, а 19-го уже продолжал путь. Сопутствуемый благоприятным ветром, уже 30 июня Бонапарт со своей армией причалил к берегу Египта близ г. Александрии. Немедленно он начал высадку. Положение было опасное: он узнал в Александрии тотчас же по приезде, что ровно за 48 часов до его появления к Александрии подошла английская эскадра и спрашивала о Бонапарте (о котором, конечно, там не имели ни малейшего представления). Оказалось, что Нельсон, прослышав о взятии Мальты французами и убедясь, что Бонапарт его обманул, помчался на всех парусах в Египет, чтобы не допустить высадки и потопить французов еще на море. Но ему повредила именно его излишняя поспешность и большая быстроходность британского флота; правильно сначала сообразив, что Бонапарт пошел от Мальты к Египту, он снова сбился с толку, когда ему сказали в Александрии, что ни о каком Бонапарте там и не слыхивали, и тогда Нельсон помчался в Константинополь, решив, что французам плыть больше некуда, раз их нет в Египте.
Эта цепь ошибок Нельсона и случайностей спасла французскую экспедицию. Нельсон каждую минуту мог вернуться, поэтому высадка была произведена с большой быстротой. В час ночи 2 июля войска были на суше.
Очутившись в своей стихии с верными солдатами, Бонапарт уже ничего не боялся. Немедленно он двинул свою армию на Александрию (высадку он произвел в рыбачьем поселке Марабу, в нескольких километрах от города).
Египет числился владением турецкого султана, но фактически им владела и над ним господствовала начальствующая верхушка хорошо вооруженной феодальной конницы. Конница называлась мамелюками, а их начальники, владельцы лучших земель в Египте, — беями-мамелюками. Эта военно-феодальная аристократия платила известную дань константинопольскому султану, признавала его верховенство, но фактически крайне мало от него зависела.
Основное население — арабы — занималось кто торговлей (и между ними были состоятельные и даже богатые купцы), кто ремеслами, кто караванным транспортом, кто работой на земле. В самом худшем, наиболее загнанном состоянии были копты, остатки прежних, еще доарабских, племен, живших в стране. Носили они общее название «феллахи» (крестьяне). Но феллахами назывались и обедневшие крестьяне арабского происхождения. Они батрачили, были чернорабочими, погонщиками верблюдов, кое-кто — мелкими бродячими торговцами.
Хотя страна считалась принадлежащей султану, но Бонапарт, прибывший захватить ее в свои руки, все время старался делать вид, будто он с турецким султаном не воюет, — напротив, с султаном у него глубокий мир и дружба, а он явился, чтобы освободить арабов (о коптах он не говорил) от угнетения со стороны беев-мамелюков, которые своими поборами и жестокостями угнетают население. И когда он двинулся к Александрии и после нескольких часов перестрелки взял ее и вошел в этот обширнейший и тогда довольно богатый город, то, повторяя свой вымысел относительно освобождения от мамелюков, он сразу стал устанавливать надолго французское владычество. Он всячески уверял арабов в своем уважении к корану и к магометанской религии, но рекомендовал полную покорность, грозя в противном случае крутыми мерами.
После нескольких дней пребывания в Александрии Бонапарт двинулся на юг, углубляясь в пустыню. Войска его страдали от отсутствия воды: население деревень в панике покидало свои дома и, убегая, отравляло и загрязняло колодцы. Мамелюки медленно отступали, изредка тревожа французов, и затем на своих великолепных лошадях скрывались от погони.
20 июля 1798 г. в виду пирамид Бонапарт встретился наконец с главными силами мамелюков. «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас сегодня с высоты этих пирамид!» — сказал Наполеон, обращаясь к своей армии перед началом сражения.
Дело было между селением Эмбабе и пирамидами. Мамелюки потерпели полное поражение, они бросили часть своей артиллерии (40 пушек) и бежали на юг. Несколько тысяч человек осталось на поле битвы.
Сейчас же после этой победы Бонапарт пошел в г. Каир, второй из двух больших городов Египта. Напуганное население молча встретило завоевателя; оно не только ничего о Бонапарте не слыхало, но ему было даже и теперь еще невдомек, кто он такой, зачем явился и с кем воюет.
В Каире, который был богаче Александрии, Бонапарт нашел массу съестных припасов. Армия отдохнула после тяжелых переходов. Правда, неприятно было то, что жители слишком уже были напуганы, и генерал Бонапарт даже издал специальное воззвание, переведенное на местное наречие, с призывом к успокоению. Но так как одновременно он приказал в виде карательной меры разграбить и сжечь село Алькам, недалеко от Каира, заподозрив его жителей в убийстве нескольких солдат, то запуганность арабов еще более усилилась.
Эти приказы в подобных случаях Наполеон не колеблясь отдавал и в Италии, и в Египте, и всюду, где он воевал впоследствии, и это тоже у него было вполне рассчитано: его войско должно было видеть, как страшно карает их начальник всех и каждого, кто посмеет поднять руку на французского солдата.
Устроившись в Каире, он приступил к организации управления. Не касаясь подробностей, которые были бы тут неуместны, я отмечу только наиболее характерные черты: во-первых, власть должна была быть сосредоточена в каждом городе, в каждом селении в руках французского начальника гарнизона; во-вторых, при этом начальнике должен находиться совещательный «диван» из назначенных им же наиболее именитых и состоятельных местных граждан; в-третьих, магометанская религия должна пользоваться полнейшим уважением, а мечети и духовенство — неприкосновенностью; в-четвертых, в Каире при самом главнокомандующем должен состоять тоже большой совещательный орган из представителей не только г. Каира) но и провинций. Сбор податей и налогов должен был быть упорядочен, доставка натурой должна быть так организована, чтобы страна содержала французскую армию за свой счет. Местные начальники со своими совещательными органами должны были организовать исправный полицейский порядок, охранять торговлю и частную собственность. Все земельные поборы, взимавшиеся беями-мамелюками, отменяются. Имения непокорных и продолжающих войну беев, бежавших к югу, отбираются во французскую казну.
Бонапарт и тут, как и в Италии, стремился покончить с феодальными отношениями, что было особенно удобно, так как именно мамелюки поддерживали военное сопротивление, и опереться на арабскую буржуазию и на арабов-землевладельцев; эксплуатируемых же арабской буржуазией феллахов он отнюдь не брал под защиту.
Все это должно было закрепить основы безусловной военной диктатуры, централизованной в его руках и обеспечивающей этот создаваемый им буржуазный порядок. Наконец, настойчиво провозглашаемая им веротерпимость и уважение к корану были, замечу кстати, настолько чрезвычайным новшеством, что российский «святейший» синод, выдвинув, как известно, весной 1807 г. смелый тезис о тождестве Наполеона с «предтечей» антихриста, в виде одного из аргументов намекал на поведение Бонапарта в Египте: покровительство магометанству и т.п.
Насадив новый политический режим в завоеванной стране, Бонапарт стал готовиться к дальнейшему походу — к вторжению из Египта в Сирию. Ученых, которых он взял с собой из Франции, он решил в Сирию не брать, а оставить их в Египте. Бонапарт никогда не проявлял особо глубокого уважения к гениальным изысканиям своих ученых современников, но он великолепно сознавал, какую огромную пользу может принести ученый, если его направить на выполнение конкретных задач, выдвигаемых военными, политическими или экономическими обстоятельствами. С этой точки зрения он с большим сочувствием и вниманием относился и к своим ученым спутникам, которых взял с собой в эту экспедицию. Даже знаменитая его команда перед началом одного сражения с мамелюками: «Ослов и ученых на середину!» — означала именно желание обезопасить прежде всего наряду с драгоценнейшими в походе вьючными животными также и представителей науки; несколько неожиданное сопоставление слов получилось исключительно вследствие обычного военного лаконизма и необходимой краткости командной фразы. Нужно сказать, что в истории египтологии поход Бонапарта сыграл колоссальную роль. С ним приехали ученые, которые впервые, можно сказать, открыли для науки эту древнейшую страну человеческой цивилизации.
Еще до сирийского похода Бонапарту многократно приходилось убеждаться, что арабы далеко не все восхищены тем «освобождением от тирании мамелюков», о котором постоянно говорил в своих воззваниях французский завоеватель. Французы имели достаточно продовольствия, установив правильно действующую, но тяжкую для населения машину реквизиций и налогового обложения. Но звонкой монеты было найдено меньше. Для добывания ее служили другие средства.
Оставленный Бонапартом в качестве генерал-губернатора Александрии генерал Клебер арестовал прежнего шейха этого города и большого богача Сиди-Мохаммеда Эль-Кораима по обвинению в государственной измене, хотя и не имел к тому никаких доказательств. Эль-Кораим был под конвоем отправлен в Каир, где ему и заявили, что если он желает спасти свою голову, то должен отдать 300 тысяч франков золотом. Эль-Кораим оказался на свою беду фаталистом: «Если мне суждено умереть теперь, то ничто меня не спасет и я отдам, значит, свои пиастры без пользы; если мне не суждено умереть, то зачем же мне их отдавать?» Генерал Бонапарт приказал отрубить ему голову и провезти ее по всем улицам Каира с надписью: «Так будут наказаны все изменники и клятвопреступники». Денег, спрятанных казненным шейхом, так и не нашли, несмотря на все поиски. Зато несколько богатых арабов отдали все, что у них потребовали, и в ближайшее после казни Эль-Кораима время было собрано таким путем около 4 миллионов франков, которые и поступили в казначейство французской армии. С людьми попроще обращались и подавно без особых церемоний.
В конце октября 1798 г. дело дошло до попытки восстания в самом Каире. Несколько человек из оккупационной армии подверглось открытому нападению и было убито, и в течение трех дней восставшие оборонялись в нескольких кварталах. Усмирение было беспощадное. Кроме массы перебитых арабов и феллахов при самом подавлении восстания, уже после усмирения несколько дней подряд происходили казни; казнили от 12 до 30 человек в день.
Каирское восстание имело отголосок и в соседних селениях. Генерал Бонапарт, узнав о первом же из этих восстаний, приказал своему адъютанту Круазье отправиться туда, окружить все племя, перебить всех без исключения мужчин, а женщин и детей привести в Каир, самые же дома, где жило это племя, сжечь. Это было исполнено в точности. Много детей и женщин, которых гнали пешком, умерло по дороге, а спустя несколько часов после этой карательной экспедиции на главной площади Каира появились ослы, навьюченные мешками. Мешки были раскрыты, и по площади покатились головы казненных мужчин провинившегося племени.
Эти зверские меры, судя по свидетельству очевидцев, на время страшно терроризировали население.
Между тем Бонапарт должен был считаться с двумя крайне опасными для него обстоятельствами. Во-первых, уже давно (как раз месяц спустя после высадки армии в Египте) адмирал Нельсон нашел наконец французскую эскадру, стоявшую пока в Абукире, напал на нее и уничтожил совершенно. Французский адмирал Бриэй погиб в битве. Таким образом, армия, воевавшая в Египте, оказывалась надолго отрезанной от Франции. Во-вторых, турецкое правительство решило ни в коем случае не поддерживать распространенный Бонапартом вымысел, будто он вовсе не воюет с Оттоманской Портой, а только наказывает мамелюков за обиды, чинимые французским купцам, и за угнетение арабов. В Сирию была послана турецкая армия.
Бонапарт двинулся из Египта в Сирию, навстречу туркам. Жестокости в Египте он счел наилучшим методом, чтобы вполне обеспечить тыл во время нового далекого похода.
Поход в Сирию был страшно тяжел, особенно вследствие недостатка воды. Город за городом, начиная от Эль-Ариша, сдавался Бонапарту. Перейдя через Суэцкий перешеек, он двинулся к Яффе и 4 марта 1799 г. осадил ее. Город не сдавался. Бонапарт приказал объявить населению Яффы, что если город будет взят приступом, то все жители будут истреблены, в плен брать не будут. Яффа не сдалась. 6 марта последовал штурм, и, ворвавшись в город, солдаты принялись истреблять буквально всех, кто попадался под руку. Дома и лавки были отданы на разграбление. Спустя некоторое время, когда избиения и грабеж уже подходили к концу, генералу Бонапарту было доложено, что около 4 тысяч уцелевших еще турецких солдат при полном вооружении, большей частью арнауты и албанцы по происхождению, заперлись в одном обширном, со всех концов загороженном месте и что когда французские офицеры подъехали и потребовали сдачи, то эти солдаты объявили, что сдадутся только, если им будет обещана жизнь, а иначе будут обороняться до последней капли крови. Французские офицеры обещали им плен, и турки вышли из своего укрепления и сдали оружие. Пленников французы заперли в сараи. Генерал Бонапарт был всем этим очень разгневан. Он считал, что совершенно незачем было обещать туркам жизнь. «Что мне теперь с ними делать? — кричал он. — Где у меня припасы, чтобы их кормить?» Не было ни судов, чтобы отправить их морем из Яффы в Египет, ни достаточно свободных войск, чтобы конвоировать 4 тысячи отборных, сильных солдат через все сирийские и египетские пустыни в Александрию или Каир. Но не сразу Наполеон остановился на своем страшном решении... Он колебался и терялся в раздумье три дня. Однако на четвертый день после сдачи он отдал приказ всех их расстрелять. 4 тысячи пленников были выведены на берег моря и здесь все до одного расстреляны. «Никому не пожелаю пережить то, что пережили мы, видевшие этот расстрел», — говорит один из французских офицеров.
Тотчас после этого Бонапарт двинулся дальше, к крепости Акр, или, как французы ее чаще называют, Сен-Жан д’Акр. Турки называли ее Акка. Особенно мешкать не приходилось: чума гналась по пятам за французской армией, и оставаться в Яффе, где и в домах, и на улицах, и на крышах, и в погребах, и в садах, и в огородах гнили неприбранные трупы перебитого населения, было, с гигиенической точки зрения, крайне опасно.
Осада Акра длилась ровно два месяца и окончилась неудачей. У Бонапарта не было осадной артиллерии; обороной руководил англичанин Сидней Смит; с моря англичане подвозили и припасы и оружие, турецкий гарнизон был велик. Пришлось, после нескольких неудавшихся приступов, 20 мая 1799 г. снять осаду, за время которой французы потеряли 3 тысячи человек. Правда, осажденные потеряли еще больше. После этого французы пошли обратно в Египет.
Тут следует отметить, что Наполеон всегда (до конца дней) придавал какое-то особое, фатальное значение этой неудаче. Крепость Акр была последней, самой крайней восточной точкой земли, до которой суждено ему было добраться. Он предполагал остаться в Египте надолго, велел своим инженерам обследовать древние следы попыток прорытия Суэцкого канала и составить план будущих работ по этой части. Мы знаем, что он писал воевавшему как раз тогда против англичан майсорскому султану (на юге Индии), обещая помощь. У него были планы сношений и соглашений с персидским шахом. Сопротивление в Акре, беспокойные слухи о восстаниях сирийских деревень, оставленных в тылу, между Эль-Аришем и Акром, а главное, невозможность без новых подкреплений так страшно растягивать коммуникационную линию — все это положило конец мечте об утверждении его владычества в Сирии.
Обратный путь был еще тяжелее, чем наступление, потому что был уже конец мая и приближался июнь, когда страшная жара в этих местах усиливалась до невыносимой степени. Бонапарт останавливался не надолго, чтобы так же жестоко, как он всегда это делал, покарать сирийские деревни, которые находил нужным покарать.
Любопытно отметить, что во время этого тяжкого обратного пути из Сирии в Египет главнокомандующий делил с армией все трудности этого похода, не давая себе и своим высшим начальникам никакой поблажки. Чума наседала все более и более. Чумных оставляли, но раненых и больных не чумой брали с собой дальше. Бонапарт велел всем спешиться, а лошадей, все повозки и экипажи предоставить под больных и раненых. Когда после этого распоряжения его главный заведующий конюшней, убежденный, что для главнокомандующего должно сделать исключение, спросил, какую лошадь оставить ему, Бонапарт пришел в ярость, ударил вопрошавшего хлыстом по лицу и закричал: «Всем идти пешком! Я первый пойду! Что, вы не знаете приказа? Вон!»
За этот и подобные поступки солдаты больше любили и на старости лет чаще вспоминали Наполеона, чем за все его победы и завоевания. Он это очень хорошо знал и никогда в подобных случаях не колебался; и никто из наблюдавших его не мог впоследствии решить, что и когда тут было непосредственным движением, а что — наиграно и обдумано. Могло быть одновременно и то и другое, как это случается с великими актерами. А Наполеон в актерстве был действительно велик, хотя на заре его деятельности, в Тулоне, в Италии, в Египте, это его свойство стало открываться пока лишь очень немногим, лишь самым проницательным из самых близких. А среди его близких было тогда мало проницательных.
14 июня 1799 г. армия Бонапарта вернулась в Каир. Но недолго еще суждено было если не всей армии, то ее главнокомандующему оставаться в завоеванной им и покорившейся стране.
Не успел Бонапарт отдохнуть в Каире, как пришла весть, что близ Абукира, там, где за год до того Нельсон уничтожил французские транспорты, высадилась турецкая армия, присланная освободить Египет от французского нашествия. Сейчас же он выступил с войсками из Каира и направился на север к дельте Нила. 25 июля он напал на турецкую армию и разгромил ее. Почти все 15 тысяч турок были перебиты на месте. Наполеон приказал в плен не брать, а истребить всех. «Эта битва — одна из прекраснейших, какие я только видел: от всей высадившейся неприятельской армии не спасся ни один человек», — торжественно писал Наполеон. Французское завоевание этим казалось вполне упроченным на ближайшие годы. Ничтожная часть турок спаслась на английские суда. Море по-прежнему было во власти англичан, но Египет прочнее, чем когда-либо, был в руках Бонапарта.
И тут произошло внезапное, никем не предвиденное событие. Долгие месяцы отрезанный от всякого сообщения с Европой, Бонапарт из случайно попавшей в его руки газеты узнал потрясающие новости: он узнал, что, пока он завоевывал Египет, Австрия, Англия, Россия и Неаполитанское королевство возобновили войну против Франции, что Суворов появился в Италии, разбил французов, уничтожил Цизальпинскую республику, движется к Альпам, угрожает вторжением во Францию; в самой Франции — разбои, смуты, полное расстройство; Директория ненавистна большинству, слаба и растерянна. «Негодяи! Италия потеряна! Все плоды моих побед потеряны! Мне нужно ехать!» — сказал он, как только прочел газету.
Решение было принято сразу. Он передал верховное командование армией генералу Клеберу, приказал в спешном порядке и строжайшей тайне снарядить четыре судна, посадил на них около 500 отобранных им людей и 23 августа 1799 г. выехал во Францию, оставив Клеберу большую, хорошо снабженную армию, исправно действующий (им самим созданный) административный и налоговый аппарат и безгласное, покорное, запуганное население огромной завоеванной страны.
Глава IV. Восемнадцатое брюмера. 1799 г.
Наполеон отплыл из Египта с твердым и непоколебимым намерением низвергнуть Директорию и овладеть верховной властью в государстве. Предприятие было отчаянное. Напасть на республику, «поставить точку к революции», начавшейся взятием Бастилии больше десяти лет назад, сделать все это, даже имея в своем прошлом Тулон, Вандемьер, Италию и Египет, представляло ряд страшных опасностей. И начались эти опасности, едва только Наполеон покинул берег завоеванного им Египта. За 47 дней пути во Францию были близки и, казалось, неизбежны встречи с англичанами, и в эти страшные минуты, по словам наблюдавших, один только Бонапарт оставался спокоен и отдавал с обычной энергией все нужные приказания. Утром 8 октября 1799 г. корабли Наполеона пристали к бухте у мыса Фрежюс, на южном берегу Франции. Для того чтобы понять, что произошло в 30 дней, между 8 октября 1799 г., когда Бонапарт ступил на французскую землю, и 9 ноября, когда он стал повелителем Франции, нужно напомнить в нескольких словах о положении, в котором находилась страна в тот момент, когда она узнала, что завоеватель Египта вернулся.
После переворота 18 фрюктидора V года (1797 г.) и ареста Пишегрю директор республики Баррас и его товарищи, казалось, могли рассчитывать на те силы, которые поддержали их в этот день: 1) на новые собственнические слои города и деревни, разбогатевшие в процессе распродажи национального имущества, церковных и эмигрантских земель, в подавляющем большинстве боявшиеся возвращения Бурбонов, однако мечтавшие об установлении прочного полицейского порядка и сильной центральной власти, и 2) на армию, на солдатскую массу, тесно связанную с трудовым крестьянством, ненавидевшим самую мысль о возврате старой династии и феодальной монархии.
Но в два года, прошедшие между 18 фрюктидора V года (1797 г.) и осенью 1799 г., обнаружилось, что Директория потеряла всякую классовую опору. Крупная буржуазия мечтала о диктаторе, о восстановителе торговли, о человеке, который обеспечит развитие промышленности, принесет Франции победоносный мир и крепкий внутренний «порядок»; мелкая и средняя буржуазия — и прежде всего купившее землю и разбогатевшее крестьянство — желала того же; диктатором мог быть кто угодно, только не Бурбон.
Парижские рабочие после массового разоружения их и направленного на них свирепого террора в прериале 1795 г., после ареста в 1796 г. и казни Бабефа и ссылки бабувистов в 1797 г., после всей политики Директории, направленной всецело на защиту интересов крупной буржуазии, особенно спекулянтов и казнокрадов, — эти рабочие, продолжая голодать, страдать от безработицы и от дороговизны, проклиная скупщиков и спекулянтов, конечно, ни в малейшей степени не были склонны защищать Директорию от кого бы то ни было. Что касается пришлых рабочих, поденщиков из деревень, то для них действительно был только один лозунг: «Мы хотим такого режима, при котором едят» (un régime oú l’on mange). Эту фразу полицейские агенты Директории частенько подслушивали в предместьях Парижа и докладывали своему обеспокоенному начальству.
За годы своего правления Директория неопровержимо доказала, что она не в состоянии создать тот прочный буржуазный строй, который был бы окончательно кодифицирован и введен в полное действие. Директория за последнее время показала свою слабость и в другом. Восторги лионских промышленников, шелковых фабрикантов по поводу завоевания Бонапартом Италии, с ее громадной добычей шелка-сырца, сменились разочарованием и унынием, когда в отсутствие Бонапарта явился Суворов и в 1799 г. отнял Италию у французов. Такое же разочарование овладело и другими категориями французской буржуазии, когда они увидели в 1799 г., что Франции становится все труднее бороться против могущественной европейской коалиции, что золотые миллионы, которые Бонапарт присылал в Париж из Италии в 1796–1797 гг., в большинстве расхищены чиновниками и спекулянтами, обкрадывающими казну при попустительстве той же Директории. Страшное поражение, нанесенное Суворовым французам в Италии при Нови, смерть французского главнокомандующего Жубера в этой битве, отпадение всех итальянских «союзников» Франции, угроза французским границам — все это окончательно отвратило от Директории буржуазные массы города и деревни.
Об армии нечего и говорить. Там давно вспоминали об уехавшем в Египет Бонапарте, солдаты открыто жаловались, что голодают из-за всеобщего воровства, и повторяли, что их зря гонят на убой. Внезапно оживилось всегда тлевшее, как уголь под пеплом, роялистское движение в Вандее. Вожди шуанов, Жорж Кадудаль, Фротте, Ларош-Жаклен, поднимали снова и Бретань и Нормандию. В некоторых местах роялисты дошли до такой смелости, что кричали иногда на улице: «Да здравствует Суворов! Долой республику!» Целыми тысячами бродили по стране уклонившиеся от воинской повинности и поэтому принужденные покинуть родные места молодые люди. Дороговизна росла с каждым днем вследствие общего расстройства финансов, торговли и промышленности, вследствие беспорядочных и непрерывных реквизиций, на которых широко наживались крупные спекулянты и скупщики. Даже когда осенью 1799 г. Массена разбил в Швейцарии при Цюрихе русскую армию Корсакова, а другая русская армия (Суворова) была отозвана Павлом, то и эти успехи мало помогли Директории и не восстановили ее престижа.
Если бы кто пожелал выразить в самых кратких словах положение вещей во Франции в середине 1799 г., тот мог бы остановиться на такой формуле: в имущих классах подавляющее большинство считало Директорию со своей точки зрения бесполезной и недееспособной, а многие — определенно вредной; для неимущей массы как в городе, так и в деревне Директория была представительницей режима богатых воров и спекулянтов, режима роскоши и довольства для казнокрадов и режима безысходного голода и угнетения для рабочих, батраков, для бедняка-потребителя; наконец, с точки зрения солдатского состава армии Директория была кучкой подозрительных людей, которые оставляют армию без сапог и без хлеба и которые в несколько месяцев отдали неприятелю то, что десятком победоносных битв завоевал в свое время Бонапарт. Почва для диктатуры была готова.
13 октября (21 вандемьера) 1799 г. Директория уведомила Совет пятисот — «с удовольствием», было сказано в этой бумаге, — что генерал Бонапарт вернулся во Францию и высадился у Фрежюса. При неистовой буре рукоплесканий, радостных криках, нечленораздельных воплях восторга все собрание народных представителей встало, и стоя депутаты долго выкрикивали приветствия. Заседание было прервано. Как только депутаты вышли на улицу и распространили полученное известие, столица, по словам свидетелей, как бы внезапно сошла с ума от радости: в театрах, в салонах, на центральных улицах неустанно повторялось имя Бонапарта. Одно за другим прибывали в Париж известия о неслыханной встрече, которую оказывает генералу население юга и центра во всех городах, через которые он проезжал, направляясь в Париж. Крестьяне выходили из деревень, городские депутации одна за другой представлялись Бонапарту, приветствуя его как лучшего генерала республики. Не только он сам, но и никто вообще не мог себе перед этим даже и вообразить такой внезапной грандиозной, многозначительной манифестации. Бросалась в глаза одна особенность: в Париже войска гарнизона столицы вышли на улицу, как только была получена весть о высадке Бонапарта, и с музыкой прошли по городу. И нельзя было вполне точно уяснить, кто именно дал приказ об этом. И был ли вообще дан такой приказ, или дело сделалось без приказа?
16 октября (24 вандемьера) генерал Бонапарт прибыл в Париж. Директории оставалось просуществовать еще три недели после этого прибытия, но ни Баррас, которого ждала политическая смерть, ни те директора, которые помогли Бонапарту похоронить директориальный режим, не подозревали еще в тот момент, что развязка так близка и что до установления военной диктатуры сроки нужно исчислять уже не неделями, но днями, а скоро и не днями, а часами.
Проезд Бонапарта по Франции от Фрежюса до Парижа уже явно показал, что в нем видят «спасителя». Были торжественные встречи, восторженные речи, иллюминации, манифестации, делегации. Крестьяне, горожане провинций выходили ему навстречу. Офицеры, солдаты восторженно приветствовали своего полководца. Все эти явления и все эти люди, которые, как в калейдоскопе, сменялись перед Бонапартом, пока он ехал в Париж, еще не дали ему полной уверенности в немедленном успехе. Важно было, что́ скажет столица. Гарнизон Парижа с восторгом приветствовал полководца, вернувшегося со свежими лаврами завоевателя Египта, победителя мамелюков, победителя турецкой армии, покончившего с турками как раз перед самым отъездом из Египта. В высших кругах Бонапарт сразу почувствовал крепкую опору. В первые дни также обнаружилось, что подавляющая масса буржуазии, особенно из числа новых собственников, относится к Директории явно враждебно, не доверяет ее дееспособности ни во внутренней, ни во внешней политике, откровенно боится активности роялистов, но еще больше трепещет перед брожением в предместьях, где рабочим массам только что был нанесен Директорией новый удар: 13 августа, по требованию банкиров, Сийес ликвидировал последний оплот якобинцев — Союз друзей свободы и равенства, насчитывавший до 5000 членов и имевший 250 мандатов в обоих советах. Что опасность и справа и слева, а главное, слева, лучше всего может предотвратить Бонапарт — в это сразу и твердо поверили буржуазия и ее вожди. К тому же еще совсем неожиданно обнаружилось, что в самой пятичленной Директории нет никого, кто был бы способен и имел возможность оказать серьезное сопротивление, даже если бы Бонапарт решился на немедленный переворот. Ничтожные Гойе, Мулен, Роже-Дюко были вообще не в счет. Их и в директора провели именно потому, что никто и никогда не подозревал за ними способности произвести на свет какую-нибудь самостоятельную мысль и решимости раскрыть рот в тех случаях, когда Сийесу или Баррасу это казалось излишним.
Считаться приходилось только с двумя директорами: Сийесом и Баррасом. Сийес, прогремевший в начале революции своей знаменитой брошюрой о том, чем должно быть третье сословие, был и остался представителем и идеологом французской крупной буржуазии; вместе с ней он скрепя сердце перенес революционную якобинскую диктатуру вместе с ней горячо одобрял и свержение якобинской диктатуры 9 термидора и прериальский террор 1795 г. против восставшей плебейской массы и вместе с этим же классом искал упрочения буржуазного порядка, считая директориальный режим для этого абсолютно негодным, хотя сам и был одним из пяти директоров. На возвращение Бонапарта он смотрел с упованием, но до курьеза глубоко ошибался в личности генерала. «Нам нужна шпага», — говорил он, наивно воображая, что Бонапарт будет только шпагой, а строителем нового режима будет он, Сийес. Мы сейчас увидим, что́ вышло из этого плачевного (для Сийеса) предположения.
Что касается Барраса, то это был человек совсем другого пошиба, другой биографии, другого склада ума, чем Сийес. Он, конечно, был умнее Сийеса уже потому, что не был таким надутым и самоуверенным политическим резонером, каким был Сийес, который был не то что просто эгоистом, а был, если можно так выразиться, почтительно влюблен в самого себя. Смелый, развратный, скептический, широкий в кутежах, пороках, преступлениях, граф и офицер до революции, монтаньяр при революции, один из руководителей парламентской интриги, создавший внешнюю рамку событий 9 термидора, центральный деятель термидорианской реакции, ответственный автор событий 18 фрюктидора 1797 г. — Баррас всегда шел туда, где была сила, где можно было разделить власть и воспользоваться материальными благами, которые она дает. Но в отличие, например, от Талейрана он умел ставить жизнь на карту, как поставил ее перед 9 термидора, организуя нападение на Робеспьера; умел прямо пойти на врага, как он пошел против роялистов 13 вандемьера 1795 г. или 18 фрюктидора 1797 г. Он не просидел, как притаившаяся мышь, в подполье при Робеспьере подобно Сийесу, ответившему на вопрос, чем он занимался в годы террора: «Я оставался жив». Баррас сжег свои корабли давно. Он знал, как его ненавидят и роялисты и якобинцы, и не давал пощады ни тем, ни другим, сознавая, что и он не получит пощады ни от тех, ни от других, если они победят. Он очень не прочь был помочь Бонапарту, если уж тот вернулся из Египта, к сожалению, здравый и невредимый. Он сам бывал у Бонапарта в эти горячие предбрюмерские дни, подсылал к нему для переговоров и все пытался обеспечить за собой местечко повыше и потеплее в будущем строе.
Но уже очень скоро Наполеон решил, что Баррас невозможен. Не то что не нужен: умных, смелых, тонких, пронырливых политиков, да еще на таком высоком посту, было вовсе не так много, и пренебрегать ими было бы жаль, но Баррас именно сделал себя невозможным. Его не только ненавидели, но и презирали. Беззастенчивое воровство, неприкрытое взяточничество, темные аферы с поставщиками и спекулянтами, неистовые и непрерывные кутежи на глазах люто голодавших плебейских масс — все это сделало имя Барраса как бы символом гнилости, порочности, разложения режима Директории. Сийеса же, напротив, Бонапарт обласкал с самого начала. У Сийеса и репутация была лучше и сам он, будучи директором, мог при переходе своем на сторону Бонапарта сообщить всему делу какой-то будто бы «законный вид». Его Наполеон тоже, как и Барраса, до поры до времени не разочаровывал, а приберегал, тем более что Сийес должен был понадобиться на некоторый срок еще и после переворота.
В эти же дни к генералу явились два человека, которым суждено было связать свои имена с его карьерой: Талейран и Фуше. Талейрана Бонапарт знал давно, и знал как вора, взяточника, бессовестного, но и умнейшего карьериста. Что Талейран продает при случае всех, кого может продать и на кого есть покупатели, в этом Бонапарт не сомневался, но он ясно видел, что Талейран теперь его не продаст директорам, а, напротив, ему продаст Директорию, которой он почти до самого последнего времени служил в качестве министра иностранных дел. Талейран дал ему много ценнейших указаний и сильно торопил дело. В ум и проницательность этого политика генерал вполне верил, и уже та решительность, с которой Талейран предложил ему свои услуги, была хорошим для Бонапарта предзнаменованием. На этот раз Талейран прямо и открыто пошел на службу к Бонапарту. То же самое сделал Фуше. Министром полиции он был при Директории, министром полиции он собирался остаться и при Бонапарте. У него была — это знал Наполеон — одна ценная особенность: очень боясь за себя в случае реставрации Бурбонов, бывший якобинец и террорист, вотировавший смертный приговор Людовику XVI, Фуше, казалось, давал достаточные гарантии, что он не продаст нового властелина во имя Бурбонов. Услуги Фуше были приняты. Крупные финансисты и поставщики откровенно предлагали ему деньги. Банкир Колло принес ему сразу 500 тысяч франков, и будущий властелин ничего решительно против этого пока не имел, деньги же брал особенно охотно — пригодятся в таком тяжелом предприятии.
В эти горячие три с половиной недели — между приездом в Париж и государственным переворотом — Бонапарт видел у себя многих людей и очень много полезнейших (для дальнейшего) наблюдений сделал над ними. А им (кроме Талейрана) почти всем казалось, что этот блистательный вояка и рубака, к тридцати годам уже одержавший столько побед, взявший столько крепостей, затмивший всех генералов, в делах политических, гражданских не очень много смыслит и что можно будет не без успеха им руководить. Вплоть до развязки во все эти дни собеседники и помощники Бонапарта воображали себе какого-то другого, а вовсе не его. И он сам делал все от него зависящее, чтобы в эти опасные недели его принимали за кого-то другого. Преждевременно показывать львиные когти было не к чему. Испытанный им прием простоты, прямоты, непосредственности, некоторой как бы незатейливости и даже ограниченности был им обильно пущен в ход в течение всей первой половины брюмера 1799 г. и вполне удался. Будущие рабы считали своего будущего властелина случайным удобным орудием. Они даже не скрывали своего отношения к нему. Он-то ведь знал, что истекают последние дни, когда люди еще могут с ним говорить, как равные с равным, и он знал, как важно, чтобы они сами об этом пока не подозревали. Но, как и всегда, он и тут оставался главнокомандующим, дающим общую директиву начинающемуся делу. Так ловко и умело держал он себя в эти подготовительные недели, что не только армия, но и рабочие предместья посмотрели в первый момент на совершившееся как на переворот слева, как на спасение республики от роялистов. «Генерал Вандемьер приехал из Египта, чтобы снова спасти республику», — вот как говорили (и вот какой легенды добивался Бонапарт) и до и после переворота.
Государственный переворот, доставивший Бонапарту неограниченную власть, называется обыкновенно для краткости переворотом 18 брюмера (9 ноября), хотя на самом деле он был только начат 18-го, а решающее действие произошло на другой день — 19 брюмера, т.е. 10 ноября 1799 г.
Все дело было крайне облегчено тем, что не только два директора (Сийес и Роже-Дюко) были в игре, но третий (Гойе) и четвертый (Мулен) были совсем сбиты с толку и кругом обмануты пронырливым и хитрейшим Фуше, решившим заработать себе на готовящемся перевороте портфель министра полиции. Оставался Баррас, который все еще льстил себя надеждой, что без него не обойдутся, и который решил придерживаться выжидательной тактики. В Совете пятисот, в Совете старейшин много влиятельных депутатов чуяли заговор, некоторые даже знали о нем наверное; многие, точно ничего не зная, сочувствовали, полагая, что дело скорее всего сведется к персональным переменам.
Роли были окончательно распределены лишь вечером накануне 18 брюмера. Дело началось с утра 18 брюмера. Утром, с 6 часов, дом Бонапарта и прилегающая улица стали наполняться генералитетом и офицерством. Из парижского гарнизона к этому дню оказалось 7000 человек, на которых Бонапарту вполне можно было положиться, и около 1500 солдат особой стражи охранявшей Директорию и оба законодательных собрания — Совет пятисот и Совет старейшин. Не было оснований предполагать, что и солдаты особой стражи воспротивятся Бонапарту с оружием в руках. И все-таки в высшей степени важно было замаскировать с самого начала истинный характер предприятия, не дать возможности «якобинской», т.е. левой, части Совета пятисот призвать в решающий миг солдат «на защиту республики». Для этого все и было организовано так, что выходило, будто сами законодательные собрания призывают Бонапарта к власти. Собрав около себя 18 брюмера на рассвете тех генералов, на которых он мог особенно положиться (Мюрата и Леклера, женатых на его сестрах, Бернадотта, Макдональда и несколько других), и много офицеров, пришедших по его приглашению, он их уведомил, что настал день, когда необходимо «спасать республику». Генералы и офицеры вполне ручались за свои части. Около дома Бонапарта уже выстроились стройные колонны войск. Бонапарт ждал декрета, который его друзья и агенты пока проводили в наскоро созванном с утра Совете старейшин.
Так как Совет старейшин был в значительной своей части представлен средней и крупной буржуазией, то здесь некий Корнэ, человек, преданный Бонапарту, заявил о «страшном заговоре террористов», о близкой гибели республики от этих коршунов, готовых ее заклевать, и т.д. Эти туманные и пустозвонные фразы, ничего не конкретизируя, никого не называя, кончались предложением немедленно вотировать декрет, по которому, во-первых, заседания Совета старейшин, а также и Совета пятисот (которого даже и не спросили) переносятся из Парижа в Сен-Клу (городок в нескольких километрах от столицы) и, во-вторых, подавление «страшного заговора» поручается генералу Бонапарту, который и назначается начальником всех вооруженных сил, расположенных в столице и ее окрестностях. Наскоро этот декрет был вотирован как теми, которые знали, для чего этот декрет предназначен, так и теми, для кого это было полной неожиданностью. Протестовать не посмел никто. Сейчас же этот декрет был переслан Бонапарту.
Зачем понадобилось Бонапарту перед удушением обоих законодательных собраний перенести их для этой операции в Сен-Клу? Тут сказывались воспоминания и впечатления великих революционных лет. В воображении этого поколения вставали грозные, теперь уже такие далекие, минуты, когда на всякое насилие рабочие предместья, плебейские массы отвечали немедленным выступлением, когда на угрозу разгона народных представителей звучали слова: «Скажите вашему господину, что мы здесь по воле народа и уступим только силе штыков», и когда господин не посмел послать штыки, а сами штыки обратились против Бастилии; вспоминалось, как народная масса покончила с полуторатысячелетней монархией, как раздавлены были жирондисты, как в последний раз, в прериале 1795 г., народ носил на пике голову члена термидорианского Конвента и показывал ее оцепеневшим от ужаса другим членам Конвента... Как ни был уверен в себе Бонапарт, но сделать в Париже то, что он решил сделать, показалось ему все-таки не так безопасно, как в маленьком местечке, где единственным большим зданием был дворец — один из загородных дворцов старых французских королей.
Начало дела было разыграно именно так, как желал Бонапарт: фикция законности была соблюдена, и он на основании декрета объявил войскам, что они отныне поставлены под его команду и должны «сопровождать» оба совета в Сен-Клу.
Он повел войско прежде всего в Тюильрийский дворец, где заседал Совет старейшин, окружил его и вошел в зал заседаний в сопровождении нескольких адъютантов. Говорить публично (не с солдатами) он никогда не умел, ни до, ни после этого эпизода. Он произнес несколько не очень связных слов. Присутствующие запомнили фразу: «Мы хотим республику, основанную на свободе, на равенстве, на священных принципах народного представительства... Мы ее будем иметь, я в этом клянусь». Но дело было уже не в ораторских эффектах. Именно в этот день и суждено было надолго замолкнуть парламентскому красноречию, которое играло такую роль в революционной Франции. Затем он вышел на улицу. Перед ним была авангардная часть приведенного им войска, встретившая его бурными приветственными кликами. Тут разыгралась новая неожиданная сцена. К нему приблизился некто Ботто, посланный от Барраса, который очень беспокоился, что Наполеон до сих пор не позвал его.
Увидя Ботто, генерал громовым голосом закричал, обращаясь к нему как к представителю Директории: «Что вы сделали из той Франции, которую я вам оставил в таком блестящем положении? Я вам оставил мир — я нахожу войну! Я вам оставил итальянские миллионы, а нахожу грабительские законы и нищету! Я вам оставил победы — я нахожу поражения! Что вы сделали из ста тысяч французов, которых я знал, товарищей моей славы? Они мертвы!» Дальше шло повторение слов о том, что он стремится к республике, основанной «на равенстве, морали, гражданской свободе и политической терпимости».
Директория (т.е. верховная исполнительная власть республики) была ликвидирована без малейших затруднений, даже не пришлось никого ни убить, ни арестовать: Сийес и Роже-Дюко сами были в заговоре, Гойе и Мулен, видя, что все пропало, поплелись за войсками в Сен-Клу. Оставался Баррас, к которому Бонапарт отрядил Талейрана с поручением «убедить» Барраса немедленно подписать заявление о своей отставке. Убедившись, что Бонапарт решил обойтись без него, Баррас сейчас же подписал требуемое, заявив, что он хочет вообще покинуть политическую жизнь и удалиться в свое имение под сень деревенской тишины, и тут же под конвоем взвода драгун был отправлен на новое местожительство. Так навсегда исчез с политической сцены Баррас, всех до сих пор удачно обманывавший, а теперь вдруг обманутый в свою очередь.
Итак, Директория была ликвидирована. К вечеру 18 брюмера квесторы обоих законодательных собраний были уже в Сен-Клу. Оставалось ликвидировать и эти собрания, и хотя Совет старейшин и Совет пятисот, окруженные гренадерами, гусарами и драгунами Бонапарта, были всецело в его руках, но он хотел повести дело так, чтобы оба совета сами признали свою непригодность, сами распустили себя и передали власть Бонапарту. Это стремление осуществить свой план в каких-то законных формах в общем вовсе не было свойственно Наполеону. Но на этот раз все-таки до самого конца нельзя было быть вполне уверенным, что среди солдат не возникнет сумятицы, нерешительности, если с самого начала откровенно будет заявлено о насильственном уничтожении конституции. Значит, следовало, поскольку это может помочь и ускорить дело, вести его мирно. А если нельзя будет мирно, тогда — и только тогда — броситься в штыки. 30 тысяч боевых товарищей Бонапарта были в Египте, где оккупировали страну. Из солдат итальянского похода налицо были не все. Приходилось считаться и с людьми, не знавшими его лично и которых он тоже пока не знал.
Распоряжения Бонапарта по дислокации войск между Парижем и Сен-Клу были отданы и выполнены с раннего утра. Население Парижа с любопытством следило за передвижениями батальонов, за длинным кортежем карет и пешеходов, следовавших из столицы в Сен-Клу. О состоянии рабочих предместий доносили, что там идет обыденная работа и не заметно никаких признаков волнения. В центральных кварталах кое-где раздавались крики: «Vive Bonaparte!», но в общем настроение было скорее выжидательное. Далеко не все депутаты выехали в Сен-Клу 18-го числа; большинство отложило отъезд до 19 брюмера, когда, собственно, и было назначено первое заседание.
Когда наступил этот второй и последний день государственного переворота, у генерала Бонапарта были некоторые довольно серьезные опасения. Конечно, уже к вечеру 18 брюмера из трех высших учреждений два были ликвидированы: Директория не существовала. Совет старейшин показал себя покорным, готовым к самоликвидации. Но оставалось еще уничтожить палату народных представителей, т.е. Совет пятисот. А в этом Совете пятисот около 200 мест занимали якобинцы, члены распущенного Сийесом Союза друзей свободы и равенства. Некоторые из них, правда, готовы были продаться из корысти или покориться из боязни, но были люди и другого закала — были обломки великих революционных бурь, были люди, для которых взятие Бастилии, низвержение монархии, борьба с изменниками, «свобода, равенство или смерть» не были пустыми звуками. Были такие, которые не очень ценили ни свою, ни чужую жизнь и которые говорили, что, где можно, там следует истреблять тиранов гильотиной, а там, где нельзя, — кинжалом Брута.
В течение всего 18 брюмера левая («якобинская») группа собиралась на тайные совещания. Они не знали, что предпринять. Агенты Бонапарта — а у него и в этой группе оказались свои шпионы — не переставали сбивать их с толку, утверждая, что дело идет не о мерах против якобинцев, а лишь о способе преодолеть роялистскую опасность. Якобинцы слушали, верили и не верили, и когда утром 19 брюмера они собрались на заседание во дворце Сен-Клу, то между ними преобладала растерянность. Но и гнев в некоторых из них накипал все больше и больше. Утром 19-го генерал Бонапарт в открытой коляске, эскортируемый кавалерией, выехал из Парижа в Сен-Клу. За ним ехали его приближенные.
Когда он прибыл в Сен-Клу, то узнал, что среди депутатов Совета пятисот многие уже открыто негодуют, что они, увидя, какая масса войск окружает дворец, горячо возмущены непонятным для них, нелепым, внезапным перенесением их заседаний из столицы в «деревню» Сен-Клу (так называли это маленькое местечко), и открыто говорят, что теперь они вполне уже сообразили, каков замысел Бонапарта. Передавали, что они называют его преступником и деспотом, а чаще всего — разбойником. Бонапарта это встревожило, он произвел смотр войскам и остался доволен.
В час дня во дворце Сен-Клу открылись в разных залах заседания обоих советов. Бонапарт и его приближенные ждали в соседних залах, пока оба совета вотируют нужные декреты, поручающие генералу Бонапарту выработку новой конституции, а затем разойдутся. Но час проходил за часом, — даже Совет старейшин не решался, и в нем проявлялись растерянность и запоздалое робкое желание противодействовать затеянному беззаконию. Надвигались сумерки ноябрьского вечера. Бонапарту нужно было решиться действовать немедленно, иначе всему затеянному им делу грозил провал. В четыре часа дня он вдруг вошел в зал Совета старейшин. Среди мертвого молчания он произнес еще более сбивчивую и путаную речь, чем накануне. Смысл был тот, что он требует быстрых решений, что он приходит к ним на помощь, чтобы спасти их от опасностей, что на него «клевещут, вспоминая Цезаря и Кромвеля», что, напротив, он хочет спасти свободу, что правительства сейчас не существует. «Я не интриган, вы меня знаете; если я окажусь вероломным, будьте вы все в таком случае Брутами!» Таким образом, он приглашал их заколоть его, если он посягнет на республику. Бонапарту стали отвечать, его стали заглушать. Он произнес несколько угроз, напомнил, что располагает вооруженной силой, и вышел из зала Совета старейшин, так и не добившись того, чего желал, т.е. декрета о передаче ему власти. Дело поворачивалось плохо. Дальше должно было пойти еще хуже: предстояло объясняться с Советом пятисот, где гораздо скорее мог найтись среди якобинской части собрания в самом деле подражатель Брута. За Бонапартом пошло несколько гренадер. Но их было слишком мало на случай массового нападения на Бонапарта, а этого очень и очень можно было ожидать. За ним шел, между прочим, генерал Ожеро, бывший под его начальством в эпоху завоевания Италии. Перед самым входом в зал Бонапарт круто обернулся и сказал: «Ожеро, помнишь Арколе?» Бонапарт напомнил ту страшную минуту, когда он бросился прямо под австрийскую картечь со знаменем в руках брать Аркольский мост. И в самом деле, приближалось нечто похожее. Он открыл дверь и показался на пороге. Неистовые, яростные, гневные вопли встретили его появление: «Долой разбойника! Долой тирана! Вне закона! Немедленно вне закона!» Группа депутатов бросилась на него, несколько рук протянулось к нему, его схватили за воротник, другие пытались схватить его за горло. Один депутат изо всей силы ударил его кулаком в плечо. Низкорослый, тогда еще худой, никогда не отличавшийся физической силой, нервный, подверженный каким-то похожим на эпилепсию припадкам, Бонапарт был полузадушен возбужденными депутатами. Несколько гренадер успели окружить изрядно помятого Бонапарта и вывести его из зала. Возмущенные депутаты возвратились на места и яростными криками требовали голосовать предложение, объявлявшее генерала Бонапарта вне закона.
В этот день в Совете пятисот председательствовал родной брат Наполеона, Люсьен Бонапарт, бывший тоже в заговоре. Это обстоятельство весьма способствовало успеху предприятия. Бонапарт, придя в себя после ужасной сцены в зале, решил бесповоротно разогнать Совет пятисот открытой силой, но предварительно он постарался извлечь из Совета пятисот своего брата, что и удалось ему без особого труда. Когда Люсьен Бонапарт оказался рядом с Наполеоном, тот предложил ему, чтобы он, Люсьен, в качестве председателя обратился к фронту выстроенных войск с заявлением, якобы жизнь их начальника в опасности, и с просьбой «освободить большинство собрания» от «кучки бешеных». Последние сомнения в законности дела, если таковые еще были у солдат, исчезли. Раздался грохот барабанов, и гренадеры, предводимые Мюратом, беглым шагом вошли во дворец.
Согласно показаниям очевидцев, пока грохот барабанов быстро приближался к залу заседаний, среди депутатов раздавались голоса, предлагавшие сопротивляться и умереть на месте. Двери распахнулись, гренадеры с ружьями наперевес вторглись в зал; продолжая двигаться по залу беглым шагом, но в разных направлениях, они быстро очистили помещение. Неумолкаемый барабанный бой заглушал все, депутаты ударились в повальное бегство. Они бежали через двери, многие распахнули или разбили окна и выпрыгнули во двор. Вся сцена продолжалась от трех до пяти минут. Не велено было ни убивать депутатов, ни арестовывать. Выбежавшие в двери и спасшиеся через окна члены Совета пятисот оказались среди войск, со всех сторон подходивших к дворцу. На секунду заглушивший барабаны громовой голос Мюрата, скомандовавшего своим гренадерам: «Вышвырните-ка мне всю эту публику вон!» (Foutez-moi tout се monde dehors!), звучал в их ушах не только в эти первые минуты, но не был забыт многими из них, как мы знаем из воспоминаний, всю их жизнь.
Бонапарту пришла в голову еще одна мысль, может быть, подсказанная ему его братом Люсьеном. Солдатам вдруг велено было наскоро изловить нескольких разбежавшихся депутатов и привести их во дворец, после чего решено было составить из пойманных таким путем лиц «заседание Совета пятисот» и приказать им вотировать декрет о консульстве. Несколько перепуганных, промокших и продрогших депутатов были захвачены кто на дороге, кто на постоялом дворе, приведены во дворец, и тут они сейчас же сделали все, что от них требовалось, а затем уже были окончательно отпущены с миром, вотировав, кстати, и собственный свой роспуск.
Вечером в одной из слабо освещенных зал дворца Сен-Клу Совет старейшин тоже издал без прений декрет, которым вся власть над республикой передавалась трем лицам, названным консулами. На эти должности были назначены Бонапарт, Сийес и Роже-Дюко, ибо стать единоличным владыкой формально Бонапарт в этот момент считал еще нецелесообразным, но что фактически его консульство будет самой полной диктатурой, он уже предрешил. Он знал также, что два его товарища ни малейшей роли играть не будут и что разница между ними лишь та, что немудрящий Роже-Дюко уже сейчас убежден в этом, а глубокомысленный Сийес еще пока этого не подозревает, но скоро убедится.
Франция была у ног Бонапарта. В два часа ночи три новых консула принесли присягу в верности республике. Поздно ночью Бонапарт уехал из Сен-Клу. С ним в коляске ехал Бурьен. Бонапарт был угрюм и до самого Парижа не проронил почти ни одного слова.
Глава V. Первые шаги диктатора. 1799–1800 гг.
С того момента, когда вечером 19 брюмера в Сен-Клу Мюрат рапортовал Наполеону, что зал Совета пятисот очищен и все обстоит благополучно, генерал Бонапарт превратился на 15 лет в ничем не ограниченного повелителя французского народа. То обстоятельство, что первые пять лет этого периода Наполеон называл себя первым консулом, а последние десять лет — императором и что соответственно Франция сначала называлась республикой, а потом империей, ничего по сути дела не меняло ни в классовой основе нового режима, ни в природе военной диктатуры Наполеона. Это устанавливалась диктатура контрреволюционной буржуазии, той буржуазии, которая в погоне за наживой привела Францию на край гибели, поняла это, растерялась и, «изверившись в своих собственных политических способностях», пришла к единственному выводу, что только задушив революционный демократизм, только под покровительством крепкой, пусть тиранической, пусть даже в лице этого страшного вояки Бонапарта, но только твердой и нерушимой власти буржуазное общество может беспрепятственно развиваться, обеспечив свободное движение частного капитала.
Бонапарт усвоил эти основы будущего государства. На утверждение этих основ он направил всю силу своего таланта и в первую очередь и главным образом полностью использовал все открывшиеся перед ним возможности, чтобы сделаться единодержавным властителем этого нового государства. Он уничтожал, создавал, изменял государственные учреждения, но их смысл и их цель оставались совершенно неизменными: они должны были превратить государственный аппарат в орудие, осуществлявшее единую верховную волю.
Но если конечной целью Наполеона во всех его политических предприятиях было установление и укрепление полного своего владычества, то средства к достижению этой цели он применял самые разнообразные, и к числу этих средств относились также дипломатия, умение идти до поры до времени на компромиссы, заключать перемирия, способность к выжиданию и к терпению. С годами он эту способность стал утрачивать, но в первые годы его правления она была налицо.
«Я бываю то лисой, то львом. Весь секрет управления заключается в том, чтобы знать, когда следует быть тем или другим», — говорил Наполеон.
Аппарат централизованной государственной власти, как нельзя более приспособленный к неограниченной монархии, был создан при Наполеоне именно в годы Консульства. И от этого аппарата не хотело не только отказаться, но не решалось даже его видоизменить ни одно из правительств, сменявшихся во Франции от Наполеона до настоящего времени, за исключением Парижской Коммуны.
Не только административные реформы первого консула всегда приводили (и продолжают приводить) в восторг буржуазных идеологов во Франции и вне Франции, но их восхищает также и создание условий, обеспечивающих спокойное заживание денег в торговле, в промышленности, словом, систематизация, приведение в ясность и в действие всего того, во имя чего крупная буржуазия так деятельно ломала и душила великие завоевания 1789 и следующих годов.
Конструктивная роль Наполеона как «создателя» внешних форм государственной надстройки буржуазного экономического владычества больше всего была выявлена именно в годы Консульства, и это дало ему колоссальную популярность не только в первые годы его правления, но в глазах и позднейших буржуазных историков, отражавших взгляды восторжествовавшего класса.
Итак, 30-летний генерал, до сих пор никогда ничем не занимавшийся, кроме войны, завоеватель Италии, завоеватель Египта, одним ударом уничтоживший законное правительство республики, оказался вечером 19 брюмера властителем одной из величайших европейских держав, которую, в сущности, он вовсе не знал в тот момент, да и не имел еще времени узнать. Эта страна жила исторической жизнью полторы тысячи лет, если даже считать только от Хлодвига; затем полуторатысячелетнее царство было разрушено революцией, ниспровергшей разом и феодальный строй и монархию, с ним связанную; воцарилась республика, и вот теперь он, корсиканский дворянин, генерал этой самой республики, в свою очередь ниспроверг республиканское правление и стал единоличным повелителем. Перед ним были годы старорежимных обломков и масса новых, выявленных революцией материалов, очень много начатого и неоконченного, начатого и брошенного, начатого и взятого назад; все было как бы в хаосе и брожении.
Что касается внешних дел, то здесь первый консул тоже столкнулся с высшей степени сложным и опасным положением. Пока он завоевывал Египет, вторая европейская коалиция отвоевала у французов Италию. Поход Суворова уничтожил плоды одержанных Бонапартом в 1796–1797 гг. побед. Правда, у Суворова уже не хватило сил и возможностей после перехода через Альпы вторгнуться во Францию, как он раньше рассчитывал, но коалиция вовсе не складывала оружия, и уже весной можно было ждать врагов у французских границ. Денег в казначействе не было; были целые армейские части, которые месяцами не получали ассигнованных на их содержание сумм. С любопытством и не без иронии испытанные в делах политические деятели ждали, как выйдет из этих сложнейших, запутаннейших, опаснейших обстоятельств молодой корсиканец, никакого другого дела, кроме своего солдатского, до сих пор не делавший и не знавший.
Бонапарт начал с организации новой власти, т.е. с оформления своего самодержавия. Не без чувства комизма можно наблюдать первые встречи его со старыми политиками вроде Сийеса, который думал играть первую роль и быть как бы наставником и ментором при неопытном молодом человеке. Наполеон уже тогда считал профессиональных политиков тогдашней Франции устаревшими болтунами, не желающими понять, что их время прошло. Якобинцев он ненавидел и боялся, о Робеспьере (и старшем и младшем, с которым был, как мы видели, лично в хороших отношениях) никогда не вспоминал, но было ясно, что он уже и подавно хорошо знает цену тем, кто погубил Робеспьера и кто занял его место. Термидорианские спекулянты, казнокрады и взяточники, прикрывающие пустозвонным краснобайством свои темные делишки, возбуждали в нем гадливое чувство.
Сийес, которому Бонапарт поручил составить проект новой конституции, усердно сидел над искусно задуманными и очень хитро сплетенными конституционными программами, забывая о том, что теперь буржуазия в своей массе и в городе и в деревне требовала прочного полицейского порядка, закрепления своих прав, которые непосредственно касались свободы в торговле и промышленности; крестьяне-собственники хотели полной уверенности в прочности обладания новоприобретенными землями. Но проекты Сийеса Бонапарт совсем неожиданно для автора назвал нелепыми, дал руководящие указания и внес «поправки».
Новая конституция была готова уже через месяц после переворота. Во главе республики стоят три консула, из которых первый облечен всей полнотой власти, а два других — правом совещательного голоса. Сенат назначается консулами, а он в свою очередь назначает членов Законодательного корпуса и Трибуната из числа нескольких тысяч кандидатов, избираемых населением.
Новая конституция — так было сначала обещано — должна была подвергнуться всенародному голосованию. Но Бонапарт вдруг объявил, что конституция вводится в действие уже сейчас, до плебисцита. Первым консулом был «назначен», конечно, Бонапарт.
4 нивоза (25 декабря 1799 г.) произошел плебисцит, утвердивший и новую конституцию и трех консулов во главе с Бонапартом. 3011 007 голосов ответили положительно. 1562 — отрицательно. Голосовала и армия, причем это голосование происходило кое-где по полкам, и солдаты отвечали на вопрос командиров хором. Голосование в деревнях и городах происходило под бдительным надзором властей. Впрочем, собственническая масса среди крестьянства, большинство буржуазии в городах и даже, по свидетельству современников, немало рабочих в городах были в тот момент настроены вполне благоприятно относительно первого консула, в котором видели человека, спасшего республику от роялистов 13 вандемьера и способного отразить все еще грозящую интервенцию со стороны Англии, Австрии и России.
Вся полнота власти сосредоточилась в его руках. Все остальные учреждения существовали в виде каких-то бледных теней, никогда не имевших и не пытавшихся иметь ни малейшего влияния. Сийес был в недоумении и обиде. Но Бонапарт его богато наградил и навсегда отстранил от какой бы то ни было активной роли. Ему нужны были слуги и исполнители, а не советчики и законодатели.
Тотчас же обнаружилось, что ему не нужны и критики. Постановлением, проведенным вскоре после введения в действие консульской конституции, Бонапарт (27 нивоза) приказал из 73 существовавших до тех пор газет закрыть 60, а остальные 13, до поры до времени уцелевшие (спустя некоторое время из их было закрыто еще девять и осталось четыре) были отданы под суровый надзор министра полиции. Наполеон органически не выносил чего-либо даже отдаленно похожего на свободу печати. Эти первые шаги очень ярко обрисовывали воззрение Наполеона на свою власть. Ему казалось, что его беспредельную власть дали ему только гренадеры в дни брюмера 1799 г. Быть во всем обязанным только своим гренадерам, т.е. самому себе, основывать все на праве завоевания — вот что стало не только мыслью, а, так сказать, политическим мироощущением Наполеона. «Большие батальоны всегда правы» (Les gros bataiuons ont toujours raison) — это было одной из любимых поговорок Бонапарта. Большие батальоны завоевали ему 18 и 19 брюмера Францию, точно так же как они завоевали под его начальством до того Италию и Египет, а после того почти всю Европу, и никто, по его убеждению, не мог спрашивать у него отчета или требовать дележа власти. Сийес понял это, к своему разочарованию, очень скоро. Постепенно это поняли и остальные участники заговора 18 брюмера, а за ними и все другие.
Но правильно сказал о Наполеоне поэт Гете: для Наполеона власть была то же самое, что музыкальный инструмент для великого артиста. Он немедленно пустил в ход этот инструмент, едва только успел завладеть им. Он прежде всего своей задачей поставил прекращение гражданской войны на западе Франции и тесно связанное с этим истребление сильно развивавшегося бандитизма на юге и на севере. Он очень торопился: нужно было наиболее неотложные дела вроде указанных двух задач — выполнить до весны, потому что весной предстояло возобновление войны.
Разбойничьи шайки, сделавшие непроезжими к концу Директории все дороги южной и центральной Франции, приобрели характер огромного социального бедствия. Они среди бела дня останавливали дилижансы и кареты на больших дорогах, иногда довольствовались ограблением, чаще убивали пассажиров, нападали открыто на деревни, долгими часами пытали на медленном огне захваченных людей, требуя указать, где спрятаны деньги (их так и называли тогда «поджаривателями»), иногда совершали налеты и на города. Эти шайки прикрывались знаменем Бурбонов; люди эти якобы мстили за ниспровергнутый королевский трон и католический алтарь. В эти банды и в самом деле в изобилии шли люди, непосредственно и лично пострадавшие от революции. Ходили слухи (так и оставшиеся непроверенными, но очень правдоподобные), будто некоторые из главарей этих банд отдают часть награбленного агентам роялизма. Во всяком случае развал и беспорядок в полицейском аппарате к концу правления Директории делали эти шайки почти неуязвимыми и подвиги их безнаказанными. Первый консул прежде всего решил покончить с ними. Расправился он с разбоем в какие-нибудь полгода, но главные шайки были сломлены уже в первые месяцы его правления.
Меры были жестокими. Не брать в плен, убивать на месте захваченных разбойников, казнить и тех, кто дает пристанище шайкам или перекупает у них награбленные вещи, или вообще находится с ними в сношениях, — таковы были основные директивы. Были посланы отряды, беспощадно расправлявшиеся не только с непосредственными виновниками и их помощниками, но и с теми полицейскими чинами, которые оказывались виновными в попустительстве или в слабости и бездействии власти.
Тут проявилась еще одна черта Наполеона: полнейшая беспощадность к преступникам. У него всегда всякая вина была виновата, смягчающих обстоятельств он не знал и знать не хотел. Если можно так выразиться, он принципиально отвергал доброту, считал ее качеством, которое для правителя прямо вредно, недопустимо. Когда его младший брат Людовик, назначенный им в 1806 г. в Голландию королем, вздумал как-то похвалиться перед Наполеоном, что его, Людовика, в Голландии очень любят, то старший брат сурово оборвал младшего словами: «Брат мой, когда о каком-нибудь короле говорят, что он добр, значит царствование не удалось» (quand on dit d’un roi qu’il est bon, le règne est manqué).
Когда в апреле 1811 г. одна газета («Gazette de France») вздумала в избытке усердия самым елейным и восторженным тоном сообщить о «доброте» императора, который на радостях по случаю рождения наследника удовлетворил какого-то просителя, то Наполеона это так взорвало, что он сейчас же написал министру полиции: «Господин герцог Ровиго, кто позволил „Gazette de France“ поместить очень глупую статью, которая там сегодня напечатана обо мне?» — и приказал немедленно убрать редактора, так как «человек этот делает слишком много пошлостей» (trop de niaiseries). «Отнимите у него редактирование газеты!» Кажется, Наполеон скорее простил бы, если бы о нем распространился слух, что он зверь, чем возводили бы на него напраслину, будто он добр. Все это выявилось с течением времени, но уже свирепая массовая расправа с разбойниками показала, что новый правитель, в прямое опровержение известного афоризма, решительно предпочитает скорее покарать десять невиновных, чем пощадить или упустить из рук одного виновного.
Одновременно с очищением Франции от разбойничьих шаек Бонапарт обратил самое пристальное внимание на Вандею.
Здесь по-прежнему дворянству и духовенству удалось (по целому ряду специфических экономических причин, свойственных этой провинции и сопредельной с нею южной части Нормандии) увлечь за собой часть крестьян, организовать их, вооружить превосходным оружием, которое доставляли им с моря англичане, и, пользуясь лесами и болотами, вести долгую партизанскую борьбу против всех правительств революции. С вандейцами и шуанами (таково было в просторечии название этих повстанцев) Бонапарт повел другую тактику, чем с разбойничьими шайками. Как раз перед переворотом 18 брюмера шуаны одержали ряд побед над республиканскими войсками, взяли г. Нант и громко говорили о близкой реставрации Бурбонов. Бонапарт, с одной стороны, усилил действовавшую против шуанов армию, а с другой — обещал амнистию тем, кто немедленно сложит оружие, дал понять, что не будет преследовать католического богослужения, наконец, захотел лично видеться и говорить со знаменитым предводителем шуанов Жоржем Кадудалем, которому обещал, чем бы ни кончились переговоры, полную личную безопасность во время пребывания в Париже и свободное возвращение.
Так этот фанатический бретонский крестьянин громадного роста и легендарной мускульной силы оказался на несколько часов наедине с худощавым еще тогда, приземистым Бонапартом. Адъютанты в сильном беспокойстве за жизнь Бонапарта теснились в соседних залах: ведь все знали, что Кадудаль способен на любое самопожертвование для своего дела и что он уже давно смотрит на себя как на обреченного.
Почему он не убил Бонапарта? Исключительно потому, что в тот момент он был еще под властью той вскоре исчезнувшей иллюзии, которая с самого начала карьеры Бонапарта сбивала с толку роялистов. Им все казалось, что молодому прославленному полководцу суждено сыграть ту самую роль, которую в Англии в 1660 г. сыграл генерал Монк, помогший изгнанным Стюартам вернуться на престол и уничтожить республику. Конечно, Наполеон уничтожил республику и по классовой природе своей власти прокладывал дорогу монархии, но нельзя себе и представить более нелепого заблуждения, чем мысль, что натура, подобная Наполеону, способна уступить кому бы то ни было первое место (даже оставляя в стороне вопрос о возможности это сделать).
Кадудаль Бонапарта не задушил, но вышел из его кабинета все-таки не примиренный. Первый консул предложил ему, между прочим, поступить с генеральским чином в армию, с тем конечно, чтобы воевать только против внешних врагов. Кадудаль отказался и вернулся в Вандею. Другой большой вождь шуанов, Фротте, был взят в плен и расстрелян. Кадудаль, еще в январе 1800 г. разбитый правительственными войсками, теперь, после личного свидания с Бонапартом, продолжал борьбу, но вынужден был подолгу прятаться и удовлетворяться внезапными нападениями на случайно отбившиеся небольшие группы солдат. И успехи правительственных войск, и обещание амнистии, и смягчение антицерковной политики, и только что отмеченная надежда Бурбонов и их приверженцев на Бонапарта — все это сильно снижало боеспособность и воодушевление шуанов. Кадудаль видел, что его отряды редеют. В Вандее распространялось выжидательное настроение и склонность задобрить и расположить в пользу роялистов нового главу Французской республики. Бонапарту до поры до времени больше ничего и не требовалось: ему нужно было в эти первые месяцы, т.е. в ноябре и декабре 1799 г. и в первую половину 1800 г., проводить лишь самые необходимые меры и не забывать ни на минуту о предстоящей весной войне.
Он переходил от одного неотложного дела к другому: от разбойников к Вандее, от Вандеи к финансам, потому что громадную армию, которую он готовил к весне, следовало и накормить, и одеть, и вооружить, а денег в казначействе (настоящих, металлических денег) не оказалось вовсе, — хозяйничанье Директории привело к полному безденежью казны. Наполеон нуждался в специалисте, и в хорошем специалисте, и сейчас же нашел его: это был Годэн, которого он и сделал своим министром финансов.
Конечно, с самого начала правления Бонапарта и в области финансов была взята та же установка, как и в других областях: оба — и военный диктатор и исполнитель его воли Годэн — решили придать преобладающее значение не прямым налогам, а косвенным. Косвенное обложение, требующее в конечном счете одних и тех же взносов и с богатого и с бедного потребителя, казалось Наполеону удобным своим автоматическим характером, так как косвенное обложение не ссорит налогоплательщика со сборщиком податей и с правительством, ввиду того что при покупке предметов потребления, как бы высоко обложены они ни были, никаких сборщиков нет и быть не может.
Буржуазия и в городе и в деревне была довольна новым направлением финансовой политики; была она довольна и целым рядом других финансовых мер: установлением контроля, упорядочением отчетности, суровым преследованием хищничества и беззастенчивого казнокрадства. Казнокрадов было так много, что у историка иногда является искушение выделить их в особую «прослойку» буржуазии.
Тяжелую руку нового властителя некоторые спекулянты и казнокрады почувствовали очень скоро. Он подержал в тюрьме знаменитого в те времена поставщика и хищника Уврара, возбудил преследование против некоторых других, приказал строжайше проверять счета, задержал выплаты, показавшиеся ему малообоснованными. Он несколько раз прибегал к такому приему: сажал финансиста в тюрьму, когда была уверенность в совершенном им мошенничестве, независимо от того, успел или не успел тот ловко замести следы, и держал его, пока тот не соглашался выпустить свою добычу. Но вообще казнокрадство не было, конечно, уничтожено.
Наполеон деятельно трудился над организацией управления. Он оставил деление Франции на департаменты, но сразу смел с лица земли всякие признаки местного самоуправления. Уничтожались все выборные должности в городах и деревнях, даже и выборные собрания. Отныне в каждый департамент министр внутренних дел должен был назначать префекта — владыку и повелителя, местного маленького царя. Префект назначает муниципальные советы, а также городских голов (мэров) в городах и коммунах (деревнях). Эти чины ответственны перед префектом, который может и отрешать их от должности. Около префекта есть чисто совещательный орган — «главный совет», всецело от префекта зависящий, служащий исключительно для удобнейшего ознакомления префекта с нуждами департамента. Министр внутренних дел ведает всей административной жизнью страны, в его же ведомство включены были и торговля, и промышленность, и общественные работы, и еще многое другое, что потом постепенно было выделено Бонапартом в другие министерства.
Резкой реформе подвергалось и судебное дело: в середине марта Бонапарт подписал и еще один закон — об организации министерства юстиции. Преобразуя суды, он покончил впоследствии с присяжными заседателями: его самодержавие не могло по существу своей природы мириться с участием независимого от его воли голоса общества при решении судебных дел. Но упразднил он их не сразу.
Наполеон никогда не стеснял себя никакими соображениями о независимости судебной власти и соблюдении законной процедуры, когда речь шла об уничтожении политических противников. Но во всех прочих случаях, когда человек вел с кем-либо гражданский процесс или когда человека судили за уголовное преступление, не имеющее ничего общего с политикой, Наполеон требовал, чтобы суд действовал без всяких соображений политического характера. И когда к первому консулу явились представиться назначенные им впервые судьи, он сказал им: «Никогда не рассматривайте, к какой партии принадлежал человек, который ищет у вас правосудия».
Чрезвычайно характерно, что он выделил все касавшееся непосредственно обороны создаваемого им здания самодержавной монархии от внутренних врагов в особое большое министерство, совершенно независимое от министерства внутренних дел и, так же как и все прочие самостоятельные ведомства, непосредственно подчиненное первому консулу. Это было министерство полиции, поставленное им в смысле власти и в смысле денежных средств так, как оно никогда не было поставлено при Директории.
Особенное внимание было посвящено Бонапартом организации столичной префектуры полиции. Префект парижской полиции, хоть и подчиненный министру полиции, был поставлен совсем особо от других сановников, имел свой личный доклад у первого консула, и вообще уже с самого начала было ясно, что первый консул в лице парижского префекта полиции хочет иметь как бы контрольный осведомительный орган, который помогал бы следить за действиями слишком уж могущественного министра полиции.
Бонапарт с умыслом несколько дробил свою политическую полицию и стремился иметь не одну, а две или даже три полиции, которые наблюдали бы не только за гражданами, но и друг за другом. Он поставил во главе министерства полиции Футе, очень ловкого шпиона, хитрого провокатора, пронырливого интригана, словом сыщика-специалиста. Но Бонапарт знал вместе с тем, что Фуше не то что его, а отца родного продаст при случае за сходную цену. Чтобы обезопасить себя с этой стороны, первый консул и завел доверенных шпионов с узко очерченной задачей: шпионить за самим Фуше. А чтобы точно уловить момент, когда Фуше это заметит и постарается их подкупить, Бонапарт держал еще и третью серию шпионов, функция которых была следить за шпионами, наблюдающими за Фуше.
Наполеон считал всегда, что у Фуше медный лоб и что он абсолютно чужд способности смущаться чем бы то ни было. Прошло много лет. Наполеон уже давно превратился в императора, а Фуше сиял орденами и золотым шитьем мундира министра полиции, когда Наполеон, раздраженный чем-то, захотел его уязвить и показать, что хорошо помнит все превращения своего министра. «Ведь вы голосовали за казнь Людовика XVII» — сказал он ему внезапно. «Совершенно верно! — ответил Фуше, низко, в пояс, по своему обыкновению, кланяясь императору. — Ведь это была первая услуга, которую мне привелось оказать вашему величеству». Это был глубоко значительный диалог: Фуше напоминал императору, что карьера их обоих — революционного происхождения, хотя и построена на том, что один из них, заняв вакантный престол Людовика XVI, задушил революцию, а другой усердно помогал ему это сделать. Теперь, в 1799 г., Фуше был Бонапарту особенно необходим именно потому, что хорошо знал своих бывших товарищей, которых он предал и продал новому владыке.
Уже в первую зиму своего правления Бонапарт организовал продуманную во всех частях машину централизованного государства, управляемого бюрократической верхушкой из Парижа.
Создание неограниченной власти с сосредоточием ее в руках первого консула — вот что было основной целью новой «конституции».
Бонапарт как-то сказал: «Да, да, пишите так, чтобы было кратко и неясно». Этими словами он изложил свой общий принцип: когда дело идет о конституционных ограничениях верховной власти, нужно писать покороче и потуманнее. Если существовал когда-нибудь на свете деспот, органически не способный ужиться с каким-либо, хотя бы скромным, но реальным ограничением своей власти, то это был именно Наполеон.
Уже в первые дни после переворота рассеялось, как дым, то наивное недоразумение, которое владело людьми, поддерживавшими Бонапарта, а особенно Сийесом, все время перед 18 брюмера. Когда Сийес представил Бонапарту проект, по которому он, Бонапарт, должен был играть роль верховного представителя страны (вроде позднейшего президента республики), окруженного высшими почестями и снабженного огромными доходами, но управлять должны были другие лишь назначаемые им, но от него не зависящие люди, то Бонапарт заявил: «Я никогда не стану играть такой смешной роли», — и категорически отверг проект Сийеса. Тот вздумал было упираться, спорить. Тогда его посетил министр полиции Фуше, который совершенно дружески и доверительно обратил его внимание на то, что у Бонапарта в руках вся вооруженная сила страны и что поэтому от слишком продолжительных споров с ним особой пользы для спорящего произойти не может, даже скорее наоборот. Сийесу, по-видимому, эта аргументация показалась исчерпывающе убедительной, и он умолк.
«Конституция VIII года республики» (так называлось выработанное под руководством Наполеона государственное устройство Франции) как нельзя лучше отвечала принципу, усвоенному Наполеоном. Вся полнота власти сосредоточивалась в руках первого консула; остальные два консула получали лишь совещательный голос. Бонапарт назначается первым консулом на десять лет. Первый консул назначает сенат из 80 членов. Он же назначает своей властью всех гражданских и военных должностных лиц, начиная с министров, и все они ответственны исключительно перед ним. Учреждаются еще два установления, которые должны изображать собою законодательную власть: это 1 ) Трибунат и 2) Законодательный корпус. Члены того и другого учреждения назначались сенатом (т.е. другими словами, тем же первым консулом) по собственному усмотрению из нескольких тысяч кандидатов, которых в результате сложнейшей процедуры «избирали» избиратели. Ясно, что если бы даже из нескольких тысяч кандидатов, намеченных населением, всего 400 человек оказались на стороне правительства, то именно эти 400 и были бы отобраны для замещения вакансий в Трибунате и Законодательном корпусе. Даже и речи о возможности самостоятельного поведения таких людей быть не могло при этих условиях отбора. Но и этого мало. Кроме этих учреждений, был создан еще Государственный совет, всецело и непосредственно назначаемый правительством первого консула.
Законодательная машина должна была действовать так: правительство вносит законопроект в Государственный совет, который его обрабатывает и вносит в Трибунат. Трибунат имеет право высказываться в речах по поводу этого законопроекта, но не имеет права выносить никаких решений. Поговорив о законопроекте, Трибунат этим и выполняет свою функцию и передает законопроект в Законодательный корпус, который, напротив, не имеет права обсуждать этот законопроект, не имеет права говорить о нем, но зато имеет право постановлять решения, после чего законопроект утверждается первым консулом и становится законом. Эта нарочито нелепая «законодательная» машина была, конечно, во все царствование Наполеона безгласной исполнительницей его велений. Впрочем, впоследствии (в 1807 г.) он и вообще уничтожил Трибунат за полной ненадобностью. Нечего и прибавлять, что глубокая канцелярская тайна должна была окружать (и окружала) действия этих учреждений. Для ускорения дела первый консул мог вносить свой законопроект и непосредственно в сенат, который и издавал нужный закон под названием «сенатусконсульта». Вот и все. Итак, вся полнота реальной законодательной власти всецело сосредоточивалась, так же как и полнота исполнительной власти, в руках Бонапарта.
Новый самодержец к весне 1800 г. уже выполнил, таким образом, самые спешные дела: он оформил новое государственное устройство, покончил если не со всеми, то с очень многими разбойничьими шайками, наводнявшими страну, провел — пока наскоро и временно — некоторые мероприятия по смягчению положения в Вандее, ввел централизацию управления страной и осуществил первые, необходимейшие меры по обузданию спекулянтского хищничества. Громадная, искусно разработанная сеть полицейского шпионажа под руководством Фуше быстро покрыла страну.
Жозеф Фуше был, если можно так выразиться, прирожденным шпионом. В древнем Риме была поговорка: «Ораторами делаются, а поэтами рождаются». Фуше был «творцом» провокаторской и сыщицкой системы, которой впоследствии тщетно пытались следовать ученики и подражатели, неаполитанские Делькаретто, русские Бенкендорфы и Дубельты, австрийские Седльницкие. Наполеон предоставил творчеству Фуше полный простор и только, зная его разнообразные качества и слишком уж разностороннюю натуру, приставил к нему на всякий случай, как сказано, нескольких шпионов, неведомых министру полиции Фуше, чтобы следить за самим Фуше. Он знал очень хорошо, что, отправляясь весной в новый далекий поход, он должен был прочно обеспечить политический тыл и что с этой точки зрения вся новая «конституция VIII года» ровно никакого значения не имеет, а министерство полиции имеет важность колоссальную. Бонапарт поэтому не только снабжает полицию обильными средствами, не только старается усовершенствовать и обеспечить нужными, способными и энергичными людьми только что созданную им администрацию в Париже и в провинции, но и берет окончательно в железные тиски те 13 органов печати, которые уцелели после закрытия первым консулом сразу 60 газет.
Перед отъездом на войну Наполеон оставляет организованную им машину самодержавия своим министрам, требуя от них, чтобы они обеспечили порядок, пока он будет воевать с коалицией европейских держав.
Но еще за месяц до отъезда Наполеона, в апреле 1800 г., Фуше открыл и доставил первому консулу неопровержимые доказательства существования в Париже англо-роялистского агентства, находящегося в прямых сношениях с двумя принцами Бурбонского дома, бывшими в эмиграции, родными братьями казненного при революции Людовика XVI. Это были Людовик, граф Прованский, и Карл, граф Артуа. Роялисты совершенно откровенно ставили ставку на захват власти при помощи англичан и других интервентов. Что англичане тоже в свою очередь ставят ставку на французских роялистов, которые готовы были на какие угодно экономические и политические уступки в пользу английской торговой и промышленной буржуазии, лишь бы только добиться реставрации Бурбонов, — Бонапарту было ясно уже с января 1800 г., когда на его предложение начать мирные переговоры король английский Георг III ответил прямым, формальным советом... восстановить на французском престоле Бурбонов.
Первый консул окончательно утвердился в мысли, что одна из серьезнейших задач борьбы внутренней — это беспощадная расправа с изменниками-роялистами, а самая главная задача борьбы внешней — упорная война с Англией. Фуше были отданы соответствующие приказы по борьбе с активными роялистами: деятельное их выслеживание, аресты, судебное преследование. Наполеон очень часто повторял слова, выражавшие крепко сидевшую в нем мысль: «Есть два рычага, которыми можно двигать людей, — страх и личный интерес». Под словом «l’interet» он понимал не только денежную корысть в точном смысле слова, но и честолюбие, самолюбие, властолюбие. Как же действовать на роялистов? Можно ясно подметить, что относительно этой категории своих врагов Наполеон действовал попеременно, в разные периоды по-разному: в одну полосу — террором, в другую — привлекая их милостями, должностями, деньгами.
Теперь, весной 1800 г., спеша к действующей армии, он не имел времени применять какие-либо иные средства к изменникам, кроме беспощадного террора.
Другая главная задача — война с Англией — должна была, как и до сих пор, вестись не у английских берегов, перед лицом могучего британского флота, а на европейском континенте, против союзников Англии, в первую очередь против Австрийской империи.
Уезжая на войну 8 мая 1800 г., покидая Париж в первый раз после государственного переворота, Бонапарт отдавал себе полный отчет, что дальнейшая судьба его диктатуры над Францией зависит в полной мере от результатов начавшейся кампании. Или он снова отвоюет у австрийцев северную Италию, или коалиция интервентов опять появится у французских границ.
Глава VI. Маренго. Упрочение диктатуры. Законодательство первого консула. 1800–1803 гг.
Наполеон обыкновенно не вырабатывал заранее детальных планов кампаний. Он намечал лишь основные «объективы», главные конкретные цели, хронологическую (приблизительную, конечно) последовательность, которую должно при этом соблюдать, пути, которыми придется двигаться. Военная забота охватывала и поглощала его целиком лишь в самом походе, когда ежедневно, а иногда ежечасно он менял свои диспозиции, сообразуясь не только со своими намеченными целями, но и с обстановкой, в частности с непрерывно поступавшими известиями о движениях врага. У него было правило, которому он всегда неизменно следовал: не считать неприятеля глупее самого себя, пока его не испытал на деле; предполагать с его стороны не менее разумные поступки, чем в данном положении совершил бы сам.
Перед ним была сильная, прекрасно снабженная австрийская армия, занимавшая северную Италию, откуда в предыдущем году Суворов вытеснил французов. Но Суворова уже на этот раз с австрийцами не было, а этому Наполеон придавал колоссальное значение. «Армия баранов, предводительствуемая львом, сильнее, чем армия львов, предводительствуемая бараном», — говаривал впоследствии Наполеон. Он знал, что на этот раз Россия уже не участвует в коалиции, хотя еще и не мог узнать, что как раз в том самом месяце — мае 1800 г., когда он шел со своей армией в Италию уничтожать плоды суворовских побед, самого Суворова опускали в землю в петербургской Александро-Невской лавре. Перед Бонапартом стоял не Суворов, а всего только Мелас, исправный генерал-исполнитель, штабной службист, один из тех исправных генералов, которых так часто и так страшно и до и после 1800 г. бил Наполеон и которые не переставали все время с горечью доказывать, что он делает это не по правилам. Наполеон, согласно своему принципу, и тут действовал против Меласа так, как если бы Мелас был Наполеоном, а Мелас действовал против Наполеона так, как если бы Наполеон был Меласом.
Австрийцы сосредоточивались в южной части североитальянского театра войны, по направлению к Генуе. Мелас не считал возможным, что Бонапарт пройдет самым трудным путем, из Швейцарии через Сен-Бернар, и не оставил там большого заслона. Именно эту дорогу и выбрал первый консул. Лютый холод снежных вершин, зияющие пропасти под ногами, обвалы, метели, ночевки в снегу — все это узнали в Альпах солдаты Бонапарта в 1800 г., как узнали это там же солдаты Суворова в 1799 г. и воины Ганнибала за две тысячи лет до Суворова и Бонапарта. Только теперь в пропасти летели не слоны, как при Ганнибале, а пушки, лафеты, зарядные ящики. Впереди шел генерал Ланн с авангардом; за ним, растянувшись громадной линией между круч и утесов, следовала вся армия Бонапарта. 16 мая начался подъем на Альпы; 21 мая сам Бонапарт с главными силами был на перевале Сен-Бернар, а впереди, на склонах, ведущих в Италию, уже начались авангардные стычки со слабым австрийским заслоном, который был там расположен. Австрийцы были опрокинуты, спуск французов на юг ускорился, и внезапно вся армия Бонапарта, дивизия за дивизией, стала в последних числах мая выходить из южных альпийских ущелий и развертываться в тылу австрийских войск.
Не теряя и часу времени, Бонапарт прямо пошел на Милан и вошел в эту столицу Ломбардии уже 2 июня 1800 г.; затем сейчас же занял Павию, Кремону, Пьяченцу, Брешию, ряд других городов и деревень, всюду отбрасывая австрийцев, совершенно не ожидавших главного нападения с этой стороны. Армия Меласа была занята осадой Генуи, которую и взяла у французов как раз спустя несколько дней. Но появление Бонапарта в Ломбардии свело к нулю австрийский успех в Генуе.
Мелас спешил навстречу так нежданно нагрянувшим с севера французам. Между г. Александрией и Тортоной находится большая равнина; посредине этой равнины лежит деревушка Маренго. Еще в начале зимы 1800 г. в своем парижском дворце, рассматривая подробную карту северной Италии, Бонапарт сказал своим генералам, ткнув пальцем именно в это место на карте: «Здесь мы должны разбить австрийцев». Встреча главных сил противников произошла 14 июня 1800 г., и произошла на этом самом месте.
Это сражение сыграло колоссальную роль в международной политике вообще и в исторической карьере Наполеона в особенности. В Париже и во всей Франции было неспокойно. Роялисты ждали со дня на день гибели Бонапарта в альпийских пропастях; известно было также, что австрийская армия очень сильна и что ее артиллерия сильнее французской. Ходили слухи о близкой английской высадке в Вандее. Шуанские вожди, Кадудаль и его товарищи, считали реставрацию Бурбонов делом не только решенным, но и близким. Ждали только сигналу, известия о смерти Бонапарта или о поражении французской армии. В Европе, даже нейтральной, тоже с напряженным вниманием следили за развитием событий. Здесь тоже ждали победы австрийцев, чтобы примкнуть к коалиции против Франции. Бурбоны готовились к путешествию в Париж.
Наполеон, его генералы, офицеры и солдаты очень хорошо понимали всю важность игры и вероятность проигрыша: австрийцев на этот раз было гораздо больше; они воспользовались долгим спокойным отдыхом на стоянках в итальянских городах и деревнях, пока армия Наполеона совершала тяжелые переходы через Сен-Бернар. У Бонапарта было всего 20 тысяч человек и была лишь ничтожная часть из той артиллерии, с которой он перевалил в мае через большой Сен-Бернар, потому что главная масса артиллерии, задержанная осадой и взятием австрийского горного заслона, еще задержалась в пути. А у Меласа была армия в 30 тысяч солдат и обильная, хорошо снабженная снарядами артиллерия (около 100 пушек). Часть своей ничтожной артиллерии Бонапарт дал притом генералу Дезэ, так что у него против сотни австрийских пушек было лишь около полутора десятка орудий.
Битва, начавшаяся утром 14 июня 1800 г. недалеко от Маренго, обнаружила с первых же часов силу австрийских масс: французы с боем отступали, нанося противнику большие удары, но и сами несли тяжкие потери. Около двух часов дня сражение казалось совсем проигранным. После трех часов дня ликующий Мелас отправил в Вену курьера с известием о полной победе австрийцев, о разгроме непобедимого Бонапарта, о трофеях и пленных. Во французском штабе царило смущение. Бонапарт казался спокойным и все повторял, что нужно держаться, что сражение еще не кончено. И вдруг в начале четвертого часа все круто и внезапно изменилось: подоспела дивизия генерала Дезэ, который был послан на юг с целью отрезать путь отхода неприятеля от Генуи и теперь со всей скоростью в решающий момент подошел на выстрел к полю битвы и ударил на австрийцев.
Австрийцы настолько были уверены в своей полной победе, что они к этому часу начали целыми частями располагаться для отдыха и обеда. Под ударами налетевшей на них свежей дивизии Дезэ, за которой бросилась вся армия Бонапарта, австрийская армия подверглась полному разгрому. Уже в пять часов вечера австрийцы бежали, преследуемые французской кавалерией. Сам Дезэ был убит в начале атаки, и вечером после этого сражения, одного из громадных триумфов своей жизни, Бонапарт со слезами сказал: «Как хорош был бы этот день, если б сегодня я мог обнять Дезэ!» — «Почему мне не позволено плакать?..» — вырвалось у него еще за несколько часов до того, в разгаре битвы, когда ему сообщили, что Дезэ только что пал с лошади мертвый.
Только дважды боевые товарищи Наполеона видели слезы на его глазах после сражения. Второй раз это было несколько лет спустя, когда на его руках умирал маршал Ланн, у которого ядром оторвало обе ноги.
В разгаре ликований венского двора, возбужденного первым радостным известием Меласа, в Вену прибыл и второй курьер, сообщавший, какая катастрофа случилась после отправления первого... Италия снова, и на этот раз, казалось, окончательно, была потеряна для австрийцев. Грозный враг оказался опять непобедимым.
Первые слухи о генеральном сражении в Италии дошли до правительства в Париже через шесть дней после события, 20 июня (1 мессидора). Но слухи были сначала неясные. В городе с большим волнением ждали известий. Откуда-то уже проносились вести о проигранной битве, о смерти Бонапарта. Вдруг в первом часу дня прогремел пушечный выстрел салюта, за ним другой, третий; примчался курьер с официальными известиями: полный разгром австрийской армии, взята в плен половина австрийской артиллерии, тысячи пленных, тысячи австрийцев изрублены. Италия снова в руках Бонапарта.
Настроение было приподнятое на этот раз не только в буржуазных, но и в рабочих кварталах: в Сент-Антуанском предместье давно уже не было такого оживления. Конечно, рабочие тогда не могли еще предвидеть, что новый владыка сдавит их окончательно железной рукой, что он введет «рабочие книжки», которые поставят их в полную зависимость от хозяев, что наступающее царствование окончательно задушит революцию и будет временем прочного и планомерно проводимого укрепления социального строя, основанного на беспрепятственной и поддерживаемой законом эксплуатации труда капиталом.
В том же Париже возле биржи, возле банкирских контор, в разряженной толпе на бульварах ликовали еще больше, но именно потому, что победил Бонапарт, тот самый человек, который задушил 18 и 19 брюмера революцию и теперь завоевал вполне прочное положение и возможность, с одной стороны, железной рукой подавлять «анархию», все покушения против собственников и собственности, а с другой стороны, не вернет и дворянско-феодальную монархию.
Угрюмо молчали некоторые наиболее непримиримые якобинцы; удручены были роялисты. Но и те и другие временно совсем были отброшены в сторону грандиозно развертывавшимися и в столице и в провинции восторженными настроениями. Помимо всего было еще и какое-то опьянение гордостью, восторженность военного патриотизма, какая-то горячка, внезапно овладевшая многими до сих пор трезвыми умами. Все это достигло своего апогея, когда первый консул вернулся в Париж. Многочисленная толпа двинулась ему навстречу, причем малейшее подозрение в холодности к Бонапарту принималось в массе как признак роялизма. «Тут аристократы живут! Почему дом не иллюминован?» — кричала толпа и била стекла в заподозренном доме. Несметная масса людей весь день простояла вокруг Тюильрийского дворца, приветственными криками вызывая Бонапарта. Но он не вышел на балкон.
После Маренго очередной задачей Бонапарта было, во-первых, достигнуть выгодного мира с Австрией. Затем он хотел помириться с Англией и всей европейской коалицией вообще и, в-третьих, продолжить и углубить законодательную деятельность, начатую сейчас же после брюмерского переворота и прерванную походом в Италию.
Но еще одна забота упорно отвлекала внимание Бонапарта и повелительно отрывала его в течение всей эпохи Консульства от основных задач. Это была борьба с якобинцами и роялистами. Фуше считал роялистов более серьезной и непосредственной опасностью, но Бонапарт уже тогда мало верил Фуше и полагал, что Фуше, боясь реставрации, считает якобинцев, бывших своих друзей, все же меньшим злом и не склонен их очень преследовать, тем более что у них меньше шансов достигнуть власти. А сам первый консул, напротив, был после Маренго того мнения, что якобинцы — более опасные враги.
С первых же дней установления своей диктатуры Наполеону пришлось считаться с врагами «слева» — якобинцами — и врагами «справа» — роялистами. И неодинаково отнесся он к этим двум категориям своих противников.
К роялистам у него было отношение примирительное, он открыто обнаруживал готовность к мирным переговорам. Консульская администрация охотно брала на службу заведомых роялистов, подчеркивая, что, если они соглашаются служить Бонапарту, значит, они уже тем самым заслуживают снисходительного отношения. Бонапарт уже своими амнистиями отдельным эмигрантам показывал, что роялистам он согласен многое и многое простить и забыть.
Но совсем не то было с якобинцами. Их Наполеон в самом деле ненавидел, в самом деле преследовал. Ведь сам-то он никогда революционером не был, и для него временная близость с братом Робеспьера и с якобинцами была просто-напросто тактикой карьериста. Деспот по натуре, самодержец с ног до головы, сознательно державший курс после 18 брюмера на создание в том или ином виде крупнобуржуазной монархии, Наполеон не мог полностью оценить в прошлом якобинцев той колоссальной заслуги, которую они имели в истории Французской революции и которая состояла не более и не менее, как в спасении революции в самый для нее опасный момент. Мало того, в полном согласии с тем крупнобуржуазным классом, интересы которого он поддерживал. Наполеон усвоил себе манеру отмечать в якобинской диктатуре прежде всего ее репрессивный, резко насильственный характер, умалчивая и о причинах, делавших это явление неизбежным, и о последствиях, спасших революционную Францию. И не зная, как похуже выругать в 1812 г. Ростопчина, сжегшего Москву, Наполеон назвал его «русским Маратом», приравнивая человека, отдавшего свою жизнь за революцию, к московскому барину, крепостнику, для которого спасение России совпадало со спасением крепостного права и который участвовал в защите родины лишь гаерскими, балаганными «афишками» и тем, что без нужды и толка путался под ногами Кутузова и посылал на Кутузова доносы царю. Наполеону политически выгодно было, чтобы в умах нового поколения якобинская диктатура ассоциировалась исключительно с кровопролитием и всякого рода ужасами и ни с чем более.
А между тем своим ясным умом он не мог начисто отрицать исторической заслуги этой диктатуры. Наполеон ненавидел якобинцев, но о якобинской диктатуре 1793–1794 гг. прямо заявил однажды, что Конвент спас Францию. А вот Людовика XVI он в самом деле презирал от всей души, как всегда презирал всякую слабость. «Предупредите эту женщину, что я — не Людовик XVI», — сказал он, когда узнал, что г-жа Сталь слишком много разговаривает в своем салоне.
И именно зная, что наиболее непреклонные и непримиримые, хоть и притаившиеся враги его находятся среди уцелевших еще бывших якобинцев, он гнал их беспощадно.
Преследование якобинцев, в сущности, как началось после 18 брюмера, так и не прекращалось до конца империи, временами лишь ослабевая.
Аресты якобинцев или лиц, подозреваемых в близости к ним, происходили и в столице и в провинции, и притом в провинции еще больше, чем в столице. Местная уцелевшая аристократия, вернувшиеся амнистированные эмигранты, местная зажиточная буржуазия, а в деревне новое, собственническое крестьянство — все они, зная наперечет былых деятелей местных отделений Якобинского клуба, былых должностных лиц робеспьеровских времен, теперь беспощадно и сторицей расплачивались со своими врагами. Когда, при деятельнейших провокаторских усилиях со стороны политической полиции, удалось ускорить «покушение» 10 октября 1800 г., т.е. удалось в здании оперы арестовать четырех человек с кинжалами, шедших к ложе первого консула, то не только были казнены эти четыре человека, но по всей Франции были произведены массовые аресты «якобинцев». Большинство арестованных либо никогда уже не вернулось на родину, либо вернулось спустя много лет сломленными людьми. Кое-кто погиб в тюрьме («самоубийства» политических заключенных были в большом ходу в те времена), другие погибли в Кайенне, в американской ссыльно-каторжной колонии Франции. А спустя месяц после этого «покушения» полиция Фуше арестовала (18 ноября 1800 г.) настоящего якобинца Шевалье, который подготовлял взрыв. Новая волна арестов и высылок поднялась по всей стране. Хватали направо и налево, хотя арестуемые никакого понятия не имели о Шевалье и его замыслах. Мало того, когда в декабре того же 1800 г. произошло в самом деле серьезное покушение на жизнь первого консула, то — хотя эта «адская машина» была организована исключительно роялистами и якобинцы абсолютно ни малейшего касательства к делу не имели — Наполеон и этим покушением тоже воспользовался для новых страшных гонений против якобинцев.
Тот, кто хочет вникнуть в натуру Наполеона и понять движущие силы его психологии, никогда не должен обманываться слащавыми попытками, столь обильными в необъятной литературе о Наполеоне, — попытками представить его в самом деле каким-то «полуреволюционером», тем, чем его часто называли сначала враги, а потом хвалители в первой половине XIX в., — «Робеспьером на коне». Никогда он этим не был. Деспот по натуре, прирожденный самодержец, считаясь с условиями, он еще мог терпеть первое время по нужде существование некоторых чисто внешних пережитков буржуазной республики. Но как только стало возможным, он вымел прочь все, что оставалось от республики, и круто повернул к окончательному обращению Франции в военную деспотию и к превращению Европы в конгломерат рабски подчиняющихся этой военной деспотии вассальных царств, колоний и полуколоний. Якобинцам и особенно ненавистной Наполеону якобинской идеологии с ее грезами о «братских республиках» и о равенстве и свободе — в наполеоновской абсолютной монархии места не было. Энгельс правильно отметил хронологическую дату («австрийский брак»), после которой эта новая самодержавная империя Наполеона стала быстро принимать и все внешние черты стародавних, традиционных монархий. Конечно, и новая и старая тирании одинаково были безнадежно непримиримыми не только с героической якобинской традицией, но даже с самыми робкими и скромными воспоминаниями о буржуазной республике.
Жестокая, вне всяких установленных, «законных» рамок, абсолютно произвольная расправа с якобинцами — одна из самых характерных черт наполеоновского правления. Вопреки воззрениям Наполеона, Фуше непосредственно после 18 брюмера, как сказано выше, полагал, что якобинцы не так опасны в данный момент, как роялисты, желающие восстановления Бурбонов.
Нужно сказать, что в данном случае Фуше обнаружил бо́льшую полицейскую проницательность, чем его господин. Дело в том, что претендент на престол граф Прованский, его брат Карл и почти вся верхушка эмиграции были после брюмерского переворота убеждены, что самая удача этого переворота, водворение диктатуры, показывает, что назрел момент для восстановления монархии. А если так, то неужели Франция не предпочтет старую, историческую династию, а подчинится какому-то корсиканскому выходцу? Революция после десятилетних неистовств убита наповал 18 и 19 брюмера. Теперь остается, чтобы та самая рука, которая нанесла Директории в ноябре 1799 г. во дворце Сен-Клу смертельный удар, а в июне 1800 г. разгромила австрийцев при Маренго, посадила бы на французский прародительский престол христианнейшего короля Людовика XVIII (он же временно граф Прованский). Сам ли граф Прованский решился на курьезную выходку (еще задолго до Маренго, через три с половиной месяца после брюмерского переворота), или его брат, крайне экономно наделенный от природы умственными качествами, дал ему совет, но Людовик обратился из Митавы, где тогда проживал, к первому консулу с письмом, в котором просил Бонапарта восстановить династию Бурбонов. А за это Бонапарт пусть требует и для себя и для друзей каких угодно наград — все получит! И, кроме наград, еще получит «благословения будущих поколений». Бонапарт ничего не ответил. К нему и к жене его Жозефине стали подсылать с новыми поручениями, предложениями, письмами.
Летом 1800 г., после Маренго, когда действительно казалось, что воля Бонапарта может сделать с Францией все, что ему заблагорассудится, Людовик снова обратился к нему с той же просьбой. Тогда Бонапарт в первый и последний раз ответил претенденту следующее: «Я получил ваше письмо. Благодарю вас за любезности, которые вы мне говорите. Вы не должны желать своего возвращения во Францию: вам пришлось бы пройти через сто тысяч трупов. Пожертвуйте вашими интересами покою и счастью Франции: история это вам зачтет».
Когда эмиграция удостоверилась, что Бонапарт не из тех, над кем царствуют, а из тех, кто сам над другими царствует, когда получен был его прямой отказ, решено было его убить.
Почти тогда же эта мысль возникла и в якобинских кругах. Но здесь дело кончилось, как уже сказано, удавшейся провокацией Фуше. Зная о готовящемся покушении через своих агентов и точно осведомившись, что оно должно произойти в опере 10 октября 1800 г. вечером, Фуше арестовал заговорщиков (Черакки, Арена, Демервиля, Топино-Лебрена), когда они, вооруженные, уже приблизились к ложе первого консула. Утверждали потом, что сам же Фуше и снабдил их оружием. Заговорщики были казнены, а влияние Фуше усилилось. Его провокаторы развивали необычайно энергичную деятельность, стараясь проникнуть всюду — от светских салонов до самых бедных харчевен и трактиров.
3 нивоза (24 декабря 1800 г.), когда первый консул проезжал вечером, направляясь в оперу, по улице Сен-Ни-Кэз, близ его кареты раздался страшный взрыв. Карета Бонапарта проехала мимо «адской машины» всего секунд за десять до взрыва. Мостовая покрылась трупами и ранеными, полуразрушенная карета благополучно домчала первого консула до здания оперы. Он вошел в ложу с виду совершенно спокойный, так что публика в театре только через некоторое время узнала о происшедшем. Начавшееся немедленно следствие на первых порах ничего не выяснило, никто не был арестован на месте покушения. Бонапарт был убежден, что и на этот раз дело организовано якобинцами. Он обвинял Фуше в том, что тот слишком занят роялистами и не обращает достаточно внимания на якобинцев. Он решил покончить с оппозицией слева. Велено было составить список из 130 имен вождей якобинцев или принимаемых за таковых. Они были арестованы и подверглись в большинстве своем ссылке в Гвиану и на Сэйшельские острова, откуда редко кто возвращался. Префекты в провинции начали, сверх того, жесточайшую травлю против всех, кто за годы революции обнаружил словом или делом симпатию к решительной борьбе против реакции. Теперь уцелевшие реакционеры стали сводить с ними счеты. Из этого первого списка, составленного Фуше, некоторые попали не просто в ссылку, а в каторжные тюрьмы без суда и следствия, и не были освобождены, даже когда истина выяснилась. А выяснил ее тот же Фуше, и как раз почти в те же дни, когда отправлял якобинцев на каторгу и в ссылку. Уж он-то раньше всех узнал, что якобинцы в данном случае абсолютно ни при чем; ссылал же он их исключительно для того, чтобы угодить раздраженному Бонапарту.
Ровно через две недели после покушения и в разгар террора против якобинцев был задержан некто Карбон, а спустя некоторое время Сен-Режан, затем Бурмон и несколько десятков роялистов, проживавших в Париже легально и нелегально. Карбон и Сен-Режан, непосредственные виновники покушения, сознались. Все было организовано исключительно роялистами с целью убить Бонапарта и произвести реставрацию Бурбонов. Это не помешало оставить в силе принятые против якобинцев меры, но решено было не пощадить и роялистов. Бонапарт решил, таким образом, из одного покушения извлечь двойную политическую пользу. Когда потом ему сказали, что Фуше был убежден в полной невиновности ссылаемых якобинцев, Бонапарт ответил: «В самом деле? Фуше! Вот он всегда такой! Впрочем, это не важно. Теперь я от них (якобинцев) избавлен». Роялисты, непосредственно участвовавшие в покушении, были казнены, многие сосланы подобно якобинцам.
Но все-таки гнев Бонапарта против роялистов не был в тот момент так жесток, как можно было бы ожидать, судя по расправе с совсем неповинными в «адской машине» якобинцами. И тут дело вовсе не только в психологическом наблюдении, которое сделали над Наполеоном его приближенные, дело было не только в том, что он уже истощил на якобинцев весь свой гнев за эти первые недели после покушения, а на роялистов его уже не хватило, — Наполеон очень хорошо умел быть жестоким, когда находил это нужным, оставаясь вполне холодным и спокойным. Дело было не в этом, а в том, что он задался целью оторвать от Бурбонов те элементы среди роялистов, интересы которых были вполне примиримы с новым порядком вещей во Франции. Другими словами, те роялисты, которые признают законность его, Наполеона, власти, подчинятся ей безропотно, будут приняты им с готовностью, и прежние грехи могут быть им прощены, а с непримиримыми, непременно желающими восстановить Бурбонов и старый строй, — беспощадная борьба.
Еще до Маренго первый консул приказал Фуше составить списки тех эмигрантов, которым можно дозволить вернуться во Францию, и, несмотря на адскую машину на улице Сен-Никэз, эти списки продолжали составляться. По первоначальным спискам эмигрантов насчитывали около 100 тысяч человек, и из них около 52 тысяч вернулось уже согласно постановлению от 1 вандемьера (20 октября 1800 г.). По дальнейшим спискам эмигрантов было выявлено почти в полтора раза больше, чем раньше предполагалось. Из 145 тысяч эмигрантов около 141 тысячи получило право въезда во Францию; по приезде они поступали под надзор полиции. Только 3373 эмигрантам въезд по-прежнему был воспрещен. Но этим он не ограничился: в мае 1802 г. был издан сенатус-консульт, по которому всякий эмигрант, принесший присягу в верности новому государственному строю, получал право въезда во Францию. Масса эмигрантов, бедствовавших за границей, использовала этот закон и вернулась во Францию.
Покушения на некоторое время прекратились. Бонапарт с удвоенной энергией взялся за дипломатические дела.
Никогда ни до, ни после этого периода он не желал до такой степени скорого замирения с коалицией. Это ему было нужно и для поправления финансов, и ввиду явной жажды скорейшего мира со стороны большинства французского населения, и, конечно, чтобы иметь передышку для довершения начатых и осуществления намеченных государственных реформ.
По дипломатической части он выбрал себе в помощники нужного человека не менее удачно, чем по части политического сыска, потому что если Фуше оказался мастером в деле провокации и шпионажа, то князь Талейран показал себя виртуозом дипломатического искусства. Но была и разница в положении самого первого консула в том и другом случае: Наполеон пользовался Фуше и его аппаратом, но считал и называл их всех подлецами; не доверяя Фуше, он держал еще свою особую полицию для наблюдения за самим Фуше, но, конечно, на этом поприще, в этом состязании победить своего министра он не мог. Тут с Фуше никакие Наполеоны, никакие Александры Македонские не могли бы справиться. Он мигом распознавал наблюдавших за ним (приставленных Наполеоном людей). В области полиции Наполеон нуждался в Фуше и в специальных его талантах, потому что в данном вопросе не мог даже и отдаленно равняться со своим министром, и считался с этим. Напротив, в дипломатическом искусстве Наполеон не только не уступал Талейрану, но кое в чем превосходил его, и хотя тот был высокоталантливым министром иностранных дел, но все-таки руководящие мысли давал Талейрану он сам, все важные мирные переговоры вел он сам, а Талейран подавал лишь советы, оформлял дипломатические ноты и вырабатывал тактические приемы, необходимые для достижения намеченного.
Одним из самых крупных дипломатических достижений Наполеона является, бесспорно, полный переворот, произведенный им в русской политике. Он дал знать императору Павлу, с которым Франция официально была в войне, что желает вернуть в Россию немедленно всех русских пленных, оставшихся после разгрома корпуса Корсакова осенью 1799 г. И притом он не требовал даже обмена пленными (впрочем, пленных французов в России почти не было в то время). Уже это привело Павла в восхищение, и он для окончания дела о пленных, отправил в Париж генерала Спренгпортена.
В середине декабря 1800 г. Спренглортен приехал в Париж. Бонапарт сразу же выразил самое горячее чувство симпатии и уважения к Павлу Петровичу, подчеркивая благородство и величие души, которые, по его мнению, отличают русского царя. Одновременно оказалось, что первый консул не только приказал вернуть всех русских пленных (около 6 тысяч человек), но и распорядился, чтобы им всем были сшиты за счет французской казны новые мундиры по форме их частей и выдано обмундирование, новая обувь, возвращено вооружение. Эта никогда никем при войне не практиковавшаяся любезность сопровождалась личным письмом Бонапарта императору Павлу, в котором первый консул в дружественных выражениях говорил, что мир между Францией и Россией может быть заключен в 24 часа, если Павел пришлет в Париж доверенное лицо. Все это совершенно пленило Павла. Из ярого врага Франции он внезапно обратился в ее доброжелателя и ответил Бонапарту сообщением, в котором уже наперед соглашался на мир, изъявляя желание вернуть Европе в согласии с первым консулом «тишину и покой».
«Ваш государь и я — мы призваны изменить лицо земли», — сказал Бонапарт посланцу Павла, генералу Спренгпортену.
Наполеон после этого первого успеха решил заключить с Россией не только мир, но и военный союз. Идея союза диктовалась двумя соображениями: во-первых, отсутствием сколько-нибудь сталкивающихся интересов между обеими державами и, во-вторых, возможностью со временем совокупными силами грозить (через южную Россию и Среднюю Азию) английскому владычеству в Индии. Мысль об Индии никогда не оставляла Наполеона, начиная от египетского похода и до последних лет царствования. Разработанного проекта не было ни тогда, ни позже, но основная идея крепко засела в его голове. Эта идея в 1798 г. связывалась у него с Египтом, в 1801 г. — с внезапной дружбой русского царя, в 1812 г., при начале похода, — с Москвой. Во всех трех случаях стремление к далекой цели не получило даже и начала реального оформления, но, как сейчас увидим, на этот раз дело дошло до чего-то вроде глубокой военной разведки или до видимости подобной разведки.
Необычайно быстрое развитие дружественных отношений с Бонапартом у императора Павла шло параллельно и в тесной связи с усилением столь же внезапной ненависти к Англии, вчерашней его союзнице в борьбе против Франции. Наполеон обдумывал — пока в общих чертах — комбинацию, основанную на походе французских войск под его начальством в южную Россию, где они соединились бы с русской армией, и он повел бы обе армии через Среднюю Азию в Индию. Павел не только склонен был напасть на англичан в Индии, но даже опередил Бонапарта в первых шагах к реализации этой программы. Казачий атаман Матвей Иванович Платов, по неведомой причине засаженный Павлом в Петропавловскую крепость и находившийся там уже полгода, внезапно был извлечен из своего каземата и доставлен прямо в царский кабинет. Тут ему без всяких предисловий был задан изумительный вопрос: знает ли он дорогу в Индию? Ничего абсолютно не понимая, но сообразив, что в случае отрицательного ответа его, вероятно, немедленно отвезут обратно в крепость, Платов поспешил ответить, что знает. Немедленно он был назначен начальником одного из четырех эшелонов войска донского, которому почти в полном составе приказано было идти в Индию. Всего же выступили в поход все четыре эшелона — 22 500 человек. Выступили они с Дона 27 февраля 1801 г., но шли недолго...
В Европе с растущим беспокойством следили за укреплением дружбы между французским властелином и русским императором. В случае укрепления союза между этими двумя державами они вдвоем будут повелевать на всем континенте Европы — это было мнение не только Наполеона и Павла, но и всех европейских дипломатов того времени. Совершенно определенное беспокойство царило и в Англии. Правда, французский флот был гораздо слабее английского, а русский флот был и вовсе ничтожен, но замыслы Бонапарта относительно Индии и внезапная посылка каких-то русских войск по направлению к Индии тревожили и раздражали Вильяма Питта, первого министра Великобритании. С большим беспокойством ждали во всех европейских дипломатических канцеляриях и королевских дворцах наступления весны 1801 г., когда оба будущих могущественных союзника могли бы предпринять нечто решительное. Но первый весенний день, 11 марта, принес совсем другое.
Когда в Париж внезапно пришла весть, что Павел задушен в Михайловском дворце, Бонапарт пришел в ярость. Разрушилось все, чего он с таким искусством и таким успехом достиг в отношениях с Россией в несколько месяцев. «Англичане промахнулись по мне в Париже 3 нивоза (в день взрыва адской машины на улице Сен-Никэз. — Е. Т.),
но они не промахнулись по мне в Петербурге!» — кричал он. Для него никакого сомнения не было, что убийство Павла организовали англичане. Союз с Россией рухнул в ту мартовскую ночь, когда заговорщики вошли в спальню Павла.
Первому консулу приходилось сразу и круто перестраивать все свои дипломатические батареи. Наполеон умел маневрировать и в этом вопросе так же быстро и искусно, как маневрировал с артиллерийскими батареями.
Отныне установка должна быть взята другая: не на продолжение войны, а на мир с Англией. Что касается Австрии, то с нею мирные переговоры велись уже давно; уже 9 февраля 1801 г. австрийский уполномоченный Кобенцль подписал в г. Люневиле мирный договор с Францией. Переговоры велись Жозефом Бонапартом, братом первого консула, и Талейраном, министром иностранных дел. Но оба они исполняли лишь указания Наполеона, который искусно использовал при этом свою внезапно возникшую дружбу с Павлом. Австрия могла подвергнуться нападению и с запада и с востока. Пришлось уступить буквально все. После битвы при Маренго и победы французов также и в Эльзасе, где генерал Моро одержал над австрийцами победу при Гогенлиндене, сопротивляться было трудно. Наполеону удалось по Люневильскому миру получить все, что он желал получить от Австрии: окончательное отторжение от Австрии всей Бельгии, уступку Люксембурга, все германские владения на левом берегу Рейна, признание Батавской республики (т.е. Голландии), признание Гельветической республики (т.е. Швейцарии), признание Цизальпинской и Лигурийской республик (т.е. Генуи и Ломбардии), которые, конечно, все становились фактически французскими владениями. Что касается Пьемонта, то он весь как был, так и остался занят французскими войсками. «Вот он, этот несчастный договор, который я должен был по необходимости подписать. Он ужасен и по форме и по содержанию», — с грустью докладывал в своем письме Кобенцль своему начальнику (Коллоредо).
Кобенцль имел большее право на возмущение, зная, что Талейран успел получить обильные подарки (под шумок, конечно) во время самих переговоров от австрийского двора, но ничего не сделал в пользу австрийцев, потому что договор был продиктован от начала до конца самим Наполеоном.
Итак, с Австрией до поры до времени было покончено. Ясно было, что при таких жесточайших потерях Австрийская империя будет ждать удобного случая, чтобы поправить свои дела. Ожидая лучших времен, она смирилась.
Таким образом, в момент смерти Павла из всех великих держав в состоянии войны с Францией оставалась только одна Англия. Круто переменив фронт после смерти Павла, Наполеон поставил своей задачей скорейшее заключение мира с англичанами.
Трудный момент переживала Англия. Английская торговая и промышленная буржуазия не знала себе соперников в чисто экономическом отношении на тогдашнем европейском континенте. Индустриально-технический переворот последних десятилетий XVIII в. окончательно обеспечил за Англией положение ведущей державы в области экономики, и одной из причин раздражения французской буржуазии против политики старого режима был англо-французский торговый договор 1786 г., за которым последовало победоносное завоевание французского внутреннего рынка английской текстильной и металлургической промышленностью. Все меры Конвента и Директории против английской торговли горячо приветствовались французскими промышленниками, и вся война между Англией и Францией в эпоху революции рассматривалась и в Англии и во Франции как война английских купцов и промышленников против французских купцов и промышленников.
Во главе всех политических предприятий против Франции, всех военных европейских коалиций стоял Вильям Питт, первый министр британского кабинета. Он щедро субсидировал в свое время и Пруссию, и Австрию, и Пьемонт, и Россию, и снова Австрию и Неаполь, потому что ясно видел, чем является с точки зрения английских экономических и политических интересов растущее на континенте могущество Франции.
Но ни субсидирование европейских коалиций, ни деятельная помощь флотом, деньгами, припасами, оружием, оказываемая вандейским контрреволюционерам, не помогали, и к 1801 г. в Англии стало распространяться мнение, что с новым владыкой Франции лучше было бы войти в переговоры о соглашении. Это мнение, правда, нисколько не разделялось промышленниками и теми торговыми кругами, которые непосредственно были связаны с эксплуатацией захваченных за время долгой войны французских и голландских колоний. Но купечество, связанное с европейской торговлей, хотело мира; в английском рабочем классе в тот момент были сильны чувства возмущения, вызванного эксплуатацией и совершенно голодным существованием, и ярость рабочих выражалась не только в разрушении машин, но иногда и в явно пораженческих настроениях.
Словом, когда Бонапарт заключил с Австрией выгоднейший мир, отдававший в его руки массу новых земель и в Германии и в Италии, и когда после смерти Павла он заключил мир с преемником Павла Александром и одновременно предложил мир также Англии, то временно обескураженные провалом своих надежд на разгром Франции английские правящие сферы решили пойти на эти переговоры. Вильям Питт вышел в отстану как раз перед убийством Павла, и его заменили люди, выражавшие стремление тех слоев, которые считали возможным мириться. Во главе кабинета стал Аддингтон, а министром иностранных дел сделался лорд Гоуксбери, давший понять, что Англия не прочь заключить мир.
Мирные переговоры велись в Амьене, и там же был 26 марта 1802 г. подписан мирный трактат с Англией. Англия вернула Франции и ее вассалам (Голландии и Испании) все колонии, которые она успела захватить за долгие годы войны, продолжавшейся девять лет, кроме островов Цейлона и Тринидад. Мальта должна была быть возвращена мальтийским рыцарям. Англия обязывалась эвакуировать все занятые ею за время войны пункты на Адриатическом и Средиземном морях. Франция обязывалась эвакуировать Египет, убрать войска из Рима и вернуть его и другие папские владения римскому папе. Вот и все главные условия. Но ведь самое важное было вовсе не это. Разве из-за этого английская правящая аристократия и буржуазия тратили в течение девяти лет миллионы на свои и чужие войска, рассылали флоты во все океаны?
Самое тяжкое для правящих сфер Англии было то, что им не удалось вырвать из когтей Бонапарта ни одного из его европейских завоеваний. Бельгия и Голландия, Италия, левый берег Рейна и Пьемонт остались в прямом его обладании, вся западная Германия была отныне его беспомощной добычей. Все эти завоеванные, или пока еще не совсем завоеванные, страны, попадая под прямую или косвенную власть Бонапарта, исчезали для английского сбыта, для импорта как английских фабрикатов, так и английских колониальных продуктов. Ничего не вышло из всех стремлений английских уполномоченных в Амьене положить основы для выработки сколько-нибудь выгодного для Англии торгового договора. О богатом внутреннем французском рынке не приходилось, конечно, и думать: как он был закрыт наглухо для английского ввоза еще до Бонапарта, так и остался закрытым. А кроме этого, с чисто военной, чисто политической точки зрения безопасность Англии от французских нападений не могла быть сколько-нибудь прочно обеспечена. Пока Бонапарт царил над Бельгией и Голландией, он говорил, что «Антверпен — это пистолет, направленный в английскую грудь».
Амьенский мир не мог оказаться очень длительным, Англия не чувствовала себя еще настолько побежденной. Но в тот момент, когда в Париже и в провинции узнали о подписании мирного трактата с Англией, удовлетворение было полное. Самый грозный, самый богатый, самый упорный и непримиримый враг, казалось, признал себя побежденным, утвердил своей подписью все завоевания Бонапарта. Кончилось долгая, тяжкая война с Европой, и кончилась полной победой на всех фронтах.
Недолго суждено было Франции и Европе пользоваться миром при Наполеоне. Но эти два года — от весны 1801 г., когда состоялось замирение с Австрией, до весны 1803 г., когда после короткого Амьенского мира опять началась война с Англией, — были полны кипучей деятельности Наполеона в области организации управления страной и законодательства. Теперь он мог приняться систематически за те законодательные труды, которые волей-неволей должен был откладывать до сих пор; хотя он начал заниматься ими и после Маренго, но дела эти не могли стоять у него на первом плане, пока не было окончательного мира с Австрией и с Англией и пока сношения с императором Павлом направляли мысль на новые трудные войны и далекие завоевания.
Настало время, когда он мог поставить, обсудить и разрешить целый ряд капитальнейших вопросов администрации, финансов, экономики, гражданского и уголовного законодательства. Метод его работы над теми государственными проблемами, которых он не знал, был таков. Бонапарт председательствовал на заседаниях созданного им Государственного совета, выслушивал доклады министров, приказывал, чтобы являлись те, кто непосредственно работал над этими докладами, и выспрашивал подробно обо всем, что казалось неясным.
Больше всего он любил говорить со специалистами и у них учиться. «Когда попадаете в незнакомый город, — поучал он своего пасынка, Евгения Богарне, впоследствии вице-короля Италии, — то вы не скучайте, а изучайте этот город: откуда вы знаете, не придется ли вам его когда-нибудь брать?» Весь Наполеон в этих словах: накоплять знания для реального их использования. Он удивлял английских капитанов, говоря с ними о подробностях оснастки не только французских, но и английских кораблей и о разнице в канатах английских и французских.
Экономике (а в ту эпоху это были вопросы развития капиталистического производства), как увидим дальше, Наполеон придавал колоссальное значение, и вопросы торговли и промышленности, вопросы производства и сбыта, тарифов и таможен, морского фрахта и сухопутных сообщений были им уже через 2-3 года после начала правления так изучены, что он знал о причинах удешевления или вздорожания лионского бархата не хуже лионских купцов и мог уличить в мошенничествах — и определить, в каких именно, — подрядчика, строящего шоссейную дорогу на конце колоссальной империи, был в состоянии не только разрешить своим властным словом пограничный спор или покончить с путаницей чересполосиц между отдельными германскими государствами и князьями, но и мотивировать свое решение ссылкой на историю этого спора и этих чересполосиц.
Наполеон выслушивал всех, от кого мог надеяться получить дельное указание, но решал сам. «Выиграл сражение не тот, кто дал хороший совет, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение и приказал выполнить», — говаривал он. Среди множества мнений, которые выслушивает главнокомандующий, часто может случиться и одно правильное, но нужно уметь его выбрать и использовать. Точно так же и в законодательных реформах и во всем ведении внутренней политики. Но издать повеление тоже является вовсе не концом, а лишь началом дела. Проверку того, исполнены ли приказы. Наполеон считал ничуть не менее важным делом в государственном управлении, чем самую отдачу этих приказов, — и признавал непременной обязанностью министра доискиваться до точнейшего определения личности виновного в неисполнении приказа или небрежном или замедленном его исполнении. Бюрократическая служба была при нем делом очень тяжелым. Ложиться спать приходилось поздно, вставать — рано, вспоминали потом служившие при нем старые чиновники. По его мнению, для правительства важнее всего извлечь из человека то, что он может дать, — а если люди при этом не будут долго заживаться на свете, — то это само по себе вовсе и неважно для государства. Наполеон даже выразил это характерное для него убеждение в следующих откровенных словах: «Не давать людям состариться — в этом состоит большое искусство управления» (ne pas laisser vieil-lir les hommes!). Он старался обеспечить должностной аппарат хорошими окладами, но уж зато выжимал из людей все, что только возможно было из них выжать. Сам работая непрерывно почти круглые сутки, за вычетом немногих часов для сна, 15 минут на обед и меньше 15 минут на завтрак, — Наполеон не считал нужным проявлять к другим больше снисходительности, чем к самому себе. И точь-в-точь, как он это делал с солдатами и офицерами. Наполеон не только страхом суда, наказания, увольнения заставлял чиновников сидеть за работой сверх всякой меры. Старик Тремок, долго тянувший при Наполеоне тяжелую служебную лямку в качестве чиновника канцелярии, потом аудитора Государственного совета, говорит, что у Наполеона было «искусство увеличивать в людях преданность делу той фамильярностью, с которой он умел, при случае, обращаться с низшими, как с равными», и это искусство «порождало увлечение, равное тому, которое он порождал в армии. Люди истощались в работе так точно, как (другие. — Е. Т.) умирали на поле битвы». На гражданской службе, как на военной, служащий персонал шел на все, чтобы заслужить орден или милостивую улыбку владыки.
Со времени плебисцита, наскоро устроенного после Амьенского мира, и последовавшего в силу этого «всенародного решения» сенатус-консульта 2 августа 1802 г. Наполеон Бонапарт был объявлен «пожизненным консулом» Французской республики. За эту меру голосовали 3 568 885 человек, против — 8374. Ясно было, что Франция превратилась в абсолютную монархию и что не сегодня-завтра первый консул будет объявлен королем или императором. И этот свой будущий трон, как и свою уже существующую «республиканскую» диктатуру, Наполеон желал утвердить на прочной базе крупной городской и деревенской буржуазии, собственников-купцов, собственников-промышленников, собственников-помещиков, собственников-крестьян. Право собственности, абсолютно ничем не ограниченное, должно было быть положено в основу созидаемого им нового строя. С одной стороны навсегда и бесповоротно уничтожается всякое воспоминание о старых феодальных правах дворян, помещиков-сеньеров, над землями, какими они или предки их некогда владели, а с другой — навсегда и бесповоротно утверждается полное право собственности за владельцами купленных при революции земель, конфискованных у эмигрантов, церквей и монастырей, — и утверждается это право за всеми теми, кто в данный момент ими владеет.
Что касается торговли и промышленности, то здесь, с одной стороны, собственникам торговых и промышленных предприятий давалось решительно ничем не ограниченное право вступать в договорные отношения со служащими и рабочими на основе «добровольного соглашения» (т.е. ничем не сдерживаемой свободы эксплуатации труда капиталом), причем рабочий был лишен всякого права и возможности коллективной борьбы с эксплуатацией; с другой же стороны, французским торговцам и промышленникам давалась уверенность, что правительство Наполеона захочет и будет в состоянии победоносно оградить внутренний французский рынок от иностранной конкуренции и превратить часть Европы, а если удастся, то и всю Европу в объект эксплуатации для французского торгового и промышленного капитала. Наполеон был уверен, что созданный и укрепленный им строй, а также его внутренняя и внешняя политика заставят торговую и промышленную буржуазию и собственническое крестьянство простить решительно всякое насилие, отказаться от всяких претензий на активное участие в политической жизни, в управлении и законодательстве, заставят согласиться на подчинение любой форме самодержавия, даже такой, какой при Людовике XIV не было, пойти на такие жертвы, примириться с такими рекрутскими наборами, о каких в самые тяжелые времена старого режима и не слыхивали.
Решив покончить со всем тем, что создавало некоторые затруднения в господстве новейших капиталистических отношений, в утверждении его собственной власти. Наполеон не только амнистировал эмигрантов, отдав им даже при этом часть нераспроданных имуществ, но и устроил официальное примирение французского государства с католической церковью. Уже сейчас, после 18 брюмера, отправление католического культа стало свободным. Теперь он разрешил празднование воскресного дня, многих священников вернул из ссылки, многих выпустил из тюрем. Затем Наполеон приступил к переговорам с папой об условиях, на которых первый консул согласился бы признать католицизм «религией большинства французского народа» и поставить католическую церковь под покровительство государства.
В результате этих переговоров был издан известный конкордат, это «чудо государственной мудрости», по уверению буржуазных историков.
На самом деле конкордат был сдачей большей части позиций, отвоеванных революцией у церкви в пользу свободной мысли. Революция покончила с возможностью официального влияния католического духовенства на французский народ, а Наполеон открывал вновь эту возможность. Зачем он это сделал? Ответ был ясен и не допускал никаких сомнений.
Сам Наполеон если и не был убежденным атеистом, то во всяком случае его можно назвать весьма равнодушным и довольно нерешительным деистом. Вообще говоря, о вопросах религии он беседовал весьма мало на своем веку. Он никогда не стремился опереться на помощь предполагаемого деистами высшего существа и ни малейших мистических настроений не обнаруживал. И уж во всяком случае в итальянском аристократе графе Кьярамонти, который с 1799 г. стал папой Пием VII, Наполеон усматривал не преемника апостола Петра и не наместника бога на земле, а пронырливого старого итальянца, который, конечно, охотно интриговал бы в пользу реставрации Бурбонов во имя возвращения церковных имуществ, секвестрованных при революции, но который боится Наполеона потому, что почти вся Италия занята французами, а после Маренго Рим и папа римский всецело в руках первого консула Бонапарта.
Пий VII панически боялся Наполеона и считал его насильником и грабителем. Наполеон же не верил ни одному слову Пия VII и считал его интриганом и лжецом. Такого мнения они держались друг о друге еще до того, как начались между ними переговоры, и после того, как переговоры окончились, и дальше, до самой смерти, и, по-видимому, ни разу серьезно не усомнились в правильности взаимной оценки. Дело было не в личности папы. С точки зрения Наполеона католическая церковная организация была силой, которой нельзя было пренебрегать не только потому, что она могла принесли много вреда, оставаясь в лагере врагов, но еще больше потому, что могла принести большую пользу, перейдя в лагерь друзей. «Попы все-таки лучше, чем шарлатаны вроде Калиостро или Канта или всех этих немецких фантазеров», — говаривал Наполеон, ставя в один ряд авантюриста Калиостро и философа Канта и прибавляя, что раз уж люди так устроены, что хотят верить в разные чудеса, то лучше дать им возможность пользоваться церковью и установленным церковным учением, чем разрешать слишком философствовать. Прививают же людям оспу, чтобы они не заболели ею, — аргументировал Наполеон. Другими словами: лучше сговориться с пронырливым старым графом Кьярамонти, который называет себя папой Пием VII и в которого люди, по свойственной им глупости, верят как в божьего наместника на земле, лучше поставить на свою службу рядом с жандармерией и полицией Фуше еще и бесчисленную черную полицию папы Пия VII, чем позволять своим врагам Бурбонам пользоваться этой бесчисленной ратью монахов и священников или толкать подвластное население в объятия неуловимых фантазеров и философов и развивать свободомыслие. Мало того. Наполеон отчетливо понимал, что эта черная католическая рать очень и очень полезна именно для окончательного удушения ненавистной ему просветительной и революционной идеологии. Уже в июле 1801 г. было подписано соглашение (конкордат) между папой и Наполеоном, а 15 апреля 1802 г. закон о конкордате и о новом устройстве католической церкви во Франции был обнародован в окончательном виде. Вот его основы.
Наполеон признает католицизм «религией огромного большинства французских граждан», но не государственной религией, как то было при дореволюционном режиме; он разрешает беспрепятственное богослужение во всей стране. Взамен того папа обязуется никогда не требовать возвращения церкви конфискованных у нее во время революции земель. Епископов и архиепископов назначает по своему выбору и желанию Наполеон, а уже после этого назначенное духовное лицо получает от папы церковное (каноническое) посвящение в сан; точно так же священники, назначаемые епископами, вступают в должность только после утверждения правительством. Папские послания, буллы, обращения, постановления допускаются во Франции только с особого всякий раз разрешения правительства. Таковы главные основы конкордата, который просуществовал больше 100 лет после Наполеона. Наполеон не ошибся в своих расчетах. Вскоре после конкордата (уже при империи) католическое духовенство ввело во всех школах Франции обязательный катехизис, в котором текстуально говорилось и ведено было заучивать наизусть, что 1) «бог... сделал императора Наполеона орудием своей власти и образом своим на земле» и 2) «кто противится императору Наполеону, тот противится порядку, установленному самим господом и достоин вечного осуждения, а душа противящегося достойна вечной гибели и ада». Катехизис проповедовал, кроме этих двух, еще много и других «истин» в том же духе. Это на уроках «закона божия». А по праздникам с церковной кафедры излагалось, что «святой дух» временно решил переселиться в Наполеона именно на предмет искоренения революционного безначалия и неверия и что постоянные победы первого консула (а потом императора) над всеми врагами внешними объясняются прямым стратегическим вмешательством «святого духа».
Как раз в те месяцы, которые отделяют предварительное подписание соглашения между папой и Наполеоном от обнародования закона о конкордате. Наполеон создал орден Почетного легиона, до сих пор существующий во Франции. Затеял Наполеон это дело еще в самом начале 1801 г. Он решил создать знак отличия за военные или гражданские заслуги. Орден должен был иметь разные степени и даваться по воле верховной власти.
При Наполеоне было положено начало той организации народного образования, которая существует почти без всяких изменений вплоть до настоящего времени. Правда, низших школ при нем не было, но в области высшего и среднего образования никаких существенных отклонений нет.
Во главе всей организации стоит ведомство, называющееся «Университетом» (l’Université), а управляет этим ведомством главный начальник его — Grand-Maître de l’Université (теперь это название сохранено за министром народного просвещения). «Университет» при Наполеоне заведовал: 1) высшей школой и 2) лицеями — школой средней. При Наполеоне основывались только высшие специальные школы, преимущественно для подготовки техников, инженеров, нотариусов, чиновников судебных, чиновников административных, чиновников финансового ведомства и т.д. Дисциплина была суровая, чисто военная, экзамены очень строгие. Что касается лицеев, то они были созданы прежде всего для подготовки офицеров. Человек, кончивший лицей, принимался по дополнительному экзамену в специальные высшие военные школы. На государственную службу по гражданским ведомством принимали по окончании лицея, не требуя дальнейшего образования, но, конечно без тех прав по службе и той карьеры, которая ожидала окончивших после лицея еще ту или иную высшую школу.
Наполеон любил хвалиться тем, что покровительствует наукам. Он осыпал милостями математиков, химиков, астрономов, физиков, очень благосклонен был к египтологам, потому что начало научной египтологии связывалось с его походом в Египет.
Но от науки он требовал реальных результатов и ценил чисто утилитарные результаты научной деятельности. Он хотел прежде всего, чтобы наука способствовала «славе империи» (он это высказал в письме к Лапласу в июле 1812 г. из Витебска). Тогда даже такие абстрактные науки, как астрономия, тоже могут пригодиться. Но исторических наук он не любил и относился к ним с подозрительностью. Он, например, терпеть не мог римского историка Тацита за то, что Тацит непочтителен к римским цезарям. Философия, особенно просветительная, была для него ненавистной «идеологией»; политическую экономию он считал шарлатанством (особенно учение физиократов); философа Канта он тоже считал шарлатаном. Преподавание в университете и в средней школе при нем имело строжайший утилитарный, преимущественно технический, уклон.
Наполеон поставил себе прежде всего сознательной целью искоренить, по возможности, всякие воспоминания о только что окончившейся революционной эпохе, не только о ненавистной ему революционной «идеологии», но даже об исторических фактах, о событиях революционных лет. Воспрещено было не только писать о революции, но даже упоминать о ней или о деятелях того времени. Никакого Робеспьера не было, Марата не было, Бабефа не было, даже Мирабо не было никогда на свете. Когда в 1807 г. однажды в Парижской академии кто-то очень благонамеренно поговорил случайно о Мирабо, то Наполеон разгневался и написал министру полиции: «Не дело президента ученого общества говорить о Мирабо». Запрещено было в печати самое слово «революция». Свое убеждение, что «для управления печатью нужны хлыст и шпоры», Наполеон начал осуществлять, как мы указывали, с первых дней своей власти. Уже через два с небольшим месяца после 18 брюмера Наполеон постановлением 27 нивоза закрыл без объяснения причин 60 газет и оставил в живых лишь 13. Но и эти 13 скоро свелись к четырем. Четыре газеты очень небольшого формата (англичане называли их «носовыми платками») заполнялись настолько ничтожным содержанием, что их мало кто и читал. Наполеон не только не хотел, чтобы, например, его пресса вела борьбу с революционными принципами, нет, он просто не желал, чтобы читатели могли вспомнить, что когда-то были провозглашены эти принципы. Он, например, воспретил ввоз в империю тех немецких газет, где шла усиленная борьба против революционной идеологии, где восхваляли Наполеона за то, что он задушил революцию. Наполеон, запрещая ввоз этих газет, не желал, чтобы даже таким путем его подданные вспоминали о революции. Строго были воспрещены все путеводители и топографические описания, где упоминалось о революционных событиях, — такие (до Наполеона вышедшие) путеводители изымались при постоянных обысках в типографиях. В учебниках было воспрещено поминать, что в Голландии и в Швейцарии была («когда-то») республика, хотя в Голландии Наполеон ее уничтожил лишь в 1806 г.
В 1810 г. некто Баррюэль-Боверд рискнул написать книгу «Деяния философов и республиканцев». Автор уповал, что если уж так неистово, последними словами ругать революционеров, как он их ругает, если уж до такого самозабвения льстить при этом Наполеону, как он льстит, то дело пройдет гладко и книга выйдет в свет. Но он ошибся: книга была воспрещена и конфискована «за тягостные воспоминания, которые она пробуждает». Так было сказано в официальной бумаге.
Грех, который наполеоновское правительство никогда не прощало авторам, заключался в «тайном якобинстве». А «тайное якобинство» усматривалось в самых неожиданных признаках: например, если человек очень хвалил нравственность древнего грека Аристида или честность Катона, то потому, что Афины и Рим были республиками, автор немедленно брался под подозрение: не хочет ли он сказать что-то похвальное о республиканском образе правления?..
Жестокий гнет наложен был Наполеоном и на прессу покоренных народов. Тут малейший намек на порабощение отечества грозил не только закрытием газеты, конфискацией книги, но и опасностью для автора. Пример книгопродавца Пальма, расстрелянного по требованию Наполеона в Нюрнберге только за то, что он отказался назвать автора не понравившейся Наполеону брошюры, показывал, чего могут ждать писатели и издатели в покоренных странах при малейшей попытке проявить скорбь об угнетенной родине.
Проводимое самыми решительными мерами искоренение всяких воспоминаний о революционных событиях и принципах во Франции и не менее крутое преследование всякого намека на национальное освобождение и самоопределение в завоеванной Европе — таковы руководящие мотивы всей наполеоновской политики в области печати.
Уже через два месяца после битвы при Маренго и через несколько недель после своего возвращения из Италии первый консул издал постановление (12 августа 1800 г.) об образовании комиссии для выработки проекта гражданского свода законов, кодекса гражданского права, который должен был стать краеугольным камнем всего юридического быта Франции и завоеванных ею земель. Дело было колоссально трудное, и поэтому Наполеон назначил в эту комиссию всего четырех человек: он терпеть не мог больших комиссий, длинных речей, многочисленных заседаний. Все четверо были очень крупные юристы.
Этот кодекс получил впоследствии наименование «Кодекса Наполеона», подтвержденное декретом 1852 г. и до сих пор не отмененное официально (хотя его называют также «гражданским кодексом»). Наполеоновский свод гражданских законов, по мысли законодателя, должен был юридически оформить и закрепить победу, одержанную буржуазией над феодальным строем, и обеспечить несокрушимость позиций, которые должна в новом обществе занять частная собственность, сделать принцип полной буржуазной собственности неуязвимым для каких бы то ни было нападений, откуда бы они ни исходили: от феодалов, не желающих ложиться в гроб, или от пролетариев, желающих порвать свои цепи.
Наполеон считал, что революция произошла во Франции не потому, что Франция жаждала свободы, а потому, что хотела равенства. Под равенством он понимал одинаковость гражданских прав, обеспечиваемых законом, но не социально-экономических условий существования граждан. Равенство гражданских прав он и решил прочно обеспечить своим кодексом. «Свобода была только предлогом» (la liberté n’a été qu’un prétexte), говорил он о революции. И уничтожив политическую свободу, он закрепил и кодифицировал «равенство», как он его понимал.
С точки зрения ясности, последовательности, логической выдержанности в защите интересов буржуазного государства Наполеоновский кодекс в самом деле, может быть, заслуживает тех одобрений, какими его с давних пор осыпала (и осыпает) буржуазная юридическая литература капиталистических стран. Никто, однако, даже при минимальной доле беспристрастия, не будет отрицать, что этот свод законов был шагом назад сравнительно с законодательством Французской буржуазной революции. Конечно, он был прогрессивным шагом сравнительно со сводами законов, царившими на остальном европейском континенте. Но многое, данное революцией, было взято назад.
Женщина поставлена Наполеоном в бесправное положение перед лицом мужа и, кроме того, в приниженное, невыгодное положение относительно братьев в наследственном праве. Совершенно отменены гуманные законы революции, уравнивающие в правах так называемых «незаконных» детей с «законными». Восстановлена так называемая «гражданская смерть» для осужденных на каторжные работы и присужденных к другим тяжким наказаниям, хотя эта тяжкая прибавка к судебной каре была отменена при революции. Наполеон помогал устраивать новое общество, учитывая все то, что было строго необходимо для широчайшей, беспрепятственной экономической деятельности крупной буржуазии, и отметая прочь все тенденции, которые выражали демократические стремления мелкой буржуазии. Могут спросить: неужели и в этом колоссальном деле создания гражданских законов все обошлось без попыток протеста, без стремления сохранить былую революционную широту в новом законодательстве? Такие попытки были. Когда кодекс стал проходить через «законодательные учреждения», то кое-кто в Трибунате вздумал робко возражать, но ровно ничего из этой слабой оппозиции не вышло.
Эти возражения были разрешены крайне легко: Бонапарт исключил из Трибуната всех членов, кроме 50 самых молчаливых, и кстати уж постановил, что отныне в Трибунате не будет никогда больше 50 человек. После этой попутной конституционной реформы дело пошло как по маслу. В марте 1803 г. Наполеоновский кодекс, уже обсужденный в Государственном совете, начал проходить через Законодательный корпус, который даже и права не имел дебатировать, а молча принимал статью за статьей. В марте 1804 г. кодекс, подписанный Наполеоном, стал основным законом и базисом французской юриспруденции. Французская крупная буржуазия получила то, чего хотела; буржуазная революция дала свой посмертный плод, потому что теперь было ясно, что говорить о продолжающейся революции во Франции после 18 брюмера ни в коем случае нельзя. Но ни один историк не вправе забывать о громадном прогрессивном значении этого гражданского кодекса для завоеванных Наполеоном стран Европы.
В кодекс включены были с течением времени и те законы, которыми Наполеон обуздывал рабочий класс еще более прочно, чем это делалось раньше. Не только остался в полной силе закон Ле Шапелье (1791 г.), приравнивающий даже самые мирные стачки, даже простой уход с работы по сговору с товарищами к преступлениям, наказуемым в порядке уголовного преследования, но были еще, кроме того, созданы «рабочие книжки», которые хранились у хозяина и без которых рабочего нигде не принимали на новое место. А в эти книжки прежний хозяин вписывал и аттестацию рабочего и обозначал, по каким причинам он уволил данного рабочего. Можно себе легко представить, как злоупотребляли хозяева этой полнейшей возможностью лишить рабочего заработка и куска хлеба.
Специальный торговый кодекс, выработанный в то же время по повелению Наполеона, дополнял общий свод гражданских законов целым рядом постановлений, регулирующих и юридически обеспечивающих торговые сделки, жизнь биржи и банков, вексельное и нотариальное право, поскольку они касаются торговых операций. Наконец, изданием уголовного кодекса Наполеон закончил свои основные законодательные труды общего характера. Он сохранил смертную казнь, ввел для некоторых преступлений отмененное при революции телесное наказание плетьми, а также клеймение раскаленным железом, наложил на все преступления против собственности крайне суровые кары. Его уголовное законодательство было бесспорным шагом назад сравнительно с законами революционной эпохи.
Вся эта огромная законодательная деятельность еще не успела вполне закончиться, как уже в марте 1803 г. началась снова война с Англией. Наполеон снова обнажил меч, который он уже больше в ножны не вкладывал до самого конца своей долгой и кровавой эпопеи.
Глава VII. Начало новой войны с Англией и коронация Наполеона. 1803–1804 гг.
Вновь после краткого перерыва началась гигантская борьба, и враги довольно ясно представляли себе ее трудности. Против Наполеона, в руках которого была Франция, бо́льшая часть Италии, ряд городов и территорий западной Германии, Бельгия и Голландия, стояли не менее огромные силы, страшные и своими размерами и своей разнохарактерностью. Наполеону всю жизнь приходилось бороться с коалициями экономически отсталых полуфеодальных монархий, возглавляемых, однако, в этой борьбе экономически передовой, первенствующей в тогдашнем капиталистическом мире державой. Наполеоновские войны были не только стремлением французского буржуазного государства подчинить своим интересам старые феодально-абсолютистские образования с их отсталыми экономическими формами. Одновременно эти бесконечные войны оказывались схваткой между Францией, только что вступившей на путь промышленно-капиталистического развития, и Англией, вступившей на этот путь гораздо раньше и уж достигшей на этом пути несравненно бо́льших результатов.
Тут уместно сказать несколько слов о характере наполеоновских войн, с самого начала резко отличавшихся от войн Французской революции. Именно по поводу войн Французской революции и наполеоновских войн Ленин говорит: «Национальная война может превратиться в империалистическую и обратно. Пример: войны великой французской революции начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционны: защита великой революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся крупных, жизнеспособных национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистские, породившие в свою очередь национально-освободительные войны против империализма Наполеона». Под империализмом Ленин понимает здесь грабеж чужих стран вообще, под империалистской войной — «войну хищников за раздел такой добычи», как поясняет он в другом месте, где в другой связи тоже касается эпохи Наполеона.
В своей упорной, непримиримой борьбе против растущего соперника, французского капитализма, английская буржуазия имела на своей стороне и высокую технику, и громадные наличные капиталы, и продуктивно эксплуатируемые колонии, и колоссальные торговые связи на всем земном шаре. В этой борьбе Англия долго и успешно пользовалась услугами и помощью отсталых в экономическом отношении полуфеодальных монархий и вооружало на свой счет и своими ружьями армии этих монархий. Когда Вильям Питт младший давал миллионные субсидии России, или Австрии, или Пруссии, чтобы поднять их против французской революции или Наполеона, он делал точь-в-точь то же самое, что за 40 лет до него делал его отец Вильям Питт старший, субсидировавший ирокезов и всякие индейские племена и поднимавший их на борьбу против тех же французов в Канаде. Разница была, конечно, в масштабах и в ставках, поставленных на этот раз на карту.
Почему заключенный Англией в марте 1802 г. Амьенский мир оказался лишь одногодичным перемирием? Потому что, когда прошла радость от прекращения тяжкой войны, широкие круги английской буржуазии и землевладельческой аристократии ясно увидели, что они проиграли войну, а Бонапарт ее выиграл. Бонапарт не только не пустил английские товары на подвластные ему огромные рынки, но, удерживая в своих руках Бельгию и Голландию, мог каждую минуту грозить непосредственно английским берегам, а главное, он уже к 1802 г. был в таком положении, что мог, не встречая препятствий, прямыми угрозами приневолить к «союзу» с собой целый ряд еще пока числящихся «независимыми» стран. Он уже к моменту заключения Амьенского мира был гораздо более грозен и опасен, чем даже Людовик XIV на вершине своего могущества, потому что все аннексии, какие производил Людовик XIV в западной прирейнской Германии, были детской игрой сравнительно с тем, как распоряжался Бонапарт хотя бы в той же западной Германии. Установление же прочной гегемонии французского военного диктатора на материке Европы могло служить прямым преддверием к нашествию на Англию.
Нужно сказать, что Наполеон очень искусно использовал коротенький Амьенский мир для подавления восстания негров на острове Сан-Доминго, где еще в эпоху Директории укрепился знаменитый вождь негритянского населения Туссен-Лувертюр, формально признававший зависимость острова от французов, но фактически правивший самостоятельно.
Наполеон в вопросе о колониях стоял вполне на точке зрения французских плантаторов, которые никак не желали примириться с освобождением невольников в колониях, происшедшим еще в годы революционного Конвента. Наполеон, получив по Амьенскому миру обратно занятые было Англией французские колонии (Сан-Доминго, Малые Антильские острова, Маскаренские острова, берег Гвианы), не восстанавливая прежнее рабство там, где оно было отменено, подтвердил законы рабовладения там, где они не успели быть отменены вследствие временного захвата англичанами. Для усмирения восстания Туссен-Лувертюра Наполеон снарядил в 1802 г. целый флот с армией в 10 тысяч человек. Туссен-Лувертюра коварно заманили во французский лагерь, где он был арестован 7 июня 1802 г. и отправлен во Францию. Как только герой негритянской освободительной борьбы был привезен во Францию, Наполеон приказал заключить его в одиночную камеру крепости Жу, расположенной в сырой горной местности. Суровый климат и жестокое заключение, без свиданий с родными, без прогулок, при самом суровом обращении, убили Туссена-Лувертюра в десять месяцев.
У Наполеона были некоторые планы, касавшиеся организации и эксплуатации колоний. Но возобновившаяся весной 1803 г. война с Англией заставила его отказаться от планов широкой колониальной политики. Невозможность при полной отрезанности приморских сообщений удержать в своих руках далекие владения на Миссисипи заставила Наполеона даже продать (30 апреля 1802 г.) Соединенным Штатам всю еще остававшуюся в руках французов часть Луизианы.
Та (большая) часть английской буржуазии, которая весной 1803 г. громко требовала расторжения Амьенского мира, имела в виду между многими прочими мотивами еще и этот: воспрепятствовать Наполеону удержать старые французские колонии и приобрести новые. Но Амьенский мир стал надламываться и разрушаться не только в Англии, но и в Париже. Наполеон полагал, что, заключив этот мир, англичане уже отказались впредь от вмешательства в дела Европы и примирились окончательно с его грядущей гегемонией на континенте, и вдруг оказалось, что это не так и что смотреть сложа руки на то, что Бонапарт делает в Европе, Англия не согласна.
Начались сложные дипломатические переговоры. Обе стороны не желали и не могли уступить друг другу, и обе очень хорошо друг друга понимали. Уже с самого начала 1803 г. переговоры стали принимать такой характер, что нужно было ждать близкого разрыва. Колебания, конечно, были и в Лондоне и в Париже. Английские министры далеко не все были убеждены, что страна вполне готова снова ринуться в опаснейшую борьбу, да еще на первых порах без союзников, — Франция в этот момент была в мире со всеми державами. С своей стороны Бонапарт знал, до какой степени торговая буржуазия Парижа и Лиона, а также и промышленники, производящие предметы роскоши, завалены блестящими коммерческими предложениями и заказами из Англии, как оживилась в первые же месяцы после Амьенского мира торговля от приезда 15 тысяч богатых туристов из Англии; знал он также, что вместе с тем сам-то он и сейчас, в мирное время, имеет возможность не пускать английские товары во Францию, и поэтому война с Англией с точки зрения интересов французских промышленников непосредственно ничего нового в этом смысле не даст. Правда, при войне запретительную систему можно было бы обострить, усилить и расширить на новые страны, на что очень надеялся Наполеон. Но все же он колебался.
Знаменитая сцена гнева на аудиенции английского посла в Тюильри, окончательно толкнувшая обе державы к войне, была разыграна Наполеоном в качестве последней пробы, последней попытки устрашения.
Тут следует кстати сказать несколько слов об этой характерной особенности Наполеона, так часто и столь многих сбивавшей с толку. Бесспорно, что эта надменная, сумрачная, быстро раздражающаяся, почти всех на свете презирающая натура была склонна к порывам бешеного гнева. Следует заметить, что вообще Наполеон великолепно владел собой. Он даже указывал знаменитому трагическому актеру Тальма, у которого он сам многому научился и за это к нему благоволил, на всю неестественность того, что трагики проделывают на театральной сцене, когда хотят изобразить сильные чувства: «Тальма, вы приходи́те иногда во дворец ко мне утром. Вы тут видите принцесс, потерявших возлюбленного, государей, которые потеряли свои государства, бывших королей, у которых война отняла их высокий сан, видных генералов, которые надеются получить корону или выпрашивают себе корону. Вокруг меня обманутое честолюбие, пылкое соперничество, вокруг меня катастрофы, скорбь, скрытая в глубине сердца, горе, которое прорывается наружу. Конечно, все это трагедия; мой дворец полон трагедий, и я сам, конечно, наиболее трагическое лицо нашего времени. Что же, разве мы поднимаем руки кверху? Разве мы изучаем наши жесты? Принимаем позы? Напускаем на себя вид величия? Разве мы испускаем крики? Нет, не правда ли? Мы говорим естественно, как говорит каждый, когда он одушевлен интересом или страстью. Так делали и те лица, которые до меня занимали мировую сцену и тоже играли трагедии на троне. Вот примеры, над которыми стоит подумать».
Наполеон владел собой почти всегда. Только с единственной страстью — с гневом — он не всегда умел справиться. Эти порывы были резки и ужасны для окружающих. Во время припадков гнева он бывал поистине страшен даже для самых твердых и мужественных. Но вместе с тем Наполеону случалось иногда с определенными целями и на основании зрело обдуманных соображений (и совершенно независимо от природной, настоящей вспыльчивости) разыгрывать искусственные сцены ярости, причем он проделывал это с таким высоким театральным талантом, с такой поразительно тонкой симуляцией, что только очень уж хорошо знавшие его зрители могли догадаться об этом комедиантстве, да и то не всегда, часто и они ошибались.
Назначенный английским послом во Франции Уитворт с самого начала не верил в возможность сохранения мира с Бонапартом, и не потому даже, что Франция уже слишком много выиграла по Амьенскому миру, но потому, что после Амьенского мира первый консул стал распоряжаться в сопредельной Европе так, как если бы она уже была в его ведении. Осенью 1802 г., например, он объявил Швейцарии, что желает ввести в ней новое государственное устройство и посадить правительство, «дружественное Франции». Объяснял он свое желание, указывая швейцарцам на их географическое положение — между Францией и Италией, которая подвластна Франции, а подкрепил свои географические соображения посылкой на границу Швейцарии генерала Нея с 30 тысячами солдат. Швейцария смирилась и стала беспрекословно покорной страной. Почти одновременно Наполеон формально и окончательно объявил королевство Пьемонт присоединенным к Франции. Западногерманские мелкие государи и князья, лишившись после Люневильского мира 1801 г. надежды на Австрию, трепетали перед Наполеоном, а обращался он с ними, в самом полном и точном смысле слова, как со своими лакеями. Наконец и Голландия была прочно в его руках, было ясно, что она уже не вырвется и не освободится от него.
Примириться со всем этим Англия не хотела и не могла. В первой же большой аудиенции, 18 февраля 1803 г. Наполеон разыграл сцену раздражения и угроз. Он говорил о своем могуществе, о том, что если Англия осмелится начать войну, то это будет войной «на истребление», что напрасно Англия надеется на союзников, что Австрия как великая держава «не существует больше». Он говорил таким тоном и так кричал, что Уитворт писал своему начальнику, министру иностранных дел лорду Гоуксбери: «Мне казалось, что я слышу скорее какого-то драгунского капитана, а не главу одного из могущественнейших государств Европы». Идея запугать Англию и этим предотвратить войну, продолжая притом хозяйничать в Европе, упорно владела Наполеоном. Но тут коса нашла на камень. Английская буржуазия и аристократия, во многом уже тогда резко расходившиеся, были согласны в одном: не допустить подчинения Европы диктатору Наполеону. Он грозил, что призовет полумиллионную армию. В ответ на его угрозу английское правительство усилило снабжение флота и стало делать обширные военные приготовления.
13 марта разыгралась новая и последняя сцена. «Итак, вы хотите войны... Вы хотите воевать еще 15 лет, и вы меня заставите это сделать». Он требовал возвращения Мальты, которую англичане захватили еще до Амьенского мира и обязались возвратить, но не торопились это исполнить, ссылаясь на противоречащие миру действия Бонапарта. «Англичане хотят войны, — очень громко провозгласил он, — но если они первые обнажат шпагу, то пусть знают, что я последний вложу шпагу в ножны... Если вы хотите вооружаться, я тоже буду вооружаться; если вы хотите драться, я тоже буду драться. Вы, может быть, убьете Францию, но запугать ее вы не можете... Горе тем, кто не выполняет условий!.. Мальта или война!» — с гневом закричал он и вышел из зала, где происходил прием послов и сановников.
В начале мая 1803 г. Уитворт выехал из Парижа, и началась война Наполеона с Англией, уже не прекращавшаяся до самого конца его царствования.
В Англии знали, что война будет трудной и опасной. Почти тотчас же после ее начала во главе британского правительства фактически снова стал Вильям Питт, бывший не у дел с 1801 г., ушедший, когда английским правящим классам — аристократии и буржуазии — показалось возможным и необходимым начать мирные переговоры с Бонапартом.
Теперь, в 1803 г., час Вильяма Питта снова пришел. Человек, девять лет воевавший с Французской революцией, должен был отныне взять на свою ответственность несравненно более грозную войну с Наполеоном. И, однако, Вильям Питт полагал, что если воевать с Наполеоном будет труднее, чем с революционными правительствами минувшей эпохи, то эта новая война не возбуждает таких политических беспокойств внутри страны, какие возбуждала прежняя война с революционной Францией. Конечно, Франция в 1803 г. была гораздо больше по своей территории, гораздо богаче и обладала гораздо лучше организованной армией, чем прежде; во главе ее стоял талантливый организатор и великий полководец; но, с другой стороны, исчез тот «революционный яд», который уже так явно стал заражать даже флот его британского величества, не говоря уже о рабочем населении промышленных и каменноугольных центров. Вильям Питт очень хорошо помнил матросские бунты 1797 г. Теперь во Франции царствовал деспот, жестоко расправлявшийся с якобинцами и истребивший всякие следы политической свободы. Все это было так. Но очень уже тревожными были первые полтора года завязавшегося поединка, когда Англия и наполеоновская Франция стояли друг против друга один на один.
Английская торговая и промышленная буржуазия, с восторгом приветствовавшая Амьенский мир, как было сказано, уже через несколько месяцев убедилась в том, что Бонапарт ни за что торгового договора с Англией не заключит и английских товаров ни во Францию, ни в зависимые от него страны Европы не допустит. Что касается аристократии, то она совершенно сознательно шла с готовностью на войну, потому что без войны требования решительной избирательной реформы в пользу буржуазии пришлось бы удовлетворить или выдержать долгую и опаснейшую внутреннюю борьбу. Это — факт, доказуемый документально и неопровержимо. И помимо всего, грозный призрак рабочего движения одинаково тревожил умы этих обоих, готовых к упорному единоборству классов.
Вильям Питт решил пойти на что угодно, лишь бы предотвратить высадку Наполеона на берегах Англии.
Наполеон прежде всего занял весь Ганновер, большое немецкое владение, принадлежавшее английскому королю, бывшему одновременно и ганноверским курфюрстом. Затем он приказал занять ряд пунктов в южной Италии, где еще не было французский войск. Он приказал Голландии и Испании выставить флот и войска на помощь французам. Сейчас же был отдан приказ конфисковать во всех подвластных землях английские товары, арестовать всех англичан, которые окажутся во Франции, и держать их вплоть до заключения мира с Англией. Наконец, он приступил к устройству грандиозного лагеря в Булони, на Ла-Манше, напротив английского берега. Там должна была собраться огромная армия, которая предназначалась для высадки в Англии. «Мне нужно только три дня туманной погоды — и я буду господином Лондона, парламента, Английского банка», — сказал он в июне 1803 г., через месяц после начала войны. Булонский лагерь организовывался в 1803 г. очень активно, еще активнее в 1804 г. Кипучая работа началась во всех французских портах, на всех верфях. «Три туманных дня» могли дать возможность французскому флоту ускользнуть от английских эскадр и высадить армию на английском берегу, а тогда Наполеон сломил бы все препятствия, прошел бы от места высадки до Лондона и вошел бы в столицу. Так полагал сам Наполеон, и так думали очень многие в Англии.
Впоследствии многие англичане, пережившие эту эпоху, говорили, что еще в первые месяцы после начала войны в Англии старались осмеять планы Бонапарта о десанте. Но с конца 1803 г. и особенно в 1804 г. англичанам уже было не до смеха. Англия не переживала такой тревоги со времени, когда ждали прихода испанской непобедимой армады в 1588 г. Объезжая порты и прибрежные города северо-западной Франции, Наполеон торопил работы и в воззваниях рисовал перед населением торговых центров лучезарные картины будущей победы над вечным историческим конкурентом. Английское правительство получало самые тревожные известия о грандиозном размахе приготовлений Наполеона. Необходимо было предпринять очень решительные меры. Человек, который мог в 1798 г. ускользнуть с большой эскадрой и большой армией от английского флота, гонявшегося за ним по всему Средиземному морю, и благополучно высадить десант в Египте, да еще по дороге завоевать Мальту, — такой человек в самом деле может воспользоваться туманами, которых на Средиземном море бывает так мало, а на Ла-Манше так много, да и потребное время тут измеряется не месяцами, а скорее часами или немногими сутками. Что было делать?
Выходов было два. Первый заключался в том, чтобы, не щадя никаких денежных затрат, быстро подготовить и поставить на ноги коалицию европейских держав, которая ударила бы на Наполеона с востока и предотвратила бы этим его нашествие на Англию. Но Австрия, разбитая Бонапартом и так много потерявшая по Люневильскому миру, еще не оправилась вполне, хотела воевать, но не решалась. Пруссия колебалась, Россия сомневалась. Переговоры велись, Питт не терял надежды на сформирование коалиции, но это средство было хоть и надежное, но медленное: оно могло опоздать.
Оставалась другая мера. Вильям Питт и Гоуксбери уже давно знали, что фанатический вождь шуанов и бретонских повстанцев, Жорж Кадудаль, бывает в Лондоне, где сносится с Карлом Артуа, братом претендента на королевский престол Людовика, графа Прованского, и что вообще французские эмигранты что-то затевают. Вскоре для английского правительства не было в общих чертах тайной, что именно затевают эти приютившиеся в Лондоне роялисты. Убедившись в полном поражении вандейского мятежа и в невозможности низвергнуть Бонапарта открытым восстанием, они решили его убить, т.е. повторить ту попытку, которая случайно им не удалась в 1800 г. при взрыве адской машины.
Неожиданные перспективы открылись перед Вильямом Питтом. Английское правительство хотело повести это дело очень деликатно. Самое бы лучшее, если б можно было устроить, как в 1801 г. с Павлом Петровичем, собиравшимся в Индию: т.е. по мере сил, исподтишка помогая делу, иметь затем формальную возможность корректно выразить соответствующее соболезнование, как в свое время была выражена скорбь по поводу «апоплексического удара», постигшего русского царя в его спальне, когда русский посол Воронцов официально известил англичан об этом печальном медицинском случае. Но организовать теперь, в 1804 г., новый апоплексический удар в Тюильри было труднее и сложнее, чем тогда, в 1801 г., в Михайловском замке в Петербурге. При дворе Наполеона не было ни раздраженного гвардейского офицерства, ни графа Палена, ни Беннигсена, ни Платона Зубова, одного из непосредственных авторов «апоплексического удара». Да и разговаривать на этот раз пришлось бы не с изящной светской дамой Ольгой Александровной Жеребцовой, сестрой Платона Зубова, через которую тогда в Петербурге английский посол Уитворт проявлял свои попечения о здоровье Павла I, а необходимо было объясняться со взлохмаченным бретонским крестьянином, который не понимал ни тонких намеков, ни приема умолчаний и не мог взять в толк, что допускается лишь «похищение» первого консула. Словом, Кадудаль не очень понимал, как это можно «похитить» главу государства в его столице. Он вообще был чужд всех этих изящных разговорных тонкостей и не умел своими громадными ножищами в высоких охотничьих сапогах лавировать достаточно ловко по вылощенному паркету дипломатических лондонских кабинетов и приемных. В этих переговорах выражение «похитить Бонапарта» играло ту же деликатную роль, как фраза «предложить императору Павлу отречься» в совещании графа Палена с Александром накануне 12 марта 1801 г. «От слова не станется», — Вильям Питт младший, не зная русского языка, всю свою жизнь руководствовался этой наиболее дипломатической из всех возможных русских поговорок.
Заговор был обдуман и созрел в Лондоне. Жорж Кадудаль должен был устранить первого консула, т.е. внезапно напасть на него в сопровождении нескольких вооруженных людей, когда он будет кататься верхом один около своего загородного дворца в Мальмезоне, увезти его и убить.
Жорж Кадудаль был фанатик в самом полном значении этого слова. Он десятки раз рисковал своей жизнью в Вандее, бывал в самых невероятных переделках и теперь без колебаний и без трепета шел убивать Бонапарта, в котором видел победоносное выражение ненавистной ему революции, узурпатора, мешающего законному королю, Людовику Бурбону, сесть на престол.
В одну темную августовскую ночь 1803 г. Жорж Кадудаль и его товарищи были высажены английским кораблем на берегу Нормандии и тотчас же направились в Париж. Были люди, были в изобилии деньги, были связи в столице, тайные адреса и явки, безопасные убежища. Но нужно было войти в сношения с тем человеком, который непосредственно, в первый момент, должен был после Бонапарта захватить власть в свои руки и организовать приглашение Бурбонов на прародительский престол. Такого человека роялисты наметили в лице генерала Моро, а посредником в сношениях между Моро и Жоржем Кадудалем стал другой генерал — Пишегрю, который был сослан после 18 фрюктидора в Гвиану и сумел бежать оттуда, а теперь, в 1803 г., проживал нелегально в Париже. Пишегрю, уличенному изменнику, беглому ссыльному, терять было нечего. Но генерал Моро был человеком совсем другого типа и другого положения. Моро был одним из талантливейших генералов французской армии, честолюбец, но честолюбец нерешительный. Он ненавидел Бонапарта уже давно и именно за 18 брюмера, когда Бонапарт решился на то, на что сам он не решился. Он был с тех пор в молчаливой оппозиции. Некоторые якобинцы считали, что он — убежденный республиканец, знавшие его лично роялисты убеждены были, что он из одной ненависти к первому консулу согласится им помочь.
Ненависть к Бонапарту была господствующей страстью Моро, но ничто не давало права предполагать, что он хотел посадить на престол Бурбонов. Так или иначе, уже то, что он узнал о заговоре и не донес, компрометировало его. Пишегрю, бывший в постоянных сношениях с агентами английского правительства, уверил и англичан и роялистов, что Моро согласен содействовать. Но Моро отказался говорить с Кадудалем, а самому Пишегрю определенно заявил, что согласен действовать против Бонапарта, но не желает служить Бурбонам. Пока шли эти переговоры и совещания, наполеоновская полиция выслеживала и доносила ежедневно первому консулу о том, что она успевала открыть.
15 февраля 1804 г. генерал Моро был арестован у себя на квартире, а спустя восемь дней ночью был арестован и Пишегрю, выданный полиции за 300 тысяч франков лучшим его другом, хозяином конспиративной квартиры. Допросы следовали за допросами, но Пишегрю отказывался что-либо сообщить. К Моро приходили от имени Бонапарта, обещая прощение и свободу, если он признается, что виделся с Кадудалем. Моро отказался. Через 40 дней после своего ареста Пишегрю был найден в своей камере удавленный собственным галстуком. С тех пор слухи о том, что это было не самоубийство, а убийство, совершенное по приказу высшей власти, не прекращались. Наполеон впоследствии презрительно опровергал их, говоря: «У меня был суд, который осудил бы Пишегрю, и взвод солдат, который расстрелял бы его. Я никогда не делаю бесполезных вещей». Но эти слухи находили почву особенно потому, что за несколько дней до таинственной смерти Пишегрю произошло потрясшее высшие круги Франции и Европы совершенно неожиданное событие, расстрел члена династии Бурбонов, герцога Энгиенского.
С самого ареста Моро и Пишегрю и после ряда других арестов, связанных с заговором, Наполеон был в состоянии почти постоянной ярости. Рука англичан была для него очевидна; не менее ясна была и руководящая роль Бурбонов. Он уже знал, что англичане перевезли и высадили в конце лета 1803 г. Жоржа Кадудаля во Франции, что он приехал с английскими деньгами и с инструкциями Карла Артуа, что он в Париже и каждый день может произвести покушение один или с целой группой товарищей. В гневе Наполеон сказал однажды, что напрасно Бурбоны думают, что он не может им лично воздать по заслугам за эти попытки его убить. Этот возглас услышал Талейран и, чтобы выслужиться и вместе с тем чтобы безопасно для себя лично отомстить ненавидевшим его роялистам, сказал: «Бурбоны, очевидно, думают, что ваша кровь не так драгоценна, как их собственная». Это привело Наполеона в полное бешенство. Тут-то и было впервые произнесено имя герцога Энгиенского. Взбешенный Наполеон наскоро собрал совет из нескольких лиц, и этот совет (в котором были Фуше и Талейран) решил арестовать герцога Энгиенского. Было два затруднения: во-первых, герцог жил не во Франции, а в Бадене, во-вторых, он решительно никак не был связан с открывавшимся заговором. Но первое препятствие для Наполеона существенным не было: он распоряжался уже тогда в западной и южной Германии, как у себя дома. А второе препятствие тоже значения не имело, так как он уже наперед решил судить герцога военным судом, который за доказательствами гнаться особенно не будет. Приказ был послан немедленно.
Герцог Энгиенский жил в г. Эттенгейме, в Бадене, не подозревая о страшной грозе, собравшейся над его головой. В ночь с 14 на 15 марта 1804 г. отряд французской конной жандармерии вторгся на территорию Бадена, вошел в г. Эггенгейм, окружил дом, арестовал герцога Энгиенского и увез его немедленно во Францию. Баденские министры были довольны, по-видимому, уже тем, что и их самих не увезли вместе с герцогом, и никто из баденских властей не подавал признаков жизни, пока происходила вся эта операция. 20 марта герцог уже был привезен в Париж и заключен в Венсенский замок. Вечером 20 марта собрался в Венсенском замке военный суд. Герцога Энгиенского обвинили в том, что он получал деньги от Англии и воевал против Франции. В три часа ночи без четверти он был приговорен к смертной казни. Он написал письмо Наполеону и просил передать это письмо по адресу. Председатель военного суда Юлен (один из героев взятия Бастилии) хотел от имени суда написать Наполеону ходатайство о смягчении приговора, но генерал Савари, специально посланный из Тюильрийского дворца, чтобы следить за процессом, вырвал у Юлена перо из рук и заявил: «Ваше дело кончено, остальное уже мое дело». В три часа ночи герцог Энгиенский был выведен в Венсенский ров и здесь расстрелян.
Когда Наполеон прочел последнее письмо к нему герцога Энгиенского, написанное перед казнью, он сказал, что если бы прочел его раньше, то помиловал бы осужденного. Он был очень мрачен и задумчив весь день, и с ним не смели заговаривать. Он потом утверждал, что был совершенно прав, казня герцога, что этого требовали государственные интересы, что Бурбонам нужно было дать острастку.
За несколько дней до казни герцога был, наконец, арестован и Кадудаль. При аресте на улице он оказал отчаянное сопротивление, — убил и изувечил несколько сыщиков. Он и все его товарищи были гильотинированы. Генерал Моро был изгнан из Франции.
Еще в марте, после расстрела герцога Энгиенского и когда еще только готовился процесс Кадудаля, в Париже и затем в провинции возник и стал держаться слух, что именно герцога Энгиенского Кадудаль и его товарищи имели в виду пригласить на престол после того, как будет покончено с первым консулом. Это было неверно, но этот слух сослужил большую службу Бонапарту. Прямо, без обиняков, учреждения, изображавшие собой представительство народа и наполненные клевретами и исполнителями воли первого консула, — Трибунат, Законодательный корпус. Сенат, — заговорили о необходимости раз навсегда покончить с таким положением, когда от жизни одного человека зависит спокойствие и благо всего народа, когда все враги Франции могут строить свои надежды на покушениях. Вывод был ясен: пожизненное консульство следует превратить в наследственную монархию.
Таким образом, во Франции после Меровингов, царствовавших с V по VIII в., после Каролингов, царствовавших с VIII по X в., после Капетингов (с их двумя нисходящими линиями — Валуа и Бурбонов), царствовавших с конца X в. до 1792 г., когда Людовик XVI («Людовик Капет», как его называли при революции) был низвергнут с престола, — после этих трех королевских династий должна была воцариться «четвертая династия», династия Бонапартов. Республика, существовавшая с 10 августа 1792 г., должна была снова обратиться в монархию.
Эта новая династия Бонапартов не должна была, однако, носить королевский титул подобно предыдущим династиям. Новый властитель пожелал принять титул императора, полученный впервые Карлом Великим после коронации его в 800 г. Теперь через тысячу лет, в 1804 г.. Наполеон открыто заявлял, что подобно Карлу Великому он будет императором Запада и что он принимает наследство не прежних французских королей, а наследство императора Карла Великого.
Но ведь и сама империя Карла Великого была лишь попыткой воскрешения и продолжения другой империи, гораздо большей. Римской. Наполеон хотел считать себя наследником и Римской империи, объединителем стран западной цивилизации. Впоследствии ему удалось поставить под прямую свою власть или под косвенную вассальную зависимость гораздо больший конгломерат земель, чем владел когда-либо Карл Великий; а перед походом на Россию в 1812 г. колоссальная держава Наполеона, если не считать североафриканских и малоазиатских владений Рима, но говорить лишь о Европе, была размерами больше Римской империи и несравненно богаче и населеннее ее. Но в первый момент, когда Европа узнала о плане Наполеона воскресить империю Карла Великого, это было многими сочтено за безумную гордыню и за дерзкий вызов зарвавшегося завоевателя всему цивилизованному миру.
Послы всех держав с напряженным вниманием следили за тем внезапным, крутым, ускоренным движением к монархии, которое стало во Франции так заметно после раскрытия заговора Жоржа Кадудаля и казни герцога Энгиенского. Точно установленный чисто роялистский замысел заговора Жоржа Кадудаля поразил умы. И по мере того как публиковались сообщения о следствии и процессе, среди крупной буржуазии, среди людей, в свое время раскупивших конфискованные у церкви и у эмигрантов земли, все больше крепло стремление упрочить власть и режим, созданный Наполеоном, твердо оградить себя и свою собственность от покушений старых хозяев-аристократов. 18 апреля 1804 г. сенат вынес постановление, дающее первому консулу, Наполеону Бонапарту, титул наследственного императора французов. Формальность плебисцита была проделана с еще большей легкостью, чем в 1799 г., после брюмера.
Смущение все же было очень сильное, хотя уже в 1802 г. этого события все ждали, а крупная буржуазия, которая целиком поддерживала политическое поведение Наполеона, считала возрождение монархии совершенно неизбежным. Конечно, убежденные республиканцы не могли примириться с новым положением. Дни революции, дни мечтаний о свободе и равенстве, пламенные проклятия коронованным деспотам вставали в памяти. Некоторые думали, что Наполеон уменьшил свою славу, пожелав прибавить к своему гремевшему по всему свету имени еще какой-то титул. «Быть Бокапартом и после этого сделаться императором! Какое понижение!» — восклицал переживший этот момент известный впоследствии публицист и памфлетист Поль Луи Курье. Бетховен, восторгавшийся Наполеоном, посвятивший ему «Героическую симфонию», взял назад это посвящение, узнав о превращении гражданина Бонапарта в императора. Когда раззолоченная толпа сановников, генералов, пышно разодетых придворных дам впервые приветствовала в залах Тюильрийского дворца нового императора, то лишь несколько посвященных в тайну людей знали тогда, что новый владыка не считает еще законченной церемонию своего воцарения и что он не спроста стал поминать Карла Великого. Наполеон пожелал, чтобы римский папа лично участвовал в его предстоящей коронации, как это было сделано за тысячу лет до него, в 800 г., с Карлом Великим. Но Наполеон решил внести при этом некоторую, довольно существенную поправку: Карл Великий сам поехал для своего коронования к папе в Рим, а Наполеон пожелал, чтобы римский папа приехал к нему в Париж.
Пий VII узнал о желании императора Наполеона со страхом и раздражением. Приближенные старались утешить его историческими примерами. Между прочим, поминали и папу Льва Святого, который однажды — дело было в середине V в., — когда пришлось очень туго, поехал, скрепя сердце, даже навстречу Аттиле, вождю гуннов, который уж во всяком случае не мог очень превосходить своей благовоспитанностью, вежливостью и изящными манерами нового французского императора. Впрочем, об отказе и думать было нельзя. Рим находился под угрозой со стороны стоявших в северной и средней Италии наполеоновских войск.
После первых же кратких размышлений папа решил исполнить требование Наполеона, но зато поторговаться и выпросить себе хоть несколько кусочков из отхваченных в свое время Наполеоном папских владений на севере Церковной области в Италии. Но папе Пию VII, кардиналу Консальви и всему конклаву кардиналов было не под силу перехитрить первоклассного дипломата, каковым всегда был Наполеон. Папа много лукавил, горько жаловался, снова лукавил, снова жаловался, — ничего не выторговал и отправился в Париж в надежде, которую в нем охотно поддерживал Наполеон, что когда он приедет в Париж, то здесь, может быть, что-нибудь и получит. Он приехал в Париж — и ровно ничего не получил. Любопытна двойственность в поведении Наполеона до и во время коронации. Папа был ему нужен, потому что тогда сотни миллионов людей на земном шаре, и в частности большинство французов, религиозно в папу верили. Значит, папа должен был быть необходимой обстановочной деталью коронации, особенно если речь шла о воскрешении прав и претензий Карла Великого. Но, с другой стороны, Наполеон смотрел сам на Пия VII как на шамана, как на колдуна, да еще такого, который сознательно эксплуатирует людскую глупость, действуя разными заклинаниями и манипуляциями в церкви и вне церкви. Выписав папу, он пообещал кардиналам, что поедет встречать его. Он и поехал, но в охотничьем костюме, окруженный охотниками, псарями и собаками, и встретил Пия VII в лесу Фонтенебло, недалеко от Парижа и в нескольких шагах от загородного дворца, где тогда проживал. Папский кортеж остановился, и папу пригласили выйти из кареты, перейти через дорогу и пересесть в коляску императора, который даже не двинулся с места. В том же духе обходился он с папой во все время пребывания его в Париже.
2 декабря 1804 г. в соборе Нотр-Дам в Париже произошло торжественное венчание и помазание на царство Наполеона. Когда нескончаемый ряд золотых придворных карет со всем двором, генералитетом, сановниками, папой и кардиналами подвигался от дворца к собору Нотр-Дам, несметные толпы народа глядели на этот блестящий кортеж. В этот день, впрочем, повторялась кое-где и фраза, которую историческая легенда приписывает разным лицам и которая будто бы была сказана одним старым республиканцем из военных в ответ на вопрос Наполеона, как ему нравится торжество: «Очень хорошо, ваше величество, жаль только, что недостает сегодня 300 тысяч людей, которые сложили свои головы, чтобы сделать подобные церемонии невозможными». Эти легендарные слова относят иногда и к моменту подписания конкордата, но они являются и для того и для другого случая весьма характерными.
В центральный акт коронации Наполеон внес совершенно неожиданно для папы и вопреки предварительному постановлению церемониала характернейшее изменение: когда в торжественный момент Пий VII стал поднимать большую императорскую корону, чтобы надеть ее на голову императора, подобно тому как за десять столетий до того предшественник Пия VII на престоле св. Петра надел эту корону на голову Карла Великого, — Наполеон внезапно выхватил корону из рук папы и сам надел ее себе на голову, после чего его жена, Жозефина, стала перед императором на колени, и он возложил на ее голову корону поменьше. Этот жест возложения на себя короны имел символический смысл: Наполеон не хотел, чтобы папскому «благословению» было придано слишком уж решающее значение в этом обряде. Он не пожелал принимать корону из чьих бы то ни было рук, кроме своих собственных, и меньше всего из рук главы той церковной организации, с влиянием которой он нашел целесообразным считаться, но которую не любил и не уважал.
Несколько дней длились празднества во дворце, в столице, в провинции, горели нескончаемые иллюминации, гремели пушечные салюты, гудели колокола, не смолкала музыка. В эти дни бесконечных празднеств Наполеон уже знал, какая новая опасность вырастает перед империей. Еще до коронации он получил ряд сведений, не позволявших ему сомневаться, что Вильям Питт после провала заговора Кадудаля обратился с удвоенной энергией к дипломатическому созданию новой, уже третьей по счету от начала революционных войн, коалиции против Франции и что эта коалиция фактически уже существует.
Глава VIII. Разгром третьей коалиции. 1805–1806 гг.
Первый грандиозный союз европейских держав против Франции, начавший войну против нее еще до Наполеона, в 1792 г., был побежден и распался окончательно в 1797 г., когда австрийские уполномоченные подписали с генералом Бонапартом мир в Кампо-Формио. Вторая коалиция, воевавшая против Франции, когда Бонапарт был в Египте, была побеждена возвратившимся Бонапартом и распалась после того, как из нее вышел Павел I, а Австрия принуждена была подписать Люневильский мир в 1801 г. Теперь, в 1805 г., перед Наполеоном в третий раз стоял во всеоружии союз первоклассных европейских держав. Предстояла новая грандиозная проба сил.
Наполеон думал в 1804–1805 гг. об «империалистской войне» в пределах Англии, о «взятии Лондона и Английского банка», но привелось ему вести эту войну в 1805 г., хотя и с тем же противником, и закончить ее не близ Лондона, а близ Вены.
Вильям Питт, не щадя и не считая миллионов золотых фунтов стерлингов, принялся готовить новую коалицию. В самоуверенной Англии начиналась истинная паника. Подготовленный Наполеоном Булонский лагерь вырос в конце 1804 г. и в первой половине 1805 г. в грозную военную силу. Первоклассная громадная, превосходно экипированная армия стояла в Булони и ждала тумана на Ла-Манше и сигнала к посадке на суда. В Англии пытались организовать нечто вроде всенародного ополчения. Итак, все упования Англия вынуждена была возложить на коалицию.
Австрия с сочувствием отнеслась к идее новой войны. Потери ее по Люневильскому миру были так огромны, а главное, Бонапарт так самовластно после этого распоряжался западными и южными маленькими германскими государствами, что новая война для Австрийской империи была единственной надеждой избежать превращения ее во второстепенную державу. А тут еще представлялся случай вести войну на английские деньги. Почти одновременно с развитием этих тайных переговоров с Австрией Вильям Питт повел такие же переговоры с Россией.
Наполеон знал, что Англия сильно рассчитывает на такую войну, когда за нее на континенте воевали бы Россия и Австрия. Он знал также, что именно Австрия, раздраженная и испуганная теми захватами в западной Германии, которые совершал Наполеон уже после Люневильского мира, очень внимательно прислушивается к внушениям британского кабинета. И уже в 1803 г. у первого консула прорывались слова, показывающие, что он не считает победу над Англией обеспеченной, пока не сокрушены ее возможные континентальные союзники, или «наймиты» (les salariés), как он их презрительно именовал. «Если Австрия вмешается в дело, то это будет означать, что именно Англия принудит нас завоевать Европу», — заявил он Талейрану.
Русский император Александр Павлович прервал по вступлении на престол всякие разговоры о союзе с Наполеоном, начатые его отцом. Больше чем кто-либо он знал об организации «апоплексического удара», постигшего его отца, тем более что в подготовке этого происшествия и сам он играл существенную роль.
Молодой царь вместе с тем знал, до какой степени дворянство, сбывающее в Англию сельскохозяйственное сырье и хлеб, заинтересовано в дружбе с Англией. Ко всем этим соображениям прибавилось еще одно, очень веское. Уже весной 1804 г. можно было сильно надеяться, что в новой коалиции примут участие Англия, Австрия, Неаполитанское королевство (так думали тогда), Пруссия, которая тоже была жестоко обеспокоена действиями Наполеона на Рейне. Не ясно ли, что лучшего случая для вступления России в войну против французского диктатора нельзя было ожидать? Не хватит у Наполеона тогда средств и сил справиться с этой тьмой врагов.
Когда произошел расстрел герцога Энгиенского, во всей монархической Европе, и без того готовившейся к выступлению, началась бурная и успешная агитация против «корсиканского чудовища», пролившего кровь принца Бурбонского дома. Решено было вовсю использовать этот кстати подвернувшийся инцидент. Сначала все советовали Баденскому великому герцогу протестовать против вопиющего нарушения неприкосновенности баденской территории при аресте герцога Энгиенского, но великий герцог Баденский, люто перепуганный, сидел смирно и даже поспешил окольным путем справиться у Наполеона, вполне ли он доволен поведением баденских властей при этом событии, исправно ли они исполняли все, чего от них требовали французские жандармы. Другие монархи тоже ограничились негодованием вполголоса в узком семейном кругу. Вообще храбрость их выступлений по этому поводу неминуемо должна была оказаться прямо пропорциональной расстоянию, отделявшему границы их государств от Наполеона. Вот почему наибольшую решительность должен был проявить именно русский император. Александр протестовал формально, особой нотой, против нарушения неприкосновенности баденской территории с точки зрения международного права.
Наполеон приказал своему министру иностранных дел дать тот знаменитый ответ, который никогда не был забыт и не был прощен Александром, потому что более жестоко его никто никогда не оскорбил за всю его жизнь. Смысл ответа заключался в следующем: герцог Энгиенский был арестован за участие в заговоре на жизнь Наполеона; если бы, например, император Александр узнал, что убийцы его покойного отца, императора Павла, находятся хоть и на чужой территории, но что (физически) возможно их арестовать, и если бы Александр в самом деле арестовал их, то он, Наполеон, не стал бы протестовать против этого нарушения чужой территории Александром. Более ясно назвать публично и официально Александра Павловича отцеубийцей было невозможно. Вся Европа знала, что Павла заговорщики задушили после сговора с Александром и что юный царь не посмел после своего воцарения и пальцем тронуть их: ни Палена, ни Беннигсена, ни Зубова, ни Талызина и вообще никого из них, хотя они преспокойно сидели не на «чужой территории», а в Петербурге и бывали в Зимнем дворце.
Личная ненависть к жестокому оскорбителю, вспыхнувшая в Александре, находила живейший отклик в общедворянских и общепридворных настроениях, о которых уже шла речь.
Пытаясь расширить классовую базу своих воинственных предприятий и привлечь симпатии либеральных слоев общества, Александр, готовясь войти в третью коалицию, начал выражать громогласно и в письмах свое разочарование по поводу стремления Наполеона к единодержавию и по поводу гибели Французской республики. Это было плохо прикрытое лицемерие: Александр никогда и ни в какой степени не интересовался судьбой Французской республики, но он тонко и правильно уловил, что превращение Франции в самодержавную империю есть тоже обстоятельство, подрывающее моральный престиж Наполеона и во Франции и в Европе среди некоторой части общества, среди людей, для которых революция сохранила свое былое обаяние. Либеральное порицание обладателя и деспотического хозяина крепостной империи по адресу Наполеона за то, что Наполеон — деспот, это один из курьезов времени, предшествовавшего окончательной подготовке к военному выступлению третьей коалиции против новой Французской империи.
Вильям Питт без колебаний согласился финансировать Россию, а еще раньше дал понять, что будет финансировать и Австрию, и Неаполь, и Пруссию, и всех, кто захочет поднять оружие против Наполеона.
Что в это время делал французский император? Он знал, конечно, о дипломатической игре своих врагов, но так как коалиция сколачивалась, несмотря на усилия Питта, медленно и так как Наполеону до самой осени 1805 г. казалось, что Австрия еще не готова к войне, то оставалось, с одной стороны, продолжать готовиться к десанту в Англии, а с другой — действовать так, как если бы кроме него в Европе никого не было. Захотел присоединить Пьемонт — и присоединил; захотел присоединить Геную и Лукку — и присоединил; захотел объявить себя королем Италии и короноваться в Милане — и короновался (28 мая 1805 г.); захотел отдать целый ряд мелких германских земель своим германским «союзникам», т.е. вассалам (вроде Баварии) — и отдал.
Германские князья, владельцы западноевропейских земель, после Люневильского мира 1801 г. и полного отстранения Австрии чаяли себе спасения только в Наполеоне. Они гурьбой теснились в Париже во всех дворцовых и министерских передних, уверяя в своей преданности, выпрашивая кусочки соседних территорий, донося друг на друга, подкапываясь друг под друга, шныряя около Наполеона, осыпая просьбами и взятками Талейрана, доходя до низкопоклонства. С некоторым удивлением сначала (а потом уже перестали удивляться) царедворцы Наполеона наблюдали при Тюильрийском дворе одного из этих маленьких немецких монархов, как он, стоя за креслом Наполеона, игравшего в карты, время от времени изгибался и на лету целовал руку императора, не обращавшего на него при этом никакого внимания.
Наступила осень 1805 г. Наполеон заявлял своим адмиралам, что ему нужно даже не три, а два дня, даже всего один день спокойствия на Ла-Манше, безопасности от бурь и от британского флота, чтобы высадиться в Англии. Приближался сезон туманов. Наполеон давно уже приказал адмиралу Вильневу идти из Средиземного моря в Ламанш и присоединиться к ламаншской эскадре, чтобы совокупными силами обеспечить переправу через пролив и десант в Англии. И вдруг чуть не в один день пришли к императору, находившемуся среди своих войск в Булони, два огромной важности извести: первое — что адмирал Вильнев не может в скором времени исполнить его приказ, и второе — что русские войска уже двинулись на соединение с австрийцами и австрийцы готовы к наступательной войне против него и его германских союзников и что враждебные войска двигаются на запад.
Разом, без колебаний, Наполеон принимает новое решение. Увидев воочию, что Вильяму Питту все же удалось спасти Англию и что о высадке нечего и думать, он немедленно позвал своего генерального интенданта Дарю и передал ему для вручения корпусным командирам обдуманные заблаговременно диспозиции новой войны: не против Англии, а против Австрии и России. Это было 27 августа.
Конец Булонскому лагерю, всем двухлетним работам над его организацией, всем мечтам о покорении упорного, недосягаемого за своими морями врага! «Если я через 15 дней не буду в Лондоне, то я должен быть в середине ноября в Вене», — сказал император еще перед самым получением известий, круто изменивших его ближайшие намерения. Лондон спасся, но Вена должна была заплатить за это. Несколько часов подряд он диктовал диспозиции новой кампании. Во все стороны полетели приказы о новом рекрутском наборе для пополнения резервов, о снабжении армии во время ее движения по Франции и Баварии навстречу неприятелю. Помчались курьеры в Берлин, в Мадрид, в Дрезден, в Амстердам с новыми дипломатическими инструкциями, с угрозами и приказами, с предложениями и приманками. В Париже царили смущение и некоторая тревога: Наполеону докладывали, что купцы, биржа, промышленники потихоньку жалуются на его страсть к аннексиям и на его не считающуюся ни с чем внешнюю политику, что именно ему самому приписывают вину в новой грозной войне всей Европы против Франции. Ропот был тихий, осторожный, но он уже был.
Несмотря на это, через несколько дней, пользуясь стройной военной организацией, созданной им, Наполеон поднял громадный Булонский лагерь, построил в походный порядок армию, там собранную, усилил ее новыми формированиями и двинул от берегов Ламанша через всю Францию в союзную Баварию.
Наполеон шел необычайно быстрыми переходами, совершая обход с севера расположения австрийских войск на Дунае, левым флангом которых была крепость Ульм.
Если третья коалиция, принципиально решенная ее главными участниками уже в середине 1804 г., выступила на поле битвы почти через полтора года, осенью 1805 г., то одной из главных причин было желание на этот раз подготовиться особенно хорошо, обеспечить за собой максимальную возможность победы. Австрийская армия была снабжена и организована несравненно лучше, чем когда-либо раньше. Армия Мака предназначалась для первого столкновения с наполеоновским авангардом и на нее возлагались особенно большие надежды. От этого первого столкновения зависело многое. Ожидавшийся в Австрии, Англии, России, во всей Европе успех Мака основывался не только на подготовленности и прекрасном состоянии его дивизий, но и на предположении вождей коалиции, что Наполеон не снимет сразу, целиком свой Булонский лагерь и что не все свои силы без остатка он двинет от Булони на юго-восток, а если и двинет, то не будет в состоянии так быстро их привести и сосредоточить где нужно.
Мак, вступив в Баварию, твердо знал, что и Наполеон идет прямо в Баварию. Нейтралитет второстепенных держав ни до, ни во время, ни после Наполеона никогда и не существовал иначе, как на бумаге. Курфюрст Баварский колебался и был в непрерывном страхе. Ему грозила, требуя союза, могущественная коалиция Австрии, России с Англией во главе, ему грозил, тоже требуя союза, Наполеон. Курфюрст сначала вступил в тайный союз с коалицией, обещав австрийцам всемерную помощь в начинавшейся войне, а спустя несколько дней, зрело поразмыслив, забрал свою семью и министров и убежал в Вюрцбург, город, куда, по приказу Наполеона, направлялась одна из французских армий под начальством Бернадотта, и всецело перешел на сторону Наполеона.
Ту же эволюцию столь же быстро проделали курфюрст Вюртембергский и великий герцог Баденский. «Стиснув зубы, они заставили временно замолчать свое немецкое сердце», — скорбно выражаются об этом инциденте позднейшие немецкие учебники для средней школы. В награду за это мужественное сопротивление требованиям своего немецкого сердца курфюрсты Баварский и Вюртембергский были произведены Наполеоном в короли, каковыми титулами они, а затем их потомки и пользовались вплоть до ноябрьской революции 1918 г., а великий герцог Баденский, так же как и оба эти новых короля, получил награду территориальными пожалованиями за счет Австрии. Просили они еще немножко и денег, но Наполеон отказал.
Путь в Баварию был открыт. Маршалам приказано было ускорить движение, и с разных сторон они предельно быстрыми переходами спешили к Дунаю. Маршалы Бернадотт, Даву, Сульт, Ланн, Ней, Мармон, Ожеро с корпусами, находившимися под их начальством, и конница Мюрата, получив точные приказания императора, исполняли их, как выразился один тогдашний прусский военный наблюдатель, с правильностью часового механизма. Меньше чем в три недели, в неполных 20 дней, громадная по тому времени армия была переброшена почти без всяких потерь больными и отставшими от Ламанша на Дунай. Наполеон среди определений, которые он давал военному искусству, сказал однажды, что оно заключается в умении устраивать так, чтоб армия «жила раздельно, а сражалась вся вместе». Маршалы шли разными дорогами, предуказанными императором, легко обеспечивая себе пропитание и не загромождая дорог, а когда настал нужный момент, они все оказались вокруг Ульма, где, как в мешке, и задохся Мак с лучшей частью австрийской армии.
24 сентября Наполеон выехал из Парижа, 26-го он прибыл в Страсбург, и тотчас же началась переправа войск через Рейн. Начиная эту войну. Наполеон тут же, на походе в Страсбурге, дал армии окончательную организацию. Здесь уместно сказать о ней несколько слов.
Войско, шедшее на Австрию, было названо официально великой армией в отличие от других частей, стоявших гарнизонами и оккупационными корпусами в отдаленных от театра войны местах. Великая армия была разделена на 7 корпусов, во главе которых были поставлены наиболее выдающиеся генералы, возведенные после коронации Наполеона в чин маршалов.
В общей сложности в 7 корпусах было 186 тысяч человек. В каждом из этих корпусов была и пехота, и кавалерия, и артиллерия, и все те учреждения, которые бывают при армии в ее целом. Мысль Наполеона заключалась в том, чтобы каждый из 7 корпусов сам по себе был как бы самостоятельной армией. Главные артиллерийские и кавалерийские массы не зависели от кого-либо из маршалов, не входили ни в один из этих 7 корпусов, а были организованы совсем особыми частями великой армии и были поставлены под прямое и непосредственное командование самого императора: например, маршал Мюрат, которого Наполеон назначил начальником всей кавалерии, состоявшей из 44 тысяч человек, являлся только его помощником, передаточной и исполнительной инстанцией его повелений. Наполеон имел возможность в нужный момент по своему усмотрению бросить всю свою артиллерию и всю кавалерию на помощь одному из 7 корпусов.
Отдельно и от 7 корпусов, и от артиллерии и кавалерии существовала императорская гвардия. Это были отборные 7 тысяч человек (потом их стало больше, я говорю лишь о 1805 г.); гвардия состояла из полков пеших гренадер и пеших егерей, из конных гренадер и конных егерей, из двух эскадронов конных жандармов, из одного эскадрона мамелюков, набранных в Египте, и, наконец, из «итальянского батальона», так как Наполеон был не только императором французов, но и королем завоеванной им северной и средней Италии. Правда, в этом «итальянском батальоне» гвардии было больше французов, чем итальянцев. В императорскую гвардию брали лишь особо отличившихся солдат. Они получали жалованье, пользовались хорошей пищей, жили в непосредственной близости к императорской главной квартире, носили особенно нарядные мундиры и высокие медвежьи шапки. Наполеон очень многих из них знал в лицо и знал их жизнь и службу. Наполеон внимательно приглядывался к командному составу и без колебаний давал генеральский «диплом» людям, не достигшим 40-летнего возраста. А были у него маршалы, ставшие таковыми в 34 года. Молодость являлась в наполеоновском военном чинопроизводстве признаком положительным, а не отрицательным, как во всех без исключения тогдашних армиях.
Своеобразна была дисциплина, введенная Наполеоном. Телесных наказаний в армии он не допускал. Военный суд приговаривал в случае больших проступков к смертной казни, к каторге, в более легких случаях — к военной тюрьме. Но был один особо авторитетный институт — товарищеский суд, нигде не обозначенный в законах, но при молчаливом согласии Наполеона введенный в великой армии. Вот что по этому поводу говорят очевидцы. Произошло сражение. В роте заметили, что двух солдат никто во время боя не видал. Они явились к концу и объяснили свое отсутствие. Рота, убежденная, что виновные просто спрятались со страха, сейчас же выбирает трех судей (из солдат). Они выслушивают обвиняемых, приговаривают их к смертной казни и тут же, на месте, расстреливают. Начальство все это знает, но не вмешивается. На том дело и кончается. Ни один офицер не должен был не только участвовать в суде, но даже и знать (официально, по крайней мере) о происшедшем расстреле.
Самодержец, объявленный наследственным императором, помазанник папы, а с 1810 г. родственник австрийского царствующего дома. Наполеон сумел внушить своим солдатам убеждение, что и он и они по-прежнему защитники своей родины от Бурбонов, от интервентов, что он по-прежнему только первый солдат Франции. На самом деле в его глазах солдаты были «пушечным мясом», это выражение он довольно часто повторял, но, слепо веря и повинуясь ему, солдаты давали ему вместе с тем фамильярные, ласковые, любовные клички. Грозный Цезарь, перед которым трепетала Европа и пресмыкались цари, для них был солдат; в разговоре меж собой они называли его «маленьким капралом», «стригунком» (ie petit tondu).
Они верили также, что слова Наполеона: «в ранце каждого солдата лежит жезл маршала» — не пустой звук; они охотно вспоминали, в каком чине начали свою службу и Мюрат, и Бернадотт, и Лефевр, и многие другие звезды императорского генералитета.
В своих солдатах и офицерах Наполеон был вполне уверен, в генералах и маршалах — не во всех и не в полной мере. Что касается военной роли маршалов, то здесь дело обстояло так: Наполеон окружил себя целой свитой блестяще одаренных военных людей. Они были не похожи друг на друга во всем, кроме одной черты: они все обладали, хоть и в неодинаковой степени, быстротой соображения, пониманием условий обстановки, умением принимать быстрые решения, военным чутьем, указывавшим внезапно выход из безвыходного положения, упорством там, где оно нужно, а главное — Наполеон приучил их с полуслова понимать его мысль и развивать ее дальше уже самостоятельно. Стратегический талант Наполеона делал маршалов точнейшими исполнителями его воли и в то же время не убивал в них самостоятельности на поле сражения. И безграмотный рубака, добродушный Лефевр, и холодный, жестокий по натуре аристократ Даву, и лихой кавалерист Мюрат, и картограф-оператор Бертье — все они были недюжинными тактиками, обладавшими большой инициативой. Храбрецы Ней или Ланн в этом отношении ничуть не уступали хитрому, рассудительному Бернадотту или методическому Массена, или сухому, сдержанному Мармону. Конечно, личное бесстрашие считалось в их среде совершенно обязательным: они должны были показывать пример. В этом отношении у них выработалась совсем особая военная доблесть. Когда однажды восторгались геройской храбростью маршала Ланна, водившего столько раз свои гусарские полки в атаку, присутствовавший Ланн с досадой вскричал: «Гусар, который не убит в 30 лет, — не гусар, а дрянь!» Когда он это сказал, ему было 34 года, а спустя два года он пал, убитый ядром на поле сражения. Ланн был не просто удалым гусаром, а был способным полководцем. Таковы были помощники, которых выбрал себе и выдвинул в первые ряды Наполеон.
Почти все они были еще налицо в 1805 г., когда открылась война с третьей коалицией. Не было только Дезэ, убитого при Маренго, да не было и еще одного, которого Наполеон ставил едва ли не выше всех: изгнанный Моро жил в Америке. Во главе такой армии и располагая такими помощниками, стоял Наполеон, бывший тогда во всем блеске своих дарований.
Корпуса Сульта и Ланна и конница Мюрата перешли через Дунай и появились неожиданно для Мака на его тылах. Видя опасность, часть австрийцев успела проскользнуть на восток, но главная масса была отброшена Неем в крепость. Мак был сдавлен со всех сторон. Была еще возможность уйти, но Мака сбивали с толку подосланные Наполеоном искусные шпионы во главе со знаменитейшим из них Шульмейстером, уверявшие Мака, что нужно держаться, что Наполеон скоро снимет осаду, потому что в Париже вспыхнуло против него восстание. Когда Мак выразил недоверие, шпион дал знать во французский лагерь, и там средствами походной типографии был напечатан специальный номер парижской газеты с сообщением о мнимой революции в Париже. Шпион доставил этот номер Маку, тот прочел и успокоился.
15 октября маршалы Ней и Ланн с боем взяли высоты, окружавшие Ульм. Положение Мака стало совсем отчаянным. Наполеон послал к нему парламентера с требованием сдачи на капитуляцию, предупреждая, что если он возьмет Ульм приступом, то никто не будет пощажен. 20 октября 1805 г. уцелевшая армия Мака со всеми военными запасами, артиллерией, знаменами и с нею крепость Ульм были сданы на милость победителя. Наполеон отпустил самого Мака, а сдавшуюся армию отправил во Францию на разные работы. Спустя некоторое время Наполеон получил известие, что Мюрату удалось перехватить и взять в плен еще 8 тысяч человек из тех, которым посчастливилось до сдачи крепости ускользнуть из Ульма.
В сущности после ужасающего ульмского позора война была уже проиграна третьей коалицией, но лишь немногие из австрийского и русского штабов это сразу поняли. Не задерживаясь в Ульме, Наполеон и его маршалы двинулись правым берегом Дуная прямо на Вену. Во время дальнейшего преследования французы взяли еще массу пленных, а считая с битвами до Ульма, они взяли около 29 тысяч человек. Если присоединить сюда же взятых в Ульме 32 тысячи человек, получается 61 тысяча одними только пленными; убитые, не взятые в плен тяжелораненые и пропавшие без вести тут не учтены.
«200 пушек, 90 знамен, все генералы — в нашей власти. Из этой армии спаслось лишь 15 тысяч человек», — извещал Наполеон своих солдат о результатах этих первых операций войны в особом воззвании.
Движение французов к Вене продолжалось ускоренным темпом. Но армии Кутузова удалось все же на левом берегу Дуная, под Дюренштейном, напасть на корпус Мортье (11 ноября) и нанести ему серьезное поражение. 13 ноября, предшествуемый кавалерией Мюрата, окруженный своей гвардией, Наполеон въехал в Вену. Он поселился в императорском дворце в Шенбрунне, под Веной. Бежавший из Вены австрийский император Франц перед поспешным своим отъездом послал Наполеону предложение перемирия, но Наполеон не согласился.
Отныне все упования третьей коалиции были возложены на русские войска и на русского императора, а главные упования русского императора возлагались на привлечение в коалицию Пруссии. Тем и другим надеждам суждено было в самом скором времени разлететься прахом.
В октябре 1805 г., т.е. как раз в те дни, когда Мак, запершись в Ульме, готовился сдаться и сдался в плен со всей армией, император Александр I находился в Берлине и склонял короля прусского Фридриха-Вильгельма III объявить Наполеону войну. Фридрих-Вильгельм был в такой же тревоге и нерешимости, как и южногерманские курфюрсты, о которых шла речь выше. Он боялся и Александра и Наполеона. Сначала Александр вздумал даже угрожающе намекать на насильственный переход русских войск через прусскую территорию, но, когда король проявил неожиданную твердость и стал готовиться к сопротивлению, Александр начал действовать лаской. Тут, кстати, подоспело известие, что Наполеон приказал маршалу Бернадотту по пути в Австрию пройти через Аншпах, южное владение Пруссии. Нарушение нейтралитета было налицо, и король, оскорбленный самоуправством Наполеона, с одной стороны, а с другой — еще не учитывая успехов великой армии (дело было до сдачи Ульма), стал склоняться к вмешательству в войну на стороне третьей коалиции. Кончилось тайным договором между Фридрихом-Вильгельмом III и Александром, где предусматривалось предъявление со стороны Пруссии известных ультимативных требований Наполеону. После этого разыгралась нелепейшая сцена: Фридрих-Вильгельм, королева Луиза и Александр спустились в мавзолей и тут перед гробом Фридриха II поклялись в вечной взаимной дружбе. Затеяно это было в сентиментальных тонах того времени, нелепость же этой выходки заключалась в том, что в свое время Россия воевала именно с этим Фридрихом II семь лет, и то Фридрих бил русских, то русские жестоко били Фридриха, успели занять Берлин и чуть не довели короля до самоубийства. После этой курьезной инсценировки и демонстрации русско-немецкой вечной и пламенной взаимной любви Александр 1 выехал из Берлина и направился прямо на театр военных действий в Австрию.
В Англии и в Австрии ликование было полное. Если вся прусская армия пройдет через Рудные горы и явится на место действия, — Наполеон погиб. Так писали газеты, с восторгом рассказывая о трогательной русско-прусской клятве у гроба Фридриха Великого.
Наполеону требовалось во что бы то ни стало ускорить развязку, пока Пруссия еще не вступила в коалицию. Почти тотчас после взятия Вены французам удалось без боя захватить громадный мост, единственный почему-то не разрушенный австрийцами, соединявший Вену с левым берегом Дуная. О взятии этого моста ходило много анекдотических рассказов, один из которых (несколько неточный и приукрашенный легендой) хорошо знаком русским читателям по второй части «Войны и мира». На самом деле было так: Мюрат, Ланн, Бертран и один саперный полковник (Дод), искусно спрятав батальон гренадер в кустах и зарослях, сами без прикрытия явились к предмостному укреплению, объявили растерявшимся австрийцам, которым ведено было при первом появлении неприятеля взорвать мост, что уже заключено перемирие, прошли мост, вызвали генерала князя Ауэрсперга, повторили свою ложь о перемирии, и по данному сигналу, раньше чем Ауэрсперг успел ответить, французские гренадеры внезапно выскочили из кустов и бросились на австрийцев и на пушки, расставленные на мосту. В одну минуту французский батальон занял мост; австрийцы пытались оказать сопротивление, но оно было быстро сломлено.
Сейчас же, не теряя ни часу времени. Наполеон, которому ликующий Мюрат доложил об этом изумительном происшествии, приказав переправиться через этот мост и прямо идти на русскую армию. Наступило тяжелое время для русской армии. Наполеон со своими главными силами перешел у Вены через Дунай и стремился преградить русским их поспешное отступление на север. Кутузов, главнокомандующий союзной армией, ясно видел, что быстрый отход от Кремса к ольшанской позиции южнее Ольмюца — единственное спасение: у него было под рукой около 45 тысяч человек, у Наполеона немногим меньше 100 тысяч. В русской армии просто понять не могли истории с венским мостом и громко говорили об измене, о том, что австрийцы уже тайно сговорились с Наполеоном, — до такой степени бессмысленной, невероятной являлась потеря этого моста, давшая Наполеону немедленно, без всякой борьбы, обладание левым берегом Дуная, что неизбежно губило всю русскую армию. После тяжких арьергардных боев, где приходилось выставлять заслоны, явно обреченные на истребление, лишь бы дать время уйти главным силам, потеряв из 45 (приблизительно) тысяч около 12, измучив армию, Кутузов все-таки избежал страшившей его позорной сдачи на капитуляцию, ушел от наседавшего на него Наполеона и привел остатки своего войска в Ольмюц, где уже находились оба императора — Александр и Франц.
Положение было такое. Только что из России была подтянута гвардия и еще армейские подкрепления, и всех русских войск, считая уже с теми, которые привел Кутузов в Ольмюц и его окрестности, набралось до 75 тысяч человек. Австрийцев осталось к этому времени от 15 до 18 тысяч. Не нужно забывать, что одна большая австрийская армия была уже уничтожена Наполеоном еще до занятия Вены, а другая — более крупная и хорошо снабженная — сражалась в это время в Венецианской области против армии маршала Массена, которому Наполеон приказал очистить восточную часть северной Италии. Итак, в лучшем случае у союзников близ Ольмюца было около 90 тысяч человек. Но Кутузов лучше других знал, что далеко не все 75 тысяч русских солдат, числившихся на бумаге, можно было выставить на поле битвы, а гораздо меньше. Он страшился битвы, считал, что нужно продолжать отступление, начатое после внезапной переправы Наполеона через Дунай, что нужно уходить дальше на восток, ждать, затягивать войну, чтобы дать пруссакам время окончательно решиться выступить против французов. Но тут он натолкнулся на живейшее сопротивление: император Александр стоял за немедленное генеральное сражение.
Александр I, ничего не понимая в военных операциях, но снедаемый жаждой славы, уверенный в несомненном успехе, не сомневаясь, что близкое выступление Пруссии (после знаменитой клятвы у гроба Фридриха) безусловно обеспечено, рвался в бой. Бежать от Наполеона, имея свежую, только что пришедшую гвардию и громадные силы, укрываться затем от него месяцами в бедной горной стране казалось царю и постыдным и ненужным. Его любимец, молодой генерал-адъютант князь Петр Долгоруков, именно и был им приближен за то, что держался, как почти все гвардейское офицерство, его мнений. Кутузов знал, что и царь, и Долгоруков, и все им подобные в военном деле — полнейшие нули, если даже в других отношениях кое-кто из них были неглупые люди. Но Кутузов, хотя был твердо убежден, что русскую армию ждет катастрофа и что нужно бежать от Наполеона, не теряя времени, уклоняться от решительной битвы, отсиживаясь вдали, не мог, однако, противопоставить роковому легкомыслию, обуявшему царя, категорическую оппозицию, так как вся полнота власти принадлежала Александру.
Кутузов был в русско-австрийском лагере единственным настоящим полководцем, единственным понимающим дело генералом (из тех, голос которых вообще кое-что значил) (Багратион влияния на царя не имел), к нему все-таки прислушивались. Но тут вмешалась такая сила, с которой Кутузову было не сладить, хотя лично он и разгадал игру Наполеона.
Наполеон, преследовавший русских, когда они остановились у Ольмюца, вдруг тоже остановился со своей главной квартирой недалеко от Ольмюца, в Брюнне. Бонапарт в это время очень опасался только одного: как бы русские не ушли и не затянули войны. Далеко от Франции, зная, что к нему едет с ультиматумом от Пруссии Гаугвиц, Наполеон жаждал скорейшего генерального сражения; он был вполне уверен в победе, которая разом кончит войну. Его дипломатический и актерский дар развернулся в эти дни в полном блеске: он угадал все, что творилось в русском штабе, сыграл на руку Александру против Кутузова, употреблявшего последние слабые усилия, чтобы поскорее уйти и спасти русскую армию. Наполеон артистически разыграл роль человека, очень испуганного, ослабевшего, больше всего опасающегося битвы. Ему нужно было внушить противнику мнение, что именно сейчас легко разбить французскую армию, чтобы этим побудить русских немедленно напасть на него. Осуществляя свой замысел, он, во-первых, велел своим аванпостам начать отступление; во-вторых, он послал к Александру своего генерал-адъютанта Савари с предложением о перемирии и мире; в-третьих, приказал Савари просить Александра о личном свидании; в-четвертых, приказал тому же Савари просить Александра (в случае отказа в личном свидании) прислать доверенное лицо для переговоров. Ликование в русском штабе было полнейшее: Бонапарт трусит! Бонапарт истощил себя и погиб! Главное — не выпускать его теперь из рук!
В самом деле: все эти поступки Наполеона были так на него не похожи, так необычайны, так унизительны, что, казалось, гордый император, первый полководец в мире, никогда и не подумал бы так действовать, если бы в самом деле очень уж горькая необходимость его к этому не принудила. Кутузов со своими опасениями казался совсем посрамленным и опровергнутым. Александр отказал Наполеону в личном свидании и отправил к нему князя Долгорукова. Долго впоследствии издевался Наполеон над этим молодым придворным генералом; он его потом даже в официальной печати называл «freluquet». В этом непереводимом французском эпитете заключены два русских понятия, выражаемые словами «шалун» и «вертопрах». Вел себя Долгоруков надменно, непреклонно и внушительно, обращаясь с французским императором, «как с боярином, которого хотят сослать в Сибирь», — так впоследствии острил Наполеон, вспоминая об этом свидании. Продолжая талантливо исполнять ту же комедию. Наполеон прикинулся смущенным и расстроенным. И вместе с тем, зная, что не следует переигрывать и что все на свете, даже глупость князя Долгорукова, имеет предел, он кончил свидание заявлением, что не может согласиться на предложенные условия (Долгоруков предлагал ему отказаться от Италии и от ряда других завоеваний). Но самый отказ был облечен в такую форму, что не ослабил, а усилил общее впечатление неуверенности и робости Наполеона.
После радостного отчета Долгорукова о его впечатлениях все колебания в лагере союзников кончились: решено было немедленно напасть на отступающего, ослабленного, растерявшегося Наполеона и с ним покончить. 2 декабря 1805 г., ровно через год после коронации Наполеона, на холмистом пространстве вокруг Праценских высот, западнее деревни Аустерлиц, в 120 километрах к северу от Вены, разыгралась эта кровавая битва, одна из самых грандиозных по своему значению во всемирной истории, одна из самых поразительных в наполеоновской эпопее.
Наполеон лично руководил сражением с начала до конца: почти все его маршалы были налицо. Поражение русских и австрийцев определилось уже в первые утренние часы, но все-таки не погибла бы русская армия так страшно, если бы русские генералы не попали в ту ловушку, которую измыслил и осуществил Наполеон: он угадал, что русские и австрийцы будут стараться отрезать его от дороги к Вене и от Дуная, чтобы окружить или загнать к северу, в горы, и именно поэтому он как бы оставил без прикрытия и защиты эту часть своего расположения, отодвигая преднамеренно свой левый фланг. Когда русские туда пошли, он их раздавил массой своих войск, захвативших Праценские высоты, прижав русских к линии полузамерзших прудов. В прудах потонули или были уничтожены французской картечью целые полки, другие сдались в плен. Русские кавалергарды были истреблены почти полностью еще в разгаре битвы, после жестокой схватки с конными гренадерами наполеоновской гвардии. Маршалы изумлялись храбрости русских солдат, но и не меньше абсурдному поведению и полному военному невежеству, растерянности и бездарности русских генералов, кроме Кутузова. Они особенно поражены были, например, тем, что командующий левым крылом русских войск Буксгевден, имея 29 батальонов пехоты и 22 эскадрона кавалерии, вместо того чтобы помочь погибавшей русской армии, все время битвы провозился около третьестепенного пункта боя, где его часами удерживал ничтожный французский отряд. А когда Буксгевден, наконец, догадался начать отход, то сделал это так поздно и так неискусно, что несколько тысяч из его корпуса были отброшены к прудам и здесь потонули, так как Наполеон, заметив это движение, приказал бить ядрами в лед. Остальные были взяты в плен.
Император Франц и Александр бежали с поля битвы еще задолго до окончательной катастрофы Их свита бежала врассыпную, бросив обоих монархов по дороге, и монархи тоже убежали с поля сражения и быстро разлучились друг с другом, унесенные лошадьми в разные стороны.
Короткий зимний день склонялся к вечеру, солнце, ярко светившее весь день, зашло, а Александр и Франц в темноте спасались от плена. Александр дрожал, как в лихорадке, и плакал, потеряв самообладание. Его быстрое бегство продолжалось и в следующие дни. Раненый Кутузов едва спасся от плена.
Наступил вечер. Все было кончено. По широкой равнине, спотыкаясь поминутно о бесчисленные трупы людей и лошадей, проезжал Наполеон, окруженный громадной свитой, маршалами, генералами гвардии и адъютантами, приветствуемый восторженными криками солдат, отовсюду сбегавшихся к императору. Около 15 тысяч убитых русских и австрийцев, около 20 тысяч пленных, вся почти артиллерия неприятеля, а самое главное — фактическое уничтожение русско-австрийской армии, разбежавшейся на три четверти в разные стороны, бросившей весь свой колоссальный обоз, все боевые запасы, огромные массы провианта, — таковы были в общих чертах результаты этой победы. Французы потеряли меньше 9 тысяч (из 80 тысяч).
На другой день во всех частях французской армии читался приказ Наполеона. «Солдаты, я доволен вами: в день Аустерлица вы осуществили все, чего я ждал от вашей храбрости. Вы украсили ваших орлов бессмертной славой. Армия в 100 тысяч человек под начальством русского и австрийского императоров меньше чем в четыре часа была разрезана и рассеяна. Те, которые ускользнули от вашего меча, потоплены в озерах...» — так начинался этот приказ.
Немедленно австрийский император Франц заявил Александру, что продолжать борьбу совершенно немыслимо. Александр с этим согласился. Франц послал победителю письмо с просьбой о личном свидании. Наполеон встретился с Францем на своем бивуаке, недалеко от Аустерлица. Он принял императора Франца вежливо, но прежде всего потребовал, чтобы остатки русской армии немедленно ушли из Австрии, и сам назначил им определенные этапы. Он заявил, что переговоры о мире будет вести только с Австрией. Франц, конечно, согласился беспрекословно.
Третья коалиция европейских держав окончила свое существование.
В течение всей второй половины ноября и начала декабря 1805 г. Вильям Питт с большим волнением ждал известий о генеральном сражении. Глава английского правительства, создатель и вдохновитель третьей коалиции против Наполеона знал, что теперь Англия надолго обеспечена от нашествия: еще 21 октября 1805 г. в морской битве при Трафальгаре адмирал Нельсон напал на соединенный франко-испанский флот и уничтожил его, сам пав во время битвы. Отныне у Наполеона не было флота. Но Вильям Питт боялся другого. Он понимал, как понимала это и вся торговая и промышленная буржуазия Англии, что дело этим не кончится, что Наполеон держит прямой курс на полное изгнание английских купцов с торговых рынков тех стран Европы, которые прямо или косвенно попадут под его власть. Мало того, располагая богатейшими странами континента, портами и верфями, Наполеон имеет все средства выстроить новый флот и воссоздать Булонский лагерь.
Катастрофа Мака в Ульме, въезд Наполеона в Вену, захват моста французами и похожее на бегство отступление Кутузова, преследуемого наполеоновской армией, болезненно поразили Питта. Но явное согласие Пруссии примкнуть к коалиции снова оживило его надежды. В далекой Моравии, где-то возле Ольмюца, должен был решиться великий вопрос: будет ли свергнута диктатура Наполеона над половиной Европы или и другая половина континента попадет под его власть.
Наконец, пришли в Англию первые (голландские) газеты с роковой вестью: третья коалиция безнадежно погибла в крови и в позоре на аустерлицких полях. В парламентских кругах громко обвиняли Питта в гибельных иллюзиях, оппозиция требовала его отставки, кричала о позоре, который падет и на Англию, об английских золотых миллионах, выброшенных на создание бездарно провалившейся коалиции. Питт не выдержал нервного потрясения, заболел и слег, а спустя несколько недель, 23 января 1806 г., скончался. Аустерлиц убил, как тогда говорили, и этого самого упорного и талантливого врага Наполеона. Новый кабинет, во главе которого стал Фокс, решил предложить Наполеону мир.
Наполеон был на вершине торжества. Он предписывал условия, перед ним пресмыкались и побежденные и не воевавшие. С необычайной ловкостью использовал он свою великую победу. В Вену добрался, наконец, долго ехавший прусский дипломат Гаугвиц с ультиматумом Фридриха-Вильгельма III, и первое, что Гаугвиц поспешил сделать, — это забыть о том, с какой целью он приехал. Он явился к Наполеону со сладчайшей улыбкой, кланяясь в пояс, горячо поздравляя его величество с разгромом всех супостатов. Гаугвиц был жестоко напуган, как, впрочем, и его король, который с ужасом ждал расплаты за клятву, произнесенную над гробом Фридриха, и за другие недавние свои похождения. «Поздравляю ваше величество с победой!» — начал Гаугвиц. «Фортуна переменила адрес на ваших поздравлениях!» — прервал император.
Наполеон сначала накричал, сказал, что понимает все прусское плутовство, но затем согласился забыть и простить, однако с условием: Пруссия должна вступить с ним в союз. Условия союза таковы: Пруссия отдает Баварии свое южное владение — Аншпах; Пруссия отдает Франции свои владения — княжество Невшатель и Клеве, с г. Везелем; зато Наполеон отдает Пруссии занятый его войсками еще в 1803 г. Ганновер, принадлежавший английскому королю: Пруссия вступает в союз с Францией, т.е. объявляет англичанам войну. Гаугвиц согласился на все. Его король Фридрих-Вильгельм — тоже, тем более что он ожидал худшего. Бавария, союзница, получила от Австрии Тироль, от Пруссии — Аншпах, но зато отдавала Наполеону свою богатую промышленную область Берг. Наконец, Австрия уступала Наполеону как королю Италии всю Венецию и Венецианскую область, Фриуль, Истрию, Далмацию. В общем Австрия теряла одну шестую часть населения (4 миллиона из 24) и одну седьмую часть государственных доходов, а также громадные территории и уплачивала победителю 40 миллионов флоринов золотом.
Мир был подписан в Пресбурге 26 декабря 1805 г. За несколько дней до того был подписан тесный оборонительный и наступательный союз Наполеона с Баварией, Вюртембергом и Баденом. Во Францию и Италию потянулись бесконечные обозы с добычей, взятой в Австрии. Одних пушек было забрано в арсеналах и с бою 2 тысячи, больше 100 тысяч ружей и т.д. Но раньше чем покинуть разгромленную Австрию, Наполеон сделал еще одно дело. Король Фердинанд Неаполитанский и его жена Каролина еще в октябре 1805 г., соблазнившись после битвы при Трафальгаре мыслью, что Наполеон на этот раз будет разбит, вступили в сношения с Англией и Россией. Эта династия неаполитанских Бурбонов особенно болезненно всегда чувствовала гнет Наполеона и ненавидела его. Королева неаполитанская Мария-Каролина, родная сестра казненной королевы Марии-Антуанетты, не терпела Францию и, в частности, Наполеона уже давно и даже перед французским представителем Алькье не скрывала, что она мечтает, что Неаполитанское королевство будет спичкой, которая зажжет большой пожар. «Но сообразите, ваше величество, что ведь всегда спичка сгорает прежде всего, даже независимо от того, чём пожар окончится», — ответил ей посланник Наполеона. Теперь, после Аустерлица, «спичка» сгорела мгновенно. После Аустерлица Бурбонам пришлось жестоко поплатиться. «Бурбоны перестали царствовать в Неаполе», — произнес Наполеон и приказал немедленно занять все королевство французскими войсками. Бурбоны бежали на остров Сицилию, под охрану британского флота, а Наполеон вскоре назначил королем неаполитанским своего брата Жозефа. Затем, богато наградив отличившихся генералов, офицеров и солдат деньгами, орденами, повышением в чинах, некоторых через два, три чина сразу, он выехал из Вены в Париж и, 26 января 1806 г. встреченный несметными толпами ликующего народа, въехал в Тюильрийский дворец. А прошло еще несколько дней, и он узнал, что ненавистный враг, Вильям Питт, скончался за три дня до его возвращения в Париж, что Англия хочет мира. Теперь он в самом деле мог чувствовать себя Карлом Великим, императором Запада.
Роскошные пиры, балы, банкеты, неслыханно блестящая придворная жизнь окружила Наполеона; сотни подобострастных царедворцев ловили взгляды императора, оказывали ему божеские почести, осыпали его самой бесстыдной лестью.
Наполеон после смерти Вильяма Питта еще не мог надеяться на перемену английской политики. Но когда у власти стал Фокс, всегдашний противник внешней политики Питта, в Европе заговорили о близком мире между Англией и Францией. Действительно, начались переговоры, и Фокс послал в Париж для этих переговоров лорда Ярмута. Наполеон не очень верил в реальность надежд на мир, но вынудил уже в феврале 1806 г. Пруссию официально разорвать сношения с Англией; он стремился изолировать Пруссию не только от Англии, но и от России и тогда нанести ей решительный удар.
Прусский король уже с ранней весны 1806 г. стал убеждаться, в какое опасное положение он попал. Правда, Наполеон «простил»; Наполеон даже пожелал, чтобы Пруссия вступила с ним в союз, пообещав подарить Ганновер. Но в ответ на это Англия объявила Пруссии войну. Ганновер Наполеон так и не отдавал и держал там свои войска. В это-то время Фридрих-Вильгельм III вдруг узнал, что глава английского правительства Фокс послал в Париж лорда Ярмута для переговоров с Наполеоном о мире и что Наполеон дал понять Ярмуту, что если Англия заключит с ним мир на желательных основаниях, то он вернет Ганновер английскому королю. Прусский двор и правительство увидели, до какой степени их обманули. Возмущение больше всего сказывалось именно в тех кругах, которые в течение всего 1805 г. тщетно убеждали Фридриха-Вильгельма стать на сторону третьей коалиции. Они утверждали, что это могло бы предупредить Аустерлиц и спасти Пруссию от изоляции, в которой она теперь очутилась лицом к лицу с Наполеоном.
К этому времени Наполеон решил оформить и закрепить свою бесконтрольную власть над западной и отчасти центральной Германией. Он создал Рейнский союз. В середине 1806 г. союз был окончательно оформлен, и 12 июля подписан соответствующий договор всеми германскими государями, которым Наполеон приказал это сделать. В Рейнский союз вошли Бавария, Вюртемберг, Регенсбург, Баден, Берг, Гессен-Дармштадт, Нассау (обеих линий) и еще восемь германских княжеств. Этот союз «избрал» своим протектором императора Наполеона. В благодарность за принятие императором этого нового сана Рейнский союз брал на себя обязательство в случае войны выставить в распоряжение Наполеона 63 тысячи солдат. Много мелких самостоятельных владельцев, прежде подчинявшихся верховному суверенитету императоров австрийского Габсбургского дома, отныне подчинялись тем государям Рейнского союза, во владение которых были вкраплены их земли. Этим самым теряла последний смысл так называемая «Священная Римская империя», как называлось верховенство австрийских императоров над раздробленной Германией и над ее фактически самостоятельными князьями. Почти ровно тысячу лет существовал этот титул. Теперь (в 1806 г.) австрийский император Франц от него отказался по прямому предложению императора Наполеона.
Этот новый захват Наполеона, присоединение к его владениям новых территорий сильно встревожили и раздражили прусский двор и прусское правительство. Ведь Рейнский союз вводил наполеоновскую власть в самые недра Германии и прямо угрожал целости Пруссии. Опасность усиливалась еще тем, что одновременно с подготовкой этого Рейнского союза Наполеон произвел несколько назначений, которые были лишь слабо замаскированы расширением Французской империи за счет новых государств. Еще 15 марта 1806 г. последовало назначение маршала Мюрата великим герцогом Клеве и Берга (в западной Германии), 30 марта — назначение Жозефа Бонапарта неаполитанским королем, а маршала Бертье — князем Невшательским; 5 июня Другой брат Наполеона, Людовик Бонапарт, был назначен королем Голландии, министр иностранных дел Талейран — князем Беневентским, маршал Бернадотт — князем Понте-Корво в южной Италии. Все это были даже не вассалы, а просто наполеоновские наместники и генерал-губернаторы. И вся Европа это понимала.
Между тем Наполеон снова готовился к войне. В июне, образовав Рейнский союз, он прямо объявил Законодательному корпусу, что у него есть армия в 450 тысяч человек и есть средства, позволяющие содержать ее без займов и без дефицита. Около 200 тысяч войск Наполеон стал сосредоточивать по обоим берегам Рейна, в Эльзасе, Лотарингии и в государствах новосозданного Рейнского союза. Ходили зловещие слухи о готовящихся новых захватах французского императора.
6 июля в Париж приехал русский дипломат Убри. Александр послал его под предлогом специальных переговоров о бухте Каттаро, но на самом деле, чтобы осмотреться и удостовериться, насколько серьезны шансы на мир между Англией и Францией. Талейрану очень искусными маневрами удалось добиться подписания прелиминарных условий мира с Россией. Это случилось через какие-нибудь две недели после приезда Убри в Париж. Теперь все зависело от исхода переговоров между Талейраном и лордом Ярмутом, потому что Александр решил, в зависимости от их исхода, ратифицировать или не ратифицировать договор, подписанный в Париже его представителем Убри. Но мир с Англией был невозможен. И экономические, и политические интересы правящих классов Англии никак не мирились с диктатурой Наполеона на половине континента. А Наполеон при переговорах не шел в сущности ни на какие уступки, но предъявлял новые и новые требования, говорил о Египте, о Сирии...
И вдруг Европу облетела весть, что 13 сентября скончался британский министр иностранных дел, единственный в Англии могущественный поборник мира с Францией — Фокс.
Партия в Пруссии, требовавшая решительного противодействия наполеоновским захватам, сразу подняла голову; было ясно, что теперь ни Англия, ни, конечно, Россия мира с Наполеоном не заключат. Уже с начала сентября Фридрих-Вильгельм переходил от ярости к трусости и не знал, на что решиться. Но для него было очень большой радостью узнать, что снова возросли шансы на образование коалиции. В самый день смерти Фокса, еще не зная о фатальном исходе его болезни, прусский король решил двинуть войска в соседнюю с ним Саксонию. Спустя три недели оказалось, что в Испании очень склонны примкнуть к готовящейся вновь коалиции, если таковая будет победоносна, и между испанским двором и Фридрихом-Вильгельмом III завязались тайные сношенья.
В Пруссии среди дворянства и среди части буржуазии царили волнение и раздражение. Короля обвиняли в трусости, Гаугвица — в измене. Дворянство ненавидело Наполеона, видя только в нем прямого виновника разрушений, которым подверглись стародавние феодальные отношения и помещичье-крепостной быт: прусская буржуазия с беспокойством видела, как деятельно воздвигает Наполеон таможенные и иные стены между своими вассальными владениями и Пруссией, как планомерно ведет он работу на пользу французской промышленности в ущерб всякой иной. Среди офицерства и генералитета Пруссии царили задор и стремление отплатить за обиды, обманы и за то презрение, которое Наполеон откровенно и повсюду выражал. Королева Луиза (жена Фридриха-Вильгельма III) была главой этой дворянско-офицерской партии. Из Англии и России — хотя и Англия и Россия сами вели в это время бесплодные переговоры с Наполеоном — шли всяческие подбадривания и обнадеживания... Главное, что побудило короля к решительным шагам, заключалось в том, что Наполеон все равно начнет войну, сколько ему ни уступай. Решено было послать Наполеону просьбу объясниться по поводу своих намерений относительно Пруссии. Император ничего не ответил.
Прусская армия двинулась. Полки за полками с пением патриотических песен проходили через Берлин и Магдебург, направляясь к западу, и королева Луиза выходила навстречу и делалась центром манифестаций. Король Фридрих-Вильгельм выехал к армии, которая сосредоточивалась в Магдебурге и дальше к западу. Наполеону он послал новую ноту: он требовал отвода французских войск от границ Пруссии. В ответ на это требование Наполеон во главе своей армии перешел через границу Саксонии, где стояли пруссаки.
Глава IX. Разгром Пруссии и окончательное подчинение Германии. 1806–1807 гг.
Наполеон 8 октября 1806 г. отдал приказ о вторжении в Саксонию, союзную с Пруссией, и великая армия, сосредоточенная до этого в Баварии со времени Пресбургского мира, тремя колоннами стала переходить границу. Впереди в центральной колонне шел Мюрат с кавалерией, за ним Наполеон — с главными силами. В действующей великой армии было в тот момент около 195 тысяч человек — всего лишь несколько больше половины всех военных сил Наполеона, так как он должен был оставить в своих итальянских владениях до 70 тысяч и около такого же количества в других своих огромных владениях. Правда, эти 195 тысяч должны были пополняться новобранцами, которых пока усиленно готовили в тыловых лагерях. Против армии Наполеона Пруссия выставила несколько меньшее число бойцов — около 175–180 тысяч.
Чтобы понять ту неслыханно быструю, молниеносную и непоправимую катастрофу, которая последовала в ближайшие дни, мало, конечно, указать на этот незначительный численный перевес великой армии над прусской, мало даже вспомнить о совсем исключительных военных дарованиях французского полководца и о блестящем подборе маршалов и генералов, которыми он себя окружил. Тут столкнулись два социально-экономических уклада, два государственных строя, две обусловленные разницей социальных систем военные тактики и две военные организации. Типично крепостнический, феодально-абсолютистский строй, отсталый в промышленном отношении, владеющий совсем примитивной техникой, столкнулся с государством, которое пережило глубокую буржуазную революцию, уничтожило у себя феодализм и крепостнические порядки.
Об организации армии Наполеона мы уже говорили. Прусская армия в точности отражала в себе, как в зеркале, всю крепостническую структуру государства. Солдат — крепостной мужик, перешедший из-под розог помещика под фухтеля и шпицрутены офицера, осыпаемый пощечинами и пинками со стороны всякого, кто выше его, начиная с фельдфебеля, обязанный рабски повиноваться начальству; он знает твердо, что и речи быть не может об улучшении его участи, как бы храбро и исправно он ни сражался. Офицер только потому офицер, что он — дворянин, и были офицеры, которые хвалились жестокостью своего обхождения с солдатами, именно в этом видя истинную дисциплину. Генералами люди становились либо уже под старость, либо по протекции и знатности своего происхождения.
Еще в середине XVIII в., когда эти старорежимные порядки существовали во всех армиях, а не только в прусской, Фридрих II мог побеждать в Семилетнюю войну и французов, и русских, и австрийцев, хотя терпел время от времени и сам страшные поражения. Фридрих II понимал, что только неслыханной жестокостью он может заставлять угнетенных и озлобленных солдат идти в бой. «Самое для меня загадочное, — сказал он однажды одному приближенному генералу, — это наша с вами безопасность среди нашего лагеря». Со времени войн Фридриха II прошло 40 лет, а в Пруссии осталось все по-прежнему, с одним только изменением: самого Фридриха уже не было, а вместо него командовал бездарный герцог Брауншвейгский и другие убогие в умственном отношении титулованные генералы.
Что сделалось с прусскими правящими верхами в эту роковую для них эпоху, в конце лета и ранней осенью 1806 г.? Как Фридрих-Вильгельм III, боявшийся выступить против страшного императора за год до того в союзе с Англией, Австрией и Россией, осмелился выступить теперь? Больше всего тут с его стороны было смелости отчаяния: убеждение, что никакой покорностью не спасешься, что все равно Наполеон нападет. Но офицерство, генералитет, все высшее дворянство были решительно в восторге и вслух похвалялись, что проучат корсиканского выскочку, убийцу герцога Энгиенского, предводителя санкюлотов. Кого, вопрошали, побеждал Наполеон до сих пор? Трусливых, разноплеменных австрийцев? Варваров — турок и египетских мамелюков? Слабых итальянцев? Русских, которые почти такие же варвары, как турки и мамелюки? Не разлетится ли его слава дымом, когда он столкнется с войском, созданным еще Фридрихом II?
Придворно-офицерская среда, военачальники, генералы, великосветское окружение, королева Луиза и ее приспешники — все они дошли до крайней степени легкомыслия, фантазерства и хвастовства. Они не желали считаться с тем, что Наполеон черпает свои ресурсы не только из Франции, но и из нескольких уже покоренных им больших и богатых стран; они были уверены, что, как только прусская армия молодецким ударом опрокинет Наполеона, роялисты восстанут в тылу и низвергнут его во имя Бурбонов. Старый главнокомандующий, герцог Брауншвейгский, тот самый, который в 1792 г. был вождем военной интервенции и помимо своей воли ускорил падение французской монархии своим нелепым угрожающим манифестом, — всегда питал ненависть старорежимного крепостника-реакционера к французам, дерзким революционным смутьянам. Но он страшился непобедимого Бонапарта и не очень поддерживал праздничное и победоносное настроение, царившее вокруг королевы Луизы и принца Людвига. Пасторы в церквах Берлина и в провинции, со своей стороны, без затруднения ручались за деятельную поддержку господа бога, с давних пор, как общеизвестно, вполне дружески относившегося к династии Гогенцоллернов. С горячим нетерпением ожидали первых известий с театра войны. Никто не знал, с чьей стороны последует переход границы...
Три колонны наполеоновской армии двигались через Франконский лес к реке Эльбе, в тыл прусской армии, чтобы отрезать ее от ее сообщений.
На другой день после вторжения Наполеона в Саксонию, бывшую в союзе с Пруссией, 9 октября, произошел первый бой (при Шлейце). Авангард — Мюрат и маршал Бернадотт — приблизился к прусскому отряду и по приказу Наполеона атаковал его. Сражение было небольшое. Пруссаки были отброшены, потеряв около 700 человек (из них 300 убитыми). На следующий день, 10 октября, произошел новый бой, на этот раз более серьезный. Маршал Ланн подошел к г. Заальфельду, где стоял принц Людвиг, глава придворной военной партии, с девятитысячным войском. Бой, завязавшийся немедленно, кончился снова победой французов. Пруссаки бежали после упорного сопротивления, потеряв убитыми и пленными около полутора тысяч человек. К концу боя сам принц Людвиг был заколот штыком. Беглецы из-под Заальфельда присоединились к главным силам прусской армии, стоявшим близ г. Иены под начальством князя Гогенлоэ. Другая часть главных сил, под начальством самого герцога Брауншвейгского, отходила севернее — к Наумбургу, но ей не суждено было туда дойти.
Когда в Берлин пришли одно за другим известия о боях при Шлейце и при Заальфельде и о смерти принца Людвига, все были потрясены. Даже странно было, что два первых, хотя бы и неудачных, но сравнительно незначительных, боя могли до такой степени круто изменить общественную атмосферу. Не только утихло непомерное самохвальство, но как-то слишком уж быстро сменилось растерянностью и страхом. Только королева Луиза не падала духом и восторгалась вместе с окружающими геройской смертью принца Людвига и убеждала в том, что ожидаемое генеральное сражение сразу все исправит.
Наполеон предполагал, что главная масса прусской армии сосредоточивается в районе Веймара, чтобы продолжать отход к Берлину, и что генеральное сражение произойдет у Веймара 15 октября. Он послал маршала Даву к Наумбургу и далее на тылы прусской армии, Бернадотт получил приказ присоединиться к Даву, но выполнить его не мог. Наполеон с маршалами Сультом, Неем, Мюратом двинулся на Иену. К вечеру 13 октября Наполеон въехал в г. Иену и, смотря с высот окружающих гор, увидел крупные силы, отходившие по дороге в Веймар. Князь Гогенлоэ знал, что французы вошли в Иену, но он понятия не имел, что и сам Наполеон с несколькими корпусами находится тут же. В ночь с 13-го на 14-е Гогенлоэ остановился по дороге и неожиданно для Наполеона решил принять бой.
Еще перед рассветом Наполеон объехал ряды своей армии. Он говорил солдатам, что наступающее сражение отдаст всю Пруссию в руки французской армии, что император надеется на их обычную храбрость, и объяснил солдатам, как он это всегда делал, в самых общих чертах, главное содержание своего плана на предстоящий день.
Наконец рассвело. Наступило 14 октября 1806 г. — день, решивший участь Пруссии. Бой начался в первые же часы после рассвета; он был долгий и упорный, но уже в начале французам удалось добиться такого успеха, что никакие усилия неприятеля не могли вырвать победу из их рук. Сначала пруссаки и саксонцы отступали медленно, упорно обороняясь, но, искусно сосредоточив и введя в бой лучшие части корпусов маршалов Сульта, Ланна, Ожеро, Нея и кавалерию Мюрата, Наполеон в точности осуществил свой план. Когда прусская армия дрогнула и ударилась в бегство, преследование оказалось еще более губительным для побежденных, чем под Аустерлицем. Остатки прусской армии бросились к г. Веймару, преследуемые до города и в самом городе кавалерией Мюрата. Здесь их пало особенно много; разгоряченные французские всадники рубили, не слушая криков о пощаде, не беря в плен сдающихся. Прусская армия была разгромлена полностью. Ничтожные остатки спаслись и сохранили вид солдат, остальные были перебиты или взяты в плен, или (огромное большинство) пропали без вести.
Гогенлоэ с толпой бегущих успел уйти и стремился попасть к Наумбургу, где рассчитывал найти нетронутую главную часть армии, единственную, на которую теперь можно было рассчитывать. При этой второй части армии, шедшей под командованием герцога Брауншвейгского, находился и сам король Фридрих-Вильгельм. И вдруг к беглецам, убегающим из-под Иены, вечером и ночью совсем неожиданно стали присоединяться другие беглецы, рассказывавшие о том, какое новое несчастье обрушилось на Пруссию. Оказалось, что герцог Брауншвейгский, не дойдя до Наумбурга, остановился близ Ауэрштедта, в двух с небольшим десятках километров от Иены. Здесь и произошло столкновение с маршалом Даву, и сюда во время битвы до сражавшихся все время долетали отдаленные, тогда еще непонятные во всем их значении, звуки артиллерийской пальбы. Несмотря на недостаток сил (Даву имел всего один корпус, так как поддержки Бернадотта он не получил), главная часть прусской армии была наголову разбита. Сам герцог Брауншвейгский пал, смертельно раненный, в разгаре боя. Так остатки этой армии, как сказано, смешались в своем бегстве с беглецами первой армии, убегавшими из-под Иены и Веймара.
Король узнал, таким образом, от беглецов из-под Иены, что в один этот день, 14 октября, разгромленная в двух сражениях Наполеоном и маршалом Даву, почти вся прусская армия перестала существовать. Этого решительно никто в Европе, даже из злейших врагов Пруссии, не ожидал так скоро — через шесть дней после вторжения Наполеона.
Совсем неслыханная и никогда ранее не испытанная паника овладела беглецами, когда они, поделившись вестями, узнали теперь, что все погибло и что никакой армии больше нет.
Бегство остатков прусской армии происходило в еще большем смятении. Французы продолжали преследование и собирали по пути громадные обозы с провиантом, экипажи, лошадей, артиллерию, вполне годную к употреблению, — все, что беглецы бросали по дороге. Наполеон шел прямо на Берлин. По пути он приказал занять герцогство Гессен-Кассель, объявил тамошнюю династию, низложенной, занял Брауншвейг, занял Веймар и Эрфурт, Наумбург, Галле, Виттенберг. Князь Гогенлоэ уходил от него на север, собрав под своей командой около 20 тысяч солдат разных корпусов, почти безоружных, деморализованных, не повинующихся офицерам.
Убегая на север, армия с каждым днем уменьшалась в числе — за нею гнался Мюрат с кавалерией. За Пренцлау, на дороге в Штеттин, Гогенлоэ был окружен со всех сторон и должен был капитулировать. За несколько дней до того маршалу Ланну без сопротивления по первому требованию сдалась сильная крепость Шпандау с огромными военными припасами, а спустя несколько дней после сдачи Гогенлоэ генерал Ласаль во главе гусар подошел к Штеттину, грозной крепости с прекрасной артиллерией и большим гарнизоном (больше 6 тысяч человек), причем съестных припасов в крепости было в изобилии. Могучая твердыня, защищаемая обильной артиллерией, без единого выстрела сдалась по первому требованию гусарскому генералу, при котором не было ни одной пушки. Паника, самая беспросветная, как-то сразу и повсеместно овладела генералитетом, офицерами, солдатами погибающих остатков прусской армии. От хваленой дисциплины не осталось и следа, прусские солдаты тысячами шли сдаваться французам. Но и генералы и офицеры проявили такой упадок духа, который даже их победителям казался чем-то совсем небывалым. Как будто это были не те люди, которые всего за две недели до этого так гордо и самоуверенно собирались покончить с Наполеоном.
27 октября 1806 г., через 19 дней после начала войны и через 13 дней после битвы при Иене и Ауэрштедте, Наполеон в сопровождении четырех маршалов, конных гренадер и гвардейских егерей торжественно въехал в Берлин. Бургомистр города сдал Наполеону ключи от столицы и просил пощадить Берлин. Наполеон приказал, чтобы магазины были открыты и чтобы жизнь шла нормально. Население встречало императора боязливо, с почтительными поклонами и оказывало беспрекословное подчинение.
Водворившись в Берлине, Наполеон прежде всего стал уничтожать последние остатки разбежавшейся во все стороны прусской армии. Оставался, собственно, еще только отряд генерала Блюхера, наиболее энергичного из прусских военачальников. Блюхеру удалось собрать около 20 тысяч солдат и офицеров из разбежавшихся и разгромленных частей, и с ними он бежал к северу, преследуемый маршалами Бернадоттом, Сультом и Мюратом. Он вошел в Любек. Дальше была датская граница, но Дания, панически боявшаяся Наполеона, категорически воспретила Блюхеру перейти границу. Да это и не спасло бы, потому что маршалы немедленно перешли бы границу вслед за ним. 7 ноября маршалы вошли в Любек и тут, на улицах города, напали на отряд Блюхера. Произошла отчаянная резня: около 6 тысяч пруссаков были изрублены французами или взяты в плен. Блюхер с 14 тысячами человек успел вырваться из города, но к вечеру на равнине за Любеком, настигнутый и окруженный маршалами, Блюхер сдался на капитуляцию со всеми 14 тысячами солдат, офицеров и генералов, какие у него еще оставались, со всей артиллерией и запасами.
В это же время французы подошли к крепости Кюстрин на Одере. Они уже до такой степени привыкли теперь пользоваться полнейшей, совсем небывалой, невообразимой деморализацией, охватившей всю Пруссию после Иены, что к крепости Кюстрин подошли просто четыре роты пехотинцев без артиллерии, и командир этого ничтожного отряда потребовал (даже и для виду не приступая к осадным работам) капитуляции крепости. И крепость Кюстрин капитулировала по первому требованию с 4 тысячами прекрасно вооруженного гарнизона, с прекрасной артиллерией, с громадными складами провианта. Эта серия панических, неслыханных в военной истории сдач могучих крепостей без малейшей попытки сопротивления завершилась любопытнейшей историей с Магдебургом, историей, которой Наполеон не сразу поверил, когда ему впервые о ней доложили.
В Магдебурге, единственной еще не сдавшейся и очень сильной первоклассной крепости, являвшейся вместе с тем большим и богатым торговым центром, с огромными складами боеприпасов и продовольствия, с громадной артиллерией, был расположен большой и очень хорошо вооруженный гарнизон в 22 тысячи человек под начальством генерала Клейста. Эти 22 тысячи человек и магдебургская крепость являлись после сдачи Блюхера последним пунктов, где еще оставались вооруженные силы Пруссии. К Магдебургу подошел маршал Ней. От поспешности и уверенности в успехе Ней не потрудился даже взять с собой осадную артиллерию, а захватил лишь три-четыре легкие мортиры. Он предложил Клейсту немедленно капитулировать. Клейст отказался. Тогда маршал Ней велел выстрелить из своих легких мортир. Выстрелы не причинили (и не могли причинить) городу ни малейшего вреда, но этого оказалось достаточным: генерал Клейст со всем своим гарнизоном сдался Нею 8 ноября на капитуляцию, и маршал, войдя в город, нашел там огромные военные запасы и богатые склады разнообразных товаров. Клейст объяснял потом свое поведение тем, что, когда французы выстрелили из мортир, жители очень перепугались и просили его как начальника крепости, не теряя времени, сдать город. Уступая этому желанию, он и капитулировал.
Получив известие о Магдебурге, Наполеон, Франция и вся Европа поняли окончательно, что Пруссия кончена. Армия вся или истреблена, или в плену, крепости все, кроме Данцига, — в полном порядке и исправности, с громадными запасами — в руках французов, столица и почти все города — под начальством французских властей, всюду полная покорность населения.
Прусский король, королева Луиза, их дети и двор (очень небольшой) укрылись на окраине Прусской монархии, в г. Мемеле, после бедственных блужданий по другим местам. Все надежды короля Фридриха-Вильгельма на перемирие и мир были тщетны, — Наполеон ставил самые ужасающие условия. Во французских газетах Наполеон приказывал печатать статьи, в которых с жестокой иронией и ядовитой насмешкой говорилось о королеве Луизе; она называлась главной виновницей бедствий, постигших Пруссию.
Эти злобные выходки победителя не помешали Фридриху-Вильгельму III написать Наполеону почтительное письмо, в котором король выражал упование, что его величество император Наполеон доволен удобствами королевского дворца в Потсдаме и что все там для него оказалось в исправности. Наполеон на это ничего не ответил.
За всю его долгую победоносную карьеру никогда, ни до, ни после, с Наполеоном не случалось того, чего он достиг в эту осень 1806 г. В один месяц, если считать от дня начала войны (8 октября) до дня сдачи Магдебурга (8 ноября), он вконец разрушил одну из четырех существовавших тогда великих европейских держав, с которыми до тех пор должен был считаться. Его победа была на этот раз такой сокрушительной и полной, как еще никогда. Паническая растерянность прусского правительства и прусских генералов, полный отказ от сопротивления после первых же ударов, мгновенно проявившаяся и твердо установившаяся абсолютная покорность населения и всех гражданских властей — все это в таких размерах Наполеон наблюдал впервые. Мамелюки в Египте сопротивлялись, австрийцы сопротивлялись, итальянцы сопротивлялись, русские очень храбро сражались, и даже на Аустерлицком поле отдельные части вели себя так стойко, что вызвали потом похвалу Наполеона. А тут армия, хвалившаяся традициями Фридриха II, страна с наиболее исправной администрацией, население, по своей общей культурности не уступавшее тогда никому в Европе, вдруг превратились в инертную массу. Вся Европа была потрясена и напугана. О германских государствах нечего и говорить: одна германская страна за другой спешила засылать в Потсдамский дворец к Наполеону изъявления полной покорности.
Вполне было естественно, что в эти октябрьские и ноябрьские дни, живя в каком-то радужном тумане, среди ежедневно поступавших к нему в Берлин и в Потсдам известий о сдаче крепостей и последних остатков прусской армии, среди коленопреклоненных молений о пощаде, о заступничестве, среди льстивых уверений курфюрстов, герцогов и королей в верноподданнических чувствах. Наполеон решил нанести главному своему врагу, Англии, сокрушительный удар, который именно теперь, после завоевания Пруссии, стал, по его мнению, возможен. Меньше чем через две недели после сдачи Магдебурга маршалу Нею император подписал 21 ноября 1806 г. свой знаменитый берлинский декрет о континентальной блокаде.
Континентальная блокада сыграла огромную роль в истории наполеоновской империи, и не только в истории всей Европы, но и в истории Америки; она сделалась стержнем всей экономической, а потому и политической борьбы в течение всей императорской эпопеи.
В чем заключалась характернейшая особенность берлинского декрета о блокаде? Ведь уже при революции воспрещено было торговать с англичанами, и, например, еще декретом 10 брюмера V года (1796 г.) этот запрет был чрезвычайно ясно выражен и мотивирован. Да и при Наполеоне не только этот декрет повторялся и подтверждался, но не далее как 22 февраля того же 1806 года император, воспрещая ввоз откуда бы то ни было бумажных материй и пряжи, еще раз подтвердил свои резко протекционистские взгляды, направленные к охране интересов французской промышленности. Издавая 21 ноября 1806 г. свой берлинский декрет, Наполеон не только продолжал и укреплял монополизацию имперского внутреннего рынка в пользу французской промышленности, но и жестоко бил всю английскую экономику, старался осудить ее на полное удушение, на государственное банкротство, голод и капитуляцию. В том-то и было дело, что на этот раз он хотел изгнать англичан не из Французской империи только, но из всей Европы, экономически их обескровить, лишить их всех европейских рынков сбыта. Первый параграф декрета гласил: «Британские острова объявлены в состоянии блокады», второй параграф: «Всякая торговля и всякие сношения с Британскими островами запрещены». Дальше воспрещалась почтовая и иная связь с англичанами и приказывалось немедленно и повсеместно арестовывать всех англичан и конфисковывать принадлежавшие им товары и их имущество вообще.
Если бы даже не было обильнейших документальных комментариев, на которые нисколько не скупился Наполеон, когда речь шла о континентальной блокаде, то вполне достаточно было бы даже просто вдуматься в текст берлинского декрета, чтобы понять его истинный исторический смысл: экономическая блокада Англии могла дать сколько-нибудь существенные результаты, только если бы вся Европа попала или под прямую власть, или под неукоснительный и властный контроль со стороны Наполеона. В противном случае достаточно было одной стране не повиноваться и продолжать торговать с Англией, как и весь декрет о блокаде сводился к нулю, потому что из этой непослушной страны английские товары (под неанглийскими марками) быстро и легко распространились бы по всей Европе.
Вывод отсюда ясен: если для победы над Англией нужно неукоснительное соблюдение континентальной блокады всеми европейскими государствами, то необходимо покорить воле Наполеона всю Европу и прежде всего захватить все европейские берега, чтобы французские таможенные чины и французские жандармы могли там распоряжаться по-своему и в самом деле уничтожать контрабанду. Не требовалось обладать государственным умом Наполеона, чтобы понять, как страшно тяжела будет блокада не только для Англии, но и для всей потребительской массы Европы, которая лишалась, таким образом, английской мануфактуры и английских колониальных товаров, начиная с хлопка и кончая кофе и сахаром. Наполеон наперед знал, как прибыльна, а поэтому и активна будет контрабанда со стороны английских купцов, как охотно будут прибегать к контрабанде французские торговцы, привыкшие продавать англичанам свое сырье. Все это Наполеон предвидел с самого начала, и логический ответ был один: нужно продолжать так удачно начатое покорение европейского континента, чтобы таким путем сделать возможным фактическое осуществление континентальной блокады.
Он мог убедиться очень скоро, что есть один слой населения во всей Европе — именно промышленная буржуазия, которая будет приветствовать избавление от английской конкуренции. Когда сейчас же после разгрома пруссаков Саксония изменила союзу с Пруссией и примкнула к Наполеону, обещав полностью подчиниться декрету о континентальной блокаде, промышленники Саксонии были крайне рады этому и выражали бурный восторг, но торговцы, землевладельцы, широкая потребительская масса были обеспокоены и удручены. Наполеон мог наперед знать, что только силой, только страхом и принуждением можно будет заставить все правительства и все народы Европы принять и выполнять в точности предписания блокады.
С момента издания декрета, 21 ноября 1806 г., создание «империи Карла Великого», ее расширение и укрепление сделались прямым требованием, логической необходимостью при избранной Наполеоном экономической системе борьбы против Англии.
В Потсдамский дворец к императору был позван министр иностранных дел Талейран, и ему было приказано немедленно разослать во все вассальные или полувассальные страны повеление Наполеона о блокаде.
В то же время император приказал маршалам произвести возможно полный систематический захват побережья Северного (Немецкого) и Балтийского морей. Наполеон вполне сознавал, какую чудовищную меру он решил пустить в ход. «Не дешево нам стоило поставить интересы частных лиц в зависимость от ссоры монархов и возвратиться после стольких лет цивилизации к принципам, которые характеризуют варварство первобытных времен; но мы были вынуждены противопоставить общему врагу то оружие, которым он пользуется», — так писал Наполеон в своем официальном послании к сенату Французской империи, которым оповещал сенат о континентальной блокаде. Послание было помечено тем же днем, как и декрет («Берлин, 21 ноября 1806 г.»).
Европа приняла декрет о блокаде с молчаливой и боязливой покорностью. После разгрома Пруссии еще никто как следует не успел опомниться, и многие со страхом считали свои дни и ждали гибели. Англия же поняла, что борьба теперь пошла не на жизнь, а на смерть. И она снова обратилась к той державе, к которой уже дважды обращалась» в 1798 и в 1805 гг. Снова Александру I обещана была финансовая поддержка, если он возобновит борьбу с Наполеоном и попытается спасти Пруссию. Обращался английский кабинет и к Австрии, но эта держава еще не оправилась от страшного аустерлицкого погрома и злорадно наблюдала за гибелью Пруссии, не решившейся в 1805 г. выступить на стороне третьей коалиции. Зато в Петербурге все оказалось вполне подготовленным к выступлению. Наполеон держал в изобилии во всех странах и столицах, а особенно в Петербурге, многочисленных шпионов и лазутчиков, которые представляли собой необычайное разнообразие, начиная от графов, князей и пышных великосветских дам и кончая шкиперами и лавочниками, лакеями и почтовыми чиновниками, докторами и курьерами. Через них Наполеон знал о переговорах Англии с Россией, о настроениях и приготовлениях Александра, об обещании новых английских золотых субсидий русскому царю в случае выступления России. Организовав временно центр управления своей громадной империи в Берлине, Наполеон не покладая рук начал работать разом над двумя трудными задачами: во-первых, над мерами по реализации только что провозглашенной континентальной блокады и, во-вторых, над подготовкой армии к предстоящей в близком будущем новой встрече с русскими войсками, которые должны были прийти на помощь погибающей Пруссии.
Наполеон велел оккупировать старые торговые приморские города — Гамбург, Бремен, Любек. Французские войска шли берегами Немецкого и Балтийского морей, занимая города и прибрежные села, арестовывая попадавшихся англичан, конфискуя английские товары, ставя всюду сторожевые пикеты и разъезды для ловли английской контрабанды. До сих пор Пруссия, Саксония и другие германские государства должны были доставлять средства для содержания французской великой армии, стоявшей в завоеванной стране. Теперь ганзейские города должны были содержать еще и французских таможенных чиновников и береговых стражников, поставленных по берегу Немецкого моря для борьбы против английского ввоза. Одновременно Наполеон энергично подготовлял вторжение в Польшу и новое выступление претив русских, двигавшихся уже к границам восточной Пруссии.
Выступление Александра диктовалось на этот раз более существенными мотивами, чем в 1805 г. Во-первых, на этот раз Наполеон грозил уже довольно явственно русским границам: его войска уже двигались от Берлина на восток. Во-вторых, одна делегация поляков за другой являлась в Потсдам к Наполеону, прося его о восстановлении самостоятельности Польши, и император французов, король Италии, протектор Рейнского союза явно не прочь был прибавить к своим трем титулам еще четвертый, связанный с Польшей. А это грозило отнятием у России Литвы и Белоруссии, а может быть, и Правобережной Украины. В-третьих, ясно было, что после декрета о континентальной блокаде Наполеон не успокоится, пока так или иначе не заставит Россию примкнуть к числу держав, выполняющих этот декрет, а разрыв торговли с Англией грозил разорительными последствиями для всего сбыта русского сельскохозяйственного сырья в Англию и для устойчивости тогдашней очень шаткой русской валюты. Словом, причин к войне против Наполеона нашлось достаточно даже и помимо желания как-нибудь отплатить за аустерлицкий разгром и позор. Готовились гораздо более серьезно, чем в аустерлицкую кампанию. С тревогой учитывали неслыханно быструю гибель Пруссии, сознавали, с каким сильным противником приходится иметь дело. Ни на чью реальную помощь при этом рассчитывать не приходилось: Пруссия как держава в тот момент, в конце 1806 г., уже почти не существовала.
В Петербурге было решено отправить против Наполеона в первую очередь 100 тысяч человек с главной массой артиллерии и с несколькими казачьими полками. Гвардия должна была тронуться из Петербурга несколько позже. Наполеон решил предупредить русскую армию. Уже в ноябре французы вступили в Польшу. Польское дворянство и немногочисленная торгово-ремесленная буржуазия встретила их появление с большим восторгом, уже наперед приветствуя в Наполеоне восстановителя польской самостоятельности, погибшей при трех разделах Польши в конце XVIII в. Но Наполеон относился к идее самостоятельности Польши довольно прохладно. Поляки были ему нужны в его громадной игре только как некоторый аванпост или буфер при столкновении с Россией и Австрией на востоке Европы (Пруссию он уже ни во что не считал). Но для этого необходимо было, чтобы Наполеон в своей внешней политике последовательно проводил революционные традиции буржуазной Франции. Между тем он никогда не ставил себе такой задачи, а разгромить царскую империю он тогда и не собирался. В данный момент Польша ему была нужна как источник пополнения и снабжения армии. Первого он добился использованием распространенных в польском мелком дворянстве и городской буржуазии симпатий к Франции как носительнице идей национальной свободы. Посредством строго проводимых реквизиций он сумел выкачать из страны довольно большие местные ресурсы.
Впоследствии Тильзитским миром Наполеон разрешил «польский вопрос», вновь переделив Польшу, отдавая своему новому союзнику, саксонскому королю, бо́льшую часть завоеванной прусской Польши в виде так называемого Великого герцогства Варшавского. Это была северная половина этнографической Польши, кроме Белостокского округа, переданного Александру. Пока что, при неопределенном положении, создавшемся в период до Тильзитского мира. Наполеону удалось создать французскую партию среди польских магнатов, которые раскачивались медленно, боясь репрессий России против их родственников — крупных помещиков в Литве, Белоруссии и на Украине. Военный министр временного правительства Польши, князь Иосиф Понятовский, получивший впоследствии звание французского маршала, заявил себя сторонником Наполеона не сразу.
Внутренняя политика Наполеона в Польше должна была означать шаг вперед по пути ее буржуазного развития. Параграф первый обнародованной им конституции Великого герцогства Варшавского гласил: «Рабство отменяется. Все граждане равны перед законом». Однако это была только фразеология, ибо «свободный земледелец», уезжающий из деревни, в которой он находился, должен был вернуть помещику земельную собственность. Среди крепостного крестьянства прусской Польши под влиянием свободных граждан — солдат французской армии — стали появляться признаки движения против помещиков. Но это движение и здесь не получило развития. Формальное «освобождение» крестьян не лишало помещиков власти.
Благодаря воскресшим надеждам на освобождение Польши от прусского господства, а в будущем и от австрийского владычества при перспективе «воссоединения» Литвы, Белоруссии и Украины французскую армию принимали в Польше с распростертыми объятиями. В Познани маршалу Даву устроили триумфальный прием. Всюду в этой провинции, даже там, куда еще не проникали французские войска, прусские власти были смещены и заменены поляками. Руководящую роль в начале движения против Пруссии сыграл вернувшийся из Франции участник восстания Костюшко, Выбицкий.
Движение в стране против пруссаков начало постепенно подниматься. Сначала среди формируемых войск преобладает дворянское ополчение, но уже в конце января 1807 г. на фронте на путях к Данцигу появились регулярные полки, «легия», генерала Домбровского, возвратившегося из Италии. В феврале 1807 г. насчитывалось уже 30 тысяч регулярных войск с кадрами из бывших унтер-офицеров и офицеров «польских легионов», созданных Бонапартом во время итальянской кампании 1796–1797 гг.
Но, вообще говоря, никакого общего вооруженного движения страны на помощь французам не произошло, и маршал Ланн писал Наполеону в Берлин из Польши, что особого толка от поляков ждать не приходится, они склонны к анархии и ничего прочного у них создать невозможно.
В конце ноября Наполеон получил известие, что передовые части русской армии вошли в Варшаву. Наполеон приказал Мюрату и Даву идти немедленно на Варшаву. Мюрат 28 ноября вошел с кавалерией в город, накануне оставленный пруссаками, ушедшими за Вислу и сжегшими за собою мост. Наконец и сам Наполеон появился в Польше, сначала в Познани, потом в Варшаве. Он заявил дворянству, явившемуся к нему на поклон, что сначала нужно заслужить право восстановления Польши. Он хотел было выписать в Польшу из Парижа знаменитого Тадеуша Костюшко, национального героя тогдашней Польши, борца против разделов Польши при Екатерине. Но Костюшко ставил условия, имевшие целью оградить будущую свободу Польши от самого Наполеона, которого Костюшко считал деспотом. Фуше, ведший переговоры с польским патриотом, почтительнейше вопрошал императора, что же сказать Костюшко. «Скажите ему, что он дурак!» — ответил император. Он решил обойтись собственными силами, не надеясь уже на всеобщее восстание в Литве и Белоруссии против царской России.
Началась борьба с русскими. Выйдя из Варшавы, Наполеон атаковал русских. После нескольких стычек 26 декабря 1806 г. произошла битва при Пултуске (на реке Нареве). Русскими командовал генерал Беннигсен. Александр относился к нему с той смесью антипатии и боязни, как вообще ко всем убийцам Павла (хотя все они были только его сообщниками в этом убийстве), но назначил его за неимением более подходящего человека. Французскими войсками командовал маршал Ланн. Сражение окончилось без явного перевеса в ту или иную сторону, и, как всегда в таких случаях бывает, обе стороны рапортовали своим государям о победе. Ланн донес Наполеону, что русские с тяжелыми потерями отброшены от Пултуска, а Беннигсен донес Александру, что он разбил самого Наполеона (которого и в помине не было ни в Пултуске, ни даже в далекой окружности от Пултуска).
Но французы уже по этому сражению увидели, что им придется иметь дело не с пруссаками, павшими духом, а со свежими, стойко борющимися русскими войсками.
Наполеон расположился зимними лагерями в Польше, подтягивая из Франции подкрепления. К русской армии тоже подходили новые силы из внутренних губерний.
Всего в Польше у Наполеона было около 105 тысяч человек, из них около 30 тысяч были расположены гарнизонами в городах и оставлены на всякий случай заслоном между Торном и Грауденцем против возможного движения из Мемеля, хотя у Фридриха-Вильгельма почти никаких сил не было. Беннигсен располагал 80–90 тысячами. Обе стороны искали встречи.
Она произошла 8 февраля 1807 г. при г. Эйлау (точнее Прейсиш-Эйлау) в восточной Пруссии. Наполеон лично командовал французской армией.
Битва при Эйлау, одна из самых кровопролитных битв того времени, превосходящая в том отношении почти все сражения, до тех пор данные Наполеоном, кончились вничью. Беннигсен потерял больше трети армии. Огромные потерн были и у Наполеона. Русская артиллерия в этом сражении оказалась гораздо многочисленнее французской, и не все маршалы вовремя подошли к месту действия. Почти весь корпус маршала Ожеро был истреблен русским артиллерийским огнем. Сам Наполеон с пехотными полками стоял на кладбище Эйлау, в центре схватки, и чуть не был убит русскими ядрами, падавшими вокруг него. На его голову сыпались поминутно ветки деревьев, обламываемые пролетавшими ядрами и пулями. Наполеон всегда считал, что главнокомандующий не должен рисковать своей жизнью без самой крайней необходимости. Но тут, под Эйлау, он видел, что снова, как под Лоди, как на Аркольском мосту, наступила именно эта крайняя необходимость. Но там, под Лоди или под Арколе, нужно было броситься первому на мост, чтобы этим порывом и жестом увлечь замявшихся гренадер за собой, под Эйлау же требовалось заставить свою пехоту стоять терпеливо часами под русскими ядрами и не бежать от огня.
Наполеон и окружавшие его видели, что только личное присутствие императора удерживает пехоту в этом ужасающем положении. Император остался неподвижно на месте, отдавая новые и новые приказания через тех редких адъютантов, которым удавалось уцелеть при приближении к тому страшному месту, где стоял окруженный несколькими ротами пехоты Наполеон. У его ног лежало несколько трупов офицеров и солдат. Пехотные роты, вначале окружавшие императора, постепенно истреблялись русским огнем и заменялись подходившими егерями, гренадерами гвардии и кирасирами. Наполеон отдавал приказания хладнокровно и дождался в конце концов удачной атаки всей французской кавалерии на главные силы русских. Эта атака спасла положение. Кладбище Эйлау осталось за французами, центр боя перенесся в другие места громадного пространства, где происходило сражение.
Когда мрак ночи окутал поле, французы считали себя победителями, потому что Беннигсен отошел. Наполеон в своих бюллетенях говорил о победе. Но, конечно, он первый понимал, что никакой настоящей победы он в этот кровавый день не одержал, хотя и потерял большое количество людей. Он знал, что русские потеряли гораздо больше, чем он (хотя, впрочем, вовсе не половину своей армии, как утверждали французы). Но Наполеон понимал, что Беннигсен сохранил еще грозное, очень боеспособное войско и нисколько не считает себя побежденным, а, напротив, тоже трубит о своей победе.
«В течение четырех месяцев мы не могли добиться никакого результата с русскими, и господь знает, когда мы их настигнем!» — так писал Коленкур, герцог Виченцский, вовсе не склонный, вообще говоря, терять бодрость духа. На парижской бирже после Эйлау сразу пали все государственные облигации. Вдали от Франции, лицом к лицу с русской армией, которая нанесла ему ничуть не менее жестокий удар, чем сама от него получила. Наполеон должен был готовиться к решающей схватке. Неудача или даже новая нерешительная битва вроде второго Эйлау могла стать началом всеевропейского восстания против завоевателя.
Стояла зима, холодная, туманная, нужно было расположиться лагерями в дотла разоренной Польше и восточной Пруссии. Госпитали были переполнены тяжелораненными после Эйлау. С полей битв на много километров вокруг шли миазмы от десятков тысяч разложившихся и неубранных трупов, вынуждая уходить подальше.
Наполеон решил выжидать наступления весны для возобновления военных действий. Непрерывно лично контролируя и ревизуя самые далекие пункты громадного района, он посещал госпитали, следил за подвозом провианта, комплектовал поредевшие ряды своей армии новыми силами — подходившими из Франции новобранцами. Император принимал во внимание, что русские почти у себя дома, в двух шагах от своих границ, а он отдален от Франции всей толщей, — правда, побежденных, почти покоренных, — тайно ненавидевших его европейских государств. Необходимые жизненные припасы приходилось получать издалека. Местные жители, вконец разграбленные войсками, сами умирали голодной смертью, бродили вокруг французских лагерей с женами и детьми, выпрашивая подаяние.
Наполеон не желал проводить эту зиму в комфорте одного из занятых им городов, в Познани, в Бреславле или в роскошном варшавском дворце. Ему хотелось личным примером подбодрить солдат в этом тяжелом походе. «Я не снимал ни разу сапог в течение 15 дней... Мы — среди снега и грязи, без вина, без водки, без хлеба, едим картошку и мясо, делаем долгие марши и контрмарши, без всяких удобств, бьемся обыкновенно штыковым боем или под картечью, раненых везут в открытых санях на расстоянии 50 лье... Мы ведем войну изо всех сил и во всем ее ужасе», — так писал император с этих зимних стоянок своему брату Жозефу, которого он назначил королем неаполитанским.
Месяцы невольного военного затишья были для Наполеона временем самой кипучей деятельности. Почти каждые 3-4 дня прибывали курьеры из Парижа, из Амстердама, из Милана, из Неаполя, из Берлина с докладами министров, с реляциями маршалов и наместников, с донесениями послов. Самодержавно правя несколькими большими государствами. Наполеон всегда оставлял за собой окончательное решение по всем существенным вопросам. Жил он то в амбаре (в Остероде), то в крестьянской избе и там читал бумаги и диктовал приказы и резолюции. В течение дня он писал приказ об усилении таможенного надзора и подписывал с изменениями устав института для офицерских дочерей, делал выговор голландскому королю, другому своему брату, Людовику, или требовал от баварского короля усилить надзор в Тироле. Приказывал испанским Бурбонам увеличить прибрежную охрану и, одновременно следя за литературой, гневался на нелепые, по его мнению, литературные взгляды журнала «Mercure de France» и приказывал министру полиции Фуше немедленно переменить все литературные мнения этого журнала, а уж кстати подыскать нового редактора, и чтобы новый редактор был умный. Он осведомлялся и о шелковом производстве в Лионе и почему позволяют парижским актрисам государственного театра интриговать друг против друга и этим вредить делу. Приказывал изгнать из Парижа г-жу Сталь за либеральный образ мыслей и проверял отчеты и доклады министерства финансов и обнаруживал в них ошибки и неточности. Увольнял и назначал чиновников в Италии, отдавал распоряжения о бдительном наблюдении за Австрией и австрийскими военными приготовлениями и назначал ревизии в города и села Пруссии.
Все эти бесчисленные и разнохарактерные дела решались Наполеоном ясно, точно, без всяких замедлений, и он не только решал те дела, которые ему присылались министрами, генералами, послами, но и сам ставил новые вопросы и срочно приказывал разработать соответствующие доклады. Курьеры летели сломя голову в указанном направлении, и приказание исполнялось. Все это делалось Наполеоном одновременно с главными его трудами по дипломатической и военной подготовке наступающей весенней кампании.
Наполеону блистательно удалось то, к чему он стремился уже с конца 1806 г.: он побудил султана турецкого, объявившего России войну, к более энергичным действиям. Он написал султану (в марте 1807 г.) письмо, очень ловко составленное, а перед тем искусно сумел поссорить султана Селима и с Англией, так что Селим повел себя гораздо энергичнее. Это отвлекало часть русских сил от Вислы и Немана, где должна была решиться участь кампании.
Вел Наполеон некоторое время и переговоры с укрывавшимся в Кенигсберге прусским двором. Его условия показались слишком жестокими Фридриху-Вильгельму III, который после Эйлау несколько воспрянул духом. Переговоры были прерваны королем по настоянию Александра. А 26 апреля король лично повидался с Александром в Бартенштейне и стал совсем непримирим: он выставил условия, на которые Наполеон ни за что не пошел бы даже после тяжкого поражения.
Наполеон не признавал, что на войне могут быть мелочи, и поэтому все взвесил, все предусмотрел, зная, от каких мелочей иногда зависит исход боя в решительной момент. Новые солдаты, новая артиллерия, огнеприпасы подходили в императорские лагери и распределялись самим Наполеоном по корпусам. Он в свое время издал ряд постановлений и заключил целую серию договоров, по которым пополнялась теперь его армия немцами, итальянцами, голландцами.
Европа в тот момент до такой степени была запугана, что Наполеон делал решительно все, что заблагорассудится, даже с теми державами, которые вовсе ни с ним и ни с кем вообще не воевали. Так, например, работая над пополнением армии к предстоящему новому столкновению с русскими войсками. Наполеон установил, что от Испании можно потребовать около 15 тысяч человек (не имея, впрочем, на то ни малейших прав или оснований, тем более что Испания вовсе и не состояла в войне ни с Пруссией, ни с Россией). Немедленно в Мадрид летит бумага, в которой Наполеон обращает внимание испанского министра дона Годоя на то, что эти 15 тысяч человек, «абсолютно бесполезные» сами по себе, ему Наполеону, напротив, были бы очень полезны. Этот аргумент (других не было, да и быть не могло) показался испанскому правительству настолько убедительным, что требуемые 15 тысяч испанцев были немедленно отправлены к Наполеону в восточную Пруссию, а отчасти на север Германии. К маю 1807 г. у Наполеона в распоряжении было восемь маршалов, в корпусах которых числилось 228 тысяч человек, да еще около 170 тысяч стояли в оккупированной Пруссии, пока не привлеченные к участию в начинавшейся весенней кампании. Дела с провиантом весной поправились. 26 мая сдался маршалу Лефевру Данциг после сравнительно продолжительной осады, и там было найдено огромное количество провианта и запасов всякого рода. Близилась развязка. Русская армия, за эти месяцы (после Эйлау) также пополненная численно, была гораздо хуже снабжена, чем великая армия Наполеона. Злоупотребления происходили, конечно, и во французской армии; преследуя воров и взяточников, спекулянтов и подрядчиков, недобросовестных финансистов и скупщиков. Наполеон все-таки в этой борьбе победы не одержал, и во Франции даже говорили, что эти воры только усмехаются, когда при них называют императора «непобедимым». Только что говорилось, как трудно жилось французам в этой разоренной стране зимой 1807 г.; русским жилось, вне всякого сравнения, еще хуже. Русские солдаты голодали, холодали, умирали.
Александр I страшился нового Аустерлица. В русских правящих и придворных кругах давно уже возникла мысль о необходимости напрячь не только материальные, но и все духовные силы русского народа и воодушевить его к великой борьбе. Курьезнейшие последствия имела эта мысль. На предмет одушевления народа обратились к синоду. Синод — неизвестно, по чужому ли внушению или под наитием собственного наплыва мыслей, — решился на странный поступок, повергший тогда многих в полное недоумение. Появилось послание ко всем православным христианам от их духовных пастырей, в котором сообщалось, что Наполеон есть предтеча антихриста, что он — исконный враг веры христовой, создатель еврейского синедриона, что он в свое время отрекся от христианства и предался Магомету (это был намек на Египет и Сирию), что войну с Россией он затеял и ведет с прямой и главной целью разрушить православную церковь.
Таково было главное содержание этого изумительного документа, который читался во всех церквах России с церковного амвона. Не успела эта идеологическая подготовка России к борьбе с антихристовым воинством должным образом развернуться, как уже пробил решительный час.
С начала мая, по приказу Наполеона, все части, находившиеся в городах и деревнях, выступили в лагери, и вскоре армия была в полной боевой готовности. Не зная этого, Беннигсен решил начать наступление в начале июня. Его очень торопил приехавший к армии Александр I, основываясь на преувеличениях самого же Беннигсена, который, приукрашивая свое первоначальное повествование о битве под Эйлау, довел, наконец, царя до убеждения, будто Наполеону был нанесен 8 февраля страшный удар и что теперь, когда зима кончилась и дороги стали проходимыми, не следует терять времени.
Наступление русской армии началось уже 5 июня: по приказу Беннигсена Багратион напал на корпус маршала Нея, выдвинутый впереди всех по направлению к русскому расположению, а казачий атаман Платов перешел через реку Алле. Ней с боем стал отходить; против него действовали и ему в общем угрожали до 30 тысяч человек — гораздо больше, чем было у него. Одновременно последовало наступление русских войск и в других пунктах.
Наполеон думал начать наступление на русскую армию 10 июня. Внезапное наступление русских заставило его сейчас же составить новый план. Немедленно прибыв на место действия, он с удивлением увидел, что русские вдруг, по непонятной причине, остановились, прекратив преследование корпуса Нея, и, постояв меньше двух суток, неожиданно повернули обратно. Быстро сосредоточив в один кулак шесть корпусов и, кроме того, свою гвардию (в общей сложности больше 125 тысяч человек). Наполеон отдал приказ маршалам об общем контрнаступлении на русских. У Беннигсена в этот момент было по одним подсчетам 85, а по другим — около 100 тысяч годных к бою солдат. В окрестностях Гейльсберга Беннигсен остановился на укрепленной позиции, и здесь произошла 10 июня битва, длившаяся несколько часов. Французский авангард потерял убитыми и ранеными около 8 тысяч человек, русские — около 10 тысяч. Наполеон направил два корпуса на Кенигсбергскую дорогу, и в результате этого маневра Беннигсен отступил к Бартенштейну, на северо-восток. Беннигсен был ранен в бою. Сражение при Гейльсберге, по мысли Беннигсена, должно было несколько задержать Наполеона, но император направил главные свои силы через Эйлау прямо на Кенигсберг. Он предвидел, что Беннигсен попытается спасти этот главный город восточной Пруссии. И действительно, в три часа ночи 14 июня маршал Ланн заметил, что русская армия, накануне вошедшая в местечко Фридланд, готовится оттуда перейти на западный берег реки Алле и выступить по направлению к Кенигсбергу. Немедленно маршал Ланн открыл огонь.
Так завязалась громадная битва 14 июня 1807 г., кончившая эту войну. Ланн послал адъютанта известить Наполеона. Император сейчас же отдал приказ всем своим войскам идти к месту боя и туда же помчался сам. Он открыл губительную ошибку Беннигсена, который, торопясь перейти, через реку, сосредоточил значительную массу своей армии в излучине реки Алле, где она была сдавлена. Маршал Ней получил опасное поручение — врезаться в массу русских войск. Русские (особенно кавалергарды под начальством Кологривова) защищались очень храбро, и часть корпуса Нея, построенного для атаки чрезвычайно плотно, была истреблена при атаке. Французы с боем вошли во Фридланд, разрушив мосты через реку Алле. Наполеон лично руководил боем. Когда над его головой пролетела бомба и стоявший рядом солдат быстро нагнулся, то император сказал испуганному солдату: «Если б эта бомба была предназначена для тебя, то даже если бы ты спрятался на 100 футов под землю, она нашла бы тебя». Несмотря на храбрость русских войск, роковая ошибка главнокомандующего Беннигсена погубила их окончательно: русские войска должны были бросаться в реку, чтобы уйти от огня французской артиллерии. Часть их побежала вдоль реки, часть сдалась в плен, но сдавшихся оказалось немного, потонувших было гораздо больше. Почти вся русская артиллерия попала в руки Наполеона. После утраты своей артиллерии и страшных потерь (больше 25 тысяч убитыми, ранеными и пленными) Беннигсен быстро отступил к реке Прегель, теснимый французами. Единственный шанс спасения от полного истребления заключался в бегстве. Сейчас же после битвы при Фридданде маршал Сульт вошел в Кенигсберг, где захватил огромные боевые запасы, хлеб, одежду, — все это как раз только что было привезено с моря англичанами, не предвидевшими такой близкой катастрофы. Армия Наполеона подошла к Неману 19 июня, через пять дней после битвы под Фриддандом. Остатки русской армии успели переправиться через реку. Наполеон стоял на границе Русской империи, у Тильзита.
19 июня вечером на аванпосты французской кавалерийской дивизии, стоявшей на берегу Немана, явился под белым парламентерским флагом русский офицер из отряда Багратиона, просивший передать маршалу Мюрату письмо от русского главнокомандующего Беннигсена. Беннигсен предлагал заключить перемирие. Мюрат немедленно переслал письмо императору. Наполеон изъявил согласие. Кровопролитная борьба окончилась.
До последней минуты Александр не считал своего дела проигранным. Еще 12 июня, когда в Тильзите были получены известия о битве при Гейльсберге, кончившейся тяжкими потерями и отступлением русской армии, брат царя Константин Павлович настойчиво советовал Александру, и в очень резких выражениях, немедленно мириться с Наполеоном. «Государь, — вскричал Константин, — если вы не хотите мира, тогда дайте лучше каждому русскому солдату заряженный пистолет и прикажите им всем застрелиться. Вы получите тот же результат, какой даст вам новая (и последняя!) битва, которая откроет неминуемо ворота в вашу империю французским войскам». Александр решительно воспротивился. Он выехал из Тильзита навстречу русским резервам вечером 14 июня, как раз когда русская армия погибала у Фридланда в волнах Алле, а уже с утра 15-го в Тильзит стали приходить первые известия о происшедшей катастрофе: что треть русской гвардии истреблена под Фридландом, что войска, геройски сражаясь, все же утомлены и не хотят больше воевать, что Беннигсен потерял голову и не знает, что делать. Слухи сменились самыми точными сведениями: русскую армию постиг под Фридландом почти такой же страшный разгром, как в 1805 г. под Аустерлицем; Наполеон с великой армией может немедленно начать вторжение в Россию. В верхах русской армии царила полная паника.
Знаменитый впоследствии партизан Денис Давыдов, наблюдавший армию сейчас же после Фридланда, писал: «Я прискакал 18 июня в главную квартиру, которую составляла толпа людей различного рода. Тут были англичане, шведы, пруссаки, французы-роялисты, русские военные и гражданские чиновники, разночинцы, чуждые службе и военной и гражданской, тунеядцы, интриганы, — словом, это был рынок политических и военных спекулянтов, обанкротившихся в своих надеждах, планах и замыслах... Все были в полной тревоге, как будто через полчаса должно было наступить светопреставление».
Беннигсен просил у Александра позволения заключить перемирие. Александр на этот раз смирился...
Получив русское предложение. Наполеон, как мы уже говорили, тотчас же согласился. Воевать с Россией дальше не имело для него никакого смысла: для подобного предприятия требовалась иная подготовка. Пруссия была разгромлена вконец, а Россия могла согласиться принять континентальную блокаду и войти тем самым в политическую систему, которую возглавлял Наполеон. Больше ему пока от Александра ничего не было нужно.
22 июня Александр отправил генерала князя Лобанова-Ростовского к Наполеону в Тильзит, где после сражения при Фридланде поселился французский император. Наполеон начал разговор с Лобановым с того, что подошел к столу, где была разложена географическая карта и, показав на Вислу, сказал: «Вот граница обеих империй; по одну сторону должен царствовать ваш государь, а по другую сторону — я». Этим Наполеон показал, что он намерен стереть Пруссию с лица земли и поделить при этом Польшу.
Александр отсиживался пока в Шавлях. В эти грозные дни, пока не вернулся князь Лобанов с подписанным перемирием, Александр переживал нечто похуже того, что ему пришлось испытать после Аустерлица. Наполеон мог через полторы недели быть в Вильне. «Мы потеряли страшное количество офицеров и солдат; все наши генералы, а в особенности лучшие, ранены или больны, — признавался Александр. — Конечно, Пруссии придется круто, но бывают обстоятельства, среди которых надо думать преимущественно о самосохранении, о себе и руководиться только одним правилом — благом государства». Самосохранение (sa propre conservation), как выразился Александр в разговоре с князем Куракиным в Шавлях, заставило Александра круто, в 24 часа после того, как он узнал о Фридланде, изменить всю свою политику и решиться на мир и, если понадобится, даже на союз с Наполеоном. Пропадет ли при этой внезапной русской перемене Пруссия окончательно или от нее останется территориальный обрубок, это — дело второстепенное.
Придворные, собравшиеся в Шавлях вокруг царя, трепетали, как осиновый лист, боясь нападения наполеоновского авангарда.
Порыв восторга охватил Александра и его окружающих, когда они узнали о согласии Наполеона на перемирие и на мир. Немедленно же Александр I приказал уверить французского императора, что он, Александр, горячо желает тесного союза с Наполеоном и что только франко-русский союз может дать всему свету счастье и мир. Ратифицировав акт перемирия, он сообщил о желательности личного свидания с Наполеоном.
Александр Павлович не мог больше оттягивать объяснения с Фридрихом-Вильгельмом III, который до последней минуты уповал на своего друга. Царь и объяснил ему все, как было. Король послал просьбу Наполеону о перемирии. Он хотел отрядить во французскую императорскую квартиру в Тильзит патриотически настроенного министра Гарденберга. Но Наполеон так бешено закричал, когда осмелились назвать это имя, и так затопал ногами, что больше о Гарденберге и не заикались. Королю дали понять, что пощады не будет.
25 июня 1807 г. во втором часу дня состоялась первая встреча обоих императоров. Чтобы Александру не пришлось ехать на французский, завоеванный, берег Немана, а Наполеону — на русский, на самой середине реки был утвержден плот с двумя великолепными павильонами. На французском берегу была выстроена вся наполеоновская гвардия, на русском — небольшая свита Александра.
Тот же прославившийся впоследствии русский партизан Денис Давыдов был очевидцем этого исторического события, и его показание вводит нас во все переживания свидетелей тильзитской встречи так, как не может сделать никакой историк.
«Дело шло о свидании с величайшим полководцем, политиком, законодателем, администратором и завоевателем, поразившим... войска всей Европы и уже два раза нашу армию и ныне стоявшим на рубеже России. Дело шло о свидании с человеком, обладавшим даром неограниченно господствовать над всеми, с коими он имел дело, и замечательным по своей чудесной проницательности…
…Мы прибежали на берег и увидели Наполеона, скачущего во всю прыть между двумя рядами своей старой гвардии. Гул восторженных приветствий и восклицаний гремел вокруг него и оглушал нас, стоявших на противном берегу; конвой и свита его состояли по крайней мере из четырехсот всадников... В эту минуту огромность зрелища восторжествовала над всеми чувствами... Все глаза обратились и устремились на противоположный берег реки, к барке, несущей этого чудесного человека, этого невиданного и неслыханного полководца со времен Александра Великого (Македонского) и Юлия Цезаря, коих он так много превосходит разнообразием дарований и славою покорения народов просвещенных и образованных».
Денис Давыдов уже по цензурным условиям не мог в своих воспоминаниях передать, как не только он, но и большинство русского офицерства смотрели в тот день на Александра, который, по его словам, «прикрывал искусственным спокойствием» свое волнение. Но мы и без Давыдова хорошо знаем это из многочисленных позднейших свидетельств.
В русских военных кругах на Тильзитский мир сохранился взгляд как на гораздо более постыдное событие, чем аустерлицкое или фридландское поражение. И в данном случае позднейшая либеральная дворянская молодежь сошлась в воззрениях с непосредственными участниками этих войн. В стихотворении Пушкина (1824 г.) Александру I является видение Наполеона:
Таков он был, когда в равнинах Аустерлица Дружины севера гнала его десница, И русский в первый раз пред гибелью бежал, Таков он был, когда с победным договором И с миром и с позором Пред юным он царем в Тильзите предстоял…Только после революции у нас стали правильно печатать этот текст; почти во всех старых изданиях вводилось смягчение («с миром иль с позором»), искажавшее мысль Пушкина.
Так или иначе, чаша, которую предстояло испить Александру, оказалась не так горька, как он мог ожидать. Как только оба императора высадились одновременно на плоту, Наполеон обнял Александра, и они ушли в павильон, где немедленно и началась продолжавшаяся почти два часа беседа. Ни тот, ни другой император не оставил систематического изложения этого разговора, но несколько фраз сделались потом известными, а общий смысл этой беседы, конечно, отразился в подписанном спустя несколько дней мирном трактате. «Из-за чего мы воюем?» — спросил Наполеон. «Я ненавижу англичан настолько же, насколько вы их ненавидите, и буду вашим помощником во всем, что вы будете делать против них», — сказал Александр. «В таком случае все может устроиться и мир заключен», — ответил Наполеон.
Король Фридрих-Вильгельм весь этот час и пятьдесят минут, пока императоры сидели в павильоне на плоту, находился на русском берегу Немана, все надеясь, что его позовут тоже. Наполеон допустил его к свиданию лишь на следующий день и обошелся с ним так презрительно, как только возможно. Расставаясь, французский император пригласил Александра к обеду, а короля прусского не пригласил, еле кивнул ему головой и повернулся к нему спиной. 26 июня Александр, по приглашению Наполеона, переехал в Тильзит, и свидания между императорами с этих пор происходили каждый день. Сначала Наполеон никого из своих министров не допускал к переговорам. «Я буду вашим секретарем, а вы моим секретарем», — сказал он Александру. Обнаружилось, с первых же слов Наполеона, поистине отчаянное положение Пруссии. Наполеон просто предлагал ее поделить: все к востоку от Вислы пусть берет себе Александр, а к западу — Наполеон. С королем Фридрихом-Вильгельмом он вообще не желал разговаривать и не столько говорил с ним о делах в тех редких случаях, когда вообще допускал его к себе, сколько делал ему резкие выговоры и бранил его. «Подлый король, подлая нация, подлая армия, держава, которая всех обманывала и которая не заслуживает существования», — так говорил Наполеон Александру о его друге, которому русский царь в свое время столь трогательно клялся в вечном союзе и любви над гробом Фридриха II. Александр в ответ ласково и учтиво улыбался и только просил французского императора все же кое-что от Пруссии оставить, несмотря на все эти ее предосудительные качества.
В полной панике прусский король решился буквально на все. Он решил пустить в ход красоту своей жены и экстренно выписал в Тильзит королеву Луизу, слывшую замечательной красавицей. Именно ее Наполеон и считал в начале войны с Пруссией своим врагом, именно ее-то и приказал грубо ругать в газетах. Но при прусском дворе надеялись на смягчение гнева сурового победителя при личном свидании и в доверительной беседе с красавицей. Луизе наскоро внушили, о чем просить; на многое не надеялись, зная, как мало влияли на Наполеона даже те женщины, которыми он увлекался. Было устроено свидание во дворце в Тильзите. Королеве внушали, чтобы она выпросила хотя бы возвращение г. Магдебурга и еще кое-каких территорий. Наполеон вошел во дворец на свидание прямо с верховой прогулки, в простом егерском мундире, с хлыстом в руке, а королева встретила его в самом торжественном и пышном своем туалете. Свидание их продолжалось очень долго с глаза на глаз. Когда, наконец, король Фридрих-Вильгельм, не выдержав позорнейшего своего положения пред лицом наблюдавших его придворных, отважился войти, интимное собеседование императора с королевой было прервано, никаких результатов Луиза еще не успела добиться... «Если бы король прусский вошел в комнату немного позже, мне бы пришлось уступить Магдебург», — говорил потом шутя Наполеон своим маршалам.
Пруссии были оставлены «Старая Пруссия», Померания, Бранденбург и Силезия. Все остальное и на западе и на востоке было у нее отнято. Наполеон при этом постарался совсем растоптать национальное самолюбие Пруссии, вставив в 4-ю статью Тильзитского договора, что он возвращает названные четыре провинции, т.е. не стирает окончательно Пруссию с лица земли, «из уважения к его величеству императору всероссийскому». Все владения Пруссии к западу от Эльбы вошли в образованное теперь Наполеоном новое королевство, Вестфальское, в состав которого Наполеон включил еще и Великое герцогство Гессенское, а вскоре и Ганновер. Это новое королевство Наполеон отдал младшему своему брату Жерому Бонапарту. Из отнятых у Пруссии польских земель (Познанской и Варшавской областей) было создано Великое герцогство Варшавское, куда в качестве великого герцога Наполеон назначил своего нового союзника, саксонского короля. Александр I (по настоянию Наполеона) получил из польских владений небольшой Белостокский округ. Между Наполеоном и Александром был заключен тайный (пока) оборонительный и наступательный союз. Тем самым Россия обязывалась принять к исполнению декрет Наполеона о континентальной блокаде.
8 июля 1807 г. был окончательно подписан унизительный для Пруссии и всей Германии Тильзитский мир.
Празднества и смотры в Тильзите продолжались до вечера 8 июля.
Оба императора в течение всего этого времени были неразлучны, и Наполеон всячески стремился подчеркнуть свое полное расположение к бывшему врагу, а нынешнему союзнику. Когда 9 июля Наполеон и Александр произвели вместе смотр французской и русской гвардии и затем, расцеловавшись перед войсками и массой собравшихся у Немана зрителей, расстались, то в этот момент еще никто, кроме обоих императоров и их ближайших сановников, не знал огромной перемены, которая произошла в мировой ситуации за эти несколько тильзитских дней.
Глава Х. От Тильзита до Ваграма. 1807–1809 гг.
Из Тильзита, встречаемый по всей Германии знаками раболепного преклонения. Наполеон проехал в Париж. Казалось, он достиг теперь такой недосягаемой вершины Могущества, до которой никогда не добирался ни один властитель в истории. Самодержавный император громадной Французской империи, заключавшей в себе Бельгию, западную Германию, Пьемонт, Геную, король Италии, протектор (т.е. фактический самодержец) громадной части германских земель Рейнского союза, к которому теперь присоединилась и Саксония, повелитель Швейцарии, — Наполеон точно так же самодержавно, как в своей империи, повелевал и в Голландии и в Неаполитанском королевстве, где королями он посадил своих братьев Людовика и Жозефа, и во всей средней и части северной Германии, которую он под названием Вестфальского королевства отдал третьему брату, Жерому, и в значительной части бывших земель Австрии, которые он отнял у Австрии и отдал своему вассалу, баварскому королю, и в северной части европейского побережья, где Гамбург, Бремен, Любек, Данциг, Кенигсберг были заняты его войсками, и в Польше, где вновь созданная армия находилась в подчинении у маршала Даву и где считался правителем вассал и слуга Наполеона саксонский король, которого Наполеон назначил туда великим герцогом.
Наполеону принадлежали сверх того Ионические острова, г. Каттаро и часть Адриатического побережья Балканского полуострова. Пруссия, сведенная к малой территории, урезанная в праве своем содержать армию, подавленная наложенными на нее разнообразными контрибуциями, трепетала от каждого слова Наполеона; Австрия молчала и покорялась; Россия была в тесном союзе с Французской империей. Только одна Англия продолжала борьбу.
По приезде в Париж из Тильзита Наполеон провел с помощью министра финансов Годэна и начальника казначейства Мольена ряд обширных реформ по реорганизации финансов, прямого и косвенного обложения и т.д. Результатом было то, что доходы империи (750–770 миллионов), беспощадно выкачиваемые из французского и порабощенных народов, полностью покрывали расходы, даже уже считая наперед расходы на содержание армии во время войны. Это — характерная черта наполеоновских финансов: расходы на войну он считал «обыкновенными» расходами, а вовсе не чрезвычайными. Государственный кредит был так прочен, что учрежденный при Наполеоне (и теперь существующий с тем самым статутом) Французский банк платил за вклады не 10%, как еще в 1804 и 1805 гг., а 4%. Италия, числившаяся «самостоятельным» от Франции королевством, платила Франции ежегодно 36 миллионов франков золотом. Эту сумму щедрый «король Италии» Наполеон великодушно дарил ежегодно императору французов Наполеону. Что касается расходов по управлению Италией, то они покрывались исключительно из итальянских же доходов. Наместником Италии с титулом вице-короля был пасынок Наполеона Евгений Богарне. Нечего и говорить, что французская армия, стоявшая в Италии, содержалась за счет Италии. Подобные же взносы делали и французскую армию на свой счет содержали и другие страны, где прямо или косвенно владычествовал Наполеон. Выжимая золото контрибуциями и всякими поборами из покоренных стран. Наполеон установил во Франции регулярную чеканку золотой монеты, и монета пускалась в коммерческое обращение. Упорядочение финансов, начатое им еще в эпоху Консульства, было завершено в 1807 г., по возвращении из Тильзита.
Он хотел одновременно предпринять и ряд мер по поднятию французской промышленности, но здесь дело оказалось сложнее; предполагаемые им меры должны были осуществляться в неразрывной, теснейшей связи с проведением континентальной блокады. Вскоре после возвращения из Тильзита Наполеон стал обдумывать грандиозное политическое предприятие, без которого, по его мнению, реализация блокады Англии была немыслима. И лишь начав это предприятие, он развернул широкую деятельность в области экономики. Поэтому мы прежде должны будем ознакомиться с началом этого нового дела, а именно — попыткой завоевания Пиренейского полуострова, а потом уже перейдем к анализу последствий континентальной блокады для отдельных общественных классов империи и для всей наполеоновской политики.
Следует заметить, что в осенние месяцы 1807 и зимой 1808 г. между императором и его маршалами, императором и его министрами, императором и самыми близкими к нему сановниками стало, еще пока очень скрыто и для посторонних неявственно, обозначаться некоторое расхождение. Двор Наполеона утопал в роскоши; старая и новая знать, старая и новая крупная буржуазия соперничали друг с другом в блеске пиров, банкетов, балов; золото лилось рекой, иностранные принцы, вассальные короли, приезжавшие на поклон, подолгу жили в столице мира и тратили громадные суммы. Это был какой-то непрерывный блестящий праздник, волшебная феерия в Тюильри, в Фонтенебло, в Сен-Клу, в Мальмезоне.
Никогда при старом режиме не было такого блеска и такой громадной толпы залитых бриллиантами царедворцев обоего пола. Но все они знали, что в далеком кабинете дворца, куда не долетают звуки веселья, часто стоит, склонившись над географической картой Пиренейского полуострова, их властитель и что многим из беспечно танцующих придется, по велению императора, внезапно распроститься со всей роскошью, в которой они купаются, и опять стоять под ядрами и пулями. И во имя чего?
Уже после Аустерлица очень многим из сподвижников Наполеона казалось, что нужно, наконец, поставить точку, что Франция достигла небывалого могущества, о котором едва ли могла мечтать. Конечно, все население империи безропотно повиновалось Наполеону; крестьяне пока еще выносили рекрутские наборы, торговцы (кроме купечества приморских городов) и особенно промышленники радовались расширению рынков сбыта и торговых возможностей. Впрочем, сановники и маршалы, которые начали призадумываться после Тильзита, не опасались, что строю грозит внутренняя революция. Им известно было, что рабочие предместья крепко сдавлены наполеоновской рукой. Они боялись другого: их пугали чудовищные размеры наполеоновских владений.
Бесконтрольная, абсолютно ничем не ограниченная власть императора над колоссальным конгломератом стран и народов, от Кенигсберга до Пиренеи (и, фактически, уже за Пиренеями), от Варшавы и Данцига до Неаполя и Бриндизи, от Антверпена до северо-западных Балканских гор, от Гамбурга до острова Корфу, начинала смущать приближенных. Даже самое поверхностное знание истории и даже искусственно заглушаемый голос инстинкта говорили им, что подобные мировые монархии крайне недолговечны и являются не только в высшей степени редким, но и в высшей степени хрупким созданием игры исторических сил. Они сознавали (и потом говорили), что все сделанное Наполеоном, от начала его карьеры до Тильзита, больше походило на диковинную сказку, чем на историческую действительность. Но многие из них — не один только Талейран — полагали, что продолжать дальше вписывать новые сказки в скрижали истории будет все труднее и опаснее.
Наполеон был неслыханно щедр к своим ближайшим военным и гражданским помощникам. После Тильзита он подарил маршалу Ланну миллион франков золотом, Нею — около 300 тысяч ежегодной и пожизненной ренты; маршалу Бертье подарил полмиллиона золотом да еще 405 тысяч ежегодной ренты; прочих маршалов и многих генералов и офицеров одарил тоже очень широко. Министров Годэна, Мольена, Фуше, Талейрана одарил меньше, чем маршалов, но тоже очень щедро. Все офицеры гвардии и армии, принимавшие фактическое участие в боях, получили также вознаграждение, многие получили хорошие пенсии, раненые получили втрое больше, чем не раненые. Эта щедрость не стоила, впрочем, французской казне ни одного франка: помимо огромных контрибуций, которые должны были уплачивать побежденные страны победительнице-Франции, Наполеон налагал (часто на отдельные города и корпорации) на те же страны еще особые поборы, простиравшиеся до десятков миллионов (40 миллионов с Вестфальского королевства, был образован земельный фонд Ганновера ценностью в 20 миллионов, 30–35 миллионов с Польши и т.д.), которые шли в личное бесконтрольное его распоряжение. Выдавая из этих сумм огромные награды своим приближенным, все, что оставалось, Наполеон складывал в те «подвалы Тюильри», где у него лично, по его собственным словам, в 1812 г. было 300 миллионов франков (золотом). Суммы на содержание его двора, его официальный цивильный лист (25 миллионов) — все это было ничтожно сравнительно с бесконтрольными суммами, поступавшими в его распоряжение совершенно независимо от государственного бюджета. Горе побежденным! «Война должна кормить себя сама», — говорил Наполеон. Этот принцип строго проводился при Первой империи. Таким образом, у Наполеона в руках и оказался совсем особый ежегодно правильно поступающий в его распоряжение многомиллионный доход с завоеванных земель. Этими деньгами он и оделял самой щедрой рукой свою армию и своих сановников. Но все эти колоссальные награды, посыпавшиеся на маршалов и генералов, пробуждали в них стремление спокойно пользоваться всеми этими богатствами и почестями. Ведь вся жизнь идет и пройдет в почти непрерывных войнах!
Все знали, что Наполеон, едва вернувшись из Тильзита, начал готовить армию для похода на Португалию через Испанию. Решительно не понимали, если не все, то очень многие, зачем это делается. Тут следует снова напомнить о континентальной блокаде, потому что отныне ни одно сколько-нибудь важное действие Наполеона нельзя уяснить себе, если хоть на минуту забыть о континентальной блокаде.
Задавшись целью экономически задавить Англию при помощи континентальной блокады. Наполеон был совершенно последователен: он не мог доверять ни династии Браганца в Португалии, ни династии Бурбонов в Испании; не мог поверить, что обе эти династии станут исправно и сознательно разорять вконец свои страны, воспрещая крестьянам, хуторянам, помещикам продавать англичанам мериносовую шерсть и преследуя ввоз дешевых машинных английских фабрикатов в Испанию и Португалию. Ясно было, что они, беспрекословно приняв берлинский декрет Наполеона о блокаде, будут тайно, под рукой, попустительством, снисходительностью к контрабанде и тысячей других способов нарушать этот декрет. А при колоссальной береговой линии Пиренейского полуострова, при полном владычестве английского флота и в Бискайском заливе, и во всем Атлантическом океане, и в Средиземном море, при наличности на самой территории Пиренейского полуострова английской крепости Гибралтара было ясно, что ни о каком фактическом проведении блокады и речи быть не может, пока Наполеон не является полным владыкой Португалии и Испании. И для него принципиальный вопрос был решен бесповоротно: все берега Европы, и южные, и северные, и западные, должны быть под непосредственным французским таможенным надзором. Кто этого не желает, того нужно убрать с дороги. Испанские Бурбоны унижались перед ним и лгали ему: они не могли и не хотели изгнать англичан и фактически воспрепятствовать английской торговле. То же делала и Браганцская династия в Португалии, которая тоже раболепствовала перед Наполеоном до полного забвения человеческого достоинства, а на блокаду все-таки старалась смотреть сквозь пальцы.
Между тем Англия, оставшись после Тильзита без союзников, твердо решилась усилить борьбу. В начале сентября 1807 г. английская эскадра бомбардировала Копенгаген, так как были слухи, что Дания примкнет к континентальной блокаде. Наполеон пришел в ярость, когда узнал об этом событии. Это ускорило его решение завоевать Португалию и Испанию. В октябре 1807 г. армия в 27 тысяч человек под командой маршала Жюно двинулась по приказу Наполеона через испанскую территорию на Португалию, За этой армией почти вслед была отправлена и другая, в 24 тысячи человек, под начальством генерала Дюпона. Кроме того. Наполеон послал туда около 5 тысяч кавалерии (драгун, гусар и егерей). Португальский принц-регент обратился за защитой к Англии. Он боялся Наполеона, но не меньше боялся и англичан, которые могли с моря так же легко разрушить Лиссабон, как они перед этим разрушили Копенгаген. Испанию Наполеон поставил во вторую очередь: ему хотелось приняться за нее, когда уже все будет покончено с Португалией; тогда начать покорение Испании будет легко, имея две базы: одну — в южной Франции, а другую — в Португалии. Император даже не потрудился дипломатически известить Испанию о том, что его войска пройдут через испанскую территорию. Он просто велел маршалу Жюно, перейдя границу, послать об этом извещение в Мадрид. Там смиренно приняли известие.
При дворе Наполеона великий канцлер империи Камбасерес осмелился почтительнейше возражать против начинавшегося предприятия. Напротив, Талейран всецело одобрял императора. Талейран после Тильзита, в августе 1807 г., ушел в отставку. Поводом были замечания Наполеона о взятках и вымогательствах, в чем очень грешен был Талейран, а причиной — то, что Талейран, уже издалека чуя катастрофичность мировой политики Наполеона, решил постепенно отдалиться от активной роли. Тем не менее он остался при дворе в больших чинах и почестях. Теперь он желал вновь вкрасться в милость к Наполеону и поддакивал всему, что только затевал император, хотя лично считал уже тогда испанское предприятие очень трудным и чреватым опасными последствиями.
Французская армия под начальством Жюно пошла по испанской территории прямо на Португалию. Дорога для солдат оказалась очень трудной, плохо устроенной, пустынной, провианта не было. Французы грабили крестьян, те мстили, где могли, подкалывая отстающих. После похода, длившегося больше шести недель, Жюно вошел (29 ноября 1807 г.) в Лиссабон. Королевская семья за два дня до того села на английский корабль и бежала из своей столицы. Наступила очередь Испании.
Положение в Испании было следующее: на престоле сидел Карл IV, слабый и глупый человек, всецело находившийся под влиянием своей жены и ее фаворита, дона Годоя. Король, королева и Годой находились в непримиримой вражде с наследником престола Фердинандом, на которого в эти годы (1805, 1806, 1807) испанское дворянство и испанская буржуазия возлагали большие надежды. Расстройство финансов и администрации, беспорядки во всех областях внутренней политики, мешавшие и торговле, и сельскому хозяйству, и некогда развитой, а теперь слабой промышленности, объединили и буржуазию и дворян в одном настроении: им казалось, что, низвергнув фаворита старого двора, Годоя, можно «возродить» Испанию. Очень популярна была идея о женитьбе наследника испанского престола Фердинанда на какой-нибудь родственнице Наполеона: породнившись с могущественным императором, можно было (как думали) получить большую опору и поддержку в проведении реформ и, сохраняя самостоятельность, быть спокойными во всех вопросах внешней политики. Фердинанд официально просил у Наполеона руки его племянницы. Наполеон отказал.
Замысел французского императора был другой: он пожелал низвергнуть с престола династию и посадить на испанский трон кого-нибудь из своих братьев или маршалов. В течение зимы и весной 1808 г. новые и новые войска Наполеона переходили через Пиренеи и вливались в Испанию. Уже в марте у него было сосредоточено там до 100 тысяч человек. Уверенный в своей силе, он решил действовать. Он очень ловко воспользовался обострением раздоров в испанской королевской семье. Маршал Мюрат с французской армией в 80 тысяч человек пошел на Мадрид. Сначала Карл IV, его жена и Годой решили бежать из столицы, но уже в Аранжуэце они были задержаны возмутившимся народом. Годой был схвачен, избит и заключен в тюрьму, а короля заставили отказаться от престола в пользу Фердинанда. Случилось это 17 марта 1808 г., а уже через шесть дней, 23 марта, Мюрат вошел в испанскую столицу. Но Наполеон не признал Фердинанда и вытребовал как нового, так и старого короля и всю семью испанских Бурбонов к себе, во Францию, в г. Байонну. Он взял на себя роль верховного судьи, который окончательно рассудит и решит, кто прав. К 30 апреля 1808 г. король испанский Карл IV, жена его, новый король Фердинанд VII, дон Годой собрались в Байонне. Но Наполеон потребовал, чтобы все принцы королевского дома явились тоже к нему в Байонну. Мадрид возмутился: замысел Наполеона становился ясен — коварно заманив в Байонну всю династию испанских Бурбонов, объявить ее низложенной, арестовать, а Испанию под тем или иным предлогом присоединить к Франции. 2 мая в Мадриде вспыхнуло восстание против занявших город французских войск. Маршал Мюрат утопил это восстание в крови, но это было только началом страшного пожара народной войны в Испании.
Получив известие об этом событии, Наполеон, прибывший в Байонну одновременно с испанской королевской семьей, после бурной сцены в его присутствии, когда Карл IV замахнулся палкой на Фердинанда, вдруг объявил свою волю: он потребовал, чтобы как Карл IV, так и Фердинанд отказались от испанского престола и формально предоставили ему. Наполеону, право распорядиться Испанией по своему произволу. Это было сделано: они все — и Карл IV, и Фердинанд, и королева — были в руках французских жандармов и войск. После этого Наполеон объявил им, что, радея об их личном благоденствии и спокойствии, он их уже не отпустит назад в Испанию, а отошлет короля и королеву в Фонтенебло, а Фердинанда и других принцев испанского Бурбонского дома — в Валансэ, в замок князя Талейрана. Это и было тотчас исполнено. А спустя несколько дней, 10 мая 1808 г., Наполеон приказал своему брату Жозефу, королю неаполитанскому, переехать в Мадрид и быть отныне королем испанским. Маршалу же Мюрату, которого он перед этим сделал герцогом Клеве-Бергским (в западной Германии), было приказано переехать в Неаполь и быть отныне королем неаполитанским.
Император был доволен сверх меры: так все прошло, казалось, ловко и гладко, так наивно испанские Бурбоны сами полезли в ловушку, так безболезненно удалось приобрести Пиренейский полуостров.
И вдруг совершенно неожиданно не только для Наполеона, но для всей Европы, безмолвно и боязливо следившей за новыми насилиями завоевателя, в Испании вспыхнул пожар лютой, непримиримой крестьянской партизанской борьбы против французских завоевателей.
Здесь впервые Наполеон столкнулся с врагом совсем особого рода, с которым он до сих пор дела не имел и которого он недолго имел случай наблюдать пока только в Египте и в Сирии. Перед ним стоял озлобленный астурийский крестьянин, вооруженный ножом, сьерраморенский пастух в лохмотьях, со ржавым ружьем, каталонский ремесленник-рабочий, с железным жгутом и длинным кинжалом. «Оборванцы!» — презрительно сказал о них Наполеон. Ему ли, владыке Европы, от которого бежали русская, австрийская, прусская армии с артиллерией и кавалерией, с царями и фельдмаршалами, ему ли, слово которого разрушало старые державы и воздвигало новые, было бояться этого «испанского отребья»?
Но ни он сам и никто в мире не знал тогда, что именно эти «оборванцы» начнут первые рыть ту пропасть, в которую суждено было рухнуть великой наполеоновской империи.
Когда в 1808 г. Наполеон затеял и осуществил свое испанское предприятие, то он все время имел в виду прямой исторический пример, который, казалось, мог внушить большой оптимизм. В самом деле, ровно за 100 лет до Наполеона один из его предшественников на французском троне, король Людовик XIV, посадил на испанский престол своего внука Филиппа и этим водворил в Испании отрасль своей Бурбонской династии. Филипп и был родоначальником «испанских Бурбонов». Испанцы приняли нового короля и новую династию в те времена и удержали их на престоле, хотя пол-Европы тогда пошло войной против Людовика XIV с целью удалить Филиппа. Почему же теперь Наполеону, который вне всяких сравнений могущественнее Людовика XIV, может не удаться подобная же комбинация? Почему он не может водворить в Испании династию «испанских Бонапартов»? И притом ему вовсе и не придется воевать с Европой, как пришлось Людовику XIV: Европа уже разгромлена и покорена; а с Россией — союз.
Ошибка Наполеона заключалась в том, что он соблазнился чисто внешней аналогией. Он не захотел понять коренного отличия между воцарением Филиппа Бурбона в Испании в 1700 г. и воцарением Жозефа Бонапарта в 1808 г. Французское купечество, французские судовладельцы, французские авантюристы из дворян с восторгом приветствовали воцарение Филиппа, рассчитывая (как и сам Людовик XIV), что отныне громадные колониальные владения Испании станут французским достоянием. Но тогда они жестоко ошиблись: испанские плантаторы и купцы единодушно воспротивились проникновению французского капитала в испанские колонии. Филипп V с сокрушением должен был отказать своим соотечественникам-французам в приравнении их в правах к испанцам. Испания не сделалась в экономическом отношении данницей Франции, и только поэтому Филипп V и испанские Бурбоны удержались на престоле. Теперь же Жозеф Бонапарт под пышной мантией испанского короля являлся простым наместником Наполеона, его приказчиком по осуществлению на Пиренейском полуострове континентальной блокады и по планомерному превращению Испании в предмет всесторонней эксплуатации, и исключительно в интересах французской буржуазии. Ведь в Испании знали, что уже начиная с брюмерского переворота 1799 г. Наполеона осыпали жалобами и петициями и суконные и полотняные фабриканты и другие промышленники Франции, наметившие программу, которую всецело принял Наполеон: 1) Испания должна стать монопольным рынком сбыта французских фабрикантов; 2) Испания должна поставить драгоценную, тогда единственную в мире по своим качествам, шерсть мериносов только на французские мануфактуры; 3) Испания (особенно Андалузия) должна быть использована для разведения тех сортов хлопка, которые нужны французским текстильщикам и которые Наполеоном воспрещено покупать у англичан. Эта программа соединялась неразрывно с планом полного прекращения торговли Испании с Англией, куда так много и по такой дорогой цене сбывалось шерсти и откуда так много и так дешево закупалось товаров для испанского потребления.
Следовательно, для скотоводов, для шерстобитов, для суконщиков, для всех вообще промышленников Испании, для всего крестьянства, так или иначе, прямо или косвенно связанного с добычей шерсти и производством сукон, и в тех частях Испании, где феодальные отношения еще держались, а особенно там, где они уже слабели, — для всего землевладельческого дворянства, связанного с Англией и с колониальным, плантаторским хозяйством, подчинение Наполеону означало почти полное разорение. В частности, сейчас же прекращалась возможность сноситься с тогдашними американскими богатейшими владениями Испании, с ее заморскими владениями вообще (например, с Филиппинами на востоке Индийского океана), так как Англия немедленно объявляла войну и отбирала все заморские колонии у всякой европейской державы, как только эта держава входила прямо или косвенно в орбиту наполеоновской политики. Все эти экономические интересы разных классов страны, грубейшим образом нарушенные вторжением Наполеона, в были той экономической почвой, на которой возник пожар национально-освободительного движения, против всемогущего завоевателя. Восставшие крестьяне и ремесленники Испании оказались способными выдерживать, казалось бы, непосильную борьбу. Но пока все обстояло как будто благополучно. Арестованные испанские Бурбоны разъехались по назначенным им местам ссылки под надзор полиции — в Фонтенебло и в Валансэ, Жозеф Бонапарт въехал в Мадрид.
Правда, уже докладывали императору о некоторых мелких неприятностях, например, о том, что испанские крестьяне осмеливаются партиями по нескольку человек ночью подкрадываться к французским бивуакам и стрелять, и когда их ловят и расстреливают, то перед казнью они только молчат или презрительно ругаются. Докладывали и о том, что когда 2 мая, при подавлении восстания в Мадриде, маршал Мюрат в упор расстреливал толпу, то эта толпа не рассеялась без остатка сразу, но, убегая, скрывалась в домах и из окон продолжала стрелять по французам; когда французы вбегали в дома, чтобы схватить стреляющих, то испанцы, выпустив все патроны, кололи ножами, били кулаками, кусались и дрались, пока держались на ногах, и французы выбрасывали их из окон домов на мостовую, на штыки своих товарищей лишь после самой отчаянной борьбы. Французы с первых же своих шагов в Испании натолкнулись на бесчисленные чуть не ежедневные проявления самой неистовой фанатической ненависти к завоевателям. Французский отряд вступает в деревню. Все пусто, жители ушли в лес. В одной избе застают молодую мать с ребенком и находят там же припасы. Подозревая недоброе, офицер, раньше чем позволить солдатам есть, спрашивает у женщины, не отравлены ли продукты. Получив успокоительный ответ, он приказывает ей самой отведать первой эту пищу. Не колеблясь, крестьянка ест. Не довольствуясь этим, он приказывает ей покормить этой пищей ребенка. Мать сейчас же исполняет требуемое. Тогда некоторые солдаты принимаются за еду, а спустя короткое время и мать и ребенок, и поевшие солдаты умирают в мучениях. Ловушка удалась.
В первое время подобные эпизоды еще поражали французов, но вскоре все это стало бытовым явлением, и уже никто ничему в испанской войне не изумлялся. Не смущали эти странности пока и Наполеона. Он не скоро понял характер этой войны.
Однако уже с середины лета сказалось, что некоторые из побежденных держав начинают с большими надеждами глядеть на разгорающееся за Пиренеями пламя. Пошли слухи о вооружении Австрии... За три года, прошедшие после Аустерлица, Австрия отдохнула и оправилась. И при дворе в Вене, и в дворянстве, и среди купечества росли надежды на возможность выбиться, наконец, из-под пяты Наполеона. Заметим, что, как и в России, в Австрии, в Венгрии, в Чехии дворянство больше всего страшилось продолжения наполеоновского владычества, так как боялось, что Австрии будет так или иначе навязан Наполеоновский кодекс и старый феодальный уклад рухнет.
Наполеон почувствовал необходимость продемонстрировать крепость франко-русского союза, чтобы обеспечить себя от всяких внезапностей со стороны Австрии, пока он справится с пиренейскими «мятежниками».
«Его императорское величество быстро приведет к разуму дикую испанскую чернь», — почтительно писали в европейских газетах. «Кажется, разбойник, наконец, сам наткнулся на нож», — шептали меж собой потихоньку многие читатели этих газет в Пруссии, в Австрии, в Голландии, в Италии, в ганзейских городах, в Вестфальском королевстве, в государствах Рейнского союза, но они не смели еще верить в осуществление своих собственных упований. При этих-то настроениях вдруг было объявлено, что осенью (1808 г.) французский и русский императоры встретятся в Эрфурте.
Эту демонстрацию крепости франко-русского союза Наполеон замышлял уже давно. Но в середине июля 1808 г. случилось неожиданное событие, которое заставило Наполеона ускорить свидание с Александром. Генерал Дюпон, шедший на завоевание южной Испании и вторгшийся уже в Андалузию, занявший г. Кордову и продвигавшийся дальше, оказался в громадной выжженной солнцем равнине без продовольствия, окруженный бесчисленными партизанами из крестьян, со всех сторон нападавшими на его отряд. И 10 июля недалеко от Байлена Дюпон сдался со своим отрядом. Конечно, это еще не знаменовало освобождения Испании от французов, но впечатление, произведенное на Европу этой капитуляцией, было громадным. Непобедимые войска Французской империи потерпели хотя частичное, но бесспорное поражение. Узнав об этом событии, Наполеон впал в гнев и предал Дюпона военному суду. У Наполеона было своеобразное представление о том, что нравственно, а что безнравственно: «Наибольшая из всех безнравственностей (la plus grande des immoralités) — это браться за дело, которое не умеешь делать», — заявлял он. А если за дело военного командования берется неспособный генерал, то эта «безнравственность» превращается уже в прямое тягчайшее преступление. И Дюпон погиб в его мнении навсегда.
Наполеон сразу почувствовал серьезное политическое значение байленской катастрофы. Он хотя и прикидывался спокойным, упирая на то, что байленская потеря — совершенный пустяк в сравнении с ресурсами, которыми владеет его империя, но понимал отлично, как это событие должно подействовать на Австрию, которая стала вооружаться с удвоенной энергией. Австрия видела, что у Наполеона неожиданно оказался не один фронт, а два, и что этот новый южный испанский фронт будет отныне очень ослаблять его на Дунае. Чтобы удержать Австрию от войны, нужно было дать ей понять, что Александр I вторгнется в австрийские владения с востока, пока Наполеон, его союзник, будет с запада идти на Вену. Для этого и была главным образом затеяна эрфуртская демонстрация дружбы обоих императоров.
Александр I переживал трудное время после Тильзита. Союз с Наполеоном и неизбежные последствия этого союза — разрыв с Англией — жестоко задевали экономические интересы и дворянства и купечества. Фридланд и Тильзит считались не только несчастьем, но и позором.
Александр надеялся, поверив обещаниям Наполеона, что, приобретя благодаря франко-русскому союзу со временем часть Турции, он успокоит этим придворную, гвардейскую, общедворянскую оппозицию. Но время шло, а никаких шагов со стороны Наполеона, направленных в эту сторону, предпринято не было; мало того, до Петербурга начали доходить слухи, будто Наполеон подстрекает турок к дальнейшему сопротивлению в той войне, которую они вели в это время против России. В Эрфурте оба участника франко-русского союза надеялись рассмотреть поближе доброкачественность карт, при помощи которых каждый из них ведет свою дипломатическую игру. Оба союзника обманывали друг друга, оба это знали, хотя еще пока и не вполне, оба не доверяли друг другу ни в чем и оба нуждались друг в друге. Александр считал Наполеона человеком величайшего ума; Наполеон признавал дипломатическую тонкость и хитрость Александра. «Это настоящий византиец», — говорил французский император о русском царе. Поэтому при первой встрече в Эрфурте 27 сентября 1808 г. они с жаром обнялись и расцеловались публично и не переставали проделывать это две недели подряд, ежедневно и неразлучно показываясь на смотрах, парадах, бахчах, пирах, в театре, на охоте, на верховых прогулках. Публичность была самым главным в этих объятиях и поцелуях: для Наполеона эти поцелуи утратили бы всю свою сладость, если бы о них не узнали австрийцы, а для Александра — если бы о них не узнали турки.
Александр за год, прошедший между Тильзитом и Эрфуртом, удостоверился в том, что Наполеон только поманил его обещанием отдать ему «Восток», а себе взять «Запад»; ясно было, что он не только не позволит царю занять Константинополь, но что даже Молдавию и Валахию Наполеон предпочел бы оставить в руках турок. С другой стороны, царь видел, что Наполеон за целый год после Тильзита не удосужился убрать свои войска даже из той части Пруссии, которую он возвратил прусскому королю. Что касается Наполеона, то для него самым главным делом было удержать Австрию от выступления против Франции, пока ему. Наполеону, не удастся покончить с разгоревшейся в Испании партизанской войной. А для этого Александр должен был обязаться активно действовать против Австрии, если Австрия решится выступить. И вот этого-то прямого обязательства Александр не хотел ни дать, ни выполнить. Наполеон согласен был наперед отдать за эту русскую военную помощь Александру Галицию и даже еще владения у Карпат. Впоследствии самые выдающиеся представители как славянофильской, так и национально-патриотической школы русской историографии горько упрекали Александра в том, что он не пошел на эти предложения Наполеона и пропустил случай, который уже никогда более не повторялся. Но Александр подчинился после слабых попыток сопротивления тому сильному течению в русском дворянстве, которое видело в союзе с Наполеоном, дважды разгромившим русскую армию (в 1805 и 1807 гг.), не только позор (это бы еще куда ни шло), но и разорение. Анонимные письма, напоминавшие Александру о том, чем кончил Павел, его отец, который тоже вступал в дружбу с Наполеоном, были достаточно убедительны. И все-таки Александр боялся Наполеона и рвать с ним ни за что не хотел. По указанию и приглашению Наполеона, желавшего наказать Швецию за ее союз с Англией, Александр еще с февраля 1808 г. вел со Швецией войну, которая кончилась отторжением от Швеции всей Финляндии до реки Торнео и присоединением ее к России. Александр знал, что даже и этим он не успокоил раздражения и беспокойства русских помещиков, для которых интересы своего кармана стояли бесконечно выше всяких территориальных государственных экспансий на бесплодном севере. Во всяком случае приобретение Финляндии было для Александра тоже аргументом в пользу того, что с Наполеоном рвать сейчас и опасно и невыгодно.
В Эрфурте Талейран впервые предал Наполеона, войдя в тайные сношения с Александром, которому советовал сопротивляться наполеоновской гегемонии. Талейран впоследствии мотивировал свое поведение будто бы заботой о Франции, которую безумное властолюбие Наполеона влекло к гибели. «Русский государь цивилизован, а русский народ не цивилизован, французский государь не цивилизован, а французский народ цивилизован. Нужно, чтобы русский государь и французский народ вступили между собой в союз», — такой льстивой фразой старый интриган начал свои тайные переговоры с царем.
О Талейране говорили, что он во всю свою жизнь «продавал тех, кто его покупал». В свое время он продал Директорию Наполеону, теперь в Эрфурте продавал Наполеона Александру. Впоследствии он продал Александра англичанам. Он только англичан никому не продал, потому что только они его не купили (хотя он им несколько раз предлагал себя по самой сходной цене). Здесь неуместно углубляться в мотивы Талейрана (получившего потом от Александра деньги, хотя и не в таком большом количестве, как он рассчитывал). Для нас тут важно отметить две черты: во-первых, Талейран яснее других видел уже в 1808 г. то, что более или менее смутно, неясно начинало тревожить, как уже было сказано, многих маршалов и сановников; во-вторых, Александр понял, что наполеоновская империя не так прочна и несокрушима, как это могло показаться. Он стал противиться наполеоновскому домогательству по вопросу о военном выступлении России против Австрии в случае новой франко-австрийской войны. Во время одного из таких споров Наполеон швырнул об землю свою шляпу и стал в бешенстве топтать ее ногами. Александр в ответ на эту выходку заявил: «Вы резки, а я упрям... Будем разговаривать, будем рассуждать, а иначе я уеду». Союз остался формально в силе, но отныне рассчитывать на него Наполеон не мог. В большой тревоге ждали в России, благополучно ли окончится свидание в Эрфурте: не арестует ли Наполеон Александра, как он это сделал всего четыре месяца назад с испанскими Бурбонами, заманив их в Байонну. «Никто уже и не надеялся, что он вас отпустит, ваше величество», — откровенно (и к большой досаде Александра) проговорился один старый прусский генерал, когда Александр возвращался из Эрфурта. С внешней стороны все было превосходно: в течение всего эрфуртского свидания вассальные короли и другие монархи, составлявшие свиту Наполеона, не переставали умиляться сердечной взаимной любви Наполеона и царя. Но сам Наполеон, проводив Александра, был угрюм. Он знал, что вассальные короли не верят в крепость этого союза и что Австрия тоже не верит. Нужно было покончить с испанскими делами как можно скорее.
В Испании у Наполеона было 100 тысяч человек. Он приказал, чтобы еще 150 тысяч в спешном порядке вторглись в Испанию. Крестьянское восстание разгоралось с каждым месяцем. Испанское слово «гверилья», «маленькая война», неправильно передавало смысл происходящего. Эта война с крестьянами и ремесленниками, с пастухами овечьих стад и погонщиками мулов беспокоила императора гораздо сильнее, чем другие большие кампании. После рабски смирившейся Пруссии испанское яростное сопротивление казалось особенно странным и неожиданным. И все-таки Наполеон даже и не подозревал, до чего дойдет этот испанский пожар. На генерала Бонапарта это еще могло бы повлиять отчасти отрезвляющим образом, но на императора Наполеона, победителя Европы, «бунт нищих оборванцев» уж повлиять не мог.
Не уверенный в помощи Александра и почти убежденный, что Австрия выступит против него. Наполеон поздней осенью 1808 г. помчался в Испанию. Он был полон гнева на непокорных, грязных, безграмотных испанских «мужиков». За это время англичане уже успели сделать высадку и вытеснили французов из Лиссабона. Португалия стала не французской, а английской базой. Французы владели только северной Испанией, до реки Эбро, в других местах их уже почти не было. У испанцев была уже армия, вооруженная английскими ружьями. Наполеон перешел в наступление против испанской армии. При Бургосе 10 ноября 1808 г. он нанес испанцам страшное поражение; в ближайшие дни произошло еще два сражения, и испанская армия была, казалось, совсем уничтожена. Наполеон 30 ноября двинулся на Мадрид, защищаемый сильным гарнизоном. Интересно, что на усмирение Испании Наполеон привел (в кадрах своей армии) «польский легион», который он велел создать еще в 1807 г., захватив Польшу. Поляки с отчаянной храбростью рубили, по его приказу, испанцев, как бы не думая о той позорной роли, которую они играли, подавляя национально-освободительное движение испанского народа. Наполеон сказал полякам, что они еще должны заслужить, чтобы он пожелал воскресить Польшу, — вот поляки и заслуживали себе отечество, отнимая у испанцев их отечество. 4 декабря 1808 г. Наполеон вошел в Мадрид. Столица встретила завоевателя гробовым молчанием. Наполеон сейчас же объявил Испанию и столицу на военном положении и учредил военно-полевые суды. Затем император выступил против англичан. Генерал Мур был разбит и убит во время преследования остатков английской армии французами.
Казалось, опять погибнет испанское дело. Но чем хуже шли дела восставшего населения, тем яростнее становилось его сопротивление.
Город Сарагосса был осажден французами и держался несколько месяцев. Наконец, маршал Ланн взял ее внешние укрепления и ворвался в город 27 января 1809 г. Но тут произошло нечто такое, чего не бывало ни при какой осаде: каждый дом превратился в крепость; каждый сарай, конюшню, погреб, чердак нужно было брать с бою. Целых три недели шла эта страшная резня в уже взятом, но продолжавшем сопротивляться городе. Солдаты Ланна убивали без разбора всех, даже женщин и детей, но и женщины и дети убивали солдат при малейшей их оплошности. Французы вырезали до 20 тысяч гарнизона и больше 32 тысяч городского населения. Маршал Ланн, лихой гусар, ничего на свете не боявшийся, побывавший уже в самых страшных наполеоновских битвах, не знавший, что такое означает слово «нервы», и тот был подавлен видом этих бесчисленных трупов, вповалку лежавших в домах и перед домами, этих мертвых мужчин, женщин и детей, плававших в лужах крови. «Какая война! Быть вынужденным убивать столько храбрых людей или пусть даже сумасшедших людей! Эта победа доставляет только грусть!» — сказал маршал Ланн, обращаясь к своей свите, когда все они проезжали по залитым кровью улицам мертвого города.
На Европу осада и гибель Сарагоссы произвели потрясающее впечатление, и больше всего на Австрию, Пруссию, на другие германские государства. Волновало, смущало, стыдило сравнение между поведением испанцев и рабской покорностью немцев.
Однако захватническое хищничество наполеоновской монархии не могло надолго оставить в бездействии буржуазию покоренных стран. Пробужденная Наполеоном к жизни, избавленная от феодально-крепостнического уклада, вытолкнутая на арену свободного капиталистического развития, буржуазия покоренной Европы вынуждена была искать новых путей, чтобы избавиться в свою очередь от тех экономических тисков, в которые зажала ее политика Наполеона.
Пути эти открывались по мере развития национально-освободительного движения против Наполеона. Отдельные вспышки этого движения была в 1803, 1809 и 1810 гг., а в 1813 г. оно разгоралось могучим пожаром во всех странах, оказавшихся под гнетом наполеоновского правления.
Наполеон в 1806 г. и до разгрома Пруссии показал, как он будет относиться к малейшим попыткам возрождения духа национального протеста в немецком народе. Теперь, после Тильзита, Наполеон считал возможным проделывать все, что ему заблагорассудится, не только в Баварии или в государствах Рейнского союза, но и в Гамбурге, и в Данциге, и в Лейпциге, и в Кенигсберге, и в Бреславле, и вообще во всей Германии.
Наполеон не знал, что в Берлине Фихте в своих лекциях делает туманные патриотические намеки, не знал, что в германских университетах образуются студенческие кружки, еще не смеющие прямо говорить о восстании против всеобщего поработителя, но одушевленные тайной и глубокой ненавистью к нему. Он не очень учитывал, что германская буржуазия в вассальных странах, хоть и радуется введению Наполеоновского кодекса, крушению феодализма, находит наложенное политическое и финансовое французское иго, сопряженное с «налогом кровью», т.е. с рекрутскими наборами для пополнения французской великой армии, слишком тяжелым, слишком уж дорогой платой. Всего этого он не знал или не хотел знать.
В Эрфурте немецкие монархи, немецкие аристократы и аристократки вели себя, по выражению одного наблюдателя, как лакеи и горничные у сердитого барина, который, однако, если вовремя поцеловать у него ручку, бывает иногда щедр на подарки. Первый поэт Германии, Гете, домагался аудиенции, и когда Наполеон наконец принял его в Эрфурте (забыв, впрочем, пригласить сесть старого поэта) и изволил милостиво одобрить «Вертера», то Гете был в полном восторге. Словом, верхи Германии, с которыми только и имел непосредственные отношения Наполеон, ничуть не проявили и тогда и намека на протест. Народ молчал и повиновался. Но зато известия из Австрии становились все тревожнее.
В Австрии учитывали, что Наполеон на этот раз сможет драться лишь одной рукой, потому что другая у него занята; на ней повис страшный испанский груз. В Австрии знали, что Наполеон ни за что Испанию не оставит, что для него это уже не только каприз деспота, а нечто другое, что он увяз там надолго. И знали не только это: понимали и причину. Континентальная блокада в это время все усиливалась новыми дополнительными декретами, новыми полицейскими мерами и новыми политическими актами французского императора. Отказаться от Пиренейского полуострова теперь, когда там уже появились англичане, значило отказаться от континентальной блокады, т.е. от основной пружины всей наполеоновской политики.
Измена, или подозреваемая измена, взяточника Талейрана и шпиона Фуше, этих низменных, по мнению Наполеона, негодяев, его не так занимала, конечно, как готовящаяся война с Австрией. Но он учел то и другое и бросил в январе 1809 г. Испанию на усмотрение маршалов, которые без него теряли половину своей военной ценности, и на произвол своего брата, испанского короля Жозефа, который и без него и при нем никогда никакой ценности собой не представлял. Приехав в Париж, он приказал сановникам и министрам собраться во дворце и тут 28 января 1809 г. с яростью стал кричать на Талейрана. Это была та знаменитая сцена, когда он начал свою речь к Талейрану криком: «Вы — вор, мерзавец, бесчестный человек, вы бы предали вашего родного отца!», а кончил это приветствие словами: «Почему я вас до сих пор не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще время это сделать! Вы — грязь в шелковых чулках!» Зная уже кое-что об измене Талейрана (отставленного еще в 1807 г.), он, конечно, не знал всего, иначе он расстрелял бы Талейрана немедленно. Но ему было не до того, чтобы распутывать интриги маститого взяточника. Война с Австрией стояла перед ним неотступной угрозой.
Раздавленная только что учиненным военным погромом Испания опять вспыхнула перебегающим по всей стране и не погасающим огнем крестьянских и городских восстаний. Неуловимый, неустрашимый, из земли появляющийся и под землю уходящий народ продолжал задерживать в Испании половину великой армии, 300 тысяч человек лучшего наполеоновского войска. Но другая половина спешно готовилась императором к новой тяжелой войне с Австрией. Он приказал произвести во Франции новый досрочный набор, который дал ему 100 тысяч человек. Кроме того, он велел подчиненным ему государствам Германии выставить еще 100 тысяч солдат и отдать их ему для войны. Это было беспрекословно исполнено. Затем он выделил больше 110 тысяч старослужилых солдат, на которых мог особенно положиться, и 70 тысяч из старых солдат отправил в Италию, где тоже нужно было ждать нападения австрийцев.
Итак, у него к весне 1809 г. было в руках несколько больше 300 тысяч солдат, которых он мог бросить против Австрии. Но и Австрия собирала все свои силы. Австрийский двор, аристократия, среднее дворянство — инициаторы этой войны — были единодушны; даже венгерское дворянство было на сей раз вполне верно «короне»: нужно было защищать и укреплять общее священное для них благо — крепостное право, которое было так страшно урезано географически и расшатано политически в трех войнах 1796–1797, 1800 и 1805 гг., когда была разгромлена австрийская армия и лучшие земли монархии Габсбургов отошли к Франции. Промышленная буржуазия, которая выигрывала от континентальной блокады, была еще (если не считать Чехии) сравнительно очень незначительна в Австрийской монархии; буржуазия торговая и вся потребительская масса страдали от блокады. Война, затеянная австрийским двором в 1809 г., была популярнее, чем любая из трех предшествовавших войн с Наполеоном. «Луч солнца блеснул, наконец, из Испании», — повторяли в Австрии и в Германии на все лады...
Весь мир замер в ожидании. Наполеон с тремя лучшими маршалами, Даву, Массена и Ланном, стоял в боевой готовности. Он ждал, чтобы Австрия «напала» первая, потому что это давало ему лишний аргумент в важном начатом в Эрфурте, но не оконченном споре с Александром: он еще надеялся на выступление России против Австрии. 14 апреля 1809 г. австрийский эрцгерцог Карл, лучший австрийский генерал, вторгся в Баварию. «Через два месяца я заставлю Австрию разоружиться и тогда, если будет нужно, совершу снова путешествие в Испанию», — сказал Наполеон, уезжая на войну.
Он, конечно, мало полагался на 100 тысяч подневольных немцев, которые численно составляли теперь треть его армии, он знал, какие великолепные, закаленные в боях корпуса остались в Испании и какие потери ветеранами несет там французская армия. И не только он это знал. Австрийцы действовали на этот раз с небывалой смелостью и силой. Первое большое сражение произошло при Абенсберге в Баварии. Австрийцы были отброшены, потеряв при этом больше 13 тысяч человек. Но дрались они очень храбро, гораздо лучше, чем при Арколе, чем при Маренго, чем при Аустерлице. Вторая битва — при Экмюле 22 апреля — кончилась новой победой Наполеона. Эрцгерцог Карл был отброшен за Дунай, понеся тяжкие потери. Затем маршал Ланн, завершая маневр, приступом взял Регенсбург. Наполеон, руководивший осадой, в разгаре боя был ранен в ногу. С императора сняли сапог, сделали наскоро перевязку, и он сейчас же велел посадить себя на лошадь и строго воспретил говорить о своей ране, чтобы не смутить солдат. Въезжая во взятый Регенсбург, он, улыбаясь, отдавал честь приветствовавшим его полкам, скрывая страшную боль. Эти бои под Экмюлем и Регенсбургом стоили австрийцам еще около 50 тысяч человек убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести. В пять дней Наполеон выиграл пять кровопролитных битв.
Перейдя через Дунай и продолжая преследовать отступавшего Карла, Наполеон нагнал его в Эберсберге и здесь снова разбил его и отбросил. Наполеон при этом сжег город, причем часть населения (австрийцы утверждали, что половина населения) сгорела живьем. «Мы шли по месиву из жареного человеческого мяса», — говорит о прохождении французской кавалерии через развалины Эберсберга генерал Савари, герцог Ровиго. В этой покрывавшей улицы каше даже вязли копыта лошадей. Это произошло 3 мая. 8 мая Наполеон уже снова, как в 1805 г., ночевал во дворце австрийского императора в Шенбрунне, а 13 мая бургомистр Вены поднес императору ключи от австрийской столицы. Кампания, казалось, идет к быстрому концу. Но Карл, спасая армию, успел перебросить ее через венские мосты на левый берег Дуная, после чего сейчас же сжег мосты. Наполеон решился на необычайно трудную операцию. Примерно в половине километра от венского (правого) берега на Дунае начинается отмель, ведущая к острову Лобау. Наполеон решил навести понтонный мост до этой отмели, переправить туда главные силы своей армии, поредевшей от битв и от оставления гарнизонов по пути, а затем уже без труда переправиться с этого острова через узенький рукав реки, отделяющий Лобау от левого (северного) берега Дуная. 17 мая переправа на Лобау совершилась. Затем Наполеон велел навести понтонный мост через узкий рукав, с острова на левый берег. Первым переправился корпус Ланна, вторым — корпус Массена. Оба маршала заняли две близлежавшие деревушки, Асперн и Эсслинг. И тут-то уже перешедшие корпуса и двигавшиеся за ними другие части французской армии подверглись нападению эрцгерцога Карла, разгорелась яростная битва, и, когда Ланн с кавалерией бросился рубить отступавших в полном порядке австрийцев, вдруг подломился мост, соединявший правый (венский) берег с островом, и французская армия внезапно лишилась непрерывно до той минуты подвозимых снарядов. Наполеон велел Ланну немедленно отступить. Отступление совершалось с боем, с большими потерями. Во время боя в маршала Ланна попало ядро, раздробившее и почти оторвавшее обе ноги. Он умер на руках Наполеона, на глазах которого во второй раз увидели слезы. Французская армия ушла обратно на Лобау, и сколько бы Наполеон ни утешал себя тем, что французы потеряли в этой битве всего 10 тысяч человек (а на самом деле гораздо больше), эрцгерцог Карл — 35 тысяч (на самом деле около 27 тысяч), но факт поражения и отступления был на этот раз налицо. Это произошло 21 и 22 мая.
Бежавшие из Вены австрийский двор и правительство ликовали и готовились к возвращению в столицу. Сам эрцгерцог Карл, талантливый и серьезный человек, не только не хвастался одержанной победой, но и раздражался всеми этими преувеличениями. Но во всяком случае это было уже не снятие осады с Акра в 1799 г. и даже не Эйлау в 1807 г. Третья по счету наполеоновская неудача была гораздо значительнее, поражение гораздо яснее. Наполеон знал, что в Германии прусский майор Шилль начал вдруг со своим гусарским полком нечто вроде партизанской войны против французов; что тирольский крестьянин Андрей Гофер ведет такую же партизанскую войну в тирольских горах; что очень неспокойно в Италии; что в Испании, хотя он там оставил около 300 тысяч солдат, лучшую часть великой армии, лютая борьба возгорелась с новой силой. Известие о битве под Эсслингом, об императоре, который якобы пойман, заперт на острове Лобау (так говорили в Европе, принимая свое желание за действительность), должно было вдохнуть новые силы во всех поднимавшихся отовсюду бойцов.
Наполеон не терял, однако, хладнокровия и бодрости. Казалось, единственное, что его огорчило в эти грозные дни, — это смерть маршала Ланна, но вовсе не проигрыш битвы. Он знал, что австрийские потери огромны под Эсслингом, что и в первую часть кампании, еще до Вены, австрийцы потеряли свыше 50 тысяч — гораздо больше, чем французы. Он рассчитывал, усиливая армию, разрабатывая дальнейшие планы войны и в то же время внимательно читая ежедневно поступавшие со всех концов его необъятной империи донесения. С любопытством он узнал, что папа Пий VII и его кардиналы проповедуют, будто Эсслингская битва есть кара божия всемирному угнетателю, тирану, обидчику и притеснителю церкви. Наполеон, несмотря на хлопоты, хорошо запомнил и принял к сведению поведение официального божьего наместника. Тревожные вести доходили до Наполеона из Англии в течение всего лета 1809 г. В Англии снарядили экспедицию с целью создать диверсию на севере Бельгии. 40 тысяч солдат и 30 тысяч моряков приняли участие в этой экспедиции, направившейся на остров Вальхерен. На короткое время англичанам удалось овладеть Флиссингеном, но в конце концов ничего из этой экспедиции не вышло, и после тяжелых потерь англичане отплыли обратно.
Наполеон то ездил в Вену, в Шенбрунн, то возвращался на остров Лобау. Он быстро вдохнул в солдат уверенность в близкой победе; в середине июня армия отдохнула, получила подкрепления, остров Лобау был великолепно укреплен. Император теперь окончательно удостоверился, что эрцгерцог Карл, все время бездействовавший, в самом деле не в состоянии напасть и что теперь только от него, Наполеона, зависит, когда дать решительный бой.
Окончив эти спешные военные дела и имея несколько дней для отдыха. Наполеон прежде всего обратил внимание на римского первосвященника. Пию VII пришлось горько раскаяться в той проницательности и особенно в той поспешности, с которой он усмотрел праведную длань господню в битве под Эсслингом. Еще 17 мая 1809 г., т.е. до этой битвы, появился декрет Наполеона, объявлявший, что г. Рим и все владения папы вообще отныне присоединяются к Французской империи. «Дано нами, в нашем императорском лагере в Вене. Наполеон». Так кончался этот декрет, отнимавший у римских пап то владение, которое, по знаменитому, хотя и подложному документу, сфабрикованному папами в средних веках, римский император Константин еще в начале IV в. будто бы «подарил» папе Сильвестру I.
Теперь же, после декрета, французы 10 июня окончательно заняли Рим, и папство лишилось всего, чем владело около полуторы тысяч лет. Папа был взят под стражу и увезен в Савону, на юг Франции.
Расправившись с папой, Наполеон приступил к последним военным приготовлениям. 2, 3 и 4 июля император перевел новые корпуса на остров Лобау и туда же велел перевезти больше 550 артиллерийских орудий. 5 июля Наполеон приказал начать переправу с острова Лобау на левый берег. Кроме прежней, пополненной армии, у него был теперь и еще подтянутый из Италии корпус Макдональда. Битва началась 5 июля 1809 г., и началась не так, как ждал эрцгерцог Карл, и не там, где можно было с большим вероятием ее ждать. У Наполеона было твердое правило: не делать того, чего может ждать враг. У французов было около 550–560 пушек, у австрийцев — несколько больше 500. Артиллерия с обеих сторон была прекрасно снабжена снарядами. Переправа массы войск через Дунай была совершена исключительно организованно. Битва была необычайно жестокой, и 5-го, а особенно 6 июля были моменты, опасные для Наполеона. Он находился в центре боя; маршалы Даву, Макдональд, Массена, начальник артиллерии генерал Друо действовали с такой отчетливостью, как редко бывает в таких колоссальных боях. После страшной канонады «колонна Макдональда», 26 батальонов в «каре», сторона которого равнялась тысяче метров, неся огромные потери, прорывает центр австрийской армии. За ней следуют резервы. Далее, на севере маршал Даву, направленный императором на село Ваграм, расположенное на высотах, с боем вошел в село, и вся австрийская армия была вслед за тем разгромлена. К вечеру 6 июля 1809 г. все было кончено. Австрийцы были отброшены. Не все бежали врассыпную, часть их сохранила строй. Конечно, разгром, который потерпела австрийская армия под Ваграмом, был ужасающим, не меньше, чем под Аустерлицем. Австрийцы потеряли в этот второй день убитыми, ранеными и пленными около 37 тысяч человек. Но и французские потери были велики, хотя и меньше, чем потери побежденных. В этом смысле победа была куплена дорого. В течение почти всей следующей недели продолжалось преследование разбитой австрийской армии. Наполеон двигался вслед за кавалерией, добивавшей отдельные австрийские части. Когда 11 июля он вступил в г. Цнайм, ему доложили, что у него испрашивает аудиенции князь Лихтенштейн, только что приехавший генерал-адъютант императора Франца. Франц просил о перемирии. Наполеон согласился, но на очень тяжких условиях: все те части Австрии, куда проник к моменту перемирия хоть небольшой отряд французов, очищаются немедленно австрийцами и остаются в залог в руках французов, пока не будет заключен окончательный мир. Лихтенштейн согласился на все условия.
Начались переговоры. На многое готов был павший духом император Франц, проклинавший теперь тех, кто его толкал полтора года на эту страшную борьбу, которая по кровопролитию далеко превзошла все войны, какие вела Австрия за всю свою историю после Тридцатилетней войны в XVII в. Со страхом вспоминали, как Наполеон наказал папу еще до Ваграмского боя. Что же он сделает с Австрией после Ваграма?
Притязания Наполеона оказались гораздо больше, чем после Аустерлица. Он потребовал уступки новых австрийских земель: Каринтии, Крайны, Истрии, Триеста и Триестской области, громадных земельных урезок на западе и северо-западе австрийских владений, части Галиции, контрибуции в 134 миллиона флоринов золотом. Австрийцы долго торговались, умоляли, хитрили. Победитель был неумолим. Он только сбавил контрибуцию и согласился взять 85 миллионов, да сделал некоторые ничтожные территориальные уступки с запрошенного. Все это время переговоров он жил в Шенбрунне. В Вене и во всей оккупированной Австрии наблюдалась полная покорность. Вспыхнувшие было после Эсслинга надежды теперь погасли и в Австрии и в Германии. Наполеон вставил в подготовлявшийся мирный трактат еще запрещение Австрии держать армию больше 150 тысяч человек. Франц и на это согласился.
12 октября Наполеон производил перед своим дворцом в Шенбрунне смотр гвардии. На эти смотры обычно приезжало и приходило (особенно в праздничные дни) много публики посмотреть на Наполеона, возбуждавшего всюду самое ненасытное любопытство. Наполеон допускал публику на смотры; вообще Вена ему нравилась своей полной покорностью. Смотр 12 октября уже приходил к концу, когда какой-то хорошо одетый молодой человек успел пробраться между лошадьми свиты и с прошением в левой руке подошел к лошади, на которой сидел император. Его схватили раньше, чем он успел выхватить длинный, отточенный кинжал.
Наполеон по окончании смотра пожелал видеть арестованного. Он оказался саксонским студентом Штапсом из Наумбурга. «За что вы хотели меня убить?» — «Я считаю, что пока вы живы, ваше величество, моя родина и весь мир не будут знать свободы и покоя». — «Кто вас подучил?» — «Никто». — «Вас учат этому в ваших университетах?» — «Нет, государь». — «Вы хотели быть Брутом?» Студент, по-видимому, не ответил, потому что Наполеон потом говорил, что Штапс как будто не очень хорошо знал, кто такой был Брут. «А что вы сделаете, если я вас отпущу сейчас на свободу? Будете ли опять пытаться убить меня?» Штапс долго молчал, прежде чем ответить: «Буду, ваше величество». Наполеон тоже помолчал и вышел в глубокой задумчивости. Военно-полевой суд собрался вечером. Штапс был расстрелян на другой день.
Через два дня после этого происшествия, о котором Наполеон запретил говорить и печатать, 14 октября 1809 г., австрийский император Франц I наконец решил подписать Шенбруннский мирный трактат, так урезывавший его владения и так непомерно усиливавший всеевропейского диктатора.
Сотней тысяч погибших людей, разорением страны, многомиллионной контрибуцией, потерей чуть не трети лучших частей своих территорий и нескольких миллионов населения, усилением зависимости от победителя заплатила Австрийская империя за отчаянную, но неудачную попытку свергнуть наполеоновское иго.
Глава XI. Император и империя в зените могущества. 1810–1811 гг.
Сейчас же после подписания Шенбруннского мира Наполеон выехал из Вены и спустя несколько дней снова, как после Египта, как после Маренго, как после Аустерлица, как после Тильзита, въехал с триумфом в свою столицу.
Необъятная империя еще больше раздалась вширь; верные вассалы были щедро вознаграждены; дерзость непокорных жестоко наказана; папа лишен владений; тирольские повстанцы рассеяны; партизаны майора Шилля расстреляны по приказу Наполеона прусским военным судом; из Англии приходят вести о разорении, о самоубийствах и банкротствах купцов и промышленников, о недовольстве в народе. Значит, континентальная блокада как будто оправдывает возложенные на нее надежды.
Казалось, мировая империя — в зените блеска, мощи, богатства и славы.
Наполеон знал, что он только силой покорил Европу и только страхом держит ее. Но Англия не сдается; русский император явно лукавит, ничем не помог ему в только что окончившейся войне и только прикидывался, будто воюет с Австрией; испанцев истребляют, уничтожают массами, но они продолжают сопротивляться и борются с неукротимой яростью, и на них по-прежнему нисколько не влияют никакие Ваграмы, никакие новые победы императора, никакой обновленный и усилившийся престиж мирового победителя. Вокруг Наполеона были преданные ему маршалы, вроде Жюно, или умные честолюбцы, вроде Бернадотта, или тонкие аристократические изменники, вроде Талейрана, или исполнители, вроде Савари, готовые по первому знаку Наполеона расстрелять родного отца, или холодные, жестокие проконсулы и сатрапы, вроде Даву, которые способны были, не задумавшись, сжечь Париж, если бы для пользы службы им это показалось нужным, или честолюбивые, самолюбивые, бездарные, сварливые императорские братья и сестры, которых он сделал королями и королевами, но которые не переставали на что-то жаловаться и с кем-то ссориться и причинять императору только хлопоты и раздражение.
Предстоит еще много войн, в этом Наполеон не сомневался, как не сомневался никто во Франции, и что уже отлита пуля, которая его убьет, это тоже было весьма возможно. Наполеон великолепно различал, что он делает во Франции и для Франции, для «старых департаментов», в качестве французского государя, от того, что он делает в качестве императора Запада, короля Италии, протектора Рейнского союза и т.д. и т.д. Первое он считал прочным, имеющим долгую жизнь, второе держится, пока он жив. Нужна династия, нужен наследник, которого Жозефина уже не даст; следовательно, необходима другая жена.
Теперь, когда регенсбургская пулевая рана и отточенный кинжал Штапса настойчиво напомнили, на какой хрупкой нити держится все созданное Наполеоном, вопрос о династии сделался для него особенно важным. Томы и томы написаны французскими историками о Жозефине, о ее жизни и приключениях, о ее разводе, о ее глубоком обмороке, когда Наполеон впервые сказал ей внезапно, что он должен развестись с ней и жениться на другой, о волнениях самого императора. Для нас этот эпизод интересен лишь как звено в цепи политических событий, развернувшихся после Ваграма. Поэтому будем кратки в рассказе об этих событиях.
Если Наполеон любил когда-нибудь женщину страстно и неповторимо, то, конечно, это была Жозефина в первые годы после выхода ее замуж за него, бывшего моложе ее на шесть лет. Никогда и никого он так уже не любил, даже графиню Валевскую, не говоря уже о других женщинах, с которыми вступал в короткую или более длительную связь. Но это было давно, в 1796, в 1797 гг., когда он писал Жозефине из своего итальянского похода пламенные, дышащие страстью письма. Наполеон не расстался с ней, когда узнал, что у нее были в его отсутствие увлечения, и хотя утратил прежнее пламенное, страстное чувство, однако все-таки любил ее. Шли годы, мужа своего она сильно побаивалась. Он категорически воспретил ей даже ходатайствовать перед ним за кого бы то ни было и, отказывая просителю, не забывал прибавать: «Ясно, что он никуда не годится, если за него хлопочет императрица». Он ненавидел даже эту самую слабую форму вмешательства женщины в государственные дела и вообще в дела.
Что Жозефина была весьма пуста и ни о чем не умела думать, кроме платьев, бриллиантов, балов и иных развлечений, против этого он не возражал. Говорили же в тогдашних светских кругах, что если Наполеон подвергает всяким гонениям г-жу Сталь, то не столько за ее либеральный образ мыслей и оппозиционный дух, — это бы он еще мог извинить, но за то, что она умна и начитана, а уж этого качества, неприличного, по его убеждению, для женщин, он никак простить не мог. С этой точки зрения Жозефина его никак не могла раздражать. Спора нет, что источники и биографы правы, когда в один голос утверждают, что не с легким сердцем Наполеон решился на развод.
«У политики нет сердца, а есть только голова», — сказал он Жозефине в ноябре 1809 г., когда готовилось проведение формального развода. Он продолжал ее любить, они целые дни были вместе. Наступило 15 декабря 1809 г., когда в присутствии всех высших сановников империи и всей императорской семьи протокол развода был подписан. Они расстались, но в ближайшие дни Наполеон ежедневно писал ей самые любящие письма в Мальмезон, куда она удалилась в подаренный ей дворец.
Римскому папе предложено было подтвердить развод от имени католической церкви, которая в этих делах очень медлит и упирается. За Пия VII сделали это, однако, с предельной быстротой, чуть ли не с обратной почтой, другие: уж очень влиятельный был проситель.
Вскоре был собран торжественный синклит сановников, которые, обсудив вопрос, постановили просить его величество во имя блага империи взять себе другую жену. Большинство из них, несомненно, искренне сочувствовало намерению императора. С одной стороны, они были в своем материальном благополучии тесно связаны с империей и хотели продолжения империи Бонапартов, боясь реставрации королевства Бурбонов, и только в появлении на свет прямого наследника императорского престола видели упрочение «новой Франции». А с другой стороны, все они, даже изменник Талейран до своей опалы, всегда мечтали о тесном сближении Наполеона с какой-либо из двух больших держав: Австрией или Россией, сближении не только политическом, но и династическом. Это дало бы передышку от бесконечных войн и вечно возникающих опасностей. Одни (во главе с Фуше) хотели, чтобы Наполеон женился на русской великой княжне Анне Павловне, сестре Александра, другие предпочитали в качестве невесты дочь австрийского императора Франца, эрцгерцогиню Марию-Луизу. Сам Наполеон, как только развод был оформлен, сейчас же приступил к выбору невесты. Тут ход его мыслей оказался крайне быстр и вполне ясен: смотрины невест должны были быть короткими, по существу дела долгих поисков быть не могло. На свете, кроме великой Французской империи, есть три великих державы, о которых стоит еще говорить: Англия, Россия и Австрия. Но с Англией — война не на жизнь, а на смерть. Остаются Россия и Австрия; Россия, бесспорно, сильнее Австрии, которую он же, Наполеон, только что страшно разбил уже в четвертой (за 13 лет) войне против нее. Значит, нужно начинать с России, где были две великие княжны, сестры Александра. Какую именно брать, это было дело третьестепенное, ведь все равно Наполеон ни одной из них никогда не видел. Но Екатерину Павловну поспешили с предельной быстротой заблаговременно выдать замуж за Георга Ольденбургского. Неофициально французскому послу в Петербурге было поручено запросить царя относительно оставшейся Анны.
В декабре 1809 и январе 1810 г. большое волнение происходило при русском дворе. В Петербурге Александр I не переставал в самых льстивых выражениях уверять французского посла Коленкура, что лично он очень желал бы видеть свою сестру женой Наполеона, но что, по мнению императрицы матери (Марии Федоровны), Анна слишком еще молода, ей всего 16 лет и т.д. А в Павловске Мария Федоровна изо всех сил противилась этому браку, и значительная часть двора ее поддерживала. Ненависть всего дворянства и особенно крупных землевладельцев-аристократов к Наполеону росла с каждым годом, по мере того как усиливались строгости континентальной блокады.
28 января 1810 г. Наполеон собрал во дворце торжественное совещание высших сановников по вопросу о разводе и о новом браке. Часть сановников во главе с великим канцлером Камбасересом, королем неаполитанским Мюратом и министром полиции Фуше высказалась за великую княжну Анну Павловну, другие — за австрийскую эрцгерцогиню Марию-Луизу, дочь императора Франца I. Сам Наполеон, уже, по-видимому, раздраженный уклончивостью русского двора, явно дал понять, что он склоняется в пользу австрийской невесты. Совещание не вынесло определенного решения.
Спустя 9 дней из Петербурга пришли известия, что мать великой княжны хотела бы несколько отсрочить брак своей дочери с Наполеоном, так как Анна Павловна еще слишком молода. В тот же день австрийский посол в Париже, Меттерних, был запрошен, согласен ли австрийский император дать Наполеону в жены свою дочь Марию-Луизу? И тут же, без размышлений (обо всем уже было передумано, пока шло русское сватовство), Меттерних заявил, что Австрия согласна отдать юную эрцгерцогиню, хотя до той поры никаких официальных разговоров об этом не было (да и быть не могло). Сейчас же, вечером 6 февраля, в Тюильрийском дворце был собран новый совет сановников, который и высказался уже единогласно за австрийский брак.
На другой день, 7 февраля 1810 г., уже был изготовлен брачный договор. Над текстом много не пришлось работать: взяли из архива и просто переписали брачный договор, составленный при женитьбе предшественника Наполеона на французском престоле, короля Людовика XVI, на другой австрийской эрцгерцогине, Марии-Антуанетте, которая приходилась родной теткой нынешней невесте Наполеона, Марии-Луизе. Тотчас по составлении брачного договора он был отправлен на ратификацию австрийскому императору. Франц I моментально ратифицировал, и сообщение об этом пришло в Париж 21 февраля, а уже 22 февраля маршал Бертье, начальник главного штаба, выехал в Вену с любопытной миссией: изображать собой жениха, т.е. самого Наполеона, во время торжественного обряда бракосочетания, который должен был произойти в Вене.
В Вене известие об этих внезапных решениях Наполеона было принято с радостью. После страшных поражений и потерь 1809 г. этот брак представлялся чем-то вроде спасения. Маленькие неприятности и неувязки, как раз происшедшие в эти дни венского ликования, были обойдены молчанием. Например, именно в разгаре торжеств, предшествовавших свадьбе, Наполеон приказал расстрелять вождя тирольских инсургентов, взятого, наконец, в плен. Андрей Гофер, перед тем как раздался залп (его расстреляли в г. Мантуе), успел крикнуть: «Да здравствует мой добрый император Франц!» Но добрый император Франц, за которого Гофер сложил голову, запретил упоминать имя темного тирольского крестьянина, который своей чрезмерной преданностью и неуместным патриотизмом мог навлечь неудовольствие Наполеона на всю Австрию.
11 марта 1810 г. в Вене, в соборе, окруженном массой народа, при самом торжественном церемониале, в присутствии всей императорской австрийской фамилии, всего двора, всего дипломатического корпуса, сановников, генералитета состоялось бракосочетание 18-летней эрцгерцогини Марии-Луизы с императором Наполеоном. Невеста никогда в глаза не видала жениха, она его даже и в день свадьбы не видела, потому что он, как сказано, счел излишним самому обеспокоиться хотя бы для такого исключительного случая, как собственная свадьба, личной поездкой в Вену. Но с этим в Вене примирились. Маршал Бертье и эрцгерцог Карл вдвоем с достоинством проделали все те манипуляции, которые подобало проделать жениху. Читатель, несомненно, несколько удивится и спросит: как это возможно двум лицам изображать отсутствующего жениха? Удивлялись и современники, не искушенные в деталях царственных свадеб. Бертье был послан Наполеоном в Вену изображать собой императора Наполеона и формально просить руки Марии-Луизы, а эрцгерцог Карл, по просьбе и прямому приглашению Наполеона, должен был явиться в церковь, и здесь Бертье вручил ему Марию-Луизу, которую эрцгерцог Карл (тоже, как до той поры Бертье, изображая собой Наполеона) повел к алтарю и стоял с ней рядом во время богослужения, после чего новая французская императрица была отправлена с подобающими почестями и свитой во Францию. При проезде через вассальные страны (например, Баварию) ей всюду давали почувствовать, что она — супруга повелителя Европы. Наполеон встретил ее недалеко от Парижа, по дороге в Компьен. Тут только супруги в первый раз в жизни увидели друг друга.
В Европе это событие произвело огромное впечатление и дебатировалось на все лады. «Теперь — конец войнам, Европа обрела равновесие, откроется счастливая эра», — говорили купцы ганзейских городов, уверенные, что Англия, окончательно лишившись опоры в Австрии на континенте, должна будет мириться. «Он будет воевать через несколько лет с той из двух держав, где ему не дадут сразу невесты», — говорили дипломаты еще после первого совещания французских сановников.
При неустойчивом общемировом положении было ясно, что всякое укрепление союза Наполеона с Россией грозит самому существованию Австрийской монархии, и всякое сближение Наполеона с Австрией сильно развязывает ему руки по отношению к России. Некоторые австрийские аристократы, вроде старого князя Меттерниха (отца австрийского посла в Париже), плакали слезами счастья, когда узнали о готовящемся браке; сын, известный уже тогда Клементий Меттерних, не скрывал своей радости. «Австрия спасена», — повторяли в императорском дворце в Шенбрунне. В Петербурге была смутная тревога. Мария Федоровна была в восторге, что «чудовищу Минотавру» брошена на съедение не ее дочь, а дочь австрийского императора. Но Александр I, Румянцев, Куракин и даже ярые враги французского союза были обеспокоены. Им казалось, то Австрия окончательно входит в фарватер наполеоновской политики и что на континенте Россия осталась одинокой лицом к лицу с ненавистным завоевателем Европы.
Тотчас после брака Наполеон усиленно взялся за систематическое проведение своей экономической политики.
Без понимания экономической политики Наполеона не может быть ни вполне ясного представления, на чем держалась его империя, ни отчетливого ответа на вопрос, почему она пала. Континентальная блокада была лишь составной частью того экономического законодательства, которое создал Наполеон.
Экономическая политика Наполеона вполне соответствовала его общей политике. Превращаясь в результате захватнических войн из императора французов в императора Запада, стремясь расширить свои владения до Египта, Сирии, Индии, он и в области экономической политики решительно подчинял эти «новые департаменты» интересам «старых департаментов», т.е., другими словами, той Франции, которую он застал 18 брюмера, когда сделался самодержцем. Какая же разница была между «старыми» и «новыми» департаментами колоссальной империи? Разница была огромная. «Старые департаменты» были сознательно и планомерно поставлены Наполеоном в положение эксплуататорской силы, а «новые» — в положение эксплуатируемых, и для этого нужно было насильственно задержать экономическое развитие завоеванных стран.
У Наполеона была налицо буквально с первого же года его правления совершенно выработанная доктрина, без малейших изменений продержавшаяся до конца его царствования: есть экономические интересы «национальные» и есть интересы всего остального человечества, которые должны быть не то что подчинены, а просто принесены в жертву национальным. Где же границы этой «нации»? На севере — Бельгия; на востоке — даже не Рейн, а граница старой Франции, отделявшая ее от левобережной Германии; на западе — Ла-Манш и океан; на юге — Пиренеи. Насколько Наполеон стремился расширять границы своего государственного могущества, настолько он старался сузить понятие «национальных» интересов, ограничить географические пределы этой привилегированной страны, «старой Франции», поскольку речь шла об интересах экономических. И это весьма понятно: и то и другое стремление теснейшим образом были между собой связаны в умах крупной французской промышленной и торговой буржуазии, интересы которой Наполеон поставил во главу угла своей грабительской по отношению к другим странам политики; именно эти интересы, т.е. интересы крупной французской буржуазии, он и назвал «национальными».
Уже Бельгия и левобережная Германия, прочно завоеванные, нераздельно присоединенные, разделенные на департаменты, являлись «ненациональными», т.е. попросту конкурентами французской буржуазии, которых можно и должно было сломить, а их земли сделать поприщем для деятельности французского капитала. Нечего уж говорить о позднее присоединенных Пьемонте, Голландии, ганзейских городах, иллирийских провинциях. Вся завоеванная империя — своя собственная, поскольку можно от нее требовать рекрутов, налогов, содержания войска и т.д., но чужая, поскольку нужно стараться, чтобы бельгийские, немецкие, голландские металлурги, текстильные и водочные фабриканты не смели конкурировать с французами как в старой Франции, так и у себя дома, т.е. на своей родине, завоеванной Наполеоном.
Нечего и говорить о тех завоеваниях, которые, по наполеоновским соображениям, сохраняли фикцию отдельного существования от Франции: Италия, где Наполеон был королем, Швейцария, где он был «медиатором». Рейнский союз (Бавария, Саксония, Вюртемберг, Баден и т.д.), где он был «протектором», Вестфальское королевство, т.е. конгломерат средне— и северогерманских государств, куда он посадил королем своего брата Жерома, Польша, куда он посадил своего вассала, саксонского короля, и т.д. и т.д. — все это должно было быть рынком сбыта или рынком сырья для французской промышленности. Сажали в тюрьму за попытку провезти украдкой в Италию какое-нибудь техническое изобретение, нужное для итальянской промышленности; это было строго воспрещено «королем Италии» Наполеоном во имя интересов французских промышленников, покровительствуемых французским императором Наполеоном. Зорко следил Наполеон за точным проведением своей политики: не пускал золингенские ножи во Францию, в Голландию, в Италию; воспрещал ввоз саксонских сукон в Вестфалию; обложил запретительными пошлинами вывоз шелка-сырца из Италии и Испании, так как нужно было обеспечить сырьем лионских фабрикантов; взыскивал особые пошлины с товаров, которые идут из Иллирии не по странам, подчиненным Наполеону непосредственно, а через вассальные страны. Эти приказы, запреты, указания, выговоры тучами ежедневно летели из императорского кабинета по всей Европе. Эта политика обогащала и усиливала крупную французскую буржуазию и укрепляла владычество Наполеона во Франции, но, конечно, раздражала, разоряла, угнетала промышленную и торговую буржуазию и всю потребительскую массу во всех областях необъятной империи, кроме «старых департаментов». Наполеон, создавая империю Запада, в хозяйственном отношении оставался узко национальным французским государем, продолжателем Людовиков XIV и XV, реализатором многих идей Кольбера. Во имя классовых интересов французской промышленной буржуазии он расширял несколько лет подряд колоссальное здание мировой монархии. Совершенно ясно, что при насильственном подавлении производительных сил порабощаемых им стран гигантское сооружение не могло не рухнуть, если бы даже не было испанского народного восстания, московского пожара, предательства Мармона под Парижем, опоздания Груши под Ватерлоо, — словом, если бы даже политическая и стратегическая картина гигантской борьбы, которую вел Наполеон всю свою жизнь, сложилась в последние годы его царствования не так, как она сложилась в действительности.
Неправильно было бы думать, что Наполеон был только покорным исполнителем воли крупной буржуазии, призвавшей его к власти и в основном обеспечивавшей его диктатуру. Интересы крупной буржуазии он ставил, конечно, во главу угла всей своей внутренней и внешней политики. Но вместе с тем он стремился самую буржуазию подчинить своей воле, заставить ее служить государству, в котором видел «самоцель», и это экономическое порабощение Европы, о котором мы только что говорили, Наполеон установил, главным образом, в интересах французского буржуазного государства. С этим, конечно, отдельные слои буржуазии примириться не могли и против этого вели молчаливую фактическую войну нарушениями стеснительных для них постановлений, беззаконными операциями вроде скупок, искусственного вздувания цен и т.д.
И здесь нельзя не вспомнить очень тонкое и проницательное высказывание Маркса, которое он сделал в «Святом семействе» и без которого анализ причин, сокрушивших великую империю Наполеона, был бы неясен. «Не революционное движение вообще сделалось 18 брюмера добычей Наполеона.., — писал Маркс, — добычей Наполеона стала либеральная буржуазия…». «Правда, Наполеон понимал уже истинную сущность современного государства; он уже понимал, что государство это имеет своей основой беспрепятственное развитие буржуазного общества, свободное движение частных интересов и т.д. Он решился признать эту основу и взять ее под свою защиту. Он не был мечтательным террористом. Но в то же время Наполеон рассматривал еще государство как самоцель», а буржуазию «исключительно лишь как казначея и своего подчиненного, который не вправе иметь свою собственную волю. Он завершил терроризм, поставив на место перманентной революции перманентную войну. Он удовлетворил до полного насыщения эгоизм французской нации, но требовал также, чтобы дела буржуазии, наслаждения, богатство и т.д. приносились в жертву всякий раз, когда это диктовалось политической целью завоевания. Деспотически подавляя либерализм буржуазного общества — политический идеализм его повседневной практики, — он не щадил равным образом и его существеннейших материальных интересов, торговли и промышленности, как только они приходили в столкновение с его, Наполеона, политическими интересами. Его презрение к промышленным дельцам было дополнением к его презрению к идеологам. И в области внутренней политики он боролся против буржуазного общества как против противника государства, олицетворенного в нем, Наполеоне, все еще в качестве абсолютной самоцели. Так, например, он заявил в государственном совете, что не потерпит, чтобы владельцы обширных земельных угодий по произволу возделывали или не возделывали их. Тот же смысл имел и его план — путем передачи в руки государства гужевого транспорта подчинить торговлю государству. Французские купцы подготовили то событие, которое впервые потрясло могущество Наполеона. Парижские биржевики путем искусственно созданного голода заставили Наполеона отложить русский поход почти на два месяца и таким образом перенести его на слишком позднее время года».
Таков среди многочисленных высказываний Маркса о Бонапарте социологический и психологический анализ политики и личности Наполеона в этом месте «Святого семейства». Маркс дает здесь замечательное указание того, как историк, анализируя классовую почву, из которой выросла данная политика, не должен забывать в то же время о личностях, конкретных руководителях этой политики, их характере, их индивидуальных особенностях. Когда Маркс говорит о «либеральной буржуазии», ставшей «добычей» Наполеона, он имеет в виду ликвидацию Наполеоном политических принципов либеральной буржуазии, считавшей идеалом государства конституционную монархию, присвоение Наполеоном-диктатором всей полноты государственной власти, ликвидацию каких бы то ни было «свобод», под знаком которых началась буржуазная революция 1789 г. Маркс подчеркивает, что буржуазный либерализм, олицетворявшийся в конституции 1791 г., был сначала раздавлен в процессе революционной борьбы террористической диктатуры Комитета общественного спасения, а потом попытка оживить и укрепить его при Директории была не менее круто ликвидирована бонапартистским переворотом 18 брюмера. И в том и в другом случае делалось нужное для капиталистического развития дело, и буржуазия до поры до времени поддерживала диктатуру якобинцев, необходимую для окончательного сокрушения феодальных порядков, и диктатуру Наполеона как форму власти, способную укрепить господство капитала и наиболее дееспособную для ведения завоевательных войн.
Наполеон, правя фактически именно так, как требовали интересы крупной буржуазии, в то же время ничуть ее не уважал, называл плутократию «наихудшей из всех аристократий» и склонен был повторять свой афоризм: «Богатство в настоящее время — это плод воровства и грабежа» (la fruit du vol et de la rapine).
Диктатура Наполеона, действуя в интересах французского буржуазного государства в целом, стремясь расширить его могущество за счет соседних наций, во имя этого часто шла наперекор стремлениям и потребностям отдельных слоев буржуазного общества. Эта диктатура рассматривала буржуазию как бездонный денежный мешок, обязанный служить, в его же собственных интересах, очередным политическим целям. Политически неразвитая часть буржуазии, оберегая свои сундуки, не раз противилась Наполеону, и Маркс отмечает, в частности, как перед началом русского похода между Наполеоном и французской буржуазией выявилось крупное расхождение, выяснившее, скажем кстати, сокрушающую трещину не только в империи Наполеона, но и в том капиталистическом хозяйстве, которое строилось под его покровительством. Вот почему, говоря о причинах падения наполеоновской империи, необходимо помнить об этих обстоятельствах. Еще раньше чем начался последний акт великой исторической трагедии, еще когда все трепетало и безмолвствовало перед всесильным властелином, у ног которого во прахе лежали цари и с которым продолжали на всем континенте бороться только испанские оборванные крестьяне и ремесленники, на империю налетело первое дуновение грядущей бури: разразился экономический кризис. Это произошло в 1811 г., и человек, стоявший тогда как будто в центре мировых событий, не мог понять истинного смысла этого шквала. Этот кризис разразился уже во втором, обостренном фазисе континентальной блокады, о котором нужно сказать хоть несколько слов.
Блокада в 1810–1811 гг. была не та, что в 1806 г., в эпоху первого, определившего ее, берлинского декрета, и ее создатель тоже был уже не совсем тот человек, который подписал в Потсдамском дворце декрет 21 ноября 1806 г.
Со второй половины 1809 г., после Ваграма и Шенбруннского мира, резко усиливаются в императоре Наполеоне два убеждения, которые начали в нем складываться после Аустерлица, вполне отчетливо выявились после Иены и занятия Берлина и стали определять все его поведение после Фридланда и Тильзита: первое убеждение заключалось в том, что Англию можно «поставить на колени», исключительно разоряя ее континентальной блокадой; второе убеждение выражалось словами «я все могу» и логически пополнялось мыслью: «а следовательно, я могу осуществить и континентальную блокаду, хотя бы для этого потребовалось превратить весь континент во Французскую империю». Победитель делал, что хотел. Аттила в V в. брал себе насильственно в жены приглянувшуюся ему дочь какого-нибудь из бесчисленных мелких князьков полудиких германских племен, а Наполеону по первому его требованию прислали в Париж дочь австрийского императора, принцессу из самой надменной, гордящейся своей древностью династии, да еще все считали это большим счастьем для того конгломерата территориальных обломков, в которые была превращена Наполеоном Габсбургская держава.
При таком рабском повиновении континента справиться с оставшимся врагом — Англией — казалось вполне возможным. Других врагов не должно поминать: «нищие канальи», как называл Наполеон испанцев, в счет не шли, т.е. он не хотел удостаивать их чести считать неприятелями. Он делал вид, что с ними уже не воюет, разбив их снова наголову в 1809–1810 гг., а просто приказывает их ловить и расстреливать. Этой иллюзией ему не очень долго пришлось себя тешить: партизанская война, гверилья, продолжалась. Но и тут император видел первопричину зла в англичанах, посылавших в Испанию помощь уже не только оружием, но и целыми отрядами.
Англия, и только Англия, стоит на дороге. Смертельный поединок между Наполеоном и Англией мог кончиться лишь гибелью одного из противников. Но тщетно Наполеон пытался превратить свой поединок в борьбу всего европейского континента против Англии. Блокада больно (и чем дальше, тем больнее), била одним концом по Англии, а другим по континенту. Наполеон знал это, но именно это-то и приводило его уже не в смущение, как до Тильзита, уже не в беспокойство и раздражение, как после Тильзита, а в нескрываемое бешенство.
Гнев его в эти годы направлялся прежде всего против тайных нарушителей континентальной блокады, — явных, открытых ослушников не было на всем континенте Европы, если не считать испанского повстанческого правительства, образовавшегося на самом юге Пиренейского полуострова. Расправа была короткая. Контрабандистов расстреливали, конфискованные английские товары сжигали, мирволящих контрабанде монархов Наполеон сгонял прочь с престола.
В 1806 г. Наполеон назначил королем Голландии своего младшего брата Людовика. Новый король понимал, что полное прекращение торговых связей с Англией грозит голландской торговой буржуазии, сельскому хозяйству, торговому мореплаванию полнейшим разорением и что с Голландией эта хозяйственная катастрофа случится гораздо раньше, чем с другими, потому что с тех пор, как англичане отняли у нее все ее колонии (именно после установления над ней французского владычества), Голландия в значительной степени зависела в своих торговых оборотах от сбыта в Англию водок, сыров, тонкого полотна и от получения из Англии колониальных товаров. Все это заставляло Людовика Бонапарта смотреть сквозь пальцы на контрабандную торговлю голландского побережья с англичанами.
После нескольких грозных выговоров Наполеон лишил своего брата престола, Голландское королевство объявил уничтоженным, а Голландию присоединил в 1810 г. особым декретом к Французской империи и разделил ее на департаменты, куда и назначил префектов. Донесли ему, что ганзейские города — Гамбург, Бремен и Любек — недостаточно строго борются с контрабандой и что его представитель в Гамбурге, Бурьен, берет взятки за попустительство. Наполеон немедленно отставил Бурьена, а ганзейские города тоже присоединил к Французской империи.
Он выгонял маленьких немецких самодержцев, имевших владения на берегу моря, не потому, что они в чем-либо провинились, а потому, что доверял только себе самому. Изгнал он герцога Ольденбургского и присоединил Ольденбург к своим владениям, хотя это и вызвало большое недовольство императора Александра, с которым Ольденбургский был в родстве.
Континентальная блокада тяжко сказывалась на потребительской массе всей Центральной Европы и, кроме того, вконец разоряла торговую буржуазию и судовладельцев ганзейских городов и всего морского побережья северной Германии. Даже в совсем задавленной цензурными строгостями печати покоренных стран это иногда обиняком проскальзывало. «Политические статьи, печатающиеся в Германии, всегда будут требовать внимания со стороны французского правительства, — докладывалось министру полиции в 1810 г., — немец любит политические рассуждения, он читает с жадностью свои многочисленные газеты, ежемесячники, альманахи и календари, не говоря уже о брошюрах, драмах и романах, в которых ловкие авторы умеют представить Рейнский союз как рабство, союз Франции и Австрии как результат взаимного истощения, Англию как непобедимую страну, русских как наследников всемирной монархии». Неладно, с цензурной точки зрения, обстоит дело и с Голландией, вконец разоренной континентальной блокадой, потому что она, можно сказать, и жила главным образом морской торговлей. В Голландии тоже наблюдается тот же порок, как и в северной Германии: «в ней слишком много газет», — читаем мы в другом докладе по полиции.
Но с газетами Наполеону справиться было совсем легко, — этим он никогда не затруднялся. Гораздо замысловатее было осуществить полностью блокаду на деле.
Трудности затеянного дела обступали Наполеона со всех сторон: оказалось, что найти для всего колоссального побережья Европы несколько десятков тысяч таможенных чиновников, жандармов, полицейских и вообще чиновников всякого рода и всякого ранга, которые честно, неподкупно и ретиво исполняли бы свои обязанности, было гораздо труднее, чем расправиться с мирволящим королем или плутующим наместником. За кофе, за какао, за сахар, за перец, за пряности европейская потребительская масса платила в пять, в восемь, в двенадцать раз больше, чем до блокады, — и она получала эти товары, хотя и не в прежнем количестве. За красящее индиго, за хлопок, без которого останавливались мануфактуры, французские, саксонские, бельгийские, чешские, прирейнские бумагопрядильщики и ситценабивщики платили в пять и в десять раз дороже, и они получали эти товары, хотя тоже не в таком количестве, как прежде. Куда же шла эта чудовищная искусственная прибыль? Во-первых, в карманы английских судовладельцев и контрабандистов и, во-вторых, в карманы наполеоновских таможенных чиновников и жандармов. Когда дежурному объездному пикету или таможенному чиновнику предлагали за то, чтобы они согласились одну ночь спокойно проспать, сумму, равную их жалованию за пять лет, или когда жандарму за то, чтобы он погулял в течение трех часов подальше от данного прибрежного места, предлагали тонкого сукна на 500 франков золотом и сахарного песка на другие 500 франков, то соблазн оказывался слишком велик.
Наполеон это знал и видел, что на этом фронте ему победить будет труднее, чем при Аустерлице, Иене или Ваграме. Он назначал и посылал ревизоров и контролеров, и постоянных и чрезвычайных, но и их подкупали. Он смещал и отдавал под суд, но заместитель продолжал дело смещенного и осужденного и только старался быть осторожнее. Тогда император придумал новую меру. Начались повальные обыски уже не только в прибрежных городах и селах, но и далеко в центре Европы, в магазинах, складах, конторах. Конфисковались все товары «английского происхождения», причем обязанность доказывать неанглийское их происхождение возлагалась на владельцев этих товаров. В панике разоряемые владельцы наиболее подозрительных в данном случае колониальных продуктов старались доказать, что эти товары американского, а не английского происхождения. И действительно, американцы делали в это время золотые дела, покрывая своим флагом и сбывая привозимые на их судах английские товары.
Тогда Наполеон трианонским запретительным тарифом 1810 г. сделал легальную торговлю колониальными продуктами невозможной, откуда бы они ни происходили. И вот по всей Европе запылали костры: не веря таможенным чиновникам, полиции, жандармам, властям крупным и мелким, начиная от королей и генерал-губернаторов и кончая ночными сторожами и конными стражниками, Наполеон приказал публично сжигать все конфискованные товары. Толпы народа угрюмо и молчаливо, по свидетельству очевидцев, глядели на высокие горы ситцев, тонких сукон, кашемировых материй, бочек сахара, кофе, какао, цибиков чая, кип хлопка и хлопковой пряжи, ящиков индиго, перца, корицы, которые обливались и обкладывались горючим веществом и публично сжигались. «Цезарь безумствует», — писали английские газеты под впечатлением слухов об этих зрелищах. Наполеон решил, что только физическое уничтожение всех этих привозных сокровищ может сделать контрабанду в самом деле убыточным предприятием и распространить риск не только на тех, кто берется в глухую ночь выгрузить в укромном местечке, под утесом на пустынном берегу, привезенный товар, но и на богатых купцов Лейпцига, Гамбурга, Страсбурга, Парижа, Антверпена, Амстердама, Генуи, Мюнхена, Варшавы, Милана, Триеста, Венеции и т, д., которые перекупают, спокойно сидя у себя в конторе, этот контрабандный товар уже из третьих и четвертых рук.
Некоторая часть буржуазии как Французской империи, так и вассальных стран сумела выкачивать громадные прибыли и в этих условиях, она продолжала в общем похваливать континентальную блокаду и одобрять все меры императора против тайного подвоза английских товаров. В особенности были довольны металлурги. Но уже среди текстильных фабрикантов раздавались наряду с похвалами и жалобы: без хлопка все-таки нельзя было делать ситцы, без индиго все-таки нельзя было красить материи.
Что касается буржуазии торговой и ремесленников, занятых производством предметов роскоши, то здесь ропот был еще сильнее: с грустью вспоминали те недолгие месяцы Амьенского мира 1802–1803 гг., когда тысячи богатых англичан хлынули в Париж и разом раскупили чуть ли не все изделия столичных ювелиров и чуть ли не весь бархат и шелк на лионских складах. Жаловались на бесконечные войны, разорявшие былых европейских клиентов. Еще больше роптала вся потребительская масса, жестоко переплачивавшая на кофе, сахаре, да и на мануфактурах, избавленных от английской конкуренции и поэтому вздорожавших.
При этой-то обстановке и разразился торгово-промышленвый кризис 1811 г.
Уже поздней осенью 1810 г. стало наблюдаться сокращение сбыта французских товаров, и это явление, быстро прогрессируя, охватило всю империю и особенно «старые департаменты», т.е., другими словами, Францию в точном смысле этого слова. Промышленники и торговцы почтительнейше жаловались на то, что блокада бьет по карману не только англичан, но начинает бить и их, что у них нет сырья, что, эксплуатируя побежденные народы (петиционеры выражались несравненно мягче и изящнее), его императорское величество уменьшил во всей Европе покупательную силу потребителя, а произвольными конфискациями товарных складов и разгулом беззакония и самоуправства военных и таможенных властей (они и тут выражались вовсе не так, а гораздо ласковее) император может подорвать возможность нормального кредита, без которого ни промышленность, ни торговля существовать не могут.
Кризис усиливался с каждым месяцем. У владельцев целого ряда бумаготкацких, прядильных и ситцевых мануфактур, Ришар-Ленуара, например, у которого перед кризисом 1811 г. работало 3600 прядильщиков и прях, 8822 ткача, 400 ситценабивщиков, в общем больше 12 тысяч человек, — в 1811 г. не осталось бы и пятой части этого количества, если бы Наполеон не велел выдать ему экстренную субсидию в 1,5 миллиона франков золотом. Но банкротства быстро следовали за банкротствами. В марте 1811 г. Наполеон распорядился выдать амьенским фабрикантам 1 миллион субсидии и сразу на 2 миллиона закупил товаров в Руане, Сен-Кантене и Генте. Огромные субсидии были ассигнованы и Лиону. Но все это было только каплей в море.
Среди документов, которые автор этой книги нашел в Национальном архиве Франции и которые характеризуют грандиозное развитие кризиса, наибольшее впечатление производят документы, подводящие общие итоги. Министр внутренних дел сообщил Наполеону 19 апреля 1811 г.: «Рабочие большей части промыслов жалуются, что они без работы. Уверяют, что большое количество рабочих беспрерывно эмигрирует». В Руане безработица была такая страшная и разорение фабрикантов так очевидно, что Наполеон вынужден был ассигновать 15 миллионов на поддержку погибающих мануфактур.
Сановники осмелели. Управляющий Французским банком прямо доложил 7 мая 1811 г. императору, что покоренные страны слишком разорены и что до их покорения французские товары сбывались в большем количестве, чем после их покорения; что в Париже ремесленники, нанятые выделкой предметов роскоши, голодают; что потребление и внутри и вне страны круто сократилось... Наполеон давал субсидии, но ничуть не смягчал блокады. Английские товары (а все колониальные продукты подводились под английские) конфисковались по-прежнему. Летняя ярмарка в Бокэре в 1811 г. была прямо уничтожена внезапным налетом полиции, конфисковавшей «целую улицу» складов сахара, пряностей, индиго и т.д.
Наполеон, кроме многомиллионных ссуд и субсидий фабрикантам, прибег в 1811 г. к гигантским заказам за счет казны: так, он произвел колоссальные закупки шерстяных материй для армии, дал громадные заказы лионским шелковым и бархатным мануфактурам для дворцов, приказывал всем подвластным ему европейским дворам делать закупки в Лионе и достиг того, что если в июне 1811 г. в Лионе работало в шелковой промышленности всего 5630 станков, то в ноябре работало 8000. Зима была трудная. Глухое брожение в этот период проявлялось как на рабочих окраинах Парижа, так и в других промышленных центрах. Не все успевали подслушать полицейские шпионы, не обо всем удалось по душе разговориться в рабочих предместьях провокаторам, во всяком случае в 1811 г. среди рабочего населения было, конечно, далеко не так благополучно, как это пытаются изобразить современники и позднейшие историки. Наполеон часто говорил, что единственная революция, которая может быть опасна, — это «революция пустого желудка». «Наполеон неоднократно говорил мне, — пишет министр Наполеона Шапталь в своих воспоминаниях, — что он боится народных восстаний, когда они вызываются недостатком работы». «У рабочего нет работы... он может восстать; я боюсь этих восстаний, вызываемых отсутствием хлеба; я бы меньше боялся сражения против армии в 200 тысяч человек», — повторял Наполеон.
До больших выступлений рабочей массы в столице и провинции не дошло, хотя признаки раздражения, нетерпения, уныния, иногда и отчаяния отмечались и полицейскими и частными наблюдателями.
Если в экономическом кризисе 1811 г. заключался урок, то Наполеон поспешил учесть его совершенно определенным образом; пока континентальная блокада не сломит Англию, пока моря не откроются для французов, пока не прекратится бесконечная война, положение французской торговли и промышленности всегда будет шатким и всегда возможно повторение кризиса. Значит, блокаду нужно завершить, и если для этого придется взять Москву, нужно взять Москву.
Наполеон крепко запомнил, что лионские шелкоделы частично объясняли кризис сбыта «внезапным» прекращением заказов из России, вызванным новым русским таможенным тарифом, подписанным императором Александром в декабре 1810 г. и облагавшим высокими пошлинами предметы роскоши, т.е. шелк, бархат, дорогие вина, — все то, что шло в Россию из Франции.
Это Наполеон тоже поставил Александру в тот счет, который нарастал уже давно, с Эрфурта. И в течение всего 1811 года у Наполеона крепло убеждение, что этот счет будет ликвидирован и может быть ликвидирован только в Москве.
Как отнесся Наполеон к этим тревожным симптомам ненормального экономического положения империи?
Кризис назревал давно, и император следил за его приближением. До сих пор Наполеону приходилось встречаться с критическим положением государственных финансов, с начинающейся «инфляцией», с необходимостью выпускать бумажки без золотого обеспечения, наконец, с плутовскими махинациями крупных финансистов, которые стремились опутать казну разными сомнительными займами и ростовщическими обязательствами. Так было в самые первые годы его владычества (1799–1800), так было в 1805 и в начале 1806 г. Но с этими затруднениями Наполеон всегда справлялся. То он привозил с войны золотые миллионы контрибуции; то он налагал под разнообразными предлогами тяжелые налоги и поборы на население побежденных стран независимо от контрибуции, которую ему уплачивали правительства этих стран; то, наконец, просто отнимал у финансистов многое из того, что они успели заполучить. Так было, например, в 1806 г. Едва вернувшись после аустерлицкой кампании в Париж, в конце января 1806 г., Наполеон потребовал отчета о состоянии финансов и усмотрел, что знаменитый миллионер и хищник Уврар и стоявшая около него финансовая компания, действовавшая под фирмой «Объединенные негоцианты», очень хитроумными комбинациями и тонкими, юридически ловкими приемами опутали казну и причинили ей колоссальные убытки. Наполеон приказал Уврару и представителям «Объединенных негоциантов» явиться во дворец и тут объявил им без особых предисловий и околичностей, что просто приказывает им отдать все наворованное ими за последнее время. Уврар пробовал было прельстить Наполеона предложением новых «интересных для казны» комбинаций, которые его величество, наверное, примет, но его величество не скрыл, что наиболее интересной для казны комбинацией он считает немедленное заключение Уврара и его товарищей в Венсенский замок и отдачу их под уголовный суд. «Объединенные негоцианты» отнеслись к этому мнению императора с полным вниманием и, хорошо зная нрав собеседника, сочли его аргументацию исчерпывающей: в ближайшее же время они отдали казне 87 миллионов франков золотом, не настаивая при этой прискорбной для них операции ни на каких уточнениях, ни бухгалтерских, ни юридических. «Я заставил дюжину мошенников вернуть награбленное», — так сообщал Наполеон об этом случае в одном письме к своему брату, тогда неаполитанскому, позднее испанскому королю Жозефу.
Валюта стояла прочно, золото в казне было достаточно, система финансовой и экономической эксплуатации как всех завоеванных частей империи, так и всей вассальной Европы в пользу «старых департаментов», т.е. в пользу Франции в точном смысле слова, оправдывала себя, казалось, много лет подряд.
И вдруг зловещий треск прошел по колоссальному зданию: Наполеон на опыте 1811 г. понял, насколько труднее бороться с общим экономическим кризисом, чем с временными финансовыми затруднениями, и насколько легче ликвидировать неполадки в казначействе, чем найти и, главное, уничтожить дефекты во всей экономической системе, в организации всей хозяйственной жизни колоссальной державы. Здесь уже не могли помочь ни контрибуции, ни хватанье за горло финансовых хищников, ни образцовая отчетность и строгость контроля, ни все совершенство бюрократической машины, созданной Наполеоном. Разразившийся в 1811 г. кризис был прежде всего (но далеко не исключительно) кризисом сбыта тех товаров, которые главным образом и составляли предметы торговли и промышенности, обогащавшие Францию. Кому было сбывать знаменитые ювелирные изделия парижских мастерских? Кому было продавать дорогую мебель, над выделкой которой работало чуть не три четверти населения Сент-Антуанского предместья? Или драгоценные, дорогие сорта кожаных изделий, производством которых кормились Сен-Марсельское предместье и колоссальный рабочий квартал Муффтар? Или великолепные женские наряды и мужские костюмы, выделкой и продажей которых занимались бесчисленные портняжные мастерские мировой столицы? Как могли держаться на высоте цены на лионский шелк и бархат, на седанские высшие сорта сукон, на тончайшее полотняное белье, выделываемое в Лилле, Амьене, Рубе, на валансьенские кружева?
Все эти французские предметы роскоши выделывались не только для внутреннего рынка, но для всего мира, а весь мир для французских товаров оказывался очень сокращенным: Англия отпала, Америка, как Северная, так и Южная, отпала, богачи-плантаторы с Антильских и Маскаренских островов отпали. Вообще отпали все покупатели (богатейшие и многочисленные) изо всех стран, отделенных от европейского континента «соленой водой», потому что на «соленой воде» безраздельно владычествовали англичане. Но неблагополучно обстояло дело и с европейским континентом. Завоеванные Наполеоном страны разорялись дотла, побежденным странам, даже если они и не были непосредственно завоеваны, навязывали континентальную блокаду, которая лишала их валюту покупательной силы. С тех пор как русские помещики не могли сбывать в Англию сельскохозяйственное сырье, исчезло и то английское золото, которым они оплачивали парижские товары: русский рубль упал после Тильзита до 26 копеек. У поляков, австрийцев, у итальянской аристократии произошло то же самое. В государствах западной, южной, центральной, а в конце концов и северной Германии происходил тот же процесс быстрого материального оскудения феодально-помещичьего класса не только вследствие подчинения континентальной блокаде, но и вследствие потрясения, а во многих местах и уничтожения крепостничества.
И дело было не только в оскудении феодально-крепостнического класса в Европе. Новая буржуазия, появлявшаяся вместе с наступавшим развитием промышленного капитализма, шла своей дорогой, росла, крепла, усиливалась в завоеванных Наполеоном странах и во всей зависимой и полузависимой от него Европе, и никакими ухищрениями не удавалось подавить промышленное развитие всей западной и отчасти центральной Германии, Богемии (как тогда называлась чешская часть Австрии), Бельгии, части Силезии, которые являлись самыми промышленными частями Европы. Эта конкуренция (не говоря уже о сильно развивавшейся английской контрабанде) вытесняла даже и такие французские товары, которые никак не могли назваться предметами роскоши. Но для шерстяных и грубых сортов полотняных изделий, для металлургии, для сбыта предметов обыденного потребления оставался в той или иной степени внутренний рынок «старых департаментов», куда французский император не пускал других своих же подданных: ни бельгийцев, ни немцев, ни итальянских шелкоделов и никого вообще. Однако и тут была налицо одна обширная отрасль производства, особенно и издавна покровительствуемая Наполеоном, которая страдала не только (и не столько) от сокращения сбыта, сколько от страшного вздорожания сырья. Это была хлопчатобумажная индустрия. В результате запрещения ввоза колониальных товаров хлопок стал цениться чуть ли не на вес золота. Возник жестокий кризис сырья, который заставил в 1811 г. фабрикантов резко сократить производство. Перед лицом кризиса, перед угрозой растущей безработицы и голода в рабочих кварталах столицы, Лиона, Руана, а также и разорения винодельческих южных департаментов Наполеон пошел на некоторое отступление от правил блокады. Он позволил выдавать лицензии (в ограниченном количестве), именные удостоверения, разрешающие ввоз во Францию на определенную сумму «запрещенных товаров», с тем чтобы (данным лицом) на эту же сумму были проданы за границу французские товары. Эти лицензии стоили очень дорого ввиду злоупотреблений полиции, выдававшей их, и все-таки считались необыкновенно выгодными для покупателей.
Эта уступка показывает, насколько обеспокоен был Наполеон кризисом 1810–1811 гг. Правда, особенно большой материальной пользы англичанам французские лицензии принести не могли, но все-таки это было определенное отступление от принципа. Как мера борьбы против кризиса лицензии лишь в слабой степени могли способствовать усилению сбыта. Еще меньше значения могли в этом смысле иметь требования, предъявленные Наполеоном к его двору, к высшим сановникам: он требовал, чтобы при дворе одевались как можно роскошнее и наряднее, чтобы как можно чаще меняли туалеты и т.д. Эти распоряжения императора не могли обеспечить обильный сбыт громадной отрасли производства предметов роскоши, хотя придворная жизнь при Наполеоне даже и до 1811 г. была необычайно богата, а после этих распоряжений императора стало хорошим тоном швырять деньги парижским ювелирам и лионским шелкоделам, устраивать пиры на сотни приглашенных, где шампанское и другие дорогие вина лились рекой, менять мебель на более дорогую и изысканную, рядить в драгоценные кружева не только себя, но и прислугу, заказывать роскошные кареты и т.д. Сам Наполеон в 1811 г. сделал также целый ряд очень больших и дорогих заказов парижским и лионским промышленникам и ремесленникам для казенных зданий и дворцов.
Теперь, в 1811 г., как и раньше, в 1806 г., во время несравненно менее острого и менее продолжительного затора в торгово-промышленных делах, Наполеон придерживался давно высказанного им принципа: «Моя цель не в том, чтобы предупредить банкротство негоциантов, государственных финансов не хватило бы на это, а в том, чтобы помешать закрытию той или иной мануфактуры». И если министр внутренних дел оказал вспомоществование, то Наполеон требует, чтобы министр оправдывал произведенный расход так: «Я дал взаймы деньги этой мануфактуре, у которой столько-то рабочих, потому что ей грозило остаться без работы».
К зиме 1811/12 г. кризис стал медленно ослабевать. Однако Наполеон понимал, что ни одна причина кризиса 1811 г. не устранена, что кризис в скрытом, тлеющем состоянии будет продолжаться; понимал он и то, что именно война с Англией и сопряженная с ней континентальная блокада мешают радикальному улучшению экономики империи. Чтобы прекратить блокаду, нужно было сначала добиться, чтобы Англия сложила оружие. Больше чем когда-либо он считал теперь ускорение победы над Англией главным средством к упрочению своей империи и вне и внутри. И больше чем когда-либо он был убежден, что огромный прорыв в блокаде уже сделан англичанами, что Александр с ним лукавит и его обманывает, что английские товары из России по всей необъятной западной границе, через Пруссию, Польшу, Австрию, через тысячи пор и отверстий просачиваются в Европу и что это сводит к нулю континентальную блокаду, т.е. уничтожает единственную надежду «поставить Англию на колени». Наполеона извещали и предупреждали со всех сторон, что английская контрабанда проникает не только в подчиненную ему Европу, но и во Францию, т.е. в «старые департаменты» его колоссальной империи, и что пробирается эта контрабанда с «северного побережья» материка Европы.
Его взор, прикованный к Лондону, постоянно в течение всей его жизни отвлекаемый то к Альпам, то к Вене, то к Берлину, то к Мадриду и упорно снова устремлявшийся на Лондон, как только наступала передышка в континентальных войнах, теперь снова стал переходить с Лондона на самую далекую европейскую столицу «Северное побережье» — под властью лукавого византийца, русского царя... Отказаться от борьбы с Англией, от близкой уже победы, от сокрушения британского экономического могущества или схватить Александра за горло и заставить его вспомнить тильзитские обязательства? Так начал ставиться вопрос для Наполеона уже в 1810 г.
Уже с 1810 г. Наполеон приказал доставить ему книги с информацией о России, ее истории и особенностях.
Судя по отрывочным высказываниям императора и скудным данным, шедшим от окружения императора. Наполеон уже с осени 1810 г. стал свыкаться с мыслью, что англичанам, этому упорному, неуловимому, наседающему врагу, которого не удалось победить ни в Каире, ни в Милане, ни в Вене, ни в Берлине, ни в Мадриде, можно нанести окончательный, сокрушительный удар только в Москве. Эта мысль крепла в Наполеоне с каждым месяцем.
Великая армия в Москве это значит покорность Александра, это полное, безобманное осуществление континентальной блокады, следовательно, победа над Англией, конец войны, конец кризисам, конец безработице, упрочение мировой империи, как внутреннее, так и внешнее. Кризис 1811 г. окончательно направил мысли императора в эту сторону Впоследствии в Витебске, уже во время похода на Москву, граф Дарю откровенно заявил Наполеону что ни армия, ни даже многие в окружении императора не понимают, зачем ведется эта трудная война с Россией, потому что из-за торговли английскими товарами во владениях Александра воевать не стоило. Но для Наполеона такое рассуждение было неприемлемо. Он усматривал в последовательно проведенном экономическом удушении Англии единственное средство окончательно обеспечить прочность существования великой созданной им монархии. И вместе с тем он ясно видел, что союз с Россией подламывается не только вследствие разногласий из-за Польши и не только из-за беспокоящей и раздражающей Александра оккупации части прусских владений и захватов на севере Германии, — но прежде всего потому что Россия возлагает очень много надежд на Англию в будущем, как и Англия возлагает свои надежды на Россию. Но непосредственный удар нанести Англии он не может. Значит, нужно ударить по России.
Кровавый призрак новой колоссальной вооруженной борьбы стал подыматься на мировом горизонте.
Глава XII. Разрыв с Россией. 1811–1812 гг.
После Эрфурта Александр вернулся в Петербург еще с намерением поддерживать франко-русский союз и не выходить из фарватера наполеоновской политики, по крайней мере в ближайшем будущем. Когда будет написана научная и детальная социально-экономическая и политическая история России начала XIX в., тогда, вероятно, будущий исследователь много внимания уделит и очень много страниц посвятит этим любопытным годам от Эрфурта до нашествия Наполеона в 1812 г. В эти четыре года мы видим сложную борьбу враждебных социальных сил и течений, определивших историческую закономерность как появления фигуры Сперанского, так и его крушения.
По-видимому, вопрос о введении некоторых реформ в управление Российской империи выдвигался достаточно настойчиво условиями того времени. Толчков, способствовавших созданию необходимости реформы, было достаточно: Аустерлиц, Фридланд, Тильзит. Но, с другой стороны, страшные поражения в двух больших войнах, которые велись Россией в 1805–1807 гг. против Наполеона, окончились, что бы там ни говорилось о тильзитском позоре, сравнительно выгодным союзом со всемирным завоевателем и затем в скором времени приобретением огромной Финляндии. Значит, причин для очень глубоких, коренных реформ, даже хотя бы для таких, какие после иенского разгрома наметились для Пруссии, русский царь не усматривал. Тут и пришелся необыкновенно кстати ко двору Сперанский. Умный, ловкий и осторожный разночинец вернулся из Эрфурта, куда он ездил в свите Александра, в полном восторге от Наполеона. Крепостного права Сперанский никак, даже отдаленно, не трогал — напротив, убедительно доказывал, что оно совсем не рабство. Православной церкви тоже никак не трогал, — напротив, говорил ей много комплиментов при всяком удобном случае. На какое-либо ограничение самодержавия он и подавно не только не посягал, но, наоборот, в царском абсолютизме видел главный рычаг затеянных им преобразований. А преобразования эти как раз и были предназначены для того, чтобы обратить рыхлую полувосточную деспотию, вотчину семьи Гольштейн-Готторпов, присвоивших себе боярскую фамилию вымерших Романовых, в современное европейское государство с правильно действующей бюрократией, с системой формальной законности, с организованным контролем над финансами и администрацией, образованным и деловым личным составом чиновничества, с превращением губернаторов из сатрапов в префектов, словом, он желал насадить на русской почве те же порядки, которые, по его представлению, превратили Францию в первую страну в мире. Сама по себе эта программа ничуть не противоречила мыслям, чувствам, желаниям Александра, и царь несколько лет подряд поддерживал своего любимца. Но и Александр и Сперанский рассчитали без хозяина. Родовитая знать и руководимый ею среднедворянский слой учуяли врага, сколько бы он ни прикрывался умеренностью и благонамеренностью. Они поняли инстинктом, что Сперанский стремится феодально-абсолютистское государство сделать буржуазно-абсолютистским и создать формы, которые по существу несовместимы с существовавшим в России феодально-крепостным укладом и дворянским строем политического и общественного быта.
Дружной фалангой пошли они против Сперанского. Не случайно, а органически реформаторская работа Сперанского связывалась в их глазах с приверженностью руководящего министра к франко-русскому союзу, к дружбе с военным диктатором Франции и Европы; не случайно, а органически в умах русской знати ассоциировались попович, который вводит экзамены для чиновников и хочет вытеснить дворянство из государственной машины, чтобы передать эту машину разночинцам, кутейникам и купцам, и французский завоеватель, который разоряет это же русское дворянство континентальной блокадой и к которому на поклон ездил в «Эрфуртскую орду» царь со своим фаворитом. Какова была твердая линия придворно-дворянской оппозиции в Петербурге и Москве в 1808— 1812 гг., и эта оппозиция направлялась одинаково резко и против внутренней и против внешней политики царя и его министра.
Уже это обстоятельство лишало франко-русский союз должной прочности. В русских аристократических салонах порицали отнятие Финляндии у Швеции, потому что это было сделано по желанию Наполеона, и не хотели даже получить Галицию, если для этого требовалось помогать в 1809 г. ненавистному Бонапарту против Австрии. Всячески старались показать холодность французскому послу в Петербурге Коленкуру, и чем ласковее и сердечнее был с ним царь, тем демонстративнее обнаруживали свою неприязнь аристократические круги как «нового» Петербурга, так и особенно старой Москвы.
Но с конца 1810 г. Александр перестал противиться этому побеждающему течению. Во-первых, тильзитские речи Наполеона о распространении русского влияния на Востоке, в Турции, оказывались только словами, и это разочаровывало Александра; во-вторых. Наполеон все не выводил войска из Пруссии и, главное, вел какую-то игру с поляками, не покидая мысли о восстановлении Польши, что грозило целости русских границ и отторжением Литвы; в-третьих, протесты и неудовольствие Наполеона по поводу неисполнения в точности условий континентальной блокады принимали очень оскорбительные формы; в-четвертых, произвольные аннексии одним росчерком пера целых государств, практикуемые Наполеоном так охотно в 1810–1811 гг., беспокоили и раздражали Александра. Непомерное могущество Наполеона само по себе висело вечной угрозой над его вассалами, а на Александра после Тильзита смотрели (и он это знал) как на простого вассала Наполеона. Иронизировали над маленькими подачками, которые Наполеон давал Александру и в 1807 г., «подарив» ему прусский Белосток, и в 1809 г., подарив царю один австрийский округ на восточной (галицийской) границе; говорили, что Наполеон так обращается с Александром, как прежние русские цари со своими холопами, жалуя им в награду за службу столько-то «душ».
Когда не удалась женитьба Наполеона на великой княжне Анне Павловне, то во всей Европе впервые стали говорить о приближающейся резкой размолвке между обоими императорами. Женитьба Наполеона на дочери австрийского императора истолковывалась как замена франко-русского союза франко-австрийским.
Есть точные указания, что впервые не только размышлять вслух о войне с Россией, но и серьезно изучать этот вопрос Наполеон начал с января 1811 г., когда ознакомился с новым русским таможенным тарифом. Этот тариф очень повышал пошлины на ввоз в Россию вин, шелковых и бархатных материй и других предметов роскоши, т.е. как раз тех товаров, которые являлись главными предметами французского импорта в Россию. Наполеон протестовал против этого тарифа; ему ответили, что плачевное состояние русских финансов вынуждает к подобной мере. Тариф остался. Жалобы на слишком легкий пропуск в Россию колониальных товаров на мнимо нейтральных, а на самом деле английских судах все учащались. Наполеон был уверен, что русские тайком выпускают английские товары и что из России эти товары широко распространяются в Германии, Австрии, Польше и, таким образом, блокада Англии сводится к нулю.
Александр тоже думал о неизбежности войны, искал союзников, вел переговоры с Бернадоттом, прежде наполеоновским маршалом, теперь наследным принцем шведским и врагом Наполеона. 15 августа 1811 г. на торжественном приеме дипломатического корпуса, прибывшего поздравить Наполеона с именинами, император, остановившись около русского посла князя Куракина, обратился к нему с гневной речью, имевшей угрожающий смысл. Он обвинял Александра в неверности союзу, в неприязненных действиях. «На что надеется ваш государь?» — спросил он угрожающе. Наполеон предложил затем Куракину немедленно подписать соглашение, которое улаживало бы все недоразумения между Россией и Французской империей. Куракин, оробевший и взволнованный, заявил, что у него нет полномочий для такого акта. «Нет полномочий? — крикнул Наполеон. — Так потребуйте себе полномочий!.. Я не хочу войны, я не хочу восстановить Польшу, но вы сами хотите присоединения к России герцогства Варшавского и Данцига... Пока секретные намерения вашего двора не станут открытыми, я не перестану увеличивать армию, стоящую в Германии!» Оправданий и объяснений Куракина, отвергавшего все эти обвинения, император не слушал, а говорил и повторял на все лады свои мысли.
После этой сцены уже никто в Европе не сомневался в близкой войне.
Наполеон постепенно превращал всю вассальную Германию в обширный плацдарм для будущего нашествия. Одновременно он решил принудить к военному союзу с собой как Пруссию, так и Австрию — две державы на континенте, которые еще числились самостоятельными, хотя фактически Пруссия была в полном политическом рабстве у Наполеона. Этот военный союз должен был непосредственно предшествовать нападению на Россию.
Очень трудные времена переживала Пруссия в годы, когда над ней тяготело наполеоновское иго, но все-таки даже в первые моменты после Тильзита, в 1807–1808 гг., там не было такой хронической паники, как после Ваграма и австрийского брака Наполеона. В первые годы под влиянием Штейна и «партии реформ» в Пруссии было если не полностью уничтожено крепостное право, то очень значительно надломлены почти все его юридические основания. Были проведены и еще некоторые реформы.
Но вот пламенный патриот Штейн, слишком открыто восторгавшийся испанским восстанием, обратил на себя внимание наполеоновской полиции: было перехвачено одно его письмо, показавшееся Наполеону неблагонамеренным, и император приказал королю Фридриху-Вильгельму III немедленно изгнать Штейна из Пруссии. Король в знак усердия не только сейчас же выполнил приказ, но и конфисковал имущество опального государственного деятеля.
Дело реформ в Пруссии замедлилось, но не прекратилось. Шарнгорст, военный министр, Гнейзенау и их помощники работали, поскольку это было возможно, над реорганизацией армии. По требованию Наполеона, Пруссия не могла иметь армию больше чем в 42 тысячи человек, но разными ловкими мероприятиями прусское правительство умудрялось, призывая на короткий срок, давать военное обучение большой массе. Таким образом, раболепно исполняя волю Наполеона, покоряясь, льстя, унижаясь, Пруссия под шумок все же готовилась к отдаленному будущему и не теряла надежды на выход из того отчаянного невозможного положения, в которое ее поставили страшный разгром 1806 г. и Тильзитский мир 1807 г.
Когда вспыхнула война Наполеона с Австрией в 1809 г., была одна отчаянная, судорожная, произведенная на индивидуальный риск и страх попытка с прусской стороны освободиться от угнетения: майор Шилль с частью гусарского полка, которой он командовал, начал партизанскую войну. Он был разбит и убит, его товарищи, по приказу Наполеона, судимы прусским военным судом и расстреляны. Король был вне себя от страха и ярости против Шилля, но Наполеон пока удовольствовался этими казнями и униженными заверениями Фридриха-Вильгельма. После нового разгрома Австрии при Ваграме, после Шенбруннского мира и женитьбы Наполеона на Марии-Луизе пропали последние надежды на спасение Пруссии: Австрия, казалось, всецело и бесповоротно вошла в орбиту наполеоновской политики. Кто же мог помочь, на что надеяться? На начавшуюся ссору Наполеона с Россией? Но ссора эта развивалась очень медленно, и на силу России уже не возлагалось теперь, после Аустерлица и Фридланда, прежних упований.
С самого начала 1810 г. ходили зловещие слухи о том, что Наполеон намерен без войны, простым декретом, уничтожить Пруссию, либо разделив ее на части (между Французской империей, Вестфальским королевством Жерома Бонапарта и Саксонией, которая была в вассальной зависимости от Наполеона), либо изгнав оттуда династию Гогенцоллернов и заменив ее кем-нибудь из своих родственников или маршалов. Когда 9 июня 1810 г. простым декретом Наполеон присоединил Голландию и затем превратил ее в девять новых департаментов Французской империи, когда таким же легким способом были присоединены к Франции Гамбург, Бремен, Любек, герцогства Лауэнбург Ольденбург, Сальм-Сальм, Аренберг и целый ряд других владений, когда занявший все северное побережье Германии, от Голландии до Гольштейна, маршал Даву в качестве единственного утешения для присоединяемых заявил в официальном воззвании к ним: «Ваша независимость ведь была только воображаемой», — тогда король прусский стал ожидать последнего часа своего правления. Его независимость ведь тоже была лишь «воображаемой», и он знал, что еще в Тильзите Наполеон категорически заявил, что не стер Пруссию с карты Европы только из любезности к русскому царю. А теперь, в 1810–1811 гг., отношения с царем у Наполеона быстро портились и уже ни о каких «любезностях» и речи не было. Не постеснялся же Наполеон в конце 1810 г. ни с того, ни с сего, среди полного мира, прогнать герцога Ольденбургского из его владений и присоединить Ольденбург к своей державе, хотя сын и наследник этого герцога был женат на родной сестре Александра, Екатерине Павловне.
Пруссия в 1810–1811 гг. ждала гибели. Боялся не только король Фридрих-Вильгельм III, никогда храбростью не отличавшийся, но притихли и те либерально-патриотические ассоциации, вроде Тугендбунда, которые в то время отражали стремление части молодой германской буржуазии избавиться от чужеземного угнетателя и затем создать новую, «свободную» Германию. Тугендбунд был не единственной, а лишь самой заметной из этих нелегальных ассоциаций; он тоже приумолк и приуныл в 1810, а особенно в 1811 и в начале 1812 г. Очень уж безнадежным казалось положение. Министр Гарденберг, некогда стоявший за сопротивление и за это, по требованию Наполеона, удаленный от прусского двора, теперь покаялся формально и в письменной форме довел до сведения французского посла Сен-Марсана о полной перемене в своих убеждениях «Только от Наполеона зависит наше спасение», — писал Гарденберг генералу Шарнгорсту. Сам Гарденберг в мае 1810 г. обратился к французскому послу со следующей униженной просьбой: «Пусть его императорское величество удостоит высказаться о том участии, которое я мог бы принять в делах. Это даст существенное доказательство возвращения королю доверия и милостей императора».
Наполеон смилостивился и позволил Фридриху-Вильгельму назначить Гарденберга государственным канцлером. Это произошло 5 июня, а уже 7 июня 1810 г. новый прусский канцлер писал Наполеону: «Глубоко убежденный, что Пруссия может возродиться и обеспечить свою целость и свое будущее счастье, только следуя честно вашей системе, государь... я сочту для себя высшей славой заслужить одобрение и высокое доверие вашего императорского величества. Остаюсь с глубочайшим почтением, государь, смиреннейшим и покорнейшим слугой вашего императорского величества. Барон фон Гарденберг, государственный канцлер прусского короля».
Контрибуция платилась аккуратно, континентальная блокада выполнялась пунктуально, король трепетал и пресмыкался, Гарденберг льстил и унижался, и все-таки Наполеон не уводил своих войск из прусских крепостей и не давал никаких успокоительных обещаний. Немудрено, после всего сказанного, что когда Наполеон, готовясь к войне с Россией, вдруг потребовал, чтобы Пруссия ему в этом активно помогла войсками, то и это было сделано, хотя и после серьезных колебаний. Но Наполеон покончил с колебаниями одним ударом. 14 ноября 1811 г. он дал маршалу Даву инструкцию: по первому знаку войти в Пруссию и занять ее всю французской армией. 24 февраля 1812 г. в Париже было подписано соглашение, по которому Пруссия обязывалась принимать участие на стороне Наполеона во всякой войне, которую он будет вести. Тотчас же после этого Наполеон обратился к Австрии. Здесь дело устроилось тоже без особых затруднений. После Ваграма и Шенбруннского мира австрийское правительство было терроризовано, а после брака Наполеона с Марией-Луизой Меттерних и другие руководящие деятели Австрии решили, что плыть в наполеоновском фарватере выгодно и можно получить от победителя кое-какие компенсации взамен потерянных провинций. Наполеон мог ударить на Австрию с запада и с севера — из Баварии и Саксонии, с юга — из иллирийских провинций, т.е. из Карниолии, Каринтии, из королевства Италии; Наполеон мог явиться и с северо-востока — из Польши (из Галиции). Его империя и его вассалы отовсюду сдавливали и окружали Австрию.
Страх нашествия и надежды на милости всемогущего зятя делали императора Франца таким же покорным слугой Наполеона, каким был запуганный Фридрих-Вильгельм III. Из Вены тоже, кроме рабской лести, Наполеон в эти годы уже ничего не слышал. Когда императрица Мария-Луиза родила в 1811 г. сына, наследника наполеоновской империи, то в Вене вышла в свет и вызвала умиление двора любопытная гравюра, изображавшая богоматерь с лицом Марии-Луизы с младенцем Христом на руках, у которого было лицо новорожденного «римского короля», а в облаках сверху виден был сам бог Саваоф с физиономией Наполеона. Не было, словом, той пошлости, такого курьеза и несообразности, которые не пускались бы в ход, если дело шло о том, чтобы лишний раз выразить парижскому властелину свои чувства рабского преклонения, религиозного почитания и истерического восторга.
Инстинкт и разум говорили тем, кто обладал более широким интеллектом и политическим чутьем, например, тому же Меттерниху, что великая империя Наполеона — явление недолговечное. Но, с другой стороны, в 1810–1812 гг. даже и очень скептических людей начинало охватывать сознание полной невозможности немедленной успешной борьбы против Наполеона.
Англия со своими колониями и морями еще держалась, но и оттуда все чаще приходили вести о банкротствах, о разорении, о безработице, о грозящей революции — словом, о начинающемся удушении Англии континентальной блокадой. Испанские нищие пастухи при появлении французских отрядов бежали в горные ущелья и леса и оттуда продолжали борьбу. Но Австрия не могла и не хотела вести подобную борьбу. Россия? Но она была явно слабее Наполеона; позорно разбитая под Аустерлицем при тщетной попытке помочь Австрии, она предала Пруссию в Тильзите.
Что бы ни было впоследствии, а сейчас нужно идти с Наполеоном. И когда Наполеон, уже принудив в феврале 1812 г. Пруссию подписать с ним союзный договор против России, потребовал того же от Австрии, то в Вене, не колеблясь и даже не очень торгуясь о будущей награде, пошли навстречу желанию французского императора.
14 марта 1812 г. в Париже был подписан франко-австрийский договор, по которому Австрия обязывалась выставить в помощь Наполеону 30 тысяч солдат. Наполеон гарантировал отнятие у России Молдавии и Валахии, занятых тогда русскими войсками. Кроме того, австрийцам гарантировалось обладание Галицией или соответствующие по ценности иные территориальные компенсации.
Эти два «союза», с Пруссией и Австрией, были нужны Наполеону не столько для пополнения великой армии, сколько для отвлечения части русских сил к северу и к югу от той прямой дороги Ковно — Вильна — Витебск — Смоленск — Москва, по которой должно было направляться его наступление.
Пруссия обязалась выставить для предстоящей войны в распоряжение Наполеона 20 тысяч, Австрия — 30 тысяч человек. Сверх того, Пруссия обязывалась предоставить Наполеону для его армии (в счет погашения части своих неоплатных долгов французскому императору, из которых Пруссия никак не могла выйти) 20 миллионов килограммов ржи, 40 миллионов килограммов пшеницы, больше 40 тысяч быков, 70 миллионов бутылок спиртных напитков.
Дипломатическая подготовка войны была закончена уже ранней весной. Есть сведения о том, что плохой урожай 1811 г. привел к голоду некоторые места Франции в конце зимы и весной 1812 г., что кое-где в деревне были волнения на этой почве, а кое-где ожидались, и есть указания, что это задержало выступление Наполеона в поход на полтора-два месяца. Скупки и спекуляции хлебом усиливали тревогу и раздражение в деревне, и это неспокойное положение тоже замедлило выступление Наполеона. Маркс отметил это явление в «Святом семействе» и правильно заключил, что скупщики своими спекуляциями способствовали неудаче русского похода и первому потрясению Французской империи. Тут же нужно заметить, что рекрутский набор, который уже в течение последних шести лет (после аустерлицкой кампании) проходил очень туго, на этот раз (1811 и начало 1812 г.) дал особенно большое число уклоняющихся. Они убегали в леса, прятались, отсиживались. Экономические тяготы от непрерывных войн и поборов (особенно от бесконечной испанской войны) начали уже раздражать крестьянские массы, что и выражалось ростом числа уклоняющихся от набора. Даже собственническое крестьянство начинало обнаруживать недовольство, жаловалось на бесконечные наборы, лишающие хозяина дешевых батрацких рук.
Наполеон вынужден был организовать особые летучие отряды, которые должны были охотиться по лесам за уклоняющимися и насильно приводить их в воинские части. В результате репрессивных мер рекрутский набор перед войной 1812 г. в общем дал все-таки то, на что Наполеон рассчитывал.
Военная и дипломатическая подготовка к концу весны 1812 г. была Наполеоном в основном и отчасти в деталях закончена. Вся вассальная Европа покорно готова была выступить против России. Испанию император решил расчленить: в 1811 г. он оторвал от владений своего брата, назначенного им же испанского короля Жозефа Бонапарта, богатую, наиболее промышленную большую провинцию Каталонию, присоединил ее к Франции непосредственно и разделил на четыре департамента. Этому акту, обогащавшему французскую торговлю, император придал вид наказания испанцев за их «мятеж». Но «мятеж» продолжался как в новых каталонских департаментах Французской империи, так и в остальной Испании, тоже занятой французскими войсками, хотя и считавшейся еще номинально «самостоятельной» под властью короля Жозефа Бонапарта. В Испании были оставлены маршалы Сульт, Мармон, Сюше с большими войсковыми частями, достаточными, по мнению Наполеона, чтобы отразить натиск англичан, сражавшихся на полуострове под предводительством Веллингтона, и испанских партизан, «гверильясов», продолжавших уже четыре года свою отчаянную борьбу.
Оставалась еще в тылу Англия. Но тут, казалось, непосредственной опасности тоже не было: не говоря уже о критическом внутреннем положении страны, о разорении ее континентальной блокадой, о безработице, о громадном движении рабочих против машин (и о разрушении машин в целых промышленных округах), — кроме всего этого, благодаря искусной политике, давшей ряд торговых привилегий и допустившей ряд изъятий из своего торгового законодательства в пользу американцев, Наполеон также способствовал тому, что между Соединенными Штатами и Англией вспыхнула война.
Она была объявлена президентом Соединенных Штатов 15 июня 1812 г., как раз за девять дней до вступления Наполеона на русскую территорию. Войной с Америкой Англия была ослаблена в ее борьбе против Французской империи.
Тыл был обеспечен, путь — свободен, военных сил в руках Наполеона было в несколько раз больше, чем во всех предшествовавших войнах; перед ним стоял враг, которого он уже несколько раз бил.
Дипломаты предвидели катастрофу. Но подавляющее большинство из них, начиная с самых умных, как Меттерних, с самых осторожных, как Гарденберг, с самых ненавидящих Наполеона, как Жозеф де Местр, считали, что катастрофа будет гибельной именно для России, на которую шла такая гроза, какой не знала вся ее история со времен татарского нашествия.
Армия, необходимая Наполеону для похода, уже тогда определялась в полмиллиона человек, не считая тех 50 тысяч, которые Наполеон должен был получить из Австрии и Пруссии. Из этого полумиллиона больше 200 тысяч должны были выставить другие вассалы — Италия, Иллирия, Вестфальское королевство, Бавария, Вюртемберг, Баден, Саксония, все остальные государства Рейнского союза, великое герцогство Варшавское; 90 тысяч поляков служило в наполеоновской армии. Бельгия, Голландия, ганзейские города считались не в числе вассалов, а в составе Французской империи.
Слушая все эти предположения, баварский генерал Вреде все-таки осмелился робко заметить, что не лучше ли воздержаться от войны с Россией. «Еще три года, и я — господин всего света», — ответил Наполеон.
В 6 часов утра 9 мая 1812 г. Наполеон в сопровождении императрицы Марии-Луизы выехал из дворца Сен-Клу (близ Парижа) и отправился к великой армии, которая уже шла разными дорогами через германские страны, устремляясь к Польше и постепенно сосредоточиваясь на Висле и Немане. 16 мая император въехал в Дрезден в сопровождении саксонского короля, который еще накануне выехал ему навстречу. В Дрездене собрались короли и великие герцоги вассальных государств приветствовать своего верховного повелителя. Среди многих других монархов прибыл в Дрезден также король прусский Фридрих-Вильгельм III, прибыл также император австрийский Франц с императрицей. 15 дней пробыл Наполеон в Дрездене, окруженный своими раболепными вассалами. В его присутствии они все (включая и его тестя, императора австрийского) стояли с обнаженными головами: один Наполеон был в своей знаменитой треугольной шляпе. Обращение Наполеона с ними было в общем благосклонное, т.е. он их милостиво брал за ухо, и от такой императорской ласки они были вне себя от восторга, шутя дразнил их, иногда достойнейших похлопывал по спине, иным делал очень резкие и публичные выговоры, но в Дрездене это случалось редко. Лесть на этот раз была такой непомерной, безудержной, вне всяких масштабов и рамок, что в разгаре этих дрезденских торжеств кто-то вслух высказал уже нечто вроде гипотезы о божественной природе всемирного завоевателя.
Всех, коронованных и некоронованных, немцев и не немцев, составлявших его свиту в Дрездене, Наполеон считал рабами и холопами, смертельно его боящимися, и никогда в искренность их не верил; но поведение свиты в Дрездене доказывало ему их уверенность в его победе над Россией в начинающейся войне.
Эта уверенность царила в тот момент везде: и в Европе, и в Америке, и во дворцах, и в кабинетах крупных промышленных дельцов, и за купеческими прилавками. Только по-прежнему ждала своего часа Англия, и по-прежнему, ни на что не обращая внимания, не желая знать ни о каких 600-тысячных полчищах и не познавая французского Цезаря, яростно боролись испанские крестьяне и испанская городская голытьба, плевавшая в лицо наполеоновским офицерам, когда ее со скрученными за спиной руками вели расстреливать. Только Англия и Испания не были представлены на этих великолепных дрезденских торжествах, парадах и приемах, на этой любопытнейшей выставке человеческого раболепия, низкопоклонства и панической запуганности.
Эта общая уверенность в победе Наполеона, казалось, была твердо обоснована. На Россию шли несметные полки превосходно организованной армии; во главе этих полчищ стоял полководец, военный гений которого ставили выше гения Александра Македонского, Ганнибала, Цезаря и который уже до 1812 г. одержал гораздо больше побед, крупных и мелких, чем все эти герои всемирной истории. «Союз» Наполеона с Австрией и Пруссией, его владычество над Европой усиливали численно его полчища и обеспечивали тыл. Перед Наполеоном была Россия, выставившая на свою защиту втрое меньшую армию. Этой армией командовали генералы, которых неоднократно уже били и Наполеон и его маршалы. Сам он считал, что у русских нет ни одного дельного полководца, кроме князя Багратиона, и во всей Европе о русских генералах все единодушно держались такого же мнения.
Уверенность самого Наполеона в этот момент не знала пределов. Нужно заметить, что его высказывания заметно менялись в течение 1812 г. В Смоленске он говорил одно, наблюдая из Кремля пожар Москвы — другое, во время отступления великой армии — третье. Но тогда, в самом начале похода, между Дрезденом и переходом через Неман, он явно обращался мыслью к любимому предмету своих мечтаний — к Востоку, к завоеванию Индии, к тем планам, от которых он отказался 20 мая 1799 г., когда приказал своей армии снять осаду с крепости Акр и идти из Сирии обратно в Египет: «Александр Македонский достиг Ганга, отправившись от такого же далекого пункта, как Москва... Предположите, что Москва взята, Россия повержена, царь помирился или погиб при каком-нибудь дворцовом заговоре, и скажите мне, разве невозможен тогда доступ к Гангу для армии французов и вспомогательных войск, а Ганга достаточно коснуться французской шпагой, чтобы обрушилось это здание меркантильного величия» (Англии).
Так говорил он Нарбонну, одному из приближенных, с которым иногда беседовал довольно откровенно. Этому свидетельству можно поверить, если от мемуарной литературы обратиться к бесспорным документам. Редко когда дипломатическая деятельность Наполеона в Турции, в Персии, в Египте была такой кипучей, как именно в 1811 — 1812 гг. Именно в эти годы по Сирии, по Египту разъезжал с официальной миссией и тайными поручениями Наполеона французский консул Нерсиа, который должен был произвести нужные разведки для будущей новой французской экспедиции в эти места. Из Египта и Сирии тоже должно было в свое время начаться подсобное движение к Индии, то движение, которое оборвалось под Акром в 1799 г. Интересно отметить, что из Дрездена Наполеон послал в Вильну к Александру, будто бы для последней попытки сохранить мир, того самого графа Нарбонна, с которым делился мыслями о походе на Индию после предполагаемой победы над Россией («из Москвы — к Гангу»). Впрочем, Нарбонн хорошо знал свою инструкцию — задержать пустыми переговорами возможное нападение русских на Варшаву. Конечно, из миссии Нарбонна ничего не вышло и не могло выйти. Война была решена Наполеоном бесповоротно. 400-тысячная армия уже двигалась через восточную Пруссию к Неману и ждала лишь сигнала к вторжению в Россию.
Из Дрездена Наполеон выехал в Познань, где пробыл несколько дней. Польское дворянство приветствовало его на этот раз еще с большим энтузиазмом, чем в 1807 г.: во-первых, на этот раз в самом деле поляки могли надеяться на восстановление Польши в старых пределах или по крайней мере на отторжение от России Литвы и Белоруссии, а во-вторых, их уже нисколько не беспокоил вопрос о наделении крестьян землей. Уже и речи о положении польских крестьян не поднималось (они были «освобождены» без земли в 1807 г.). Не было также речи об освобождении крестьян Литвы и Белоруссии. Значит, польский дворянский энтузиазм по отношению к Наполеону мог проявляться совершенно беззаветно.
Но нетерпеливый, раздражительный, весь уже охваченный военной заботой, с раннего утра до поздней ночи занятый работой, император был не очень доволен разряженной, завитой и напудренной шляхтой, демонстрировавшей наперерыв свою преданность и обожание. «Господа, я бы предпочел видеть вас в сапогах со шпорами, с саблей на боку, по образцу ваших предков при приближении татар и казаков; мы живем в такое время, когда следует быть вооруженными с ног до головы и держать руку на рукоятке шпаги», — так обратился он к знати, встретившей его под предводительством познанского епископа Горжевского 28 мая 1812 г. Польские дворяне поспешили принять эту речь императора за приветствие. Благовоспитанностью Наполеон никогда не блистал, а особенно когда шел походом.
Из Познани Наполеон выехал в Торн, оттуда — в Данциг, где пробыл четыре дня, пропуская новые и новые бесконечные эшелоны войск; из Данцига отправился в Кенигсберг, где провел пять дней (с 12 по 17 июня) в непрерывной работе по управлению армией и по организации ее снабжения. 20 июня он был уже у Гумбиннена, а 22 июня — в Литве, в Вильковышках, где и подписал свой приказ по великой армии:
«Солдаты, вторая польская война начата. Первая кончилась во Фридланде и Тильзите. В Тильзите Россия поклялась в вечном союзе с Францией и клялась вести войну с Англией. Она теперь нарушает свою клятву. Она не хочет дать никакого объяснения своего странного поведения, пока французские орлы не перейдут обратно через Рейн, оставляя на ее волю наших союзников. Рок влечет за собой Россию: ее судьбы должны совершиться. Считает ли она нас уже выродившимися? Разве мы уже не аустерлицкие солдаты? Она нас ставит перед выбором: бесчестье или война. Выбор не может вызвать сомнений. Итак, пойдем вперед, перейдем через Неман, внесем войну на ее территорию. Вторая польская война будет славной для французского оружия, как и первая. Но мир, который мы заключим, будет обеспечен и положит конец гибельному влиянию, которое Россия уже 50 лет оказывает на дела Европы».
Воззвание Наполеона воспринималось как официальное объявление войны.
Через два дня после этого воззвания, в ночь на 24 июня 1812 г. (12 июня ст. ст.), Наполеон приказал начать переправу через Неман, и 300 поляков 13-го полка первые переправились на ту сторону реки. В тот же и в ближайшие дни вся старая гвардия, вся молодая гвардия, потом кавалерия Мюрата, а за ними один маршал за другим со своими корпусами непрерывной чередой переходили на восточный берег Немана. Ни одной души на всем необозримом пространстве за Неманом до самого горизонта французы не увидели, после того как скрылись из вида еще утром 24 июня сторожевые казаки. «Перед нами лежала пустыня, бурая, желтоватая земля с чахлой растительностью и далекими лесами на горизонте», — вспоминает один из участников похода, и картина показалась уже тогда «зловещей».
Наполеон не замечал никаких зловещих признаков. Как всегда во время войны, он был гораздо оживленнее и бодрее. Начиналась самая грандиозная из бывших до сих пор его войн, и, судя по тому, как он к ней готовился, он сам это вполне понимал. Могло случиться, что эта война была бы последней из его европейских войн и первой из азиатских; могло случиться и так, что на первый раз пришлось бы кончить поход в Смоленске и отложить продолжение (т.е. Москву и Петербург) на следующий год. Эти две гипотезы он предвидел: о Ганге и Индии он говорил с Нарбонном, об остановке в Смоленске — с маршалами.
Окруженный маршалами и огромной свитой, предшествуемый всей кавалерией, Наполеон шел прямой дорогой на Вильну, нигде не встречая и признаков сопротивления.
Глава XIII. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 г.
Начиная любую из своих беспрерывных войн, Наполеон всегда интересовался прежде всего: 1) неприятельским полководцем и 2) организацией неприятельского командования вообще. Силен ли главнокомандующий? Обладает ли он абсолютной самостоятельностью в своих действиях? Эти два вопроса первостепенной важности прежде всего интересовали Наполеона.
В данном случае на оба эти вопроса Наполеон, казалось бы, мог дать себе самый удовлетворительный ответ. У русских только один настоящий, хороший генерал Багратион, но он на вторых ролях. Хуже Багратиона Беннигсен, «неспособный», говорил о нем Наполеон, Беннигсен, разбитый наголову при Фридланде, но все-таки человек упорный и решительный, доказавший свою твердость не тем, что в свое время задушил Павла, но тем, как стойко выдержал кровавый день под Эйлау. Но Беннигсен тоже на вторых ролях. Кутузов? Наполеон, разбивший Кузутова под Аустерлицем, все-таки никогда не презирал Кузутова, считая его хитрым и осторожным вождем. Но Кутузов не у дел. Главнокомандующего, Барклая де Толли, военного министра, для суждения о котором у Наполеона не было материала, он склонен был считать не очень превышающим обычный уровень русских генералов, которых в массе Наполеон оценивал весьма не высоко. На второй вопрос ответ мог быть дан еще более оптимистический. Никакого настоящего единоначалия в русской армии не было, организация командования была ниже всякой критики. Да и не могло быть иначе, потому что Александр был при армии и вмешивался в распоряжения Барклая. Наполеон это хорошо знал, еще двигаясь к Вильне, и иронически высказал это в самой Вильне генерал-адъютанту Балашову, которого Александр послал в первый и последний раз предлагать Наполеону мир: «Что все они делают? В то время как Фуль предлагает, Армфельд противоречит, Беннигсен рассматривает, Барклай, на которого возложено исполнение, не знает, что заключить, и время проходит у них в ничегонеделании!».
Это место в рассказе Балашова о его беседе с Наполеоном заслуживает полного доверия, потому что подтверждается и другими показаниями. В общем же записка русского министра полиции генерала Балашова, которого Александр послал к Наполеону с предложением мира при первом известии о переходе французов через Неман, напечатанная с рукописи Тьером в XIV томе его «Истории Консульства и Империи» и почти дословно по тексту Тьера воспроизведенная в знаменитой высокохудожественной сцене «Войны и мира», должна быть принимаема с большой осторожностью, особенно те места, где Балашов будто бы намекнул Наполеону на Испанию и упомянул о Полтаве. Министр русской полиции не блистал никогда безупречной правдивостью, и более чем вероятно, что он присочинил эти свои героические намеки уже позднее. С этим всегда надо считаться историкам. Есть целая книга (Герстлетта), называющаяся «Остроумие на лестнице» (Der Treppen-witz der Geschichte), специально посвященная таким позднее присочиненным остроумным «историческим» словам и выходкам, которые на самом деле никогда не происходили, но пришли в голову лишь впоследствии, когда уже человек простился со своим собеседником и, «спускаясь по лестнице», придумал, как бы хорошо было сказать еще то-то и то-то. Во всяком случае, войдя в Вильну на четвертый день после перехода через Неман без всякого сопротивления, встреченный с самым верноподданническим почтением местной польской знатью и зная подавляющее превосходство своих сил, Наполеон ответил Балашову полным отказом, и более чем вероятно, что тон этого отказа был действительно резким и оскорбительным.
В Вильне Наполеон пробыл полных 18 дней, и это впоследствии военные историки считали одной из роковых его ошибок. Но и в Вильне, как еще раньше в Дрездене, Наполеон поджидал подходившие к нему новые и новые армейские части. В общем из 685 тысяч человек, которыми располагал Наполеон для войны с Россией, 235 тысяч он должен был оставить пока во Франции и в вассальной Германии, а через границу переправил лишь 420 тысяч человек. Но и эти 420 тысяч подходили и переправлялись лишь постепенно. Уже в Вильне Наполеону доложили о первой серьезной неприятности: о массовом падеже лошадей, для которых не хватало корма. Была к другая неприятность: поляки в Литве и Белоруссии не выставили достаточных военных сил. Уже в Вильне Наполеон стал гораздо больше, чем при переходе через границу, и несравненно больше, чем в Дрездене, понимать особенности и трудности затеянного дела. И это тотчас же отразилось на его политике: к великому разочарованию поляков, он не присоединил к Польше Литвы (под Литвой подразумевались тогда Литва и Белоруссия), а создал для Литвы особое временное управление. Это означало, что он не хочет предпринимать ничего, что могло бы в данный момент помешать миру с Александром. Уже тут начала проявляться двойственность настроений и планов Наполеона в отношении исхода предпринятого им похода. По-видимому, он допускал, что война закончится полной покорностью Александра и превращением России в послушного вассала, нужного для дальнейшей борьбы против Англии в Европе, а может быть, и в Азии. По мере развития событий он склонялся больше к тому, что война эта превратится просто в «политическую войну» — так и говорил он о ней немного спустя, — войну кабинетов, как выражались в XVIII в., в нечто вроде дипломатической дискуссии, продолжаемой при помощи нескольких «жестов оружием», после чего обе стороны приходят, наконец, к какому-нибудь общему соглашению. Конечно, коренной из всех его ошибок была ошибка, происшедшая от полного незнания и непонимания русского народа. Не только он, но и буквально никто в Европе не предвидел, до каких высот героизма способен подняться русский народ, когда дело идет о защите родины от наглого, ничем не вызванного вторжения. Никто не предвидел, что русские крестьяне обратят весь центр своей страны в сплошную выжженную пустыню, но ни за что не покорятся завоевателю. Все это Наполеон узнал слишком поздно.
По мере того как обнаруживались трудности затеянного похода, в уме Наполеона явно тускнело первое воззрение на эту войну и выдвигалось второе. Полководец знал, что хотя у него под рукой 420 тысяч человек, а у русских нет и 225 тысяч, но что его армия далеко не равноценна во всех своих частях. Он знал, что положиться он может лишь на французскую часть своей армии (всего великая армия насчитывала 355 тысяч подданных Французской империи, но среди них далеко не все были природные французы), да и то не на всю, потому что молодые рекруты не могут быть поставлены рядом с закаленными воинами, побывавшими в его походах. Что же касается вестфальцев, саксонцев, баварцев, рейнских, ганзейских немцев, итальянцев, бельгийцев, голландцев, не говоря уже о подневольных «союзниках» — австрийцах и пруссаках, которых он потащил для неведомых им целей на смерть в Россию и из которых многие ненавидят вовсе не русских, а его самого, то едва ли они будут сражаться с особенным жаром. Хорошо зная военную историю, он помнил, что не очень-то усердно бились в рядах древней персидской армии те бесчисленные представители покоренных персидскими царями племен, которых Ксеркс погнал против греков. На поляков Наполеон несколько больше надеялся, потому что поляки защищали свое собственное дело. Но и тут, как сказано, он ожидал большей помощи (в чисто количественном отношении).
Наполеон знал о растерянности в русском штабе и, еще находясь в Вильне, получил сведения о том, что первоначальная мысль защищаться на Двине в укрепленном лагере в Дриссе оставлена, так как Барклай боялся обхода этого лагеря и неизбежной капитуляции, что русская армия двумя колоннами отступает в глубь страны. Колонна Барклая отступает на Витебск быстрее, колонна Багратиона на Минск — медленнее. Наполеон с главными силами двинулся на Барклая. Но Барклай ускорил темп перехода и приказал начальнику своего арьергарда Остерману-Толстому задерживать, по мере сил, наступающих французов. Это и было исполнено в боях под Островно 25 и 26 июля. Таким образом, войдя в Витебск, Наполеон уже не застал Барклая, который спешил теперь к Смоленску. В эти же июльские дни маршал Даву двигался из Вильны в Минск, получив задачу отрезать путь отхода Багратиона и уничтожить его раньше, чем тому удастся соединиться с Барклаем. Но, к счастью для Багратиона, бездарный в военном отношении (и во всех прочих отношениях) младший брат Наполеона, вестфальский король Жером Бонапарт, преследовавший Багратиона по дороге Гродно — Минск, не сумел выполнить ничего из того, что ему было приказано, опоздал со своим корпусом, и когда 23 июля начался бой к югу от Могилева между Даву и Багратионом, то Багратион очень успешно отразил ряд атак и, повернув на Смоленск, продолжал свое отступление, уже почти не тревожимый неприятелем. Получив сведения о битве под Могилевым и о переходе Багратиона через Днепр у Нового Быхова, Барклай решил соединиться с Багратионом у Смоленска и двинулся туда через Рудно. Наполеон сделал уже все приготовления к большой битве под Витебском, в которой он думал уничтожить Барклая, и вдруг 28 июля, выехав на позиции, убедился, что русская армия ушла дальше на восток. Это было для императора большим разочарованием. Новый Аустерлиц под Витебском мог бы разом, как ему представлялось, кончить войну и побудить Александра к миру. Солдаты были измучены страшной жарой и трудными переходами. Жара была такая, что побывавшие в Египте и Сирии старослуживые утешали молодых только тем, что в Египте бывало еще жарче. Фуража не хватало. В некоторых эскадронах со времени выхода из Вильны пало больше половины лошадей. Вместе с тем в армии появились признаки разложения, мародерство приняло необычайные размеры.
Приходилось идти дальше и дальше за Барклаем и Багратионом, которые шли разными путями, направляясь к Смоленску. Пришлось выдвинуть к Двине два корпуса на крайний левый (т.е. северный) фланг наступающей на Смоленск армии, на петербургское направление, где действовал корпус Витгенштейна. Пришлось выделить несколько дивизий на правый (южный) фланг, чтобы отразить спешившие из Турции русские войска, освободившиеся после внезапного заключения русско-турецкого мира. Но все-таки у Наполеона для предстоящей в Смоленске битвы войска было гораздо больше, чем у русских. После столкновения под Красным (14 августа) с дивизией Неверовского, с замечательной стойкостью выдержавшей натиск превосходящих сил Нея и Мюрата и потерявшей при этом треть своего состава, Наполеон подошел к Смоленску. Багратион поручил генералу Раевскому задержать французов, и в последовавших столкновениях корпус Раевского сражался с таким упорством, что маршал Ней чуть не попал в плен. Багратион настаивал на том, что без большой битвы отдавать Смоленск нельзя. До «большой битвы» дело не дошло. Главные силы русских армий подошли было сначала к Смоленску, но затем начали отход на восток. Барклай не решился, однако, сдать город без боя, хотя он и считал это ненужным. В 6 часов утра 16 августа Наполеон приказал начать общую бомбардировку и штурм Смоленска. Разгорелись яростные бои, длившиеся до 6 часов вечера. Французы заняли предместья Смоленска, но не центр города. Корпус Дохтурова, защищавший город вместе с дивизией Коновницына и принца Вюртембергского, сражался с изумлявшей французов храбростью и упорством. Вечером Наполеон призвал маршала Даву и категорически приказал на другой день, чего бы это ни стоило, взять Смоленск. У него появилась уже раньше, а теперь окрепла надежда, что этот смоленский бой, в котором участвует якобы вся русская армия (он знал о состоявшемся наконец соединении Барклая с Багратионом), и будет той решительной битвой, от которой русские до сих пор уклонялись, отдавая ему без боя огромные части своей империи. 17 августа бой возобновился. Русские оказывали геройское сопротивление, солдат приходилось и просьбами и прямо угрозами отводить в тыл: они не желали исполнять приказов об отступлении.
После кровавого дня наступила ночь. Бомбардировка города, по приказу Наполеона, продолжалась. И вдруг раздались среда ночи один за другим страшные взрывы, потрясшие землю; начавшийся пожар распространился на весь город. Это русские взрывали пороховые склады и зажигали город: Барклай дал приказ об отступлении. На рассвете французские разведчики донесли, что город оставлен войсками, и Даву без боя вошел в Смоленск.
Трупы людей и лошадей валялись по всем улицам. Стоны и вопли тысяч раненых оглашали город: они были брошены на произвол судьбы. Часть города еще пылала. Наполеон медленно проезжал со свитой по улицам Смоленска, вглядываясь в окружающее, делая распоряжения о тушении пожаров, об уборке начавших разлагаться трупов и громко стонавших раненых, о подсчете найденных припасов. Наблюдатели передают, что он был угрюм и не разговаривал со свитой. Войдя после этой верховой прогулки по городу в дом, где ему была наскоро приготовлена квартира, император бросил свою саблю на стол и сказал; «Кампания 1812 г. окончена». Но от мысли остановиться в Смоленске, прочно устроить тыл в Польше, Литве, Белоруссии, подтянуть подкрепления из Европы и возобновить движение на Москву или на Петербург весной 1813 г., от идеи разделить русскую войну на два похода пришлось отказаться там же, в Смоленске. Русские опять ускользнули. Наполеон не знал о тех трудностях, которые все в большей и большей степени возникали для Барклая при каждом его новом приказе об отступлении, не знал о громких обвинениях русского главнокомандующего в измене, о смятении и растерянности русского двора. Он видел только одно: генеральной битвы нет как нет, нужно идти дальше на восток, на Москву. А между тем чем больше он углубляется на восток, тем труднее становится закончить эту борьбу миром, простым дипломатическим соглашением. О полной, подавляющей победе над Россией Наполеон в Смоленске уже не думал. Многое ему теперь представилось совсем в другом свете, чем за три месяца до того, когда он переходил через Неман.
Дело было не только в том, что его армия наполовину уменьшилась вследствие необходимости обеспечить огромную коммуникационную линию и склады гарнизонами, от сражений, мелких, частичных, но упорных и кровопролитных, от страшной жары, усталости и болезней. Он видел и другое. Русские солдаты сражались ничуть не хуже, чем под Эйлау. Русские генералы оказывались и помимо Багратиона вовсе не такими уж бездарными, как он склонен был думать, когда разговаривал с Балашовым в Вильне. Наполеон вообще очень верно оценивал способности людей, а вернее всего именно военные способности. И он не мог не признать, что, например, Раевский, Дохтуров, Тучков, Коновницын, Неверовский, Платов вели порученные им отдельные очень трудные операции так, как не стыдно было бы вести любому из его лучших маршалов. Наконец, общий характер, который принимала война, давно уже начинал беспокоить его и окружающих.
Русская армия, последовательно отступая, опустошала всю местность. Тут, в Смоленске, была сделана попытка предать огню уже не села и деревни, а весь город, большой торговый и административный центр. Это указывало на желание вести непримиримую борьбу с завоевателем. Наполеон помнил, как в прежлих войнах убежавший из Вены австрийский император приказывал городским властям беспрекословно исполнять все французские приказания, а убежавший из Берлина прусский король выражал в личном письме упование, что его императорскому величеству в Потсдамском дворце жить будет удобно.
Здесь же крестьяне покидают насиженные места, жгут свои избы и запасы; предается огню целый город; и по всем признакам и народные массы, и военный министр Барклай, и князь Багратион, и стоявший за ними и над ними Александр смотрят на происходящую войну, как на борьбу не на жизнь, а на смерть... Наполеон в те дни, которые он провел в Смоленске, был погружен в многочасовые молчаливые размышления. Не трогая сразу всей остановившейся в Смоленске армии, Наполеон послал Мюрата с кавалерийскими корпусами вслед за Барклаем, который теперь принял командование над всей русской армией (Багратион с момента их соединения стал его подчиненным) и отступал по Московской дороге. Затем туда же двинулись Ней и Даву. 18 и 19 августа произошли бои у Валутиной горы и Лубина, в результате которых из-за бездарности Жюно, сбившегося с пути при своем движении на фланг армии Барклая, последняя ушла дальше на восток, понеся потери в 7 тысяч человек, но меньше, чем французы.
В ночь на 24 августа Наполеон вышел из Смоленска со своей гвардией и двинулся к Дорогобужу. Но Барклай снялся с лагеря и пошел дальше на восток. Теперь из Дорогобужа он ушел, не желая даже и начинать арьергардных стычек ввиду очень невыгодных топографических условий. Он отступал на Вязьму, Гжатск, Царево-Займище, а Наполеон со всеми войсками, выведенными из Смоленска, шел за ним по пятам по опустошаемой армией дороге.
Всякий раз, когда русские задерживались где-нибудь хоть немного, Наполеон начинал мечтать о генеральной битве... Так было в Дорогобуже, в Вязьме, в Гжатске. «Министр (Барклай) ведет гостя прямо на Москву», — со злобой писали из штаба Багратиона в Петербург.
Страх, непреодолимый и все усиливающийся страх, охватывал постепенно некоторую часть высших слоев русского общества. Неужели погибло все? Неужели так, без сопротивления, и сдать Россию? Почему не докончили битвы под Смоленском? Почему ушли? Не изменник ли немец Барклай?
Александр I сам подрывал по мере сил авторитет Барклая. Так, он с явным одобрением лично передал генералу Роберту Вильсону, комиссару английского правительства, слова, сказанные атаманом Платовым Барклаю после эвакуации Смоленска: «Вы видите, — я одет только в плащ. Я никогда больше не надену русского мундира, так как это стало теперь позорным».
Александр I переживал самые мучительные дни своей жизни. Придворные были в панике. Растерянность возрастала. Мещанство и крестьянство говорили разное и о царе и о Наполеоне. С Наполеоном дело было уже давно неясно. В 1807 г. до июня он был с церковного амвона провозглашен предтечей антихриста, а в разговорах — самим антихристом и истребителем христианской веры, с июня того же 1807 г. антихрист стал внезапно, без малейших переходов и объяснений, другом и союзником русского царя. Теперь он снова оказался антихристом и пол-России завоевал почти без сопротивления. Гибель Смоленска навела уныние. «Раздразнили царь и царский брат Константин мужика сердитого», — говорили в эти первые месяцы войны в народе. Но чего именно хочет «сердитый мужик», было загадочно. Однако с первых же дней все более и более разгоралась в русском народе вражда, чувство обиды, жажда мести, жгучее желание отплатить вторгшемуся насильнику и грабителю. Все эти чувства, усиливаясь с каждым днем, и породили грозное всенародное сопротивление, погубившее великую армию завоевателя. В дворянстве опасения были гораздо сознательнее, определеннее и сильнее, чем в «простом» народе. Победа Наполеона грозила в их глазах уже не только продолжением и упрочением блокады, но и потрясением основ крепостного права. Хотя на самом деле Наполеон не только не пытался уничтожить крепостное право в занятых им областях, но и всякое самостоятельное покушение крестьян избавиться собственными силами от гнета своих помещиков беспощадно подавлял силой оружия. И все же отдать Москву без боя казалось царю и дворянству невозможным, да и солдаты не очень понимали смысл отступления. Когда русская армия, отступив от Гжатска, пришла в Царево-Займище (29 августа), у нее уже был новый главнокомандующий. Александр сменил Барклая и назначил Кутузова, которого давно терпеть не мог, но других более подходящих генералов теперь не было. На Багратиона полагались меньше, да и фамилия у него тоже, как и у Барклая, была нерусская.
Кутузов знал, конечно, что Барклай прав, что Наполеона погубят (если вообще что-нибудь его погубит) отдаленность от базы, невозможность длительной, годами или даже долгими месяцами длящейся войны в нескольких тысячах километров от Франции, в пустынной, скудной, враждебной громадной стране, недостаток продовольствия, непривычный климат. Но еще более точно Кутузов знал, что отдать Москву без генеральной битвы не позволят и ему, несмотря на его русскую фамилию, как не позволили сделать это Барклаю. И он решил дать эту битву, ненужную, по его глубочайшему убеждению, как он дал в свое время, тоже против своего убеждения, аустерлицкое сражение. Излишняя стратегически, она была неизбежна морально и политически. Для Наполеона смена Барклая, ставшая ему тотчас известной через лазутчиков, была сигналом, что русские решились, наконец, на генеральное сражение.
Утром 4 сентября он приказал Мюрату и Нею двинуться из Гжатска в Гриднево. Русская армия замедлила отступление и остановилась. Ее арьергард опирался на несколько укреплений. Наиболее выдвинутым навстречу наступающим французам был редут, устроенный русскими у деревушки Шевардино. Наполеон, прибыв с гвардией в село Гриднево, сейчас же занялся изучением простиравшейся перед ним равнины, где наконец остановилась русская армия. Ему доложили, что Шевардинский редут занят многочисленными силами. В подзорную трубу далеко за полувысохшей речонкой Колочей виднелись расположения русской армии. Лазутчики донесли вечером 4 сентября в императорский штаб, что русская армия остановилась и заняла свои позиции уже за два дня перед тем и что близ деревни, виднеющейся вдали, также сооружены укрепления. На вопрос, как называется деревня, лазутчики ответили: «Бородино».
Бородинская битва много раз приковывала к себе внимание и историков, и военных специалистов, и великих художников слова, и великих живописцев. Судьба наполеоновской империи переломилась не на Бородинском поле, а во время всего этого русского похода: Бородино было лишь одним из актов трагедии, но не всей трагедией. Даже и весь русский поход не был еще концом, а лишь началом очень пока далекого конца.
Воображение современников и потомства всегда приковывалось к Бородинскому полю с его тысячами трупов, которых долгие месяцы никто не убирал.
Приблизился миг, которого Наполеон не переставал ожидать и о котором он не переставал мечтать еще в Дрездене, а потом на Немане, в Вильне, в Витебске, в Смоленске, в Вязьме, в Гжатске. Подойдя теперь к месту, где суждено было разразиться одному из самых страшных побоищ, какие только были до тех пор в истории человечества, Наполеон имел в своем непосредственном распоряжении в три с половиной раза (приблизительно) меньше сил, чем в первый момент своего вторжения в Россию.
Болезни и трудности похода, дезертирство, мародерство, необходимость подкреплять далекие фланги и тылы на рижском и петербургском направлениях, с одной стороны, и на юге против войска, идущего из Турции, — с другой, необходимость все более и более серьезно обеспечивать гарнизонами колоссальную линию сообщений от Немана до Шевардина — все это страшно уменьшило великую армию. Наполеон в момент, когда он подошел к Шевардинскому редуту, имел 135 тысяч солдат и артиллерию в 587 пушек. У русских было 103 тысячи регулярных войск и 640 орудий, 7 тысяч казаков и около 10 тысяч ратников ополчения. Русская артиллерия качественно не уступала французской, а количественно превосходила ее. Слишком много пало лошадей у Наполеона, и далеко не все пушки он мог подтянуть от Могилева, Витебска и Смоленска к Московской дороге.
Во время Бородинского сражения ставка Наполеона находилась в деревне Валуево.
Наполеон был совершенно уверен в победе, и начало дела только укрепило его уверенность. 5 сентября он приказал атаковать Шевардинский редут. Мюрат отбросил часть русской кавалерии, а генерал Компан после артиллерийской подготовки с пятью пехотными полками пошел штурмом на Шевардино и после упорного штыкового боя взял редут. Французы с удивлением рассказывали поздно вечером, что русские канониры не бежали, хотя имели эту возможность, когда атакующие ворвались в редут, а упорно сражались и были переколоты на месте. На рассвете 6 сентября Наполеон сел на лошадь и почти не слезал с нее весь день. Он боялся, что русские, стоявшие в нескольких километрах от Шевардина, уйдут после падения этого редута. Но опасения его были напрасны: Кутузов стоял на прежних позициях. Император так боялся нового отступления русских без генерального боя, что только потому и отверг предложение Даву, клонившееся к обходу левого фланга русской армии крупными силами (со стороны Утицы), так как этот маневр мог спугнуть Кутузова, и он мог уйти.
После Смоленска и окончательного решения не растягивать войну на два года, а кончить все в один год, главной, непосредственной целью для Наполеона было войти в Москву и из Москвы предложить царю мириться. Но как ни жаждал Наполеон овладеть Москвой, он ни за что не хотел получить ее без боя: истребление русской армии, т.е. генеральная битва под Москвой, — вот чего нужно было достичь какой угодно ценой, а не гоняться за Кутузовым, если тот вздумает уйти за Москву, к Владимиру или к Рязани, или еще дальше. Оттого-то Барклай и Кутузов и не хотели сражения, что Наполеон его очень хотел. Но Барклай теперь молчал, обязанный после Царева-Займища беспрекословно повиноваться Кутузову, а Кутузов тоже молчал, не имея сил взять на себя страшную ответственность и уйти без боя, бросив Москву на произвол судьбы, хотя и спасая этим армию.
Наполеон в течение всего этого дня, 6 сентября, следовавшего за взятием Шевардинского редута, не начинал битвы. Он приказал дать солдатам основательно отдохнуть, выдать усиленные рационы, составлял и детализировал планы действий на следующий день, уточнял индивидуальные приказы маршалам и генералам, толпой сопровождавшим императора в его разъездах. И он сам, и они, и простые солдаты постоянно поглядывали в сторону видневшегося издали русского расположения: не ушел ли Кутузов. Но все было неподвижно: русские войска оставались на месте.
Наполеон был простужен, но в течение всего этого хлопотливого дня не показывал ни малейших признаков утомления.
Наступила ночь. Армия улеглась рано, так как было известно, что бой начнется на рассвете. Наполеон почти не ложился, несмотря на физическое и умственное напряжение в течение всего дня. Он скрывал свое волнение, но на этот раз ему это плохо удавалось; он разговаривал с адъютантами, но они видели, что он не слушает их. Он все выходил из палатки посмотреть, горят ли огни в русском лагере. Солнце едва встало, как Наполеон дал приказ двинуться на русских, и вице-король Италии Евгений Богарне со своим корпусом бросился согласно императорской диспозиции на деревню Бородино на левом фланге. Даву, Ней, Мюрат один за другим устремились со своими корпусами на Багратионовы флеши у села Семеновского в центре. Раздался такой оглушительный и уже не прекращающийся грохот артиллерии с обеих сторон, что даже люди, побывав под Эйлау и под Ваграмом, ничего подобного не слыхали.
В течение всего этого долгого еще теплого сентябрьского дня Наполеон, судя по свидетельству очевидцев, пережил смену двух настроений. На рассвете, когда солнце только начало всплывать над линией горизонта, он весело воскликнул: «Вот солнце Аустерлица!» И это настроение длилось все утро. Казалось, русских начинают постепенно и неуклонно выбивать из их позиций. Но и в эти часы первого, могущественного натиска французов на Шевардинский редут, в ставку, откуда император наблюдал битву, уже начали поступать довольно тревожные известия, перемежаясь с радостными и победоносными. Так, императору уже в ранние утренние часы доложили, что один из его лучших генералов, командир 106-го линейного полка Плозонн, ворвался со своим полком в деревню Бородино, выбил оттуда русских егерей, которые совершенно истребили часть его полка, убив Плозонна и многих его офицеров. Правда, подоспела помощь, и французы заняли Бородино. Но обстоятельства гибели Плозонна показывали, что русские дерутся в этот день ожесточенно. Затем примчался адъютант с известием, что наступление маршала Даву развивается успешно, но за ним — другой, сообщивший, что лучшая дивизия корпуса Даву, дивизия генерала Компана, попала под страшный огонь, что Компан ранен, его офицеры ранены или перебиты, что сам маршал Даву, поспешивший на помощь, штурмовал русские батареи, обстреливавшие Компана, взял их, и опять русские канониры (как за два дня до того в Шевардине) были перебиты на своих пушках, так как стреляли до последней минуты, и одно из их ядер убило лошадь под маршалом Даву, а сам маршал контужен и упал без сознания.
Не успел император выслушать и отдать новые приказания, как ему доложили, что маршал Ней ворвался с тремя дивизиями во флеши, защищаемые русскими гренадерами, и хотя удерживает эти Багратионовы флеши, но русские не перестают яростно атаковывать. Новый адъютант принес известие, что дивизия Неверовского выбила Нея. Спустя некоторое время Ней восстановил положение, но князь Багратион продолжал на этом участке отчаяннейшую борьбу. Одна из важнейших флешей, взятая было французами (генералом Резу) подверглась яростной штыковой атаке, причем французы были выбиты с огромными потерями. Мюрат в конце концов отбил эту флешь с новыми огромными потерями.
Наполеону доносили настойчиво и из разных пунктов, что потери русских гораздо больше, чем французов, что русские не сдаются, а гибнут до последнего в тех контратаках, которыми они стремятся восстановить положение. Чтобы развернуть действия кавалерии, приходилось брать со страшными усилиями небольшие возвышенности и неровности, пересекающие почти посередине огромное поле сражения. И эти естественные препятствия дорого стоили французам. Корпус Раевского, неся огромные потери, причинил Нею и Мюрату такой урон, что оба маршала подтягивали сюда буквально все части, какие только могли подтянуть. Семеновский овраг и местность у оврага несколько раз переходили из рук в руки. Наконец маршалы отправили адъютантов к Наполеону просить подкрепления; они ручались за выигрыш сражения, если вовремя взять у Багратиона Семеновский овраг и Семеновское.
Наполеон отправил им на помощь одну дивизию, но отказался дать больше. Он видел по неслыханному ожесточению боя, что Ней и Мюрат ошибаются и что русские корпуса, по их мнению готовые уйти с поля, не уйдут, а французские резервы будут истрачены до наступления решающего момента. А решающий момент все не наступал. Днем дивизия генерала Морана взяла штурмом батарею Раевского, расположенную между деревнями Бородино и Семеновское, но русские части штыковым натиском выбили французов и снова заняли эту батарею. Потери русских были огромны, но батарея была отнята у Морана, а сам Моран пал на поле битвы.
Известие о том, что русские снова овладели большой батареей, Наполеон получил почти одновременно с другим: именно, что Багратион делает отчаянные усилия вырвать у Нея и Мюрата три флеши, которыми они овладели с таким трудом.
Страшный бой против Багратиона завязался из-за Семеновских флешей. В течение нескольких часов флеши переходили из рук в руки. На одном этом участке гремело больше 700 орудий — 400 выдвинутых тут по приказу Наполеона и больше 300 с русской стороны. И русские и французы вступали тут неоднократно в рукопашный бой, и сцепившаяся масса обстреливалась иногда картечью без разбора, так как не успевали вовремя уточнить обстановку.
Маршалы, пережившие этот день, с восторгом говорили до конца своей жизни о поведении русских солдат у Семеновских флешей. Французы не уступали им. Именно тут раздался предсмертный крик Багратиона навстречу французским гренадерам, под градом картечи бежавшим в атаку со штыками наперевес, не отстреливаясь: «Браво! Браво!» Спустя несколько минут сам князь Багратион, по мнению Наполеона, лучший генерал русской армии, пал смертельно раненный и, под градом пуль, с трудом был унесен с Бородинского поля.
Была середина дня. Настроение Наполеона быстро и окончательно изменилось. Дело было не в его простуде, на чем так настаивали его старые биографы, а в том, что он, получив повторную и настоятельную просьбу Нея и Мюрата прислать им подкрепления, дать наконец гвардию, не видел возможности сделать это не только потому, как он тогда сказал, что не может рисковать гвардией в нескольких тысячах километрах от Франции, но и по другой ближайшей причине: русская кавалерия, и в том числе казаки под начальством Уварова и Платова, произвела внезапно с целью диверсии нападение на обозы и на ту дивизию, которая еще утром участвовала во взятии деревни Бородино. Русская конница была отогнана, но эта попытка окончательно сделана невозможным пустить в бой всю гвардию: создалось чувство необеспеченности в глубоком расположении французских войск. В три часа дня Наполеон приказал повести снова атаку на батарею Раевского. Редут был взят французами после повторных ужасающих штурмов. Наполеон лучше всех своих маршалов мог взвесить и оценить страшные потери, известия о которых стекались отовсюду к нему.
День склонялся к вечеру, когда император узнал важные вести: князь Багратион пал, пораженный насмерть, оба Тучковы убиты, корпус Раевского почти истреблен, русские, отчаянно обороняясь, отходят наконец от Семеновского. Наполеон приблизился к Семеновскому. В один голос все, кто к нему подъезжал и с ним говорил, передают, что они просто не узнавали императора. Угрюмый, молчаливый, глядя на горы трупов людей и лошадей, он не отвечал на настоятельнейшие вопросы, на которые никто, кроме него, не мог ответить. Его впервые наблюдали в состоянии какой-то мрачной апатии и как будто нерешительности.
Уже совсем стемнело, когда по отступавшим медленно и в полном порядке русским войскам начали палить около 300 выдвинутых французских орудий. Но ожидаемого окончательного эффекта это не производило: солдаты падали, а бегства не было. «Им еще хочется, дайте им еще», — в таких выражениях Наполеон отдавал приказ вечером усилить огонь. Русские отходили, но отстреливались. Так застала ночь обе стороны.
Когда Кутузову представили ночью первые подсчеты и когда он увидел, что половина русской армии истреблена в этот день, 7 сентября, он категорически решил спасти другую половину и отдать Москву без нового боя. Это не помешало ему провозгласить, что Бородино было победой, хоть он и был удручен. Победа моральная была бесспорно.
А в свете дальнейших событий можно утверждать, что и в стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки больше, чем французской.
И когда Наполеону в ночь после битвы доложили, что 47 его генералов убиты или тяжело ранены, что несколько десятков тысяч солдат его армии лежат мертвые или раненые на поле битвы, когда он лично убедился, что ни одно из данных им до сих пор больших сражений не может сравниться по ожесточению и кровопролитию с Бородином, то (хотя это тоже не помешало ему провозгласить Бородино своей победой) он, одержавший на своем веку столько настоящих, бесспорных побед, не мог, конечно, не понимать, что если Лоди, или Риволи, или битву под пирамидами, или истребление турецкой армии под Абукиром, или Маренго, или Аустерлиц, или Иену, или Фридланд, или Ваграм можно назвать победами, то для Бородина нужно придумать какое-нибудь иное определение. Он ждал, что Кутузов даст под самыми стенами Москвы новое сражение, но на этот раз Кутузов настоял на своем. Наполеон не знал о военном совете в Филях, но по целому ряду безошибочных признаков понял уже через два дня после Бородина, что город решено отдать без нового боя.
За отступавшим Кутузовым по пятам шел Мюрат с кавалерией. 9 сентября Наполеон вошел в Можайск; на другой день принц Евгений, вице-король Италии, вошел в Рузу. В солнечное утро 13 сентября Наполеон выехал со свитой на Поклонную гору и не мог сдержать своего восхищения: его, как и свиту, поразила красота зрелища, Колоссальный, блиставший на солнце город, простиравшийся перед ним, был для него местом, где он даст, наконец, своей армии отдохнуть и оправиться, и прежде всего послужит тем залогом, который непременно заставит Александра пойти на мир. Страшные бородинские картины сразу были заслонены этим зрелищем и этими перспективами.
В течение дня 14 сентября русская армия непрерывным потоком проходила через Москву и выходила на Коломенскую и Рязанскую дороги. По пятам шел король неаполитанский Мюрат с кавалерией. Милорадовичу, командовавшему авангардом, удалось добиться обещания Мюрата дать русским войскам спокойно пройти через город. Русский арьергард под командованием Раевского вечером остановился при деревне Вязовке, в шести верстах от Коломенской заставы. В это время, пройдя через город по Арбату, французская кавалерия дошла своими передовыми постами до села Карачарова.
16 сентября армия Кутузова, пройдя через Москву, двинулась дальше по Рязанскому тракту, и, переночевав в лагере при деревне Кулаковой, она незаметно для Наполеона на следующий день, сделав поворот направо, двинулась вверх вдоль реки Пахры и 19-го заняла позицию на левом ее берегу при селе Красной Пахре на Старой Калужской дороге. Единственный путь сообщения Наполеона Смоленская дорога был перехвачен русской конницей.
Уже у Дорогомиловской заставы до Наполеона стали доходить странные слухи, шедшие из гвардии: из Москвы ушли почти все жители, она пуста, никакой депутации с ключами от города, которой ждал император, нет и не будет. Слухи подтвердились.
15 сентября Наполеон въехал в Кремль. И уже накануне поздно вечером вспыхнули первые пожары. Но ни размеров, ни значения того, что началось, еще нельзя было предугадать даже приблизительно.
С утра 16 сентября пожары усилились. Днем они еще не были так заметны. Но в ночь с 16-го на 17-е поднялся сильнейший ветер, который продолжался не ослабевая больше суток. Море пламени охватило центр близ Кремля, Замоскворечье, Солянку, огонь объял почти разом самые отдаленные друг от друга места.
Наполеон, когда ему доложили о первых пожарах, не обратил на них особенного внимания, но когда 17 сентября утром он обошел Кремль и из окон дворца, куда бы ни посмотрел, видел бушующий огненный океан, то, по показаниям графа Сегюра, доктора Метивье и целого ряда других свидетелей, император побледнел и долго молча смотрел на пожар, а потом произнес: «Какое страшное зрелище! Это они сами поджигают... Какая решимость! Какие люди! Это — скифы!» Между тем пожар стал не только грозить самому Кремлю, но часть Кремля (Троицкая башня) уже загорелась, из некоторых ворот уже нельзя было выйти, так как пламя относило ветром в их сторону. Маршалы настойчиво стали просить императора немедленно переехать в загородный Петровский дворец. Наполеон не сразу согласился, и это чуть не стоило ему жизни. Когда он со свитой наконец вышел из Кремля, искры падали уже на него и на окружающих, дышать было трудно: «Мы шли по огненной земле под огненным небом, между стен из огня», — говорит один из сопровождавших Наполеона.
Страшный пожар бушевал еще и 17 и 18 сентября, но уже к вечеру стал ослабевать. Утих ветер, пошел дождь. Пожары продолжались еще и в следующие дни, но это было уже совсем не то, что гигантская огненная катастрофа 15–18 сентября, истребившая значительную часть города.
У Наполеона не было ни малейших сомнений относительно причин этой совершенно неожиданной катастрофы: русские сожгли город, чтобы он не достался завоевателю. И то, что Ростопчин увез все пожарные трубы и приспособления для тушения огня, и одновременное возникновение пожаров в разных местах, и показания некоторых людей, схваченных по подозрению в поджогах, и свидетельства некоторых солдат, будто бы видевших поджигателей с факелами, — все его в этом убеждало. Ростопчин впоследствии, как известно, то хвастал своим участием в пожаре Москвы, то отрицал это участие, то опять хвастал и кокетничал своим неистовым патриотизмом, то опять отрицал (даже в специальной брошюре) Нас тут, по характеру этой работы, интересуют, конечно, не объективные реальные причины пожара (о чем высказан был целый ряд суждений и догадок), а исключительно те последствия, которые пожар имел для умонастроения Наполеона и для развития дальнейших событий.
Наполеон, по единодушным отзывам, и в Петровском дворце и в Кремле, куда он вернулся, когда пожары стали стихать, переживал дни самой тяжелой тревоги. Им овладевало иногда бешенство, и тогда солоно приходилось окружающим; иногда он долгими часами хранил мертвое молчание. Энергия не покидала его. Из Москвы он продолжал управлять своей необъятной империей, подписывал декреты, указы, назначения, перемещения, награды, увольнения чиновников и сановников; в Москве, как и всегда, он старался во все вникать, занимался и главным, и второстепенным, и третьестепенным. Как курьезную иллюстрацию вспомним, что тот подробный статус, по которому до настоящего времени неизменно живет и управляется главный французский государственный театр («Французская комедия») подписан Наполеоном в Москве и так до сих пор и называется «московским декретом».
Но главная, грозная забота стояла перед императором неотступно. Что делать дальше? Пожар Москвы не лишил его всех московских запасов, у него еще остались уцелевшие магазины. Но фуражировки вне города не удавались; солдаты мародерствовали и пропадали без вести; дисциплина явно расшатывалась. Оставаться зимовать в Москве было, конечно, возможно, и некоторые из маршалов и генералов это советовали, но Наполеон верным инстинктом чуял, что не так прочна его великая империя и не так надежны его «союзники», чтобы ему надолго оставлять Европу и зарываться в русские снега. Идти за Кутузовым, который со своей армией не подавал никаких признаков жизни? Но Кутузов может отступать хоть до Сибири и дальше. Лошади падали уже не тысячами, а чуть ли не десятками тысяч. Колоссальная коммуникационная линия была обеспечена очень слабо, хотя Наполеон и должен был разбросать по пути немало отрядов и этим подорвал могущество своей великой армии. А главное — пожар Москвы, завершивший долгую серию пожаров, которыми встречали завоевателя города и села России при его следовании за Барклаем и Багратионом от Немана до Смоленска и от Смоленска до Бородина, непонятный, загадочный выезд чуть ли не всего населения старой столицы, картина Бородинского боя, который (как признал Наполеон в конце жизни) был самым страшным изо всех данных им сражений, — все это явно указывало, что на этот раз его противник решил продолжать борьбу не на жизнь, а на смерть.
Оставался один выход — дать понять Александру, что Наполеон согласен на самый снисходительный, самый легкий, самый почетный и безобидный мир. Заключить мир, находясь в Москве, сохраняя еще позу победителя, выбраться из России с армией благополучно — вот все, на что он мог теперь рассчитывать; он готов был удовольствоваться словами и обещаниями Александра, готов был к уступкам. Уже и речи никакой не могло быть о подчинении, о вассалитете Александра. Но как дать знать Александру, с которым после оскорбительного отказа в Вильне, переданного Наполеоном царю через генерала Балашова, никаких сношений не было и быть не могло? Наполеон сделал три попытки довести до сведения царя о своих миролюбивых намерениях.
В Москве проживал генерал-майор Тутолмин, начальник Воспитательного дома. Он просил французское военное начальство об охране дома и питомцев, оставшихся в Москве. Наполеон велел его вызвать и много и горячо говорил ему о чудовищности сожжения Москвы, о преступном варварстве Ростопчина, о том, что никакой обиды Москве и мирному населению он, император, не причинил бы. На просьбу Тутолмина о дозволении написать рапорт о Воспитательном доме императрице Марии Наполеон не только позволил, но вдруг неожиданно прибавил: «Я прошу вас при этом написать императору Александру, которого я уважаю по-прежнему, что я хочу мира». В тот же день, 18 сентября, Наполеон приказал пропустить через французские сторожевые посты чиновника Воспитательного дома, с которым Тутолмин послал свой рапорт.
Наполеон не получил ответа. Но он даже не выждал времени, когда мог бы получить ответ, и решил сделать вторую попытку. Еще более случайно, чем генерал Тутолмин, в Москве задержался против своей воли один богатый барин, некий Яковлев, отец Александра Ивановича Герцена. Он обратился за защитой и покровительством к французам, о нем было доложено маршалу Мортье, который раньше встречался с Яковлевым в Париже, а маршал доложил о нем Наполеону. Император велел представить ему Яковлева. В «Былом и думах» Герцен передает о разговоре императора с его отцом: «...Наполеон разбранил Ростопчина за пожар, говорил, что это вандализм, уверял, как всегда, в своей непреодолимой любви к миру, толковал, что его война — в Англии, а не в России, хвастался тем, что поставил караул к Воспитательному дому и к Успенскому собору, жаловался на Александра, говорил, что он дурно окружен, что мирные расположения его неизвестны императору». После нескольких фраз еще: «...Наполеон подумал и вдруг спросил: „Возьметесь ли вы доставить императору письмо от меня? На этом условии я велю вам дать пропуск со всеми вашими“. — „Я принял бы предложение в. в.,... но мне трудно ручаться“». Наполеон написал письмо Александру с предложением мира и вручил его Яковлеву, давшему честное слово, что сделает все, чтобы вручить письмо Александру. В этом письме, очень примирительно написанном, есть одна любопытная и характерная для Наполеона строчка: «Я веду войну с вашим величеством без всякого озлобления». Наполеону, по-видимому, казалось, что после всего происшедшего не он вызывает чувство озлобления, а он сам вправе чувствовать озлобление!
Ответа и на это письмо не последовало. Тогда Наполеон сделал третью и последнюю попытку предложить мир.
4 октября он послал в лагерь Кузутова, в село Тарутино, маркиза Лористона, бывшего послом в России перед самой войной. Наполеон хотел, собственно, послать генерала Коленкура, герцога Биченцского, тоже бывшего послом в России еще до Лористона, но Коленкур настойчиво советовал Наполеону этого не делать, указывая, что такая попытка только укажет русским на неуверенность французской армии. Наполеон раздражился, как всегда, когда чувствовал справедливость аргументации спорящего с ним; да и очень он уж отвык от спорщиков. Лористон повторял аргументы Коленкура, но император оборвал разговор прямым приказом: «Мне нужен мир; лишь бы честь была спасена. Немедленно отправляйтесь в русский лагерь».
Приезд Лористона на русские форпосты вызвал целую бурю в главной квартире Кутузова. Кутузов хотел выехать на форпосты для беседы с Лористоном. Но уже тут обнаружилось, что среди кутузовского штаба есть русские патриоты, гораздо более пылкие, чем он сам, и несравненно более оскорбленные потерей Москвы. Это были английский официальный агент при русской армии Вильсон, бежавший из Рейнского союза граф Винценгероде, герцог Вюртембергский, герцог Ольденбургский и ряд других иностранцев, ревниво следивших за каждым шагом Кутузова. К ним присоединился и ненавидевший Кутузова Беннигсен, в свое время донесший царю, что вовсе не было надобности сдавать Москву без нового боя. От имени русского народа и русской армии (представляемой в данном случае вышеназванными лицами) Вильсон явился к Кутузову и в очень резких выражениях заявил главнокомандующему, что армия откажется повиноваться ему, Кутузову, если он посмеет выехать на форпосты говорить с глазу на глаз с Лористоном. Кутузов выслушал это заявление и не изменил своего решения. Кутузов принял Лористона в штабе, отказался вести с ним переговоры о мире или перемирии и только обещал довести о предложении Наполеона до сведения Александра. Царь не ответил. У Наполеона оставалось другое средство: поднять в России крестьянскую революцию. Но на это он не решился. Да и совершенно невозможно было ждать, что, беспощадно подавляя французской военной силой не то что попытки восстания, а малейшие признаки неповиновения крестьян помещичьей власти в Литве, Наполеон вдруг явится освободителем русских крестьян.
Лютое беспокойство овладело верхами дворянства после занятия Москвы Наполеоном, и Александру доносили, что не только среди крестьян идут слухи о свободе, что уже и среди солдат поговаривают, будто Александр сам тайно просил Наполеона войти в Россию и освободить крестьян, потому, очевидно, что сам царь боится помещиков. А в Петербурге уже поговаривали (и за это был даже отдан под суд некий Шебалкин), что Наполеон — сын Екатерины II и идет отнять у Александра свою законную всероссийскую корону, после чего и освободит крестьян. Что в 1812 г. происходил ряд крестьянских волнений против помещиков, и волнений местами серьезных, — это мы знаем документально.
Наполеон некоторое время явственно колебался. То вдруг приказывал искать в московском архиве сведения о Пугачеве (их не успели найти), то окружающие императора делали наброски манифеста к крестьянству, то он сам писал Евгению Богарне, что хорошо бы вызвать восстание крестьян, то спрашивал владелицу магазина в Москве француженку Обэр-Шальмэ, что она думает об освобождении крестьян, то вовсе переставал об этом говорить, начиная расспрашивать о татарах и казаках.
Наполеон все-таки приказал доложить ему об истории пугачевского движения. Эти мысли о Пугачеве показывают, что он очень реально представлял себе возможные последствия своего решительного выступления в качестве освободителя крестьян. Если чего и боялись стихийно, «нутром», русские дворяне, то не столько континентальной блокады, сколько именно потрясения крепостного права в случае победы Наполеона, причем они могли мыслить это потрясение или так, как им подсказывал пример Штейна и Гарденберга в Пруссии (после иенского разгрома Прусской монархии), т.е. в виде реформы «сверху» уже после заключения мира, что тоже было для них совсем неприемлемо, или в виде новой грандиозной пугачевщины, вызванной Наполеоном во время войны в форме всенародного крестьянского восстания, стремящегося открытым, революционным путем низвергнуть рабство.
Наполеон не захотел даже приступить к началу реализации последнего плана. Для императора новой буржуазной Европы мужицкая революция оказалась неприемлемой даже в борьбе против феодально-абсолютистской монархии и даже в такой момент, когда эта революция являлась для него единственным шансом возможной победы.
Также мимолетно подумал он, сидя в Кремле, о восстании на Украине, о возможном движении среди татар. И все эти планы также были им отвергнуты. В высшей степени характерно, что и в современной нам Франции новейшая историография похваливает Наполеона за эту твердость консервативных его настроений среди московского пожарища.
Вот что говорит автор новейших громадных восьми томов исследований, посвященных внешней политике Наполеона, Эдуард Дрио: «Он думал поднять казанских татар; он приказал изучить восстание пугачевских казаков; у него было сознание существования Украины... Он думал о Мазепе... Поднять революцию в России — слишком серьезное дело! Наполеон не без боязни остановился перед грозной тайной степей... Он был не творцом революций, но их усмирителем; у него было желание порядка; никто никогда больше, чем он, не обладал чувством и как бы инстинктом императорской власти, у него было что-то вроде физического отвращения к народным движениям... Он остался императором, без компромиссов, без низости». При всем своем французском патриотизме историк Наполеона с особенным жаром хвалит своего героя за то, что тот предпочел в 1812 г. какие угодно бедствия, лишь бы не воззвать к революции, как с ударением и внушительностью подчеркивает правобуржуазный и благоговейный поклонник Наполеона в 1927 г., ударившихся в 1937–1938 гг., кстати будь сказано, в самую оголтелую реакцию.
В тот октябрьский день, когда в московском Петровском замке Наполеон колебался, издать ли декрет об освобождении крепостных крестьян, или не издавать, в нем шла сильная борьба. Для 25-летнего генерала, только что покорившего контрреволюционный Тулон, для друга Огюстена Робеспьера, для сторонника Максимилиана Робеспьера, даже позже уже для автора Наполеоновского кодекса колебаний по вопросу о том, оставлять ли крестьян в руках Салтычих обоего пола, быть не могло. Что русское крепостное право гораздо более похоже на рабство негров, чем на крепостничество в любой из разгромленных им феодально-абсолютистских держав Европы, Наполеон очень хорошо знал; шпионов в России он содержал целую тьму и информацию имел весьма полную и разнообразную. Но революционного генерала уже давно не было, а по залам Петровского замка, украдкой наблюдаемый дежурными адъютантами, ходил в раздумье взад и вперед его величество Наполеон I, божьей милостью самодержавный император французов, король Италии, фактический верховный сюзерен и хозяин всего европейского континента, зять императора австрийского, отправивший на гильотину или сгноивший в тюрьмах и ссылке многих людей, которые тоже были в свое время друзьями Максимилиана и Огюстена Робеспьеров и имели мужество остаться верными своим убеждениям.
Декрет об освобождении крестьян, если бы он был издан Наполеоном и введен в действие во всех губерниях, занятых войсками Наполеона, дойдя до русской армии, сплошь крепостной, державшейся палочной дисциплины, — такой декрет мог бы, как это казалось некоторым из наполеоновского окружения, всколыхнуть крестьянские миллионы, разложить дисциплину в царских войсках и прежде всего поднять восстание, подобное пугачевскому. Ведь все-таки Россия была единственной страной, где всего за какие-нибудь 35-36 лет до прихода Наполеона пылала грандиозная крестьянская война, очень долгая, со сменой побед и поражений, со взятием больших городов (восставшие в известные моменты располагали лучшей артиллерией, чем царские войска), победоносно прошедшая по колоссальной территории, несколько месяцев сряду потрясавшая все здание русской империи. О германском крестьянском восстании Наполеон мог узнать только по документам, которым от роду было около 300 лет, а о русской пугачевщине ему могли рассказать, по личным воспоминаниям, даже и не очень старые люди. Ведь крепостная жизнь русских крестьян ничуть не изменилась ни в главном, ни в деталях. На смену Салтычихе, бросавшей крестьян на горящие уголья, пришли Измайловы и Каменские с застенками и гаремами, и даже всероссийские невольничьи рынки, где можно было покупать крепостных людей оптом и в розницу, детей отдельно от родителей, остались те же, что при Екатерине: Нижний Новгород на севере и Кременчуг на юге. Разница заключалась лишь в том, что опорой крестьянского восстания была бы на этот раз французская армия, стоявшая в самом сердце страны.
Теперь уже точно известно, как страшно боялось русское дворянство в 1812 г. восстания крестьян. Мы только что упоминали, какие слухи ходили по деревням, какие вспышки уже происходили там и сям, как беспомощно чувствовали себя власти перед наступающей внутренней грозой; мы знаем, каким гробовым молчанием народной толпы был встречен бледный, как смерть, Александр, когда он подъехал к Казанскому собору сейчас же после получения в Петербурге известий о бородинских потерях и о вступлении французского императора в Москву.
Что удержало руку Наполеона? Почему он не решился даже попытаться привлечь на свою сторону многомиллионную крепостную массу? Гадать много не приходится, он сам объяснил это. Он впоследствии заявил, что не хотел «разнуздать стихию народного бунта», что не желал создавать положения, при котором «не с кем» было бы заключить мирный договор. Словом, император новой буржуазной монархии чувствовал себя все-таки гораздо ближе к хозяину крепостной полуфеодальной романовской державы, чем к стихии крестьянского восстания. С первым он мог очень быстро столковаться, если не сейчас, то впоследствии, и знал это хорошо по тильзитскому опыту; а со вторым он даже и не хотел вступать в переговоры. Если французские буржуазные революционеры летом и ранней осенью 1789 г. боялись движения крестьян во Франции и страшились углубления этого движения, то что же удивительного, если буржуазный император не был расположен в 1812 г. вызвать на сцену тень Пугачева?
Отвергнув мысль поднять крестьянское движение в России, отказавшись одновременно от зимовки в Москве, Наполеон должен был немедленно решить, куда из Москвы направиться. Что Александр не идет ни на какие переговоры, это было уже вполне ясно после молчания царя в ответ на предложения, сделанные сначала через Тутолмина, потом через Яковлева и наконец через Лористона.
Идти на Петербург? У Наполеона эта мысль явилась прежде всего. В Петербурге после сдачи Москвы царила паника: там начинали уже складывать вещи и уезжать. Больше всех торопилась и ужасалась Мария Федоровна, мать Александра, ярая ненавистница Наполеона. Она хотела скорого заключения мира. Константин хотел того же. Аракчеев оробел и тоже очень хотел мира. Движение Наполеона на Петербург могло бы, конечно, усилить эту панику, но это движение оказалось невозможным. Люди, правда, несколько поотдохнули и подкормились в Москве, но лошадей было так мало, что некоторые маршалы советовали даже бросить часть пушек.
В Москве не нашли ни сена, ни овса, а фуражировка в ближайшей разоренной дотла местности наталкивалась на жестокое сопротивление крестьян и ничего дать не могла. Кроме того, настроение всей французской армии было не таково, чтобы можно было предпринимать новый далекий поход к северу. Внезапное нападение части кутузовской армии на Мюрата, стоявшего в наблюдательной позиции на реке Чернишне перед Тарутином, где находился Кутузов, заставило Наполеона поторопиться с решением. Нападение, произведенное 18 октября, развернулось в сражение и кончилось тем, что Мюрат был отброшен за село Спас-Купля. Правда, это было лишь второстепенным столкновением, но оно показало, что Кутузов после Бородина усилился и нужно ждать дальше его инициативы. В действительности же Тарутинское сражение было дано против желания Кутузова, и Беннигсен был в гневе против главнокомандующего, не пожелавшего дать ему нужных сил.
Наполеон принял, наконец, решение. Оно не было неожиданным, оно казалось самым естественным, раз пришлось отказаться от похода на Петербург. Император решил, оставив в Москве маршала Мортье с 10-тысячным гарнизоном, идти на Кутузова со всей остальной армией по Старой Калужской дороге. Он знал, что Кутузов пополнил свою армию, но он и сам за это время получил некоторые подкрепления, и у него было больше 100 тысяч человек, в том числе 22 тысячи отборных солдат и офицеров гвардии. Наполеон дал приказ, и 19 октября из Москвы двинулась по Старой Калужской дороге вся французская армия, кроме корпуса маршала Мортье.
Бесконечная вереница разнообразнейших экипажей и повозок с провиантом и с награбленным в Москве имуществом следовала за армией. Дисциплина настолько ослабла, что даже маршал Даву перестал расстреливать ослушников, которые под разными предлогами и всяческими уловками старались подложить в повозки ценные вещи, захваченные в городе, хотя лошадей не хватало даже для артиллерии. Выходящая армия с этим бесконечным обозом представляла собой колоссально растянувшуюся линию. Достаточно привести часто цитируемое наблюдение очевидцев: после целого дня непрерывных маршей к вечеру 19 октября армия и обоз, идя по широчайшей Калужской дороге, где рядом свободно двигалось по восемь экипажей, еще не вышла полностью из города.
Наполеон своим военным глазом сразу оценил всю опасность подобного обоза для армии, всю трудность охранить эту бесконечную линию от внезапных налетов неприятельской конницы и не решился отдать нужное повеление, хотя в первый момент и хотел это сделать. Армия уже была не та. После пережитого, ясно сознавая свое критическое положение, понимая, что дальше предстоят очень трудные дни, армия держалась уже не столько дисциплиной, сколько чувством самосохранения в чужой, враждебной стране. Если личное обаяние Наполеона и не уменьшилось в глазах старых французских солдат, то представители покоренных народов могли подать дурной пример: никакие чувства к Наполеону их не сдерживали.
Бесконечно растянувшаяся линия войск и обоза была первым и сильнейшим его впечатлением. Быть может, еще более сильным было сознание упадка дисциплины.
И тут он внезапно круто изменил весь свой план, тот план, с которым за несколько часов до того выехал из Москвы. Он решил не нападать на Кутузова. Новое Бородино, даже если бы и кончилось победой, уже не могло изменить главного, т.е. того, что ему в тот момент казалось главным: оставления Москвы. Он предвидел впечатление, которое произведет в Европе уход из Москвы, и страшился этого впечатления. Но раз решив уклониться от боя с Кутузовым, Наполеон сейчас же начал приводить в исполнение новый план: повернуть со Старой Калужской дороги вправо, обойти расположение русской армии, выйти на Боровскую дорогу, пройти нетронутыми войной местами по Калужской губернии на юго-запад, двигаясь к Смоленску. От дальнейшей войны Наполеон еще не отказывался: спокойно дойдя через Малоярославец, Калугу до Смоленска, можно было зимовать или в Смоленске, или в Вильне, или предпринять еще что-нибудь. Но прежде всего нужно было уже окончательно оставить Москву. Вечером 20 октября Наполеон послал из своей главной квартиры в селе Троицком маршалу Мортье приказ: немедленно присоединиться со своим корпусом к армии, а перед выступлением взорвать Кремль.
Приказание о взрыве Кремля было лишь частично исполнено. В суматохе внезапного выступления у Мортье не было времени как следует заняться этим делом. «Я никогда не делаю бесполезных вещей», — сказал как-то Наполеон по поводу клеветы, будто он велел задушить в тюрьме Пишегрю. Но в данном случае взрыв Кремля был, бесспорно, не только варварским, но и совершенно бесполезным делом. Это было как бы ответом на молчание Александра относительно трех предложений мира.
Итак, армия, исполняя повеление Наполеона, вдруг повернула со Старой Калужской дороги на Новую, и уже 23 октября большая часть ее прибыла в Боровск. Малоярославец был занят частями дивизии генерала Дельзона. Разгадав план Наполеона, Кутузов решил загородить Новую Калужскую дорогу. На рассвете 24 октября генерал Дохтуров и за ним Раевский атаковали Малоярославец, занятый накануне Дельзоном. В результате постепенного накопления сил с обеих сторон произошла кровопролитная битва, длившаяся весь день. Восемь раз Малоярославец переходил из рук в руки. В восьмой раз взятый французами Малоярославец к вечеру остался за ними, но потери с обеих сторон были тяжкие. Одними только убитыми французы потеряли около 5 тысяч человек. Город сгорел дотла, загоревшись еще во время боя, так что много сотен человек, русских и французов, погибло от огня на улицах, много раненых сгорело живьем.
На другой день рано утром Наполеон с небольшой свитой выехал из села Городни осмотреть русские позиции, как вдруг на эту группу всадников налетели казаки с пиками наперевес. Два маршала, бывшие с Наполеоном (Мюрат и Бессьер), генерал Рапп и несколько офицеров сгрудились вокруг Наполеона и стали отбиваться. Польская конница (легкая кавалерия) и подоспевшие гвардейские егеря спасли императора и всю эту кучку, окружавшую его. Опасность немедленной смерти или плена была так велика, что едва ли улыбка, во все время этого инцидента не сходившая с уст Наполеона, была искренней. Но ее все видели, и о ней с восторгом все говорили в этот день и позже: для этого-то император и улыбался. Вечером он приказал гвардейскому доктору Ювану изготовить и дать ему пузырек с сильным ядом на случай опасности попасть в плен.
Осмотрев позиции, Наполеон открыл в Городне военный совет. Малоярославец доказал, что если Наполеон не хочет нового Бородина, то русские сами его ищут, и что без нового Бородина императору в Калугу не пройти.
Весь военный совет был того же мнения, к которому пришел в конце концов и сам Наполеон. Нужно отказаться от мысли дать генеральный бой, следовательно, остается идти к Смоленску по Смоленской дотла разоренной дороге, и идти как можно скорее, пока русские не заняли оставленный беззащитным Можайск и не преградили отступления. Выслушав генералов и маршалов, Наполеон заявил было им, что он откладывает свое решение и что ему кажется предпочтительнее дать Кутузову генеральный бой и прорваться в Калугу. Колебания Наполеона кончились 26 октября, когда он узнал, что русские отбросили конницу Понятовского от Медыни.
Но Кутузов не желал боя и не искал его. После битвы у Малоярославца Кутузов твердо решил предоставить Наполеону отступать, не оказывая на него сколько-нибудь энергичного давления. Когда иностранцы (немцы и англичане), бывшие, по воле Александра, в кутузовском штабе в качестве соглядатаев за главнокомандующим, начинали слишком уж назойливо приставать к старому фельдмаршалу, укоряя его в недостатке энергии, он внезапно выпускал когти и давал им понять, что отлично понимает их игру и отдает себе ясный отчет, почему они так боятся «преждевременного» окончания войны России с Наполеоном.
Наполеон приказал отступать к Смоленску, и 27 октября началось отступление из Боровска на Верею, Можайск, Дорогобуж, Смоленск. Армия шла длиннейшей, растянутой линией, и на этот раз, по приказу Наполеона, сжигались все деревни, села, усадьбы, через которые проходили войска. Но, начиная от Можайска, и сжигать было почти нечего: так страшно были разорены эти места еще в добородинский период войны. Город Можайск был выжженной пустыней. Когда проходили мимо Бородинского поля, где по-прежнему, никем не тронутые и неубранные, гнили тысячи русских и французских трупов, Наполеон велел как можно скорее оставить это место: страшное зрелище подавляюще действовало на солдат, особенно теперь, когда они чувствовали, что война проиграна.
Когда подходили к Гжатску (дело было 30 октября), начались первые морозы. Это было некоторой неожиданностью: по справкам, которые еще до вторжения были даны Наполеону, морозы в этой полосе России в 1811 г. начались лишь в конце декабря. Зима в 1812 г. наступила необычайно рано и оказалась исключительно холодной. Кутузов шел следом за отступающим неприятелем. Казаки сильно тревожили французов нападениями: перед Вязьмой русская регулярная кавалерия напала на французскую армию, но Кутузов явственно избегал большого сражения, хотя его со всех сторон толкали на это. Для Кутузова все дело было в уходе Наполеона из России, а для английского агента Вильсона и для целой массы немцев и французов-эмигрантов уход Наполеона из России был не концом, но только началом дела: им важно было избавиться от Наполеона, а это было возможно лишь при его полном поражении, плене или смерти. Иначе так им казалось в Европе все останется по-прежнему, и Наполеон будет все так же владычествовать до Немана. Но Кутузов не уступал на этот раз. По мере усиления морозов, потери обозов, там и сям отбиваемых казаками и русскими партизанами Фигнером, Сеславиным, Давыдовым, — французская армия катастрофически быстро таяла.
Когда 16 ноября армия прибыла в Дорогобуж, то под ружьем годных к бою в ней насчитывалось только около 50 тысяч человек.
Наполеон переносил все трудности похода, как всегда, стараясь своим примером подбодрить солдат. Он часами шел по сугробам и под падающим снегом, опираясь на палку, разговаривая с шедшими рядом солдатами. Он еще не знал тогда, будет ли зимовать и вообще надолго ли останется в Смоленске. Но, придя в Дорогобуж, Наполеон получил из Франции сведения, ускорившие его решение покинуть Смоленск.
Диковинные сообщения привез ему в Дорогобуж курьер из Парижа. Некий генерал Малэ, старый республиканец, давно сидевший в парижской тюрьме, умудрился оттуда бежать, подделал указ сената, явился к одной роте, объявил о будто бы последовавшей в России смерти Наполеона, прочел подложный указ сената о провозглашении республики и арестовал министра полиции Савари, а военного министра ранил. Переполох длился два часа. Малэ был узнан, схвачен, предан военному суду и расстрелян вместе с 11 людьми, которые ни в чем не были повинны, кроме того, что поверили подлинности указа: Малэ все это затеял один, сидя в тюрьме.
На Наполеона этот эпизод (при всей несуразности) произвел сильное впечатление. Чуялось, что его присутствие в Париже необходимо. Там же, в Дорогобуже, а затем в Смоленске, куда он прибыл 9 ноября, Наполеон узнал, что Чичагов с южной русской армией, пришедшей из Турции, устремляется к Березине, чтобы отрезать ему отступление. Он узнал также о тяжких потерях корпуса вице-короля Евгения при столкновении с казаками. Наконец, узнал он и о том, что Витебск занят частями армии Витгенштейна. Оставаться в Смоленске было немыслимо: нужно было перейти Березину раньше, чем русские отрежут переправу, иначе Наполеону и остатку его армии грозил плен.
Морозы усиливались. Уже при выходе из Смоленска люда так ослабели, что, свалившись, не могли подняться и замерзали. Вся дорога была устлана трупами. Из Москвы не взяли с собой теплых зимних вещей: это было роковым упущением еще в начале похода. Пришлось бросить большую часть обоза, часть артиллерии, целые эскадроны должны были спешиться, так как конский падеж все усиливался.
Партизаны и казаки все смелее и смелее нападали на арьергард и на отстающих. Выходя из Москвы, Наполеон имел около 100 тысяч человек, выходя 14 ноября из Смоленска, он имел армию всего в 36 тысяч в строю и несколько тысяч отставших и постепенно подходивших. Теперь он сделал то, на что не решился, выходя из Москвы: он велел сжечь все повозки и экипажи, чтобы была возможность тащить пушки. 16 ноября под Красным русские напали на корпус Евгения Богарне, и французы понесли большие потери. На другой день сражение возобновилось. Французы были отброшены, потеряв за два дня около 14 тысяч человек, из которых около 5 тысяч убитыми и ранеными, остальные сдались в плен. Но этим бои под Красным не кончились. Ней, отрезанный от остальной армии, после страшных потерь — из 7 тысяч было потеряно четыре — был с остальными тремя прижат к реке почти всей Кутузовской армией. Ночью он переправился через Днепр севернее Красного, причем, так как лед был еще тонок, много людей провалилось и погибло. Ней с несколькими сотнями человек спасся и пришел в Оршу.
Наполеон делал много усилий для поддержания дисциплины, для организации снабжения, но недостаточно заботился о своих сообщениях на минском направлении. Еще в Дубровске он узнал, что польские части, которым он велел в начале похода охранять Могилев и Минск, не исполнили своего задания; генерал Домбровский, получив приказ двигаться к Борисову, не оказал помощи генералу Брониковскому, и Минск 16 ноября был занят Чичаговым. В Минске в руки русских попали огромные склады продовольствия, собранные тут герцогом Бассано (Марэ) по повелению Наполеона и на которые Наполеон рассчитывал. Начиналась оттепель.
Положение стало совсем отчаянным. С севера, с Двины, к Березине, через которую должен был перейти Наполеон, приближался Витгенштейн; маршалы Удино и Виктор не могли его задержать. С юга шел Чичагов, направлявшийся к Борисову на Березине. 22 ноября Чичагов вошел в Борисов, вытеснив оттуда Домбровского.
Наполеон побледнел, когда ему доложили об этом. Отряды Платова и Ермолова — авангардные части Кутузова — были уже в двух, если не в одном переходе от французов. Грозили окружение и капитуляция. Наполеон немедленно приказал искать другого места, где можно было бы навести мосты.
В Борисове был постоянный мост, и когда в императорском штабе узнали о потере этой переправы, то самые мужественные растерялись. Наполеон очень быстро овладел собой. После доклада генерала Корбино он решил переправиться у Студянки, севернее Борисова, где польскими уланами был найден брод. В этом месте река Березина не имеет и 25 метров в ширину, но берега ее по обе стороны покрыты на большом пространстве илистой грязью, так что в общем нужно было строить мост почти в три раза длиннее, чем ширина реки. Наполеон искусным маневром обманул Чичагова. Он сделал вид, будто все-таки хочет переправиться у Борисова. Маршал Удино 23 ноября разбил и отбросил к Борисову начальника чичаговского авангарда графа Палена и, преследуя Палена, вынудил Чичагова очистить только что занятый Борисов. Но Чичагов оставался вблизи, а с севера спешил Витгенштейн. Переправляться здесь Наполеон не хотел и не мог. Целым рядом маневров ему удалось внушить Чичагову мысль, что переправа состоится в Борисове или ниже Борисова, а сам Наполеон уже 26 ноября на рассвете был у Студянки. Сейчас же французские саперы, работая по пояс в воде, посреди плавающих льдин, стали наводить два понтонных моста, и уже вскоре после полудня началась переправа корпуса Удино. Переправа происходила 26 и 27 ноября. Русские на правом берегу пытались недалеко от места переправы атаковать переправившиеся уже части, но французские гвардейские кирасиры произвели контратаку и отбросили генерала Чаплица. Витгенштейн запоздал к месту боя, Чичагов оказался обманутым Наполеоном, и остатки французской армии спаслись от плена. Военный русский историк, генерал Апухтин, говорит: «Трудно винить Чичагова и Витгенштейна, заведомо ничтожных полководцев, в том, что у них не хватило мужества вступить в единоборство с Наполеоном».
Переправа происходила в порядке, и почти вся французская армия успела перейти благополучно, как вдруг к мостам бросилось около 14 тысяч отставших солдат, преследуемых казаками. Эта масса в панике кинулась, не слушая команды, на мосты, и последняя регулярная часть корпуса маршала Виктора, еще не успевшая перейти, оружием отбрасывала эту толпу. Уведомленный казаками о переправе у Студянки, Кутузов сейчас же известил Чичагова. В это время один из мостов, по которому шла артиллерия, подломился, и когда его наскоро починили, подломился снова. Если бы Чичагов подоспел, катастрофа была бы окончательной. Но он умышленно или неумышленно опоздал, и Наполеон с остатком армии вышел на правый берег. Большая часть отставших (около 10 тысяч из 14), которую регулярный корпус Виктора не пустил на мосты, осталась на берету и была отчасти изрублена казаками, отчасти взята в плен. Наполеон после переправы сейчас же велел сжечь мосты; если бы не это, то все отставшие могли бы тоже успеть спастись, но военная необходимость повелевала лишить русских переправы, а гибель 10 тысяч человек, отставших и не успевших перейти по мостам, императора не остановила. Он считал нужными людьми только тех, которые оставались в рядах, а ушедший из рядов, все равно по какой причине по болезни или из-за отмороженной руки, или ноги, — переставал в его глазах быть равноценным бойцу, и что с ним дальше случится, не очень занимало императора. Наполеон заботился о больных и раненых только там, где эта забота не могла победить боеспособным солдатам. В данном случае сжечь мосты требовалось как можно скорее, он их и сжег без малейшего колебания.
И сам Наполеон, и его маршалы, и многие военные историки, как прежние, так и новые, считали и считают, что как военный случай березинская переправа представляет собой замечательное наполеоновское достижение. Другие видят в этом, главным образом, удачу, произошедшую от ошибок и растерянности Чичагова и Витгеиштейна, от путаницы, внесенной Александром, который из Петербурга, помимо Кутузова, посылал генералам план окружения Наполеона, тот план, который Кутузов считал нелепым. В 1894 г. появилось специальное исследование русского военного историка Харкевича «Березина», считающееся и теперь образцовым. По Харкевичу выходит, что Кутузов даже и не хотел исполнять план Александра и нарочно не спешил к Березине, имея возможность попасть туда вовремя. Внимательное изучение всей документации, исходящей как от самого Чичагова, так и от Ермолова, Дениса Давыдова и даже от самого Кутузова, заставило меня признать, что мнение Харкевича опровергнуть очень трудно. Так же как и Апухтин, Харкевич считает, что страх, панический страх перед Наполеоном так сдавил и парализовал Витгенштейна и Чичагова, что они не сделали того, что должны были со своей стороны сделать. Действия же Наполеона Харкевич считает вполне целесообразными.
Так или иначе, остатки французской армии спаслись и шли к Вильне. Но временная оттепель (из-за которой и пришлось строить на Березине мосты) вдруг сменилась страшным холодом. Температура упала до 15, потом до 20, 26, 28 градусов по Реомюру, и люди чуть не ежеминутно валились десятками и сотнями. Их обходили, мертвых, полумертвых, ослабевших, смыкали ряды и шли дальше. Ничего более ужасного не было за время этого бедственного отступления. Никогда до этих самых последних дней не было таких нестерпимых морозов. Кутузов шел почти по пятам. Его армия тоже страшно страдала от холода, хотя была несравненно лучше одета, чем французская. Достаточно сказать, что в момент, когда Кутузов, пополнив после Бородина свою армию, выступил в октябре из Тарутина и пошел сначала к Малоярославцу, а потом вслед за Наполеоном, у него было больше 97 тысяч человек, а в Вильну в середине декабря он привел меньше 27 500 человек. И притом из 662 орудий, с которыми он вышел из Тарутина, Кутузов дорогой потерял 425, так что у него осталось около 200. Так бедственны и трудны были условия этих бесконечных зимних переходов в на редкость лютую зиму.
Тут же нужно прибавить, что только нападений со стороны главной кутузовской армии серьезно опасался Наполеон. Казаки, конечно, крайне осложняли положение отступающей французской армии, нападая на обозы, тревожа арьергарды, но, разумеется, самостоятельных сражений казаки затевать с французскими частями не могли. В боях под Красным они играли большую, но подсобную, а не главную роль; что касается партизан, то их французы боялись все же меньше, чем казаков. Партизанских отрядов было несколько: Давыдова, Фигнера, Дорохова, Сеславина, Вадбольского, Кудашева и еще два-три. Французы их не признавали регулярной армией и в плен почти не брали, расстреливали. Но и партизаны тоже в плен брали мало, предпочитая уничтожать. Особенной неумолимостью славился Фигнер. Партизанами были офицеры, солдаты, которых отпустило начальство, добровольцы. О партизанах французы в своей мемуарной литературе почти ничего не говорят, тогда как о казаках говорят очень много и единодушно признают огромный вред, который подвижная, неуловимая казачья конница причиняла отступающей армии своими внезапными налетами, после которых мгновенно исчезала. Партизаны нападали на совсем расстроенные части и приканчивали их.
Вот картина с натуры, рисуемая знаменитым партизаном Денисом Давыдовым: «Наконец, подошла старая гвардия, посреди коей находился и сам Наполеон... Мы вскочили на коней и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хоть одного рядового от этих сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегая всеми усилиями нашими, оставались невредимы; я никуда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти испытанных воинов. Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, белых ремнях, с красными султанами и эполетами, они казались маковым цветом среди снежного поля... Все наши азиатские атаки не оказывали никакого действия против сомкнутого европейского строя... колонны двигались одна за другой, отгоняя нас ружейными выстрелами и издеваясь над нашим вокруг них бесполезным наездничеством. В течение этого дня мы еще взяли одного генерала, множество обозов и до 700 пленных, но гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль перед рыбачьими лодками».
Партизаны в этот день, заметим, соединились с казаками, только потому им и удалось взять 700 человек. Но они были прекрасными лазутчиками и доставляли часто драгоценную информацию Кутузову и его генералам. Тут нужно сказать и о народной войне 1812 г. в России.
В России «народная война» выражалась в несколько иных формах, чем в Испании, хотя по ожесточению она напомнила Наполеону испанцев.
В России ожесточение народа против вторгшегося неприятеля росло с каждым месяцем. Уже в начале войны для русского народа стало вполне ясно только одно: в Россию пришел жестокий и хитрый враг, опустошающий страну и грабящий жителей. Чувство обиды за терзаемую родину, жажда мести за разрушенные города и сожженные деревни, за уничтоженную и разграбленную Москву, за все ужасы нашествия, желание отстоять Россию и наказать дерзкого и жестокого завоевателя — все эти чувства постепенно охватили весь народ. Крестьяне собирались небольшими группами, ловили отстающих французов и беспощадно убивали их. При появлении французских солдат за хлебом и за сеном крестьяне почти всегда оказывали яростное вооруженное сопротивление, а если французский отряд оказывался слишком для них силен, убегали в леса и перед побегом сами сжигали хлеб и сено. Это-то и было страшнее всего для врага.
В России крестьяне иногда составляли отряды, нападавшие на отдельные части солдат, особенно при отступлении армии Наполеона, хотя и не было таких случаев, как в Испании, где бывало так, что крестьяне, без помощи испанской армии, сами окружали и принуждали к сдаче французские полки. Но в России крестьяне охотно вступали добровольцами в организованные партизанские отряды, всячески помогали им, служили проводниками, доставляли русским войскам провиант и нужные сведения.
Но больше всего русский народ проявлял свое твердое желание отстоять родину своей неукротимой храбростью в отчаянных боях под Смоленском, под Красным, под Бородином, под Малоярославцем, в более мелких сражениях и стычках. Французы видели, что если в России против них не ведется точно такая же народная война, как в Испании, то это прежде всего потому, что испанская армия была вконец уничтожена Наполеоном и были долгие месяцы, когда только крестьяне-добровольцы и могли сражаться, а в России ни одного дня не было такого, когда бы русская армия была совсем уничтожена. И народное чувство ненависти к завоевателю и желание выгнать его из России могли проявляться более всего организованно в рядах регулярной армии. Мы знаем из документов, что крестьяне Тамбовской губернии плясали от радости, когда их в рекрутском присутствии забирали в войска в 1812 г., тогда как в обыкновенное время рекрутчина считалась самой тяжелой повинностью.
И эти люди, плясавшие от радости, когда их забирали в солдаты, потом, в кровопролитных битвах, сражались и умирали подлинными героями.
После выступления французов из Москвы, после сражения под Малоярославцем, после наступления морозов и усиления расстройства французской армии, за которой следом шла армия Кутузова, и наступило это явление, которое сначала называлось современниками «действиями партизанских отрядов», а потом стало называться «народной войной». Партизаны Фигнер, Давыдов, Сеславии, Кудашев, Вадбольский и др. были офицерами регулярной русской армии, получившими разрешение и поручение образовать дружины охотников (из солдат регулярной армии и из добровольцев) и тревожить отступающих французов внезапными нападениями на обозы, на отставшие части и вообще на те пункты, где эти небольшие (в несколько сот человек) «партии» могли бы выступить с надеждой на успех. В этих партизанских отрядах были солдаты, были казаки, были призванные уже во время войны ополченцы, были добровольцы из крестьян.
Обо всем этом я говорю подробно в своей книге «Нашествие Наполеона на Россию».
После Березины французская армия уменьшилась не только вследствие страшных морозов, но и потому, что дивизия Партуно, которому Наполеон приказал для отвода глаз Чичагову оставаться у Борисова, подверглась нападению главных сил Кутузова, и от его 4 тысяч солдат уже через два дня сражения осталось немногим больше половины, которые и капитулировали, окруженные со всех сторон.
В Вильне остатки французской армии были уже у порога спасения от грозящей гибели. Они подошли к городу в самом невообразимом состоянии, измученные холодом и усталостью. Некоторые части сохранили боеспособность: недалеко от Вильны Ней и Мэзон развили сильный артиллерийский огонь против наседавших русских, и преследование ослабело на несколько дней.
При входе в Вильну произошло смятение и даже столкновение между солдатами разных частей, искавшими крова и пищи и начавшими немедленно разграбление складов и магазинов. С 10 по 12 декабря армия шла в Ковно, преследуемая казаками, которых она еще могла отгонять. Кутузов с главными силами был еще в нескольких переходах от Вильны. Не задерживаясь в Ковно, остатки армии перешли через замерзший Неман. Страшный московский поход кончился. Из 420 тысяч человек, перешедших границу в июне 1812 г., и 150 тысяч, постепенно подошедших еще из Европы впоследствии, теперь, в декабре того же года, остались небольшие разбросанные группы, вразбивку переходившие обратно через Неман. Из них потом уже в Пруссии и Польше удалось организовать отряд общей сложностью около 30 тысяч человек (преимущественно из тех частей, которые оставались все эти полгода на флангах и не ходили в Москву). Остальные были или в плену, или погибли. Но в плену оказалось по самым оптимистическим расчетам, не больше 100 тысяч человек. Остальные погибли в сражениях, а больше всего от холода, голода, усталости и болезней во время отступления.
Еще за неделю до выхода армии из русских пределов, 6 декабря 1812 г., в местечке Сморгони Наполеон в сопровождении Коленкура, Дюрока и Лобо и польского офицера Вонсовича уехал от армии, передав командование Мюрату.
Его отъезду предшествовало объяснение с маршалами, которые сначала попробовали почтительно противоречить, но Наполеон заявил им, что считает теперь армию вне опасности попасть в плен, которой она подверглась до Березины, и что, по его мнению, маршалы и без него доведут ее до союзной Пруссии, т.е. до Немана. Его же присутствие необходимо в Париже, потому что никто там без него не сможет экстренными рекрутскими наборами организовать новую, по крайней мере 300-тысячную армию, с которой нужно будет весной встретить возможных врагов. Аргументом против его отъезда было опасение, что без него отступающее войско, пережившее столько ужасов, окончательна распадется, так как только присутствие императора давало ему еще силы.
Наполеон был совершенно спокоен, объясняясь с маршалами. Что он покидает армию не из трусости, что личная его жизнь сейчас уже вне опасности, а он, не мигнув глазом, много раз встречал в их же присутствии реальную и прямую опасность, — это они знали. Не волновался он, когда говорил с ними и об этой страшной затеянной ни и проигранной войне и погубленной великой армии; конечно, печально, но ведь это скорее несчастье, чем ошибка: климат очень подвел и т.п. Но тут же он охотно признал, что были ошибки и с его стороны: например, слишком затянувшееся пребывание в Москве. Вообще же и тени смущения или расстройства духа Наполеон при этой беседе не обнаруживал. Он категорически требовал от маршалов временно сохранить втайне факт его отъезда. Важно было не только предупредить окончательный упадок духа среди солдат в течение нескольких даней, которые им еще оставалось пройти до Немана, но еще важнее было проехать по Германии раньше, чем там узнают правду о гибели великой армии я о том, что император проезжает без охраны.
В одном маршалы не сомневались — что император едет создавать и непременно создаст новую армию, что сделает он это очень скоро и что еще много раз он поведет их в эту будущую армию под картечь.
Выйдя его провожать, маршалы наблюдали, как он усаживается с Колеккуром в сани; он был так же спокоен, как спустя четыре месяца, когда шел уже из Франции во главе новых корпусов на усмирение восставшей Европы. Среда провожавших маршалов были люди, побывавшие во всех бесчисленных битвах Наполеона, от первого завоевания Италии до конца русского похода, и они полагали, что все-таки ничего страшнее Бородина до сих пор им видеть не приходилось. Они не предвидели Лейпцига. Сани, исчезнувшие в снежной мгле декабрьского вечера, уносили человека, твердо решившегося не уступать ни одного клочка земли в завоеванной им Европе без самой отчаянной борьбы.
Глава XIV. Восстание вассальной Европы против Наполеона и «Битва народов». Начало крушения «Великой империи». 1813 г.
В 12 суток, сначала в санях, потом в экипаже, Наполеон промчался по Польше, Германии, Франции и утром 18 декабря 1812 г. явился в Тюильрийский дворец. Он ехал, соблюдая строжайшее инкогнито, понимая опасность этих критических дней: в истинных чувствах немцев к себе он не обманывался. Коленкур, сопровождавший его в этом путешествии, говорит о совершенном спокойствии Наполеона, его бодрости, энергии и готовности к дальнейшей борьбе. С ним император, между прочим, тоже говорил о только что окончившейся войне 1812 г. «Я ошибся, но не в цели и не в политической уместности этой войны, а в способе ее ведения. Нужно было остаться в Витебске. Александр теперь был бы у моих ног». Но весь тон его разговоров с Коленкуром был таков, каков мог бы быть, например, у шахматного гроссмейстера, проигравшего партию и анализирующего свои ошибки в антракте между только что проигранной партией и предстоящей новой, которую следует постараться выиграть. Не только ни малейшего сознания ужаса всего происшедшего и сознания подавляющей огромной личной ответственности в этих разговорах нет, но не наблюдается даже и следа просто дурного расположения духа, которое так часто бывало в нем заметно в 1810–1811 гг., когда он стоял на вершине могущества и успеха. Война была настолько его стихией, что когда он готовил ее или вел, он всегда производил впечатление человека, живущего полной жизнью, дышащего полной грудью, а вся его забота уже с того момента, когда он сел с Коленкуром в сани, была посвящена предстоящей войне и ее дипломатической и технической подготовке. Только ли с русскими придется продолжать войну? Восстанет ли Европа, и какая страна начнет восстание, и можно ли (и как именно) предупредить это? Сколько месяцев потребуется на создание новой армии?
По дороге он остановился в Варшаве и вызвал к себе своего посланника при короле саксонском, аббата Прадта. Он и Прадта удивил своим спокойствием. Именно ему-то император и сказал при свидании свои знаменитые слова: «От великого до смешного только один шаг, и пусть судит потомство». Но тут же прибавил, что скоро вернется на Вислу с 300-тысячной армией, и «русские дорого заплатят за свои успехи, которыми они обязаны не себе, а природе». Кто же не имел неудач! «Правда, подобных никто не испытывал, но они должны были быть пропорциональны моему счастью; да, впрочем, они скоро будут заглажены».
Прибыв в Париж, как сказано, 18 декабря, Наполеон сразу увидел большой упадок духа в населении. Давно уже ходившие зловещие слухи были как раз за два дня до приезда Наполеона в столицу подтверждены знаменитым 29-м бюллетенем, в котором император довольно откровенно говорил о русском походе и его конце. Траур сотен тысяч семейств делал общественную атмосферу особенно подавленной.
В ближайшие дни Наполеон принял своих министров, Государственный совет и сенат. Он сурово и презрительно отозвался о растерянности властей во время октябрьской истории с генералом Малэ, требовал отчета в их поведении, но о русском походе говорил вскользь; не удостаивая подробными объяснениями.
Прежняя лесть, прежнее низкопоклонство встретили его среди сановников и царедворцев. Президент сената Ласепед в своем всеподданнейшем усердии просил о совершении обряда коронования над полуторагодовалым наследником «в виде символа непрерывности правления». Сенат при этом в полном составе согнулся в три погибели перед сидевшим на троне императором. Наполеон в своем отчете коснулся войны с Россией, и тут ясно обнаружилось, что он опять тешит себя иллюзией, от которой, казалось, совсем избавился, когда приказал Мортье взорвать Кремль: иллюзией, будто можно еще и теперь заключить с Александром мир, разыграв партию вничью.
«Война, которую я веду, есть война политическая. Я ее предпринял без вражды, и я хотел избавить Россию от тех зол, которые она сама себе причинила. Я мог бы вооружить против нее часть ее собственного населения, провозгласив освобождение крестьян... Много деревень меня об этом просили, но я отказывался от меры, которая обрекла бы на смерть тысячи семейств». Через головы своих сенаторов Наполеон с этими словами обращался к русским помещикам и к «первому» из русских помещиков (как определял впоследствии русских царей брат Александра I Николай Павлович) — царю. Наполеон требовал от царя и помещиков теперь благодарности за то, что избавил их от пугачевщины, как будто он когда-нибудь хотел прибегнуть к этому оружию. Все эти приемы сановников и высших учреждений, вся эта комедия раболепной лжи, с одной стороны, высокомерной и нетерпеливой ответной лжи — с другой, т.е. с высоты императорского трона, — все это, конечно, было лишь обстановочной частью, нужной для отвода глаз Франции и Европе. Две главные задачи императору казались первостепенными: во-первых, создать армию, во-вторых, обеспечить если не помощь, то нейтралитет Австрии, а поскольку это возможно — и Пруссии.
Первая задача была разрешена быстро. Еще будучи в России, Наполеон распорядился призвать досрочно набор 1813 г., и теперь, весной 1813 г., обучение новобранцев подходило к концу. Их с трудом набрали 140 тысяч человек. Еще в 1812 г. Наполеон приказал образовать «когорты национальной гвардии» и теперь включил их всех в армию (будто бы по их желанию, хотя национальная гвардия формировалась лишь для охраны порядка внутри империи). Это дало еще 100 тысяч человек. В июне 1812 г. Наполеон оставил до 235 тысяч во Франции и в вассальной Германии. Теперь можно было и на них рассчитывать. Наконец, несколько тысяч (как потом оказалось, около 30 тысяч) все-таки спаслось из России, так как корпуса, оставленные Наполеоном на северном (рижско-петербургском) направлении и на южном (гродненском), пострадали значительно меньше, чем те части, которые побывали при Бородине, а потом проделали все двухмесячное отступление от Москвы до Немана.
Все это давало императору надежду иметь к весне 1813 г. армию даже не в 300, а в 400–450 тысяч человек. Он предвидел, что подсчет может оказаться слишком оптимистическим, но во всяком случае, что очень большая армия будет в его распоряжении и очень скоро, он не сомневался. Боевые припасы, артиллерию, саперный материал, всю материальную часть вообще — все это, конечно, нужно было усиленно готовить, восстановлять, пополнять. Наполеон работал с утра до вечера над вопросами снаряжения и обучения армии. Если Александр I пренебрег теперь, весной 1813 г., миролюбивыми нотками в речи Наполеона к сенату, как он пренебрег осенью 1812 г. письмами, переданными через Тутолмина, Яковлева и Лористона, то у Наполеона была теперь полнейшая уверенность, что он встретит русских на Висле и наголову их разобьет. Он знал, что и Кутузову зима 1812 г. обошлась очень недешево, хотя и не знал тогда, что Кутузов, потерял за два месяца следования от Тарутина до Немана две трети своей прежней 100-тысячной армии, больше двух третей своей артиллерии. При безобразных дорогах, при крепостнических порядках быстро пополнить эти потери боеспособным человеческим материалом и восстановить артиллерию Кутузов, по мнению Наполеона, не сможет. Не повторяя ошибки вторжения, можно было спокойно ждать русских у Вислы и Немана и разбить их там.
Но тут выдвинулась сама собой другая грозная проблема: будут ли русские одни? Уже в декабре 1812 г. прусский генерал Иорк, числившийся (так как Пруссия была в «союзе» с Наполеоном) под командой маршала Макдональда, внезапно перешел на сторону русских. Правда, перетрусивший король Фридрих-Вильгельм поспешил от Иорка отречься, но Наполеон знал, что король находится в таком положении, когда его могут низвергнуть русские, если он не перейдет на их сторону, так же как могут низвергнуть его собственные подданные. Понимал Наполеон и то, что абсурдно ждать, чтобы раздавленная им Пруссия не сделала попытки освободиться от его владычества, если русская армия войдет в страну.
Кутузов был против продолжения войны. И не только потому, что не видел для России никакого смысла в том, чтобы своей кровью освобождать Пруссию и германские страны, но и по той более простой очевидной причине, что предвидел страшнейшие трудности при новой войне с Наполеоном, принимая во внимание небольшую и истощенную русскую армию. Но Александр был совершенно непримирим. Он исходил из того соображения, что дать Наполеону передышку — значило оставить всю Европу по-прежнему в его власти, а угрозу на Немане сделать постоянной и неизбежной. И если русская армия, уже вошедшая в пределы Пруссии, получит подкрепления, то ясно, что прусский король будет вынужден поднять оружие против французского императора.
Наполеону перестало нравиться также поведение Австрии. Его тесть, император Франц, и Меттерних, уже тогда главный руководитель австрийской политики, заключили «перемирие» с Россией, с которой Австрия числилась с 1812 г. в войне (в качестве «союзницы» Наполеона), и было ясно, что, невзирая на новое родство, австрийский император рассматривал положение, в которое попал его зять Наполеон, как неожиданную улыбку судьбы, как залог близкого избавления от страшного ига, под которым жила Австрия после Ваграма и Шенбруннского мира.
В это трудное время французский император вспомнил, что еще в 1809 г., заняв Рим, он взял под стражу римского папу и перевез его в Савону, а в 1812 г., отправляясь в Москву, велел перевезти его в Фонтенебло. Считалось при этом, что стража — это почетный конвой, а императорский дворец в Фонтенебло — не заключение, а пребывание в гостях у его величества. Папа не переставал протестовать и против отнятия у него г. Рима (который был подарен Наполеоном новорожденному сыну, «римскому королю») и против плена. Неожиданно Наполеон явился в гости к своему узнику. Дело было 19 января 1813 г. Нужно было хоть католиков как-нибудь примирить с собой: с 1809 г. они втихомолку роптали на императора. Но из всех любезностей, которыми обменялись Наполеон и папа, ничего реального не вышло.
Наполеон заставил Пия VII подписать новый конкордат, но Рима не отдал (новый конкордат в общем был повторением акта 1802 г.). Не удавались Наполеону уступки. Он и не любил и не умел их делать. Эти никчемные заигрывания с папой в январе 1813 г. кончились тем, что, узнав о враждебных советах, которые дает папе кардинал ди Пьетро, Наполеон вдруг арестовал ди Пьетро и выслал его из Фонтенебло.
Характерной фразой обмолвился император по поводу этого неудачного примирения с папой: «Оставим на время Рим... Этот номер положен в урну и выйдет из нее только после моей большой победы на Эльбе или на Висле». В том-то и дело, что, как сейчас увидим, в течение всего этого 1813 года и дальше Наполеон не переставал срывать все переговоры с врагами, все надеясь на большую победу. Счастье слишком долго ему служило. Сравнительно со всей его жизнью, при сопоставлении со всеми неслыханными делами, которые ему удалось сделать, начиная со взятия Тулона в 1793 г. и кончая созданием мировой державы, силы которой он повел в 1812 г. через Неман, война 1812 г. все-таки была одиноким черным пятном на громадном фоне успехов.
Пруссия готова была отпасть: король просил у Наполеона освобождения хоть некоторых пунктов от постоя французских войск, просил о 94 миллионах франков, которые французская казна была ему должна за содержание французских войск, и получил отказ. Англия не могла мириться с французским завоеванием Испании, а Наполеон, открывая 14 февраля 1813 г. Законодательный корпус, прямо заявил: «Французская династия царствует и будет царствовать в Испании». Меттерних пожелал узнать (в марте) условия, на которых Наполеон согласился бы заключить всеобщий мир, и не смог добиться ясного ответа. Все это — точь-в-точь как с папой: большая победа на Висле или Немане все решит. В своей речи 14 февраля Наполеон ручался, что вся территория империи останется неприкосновенной, что герцогство Варшавское останется в прежнем виде. Меттерних, в тот момент еще не желавший рвать с Наполеоном, говорил французскому послу в Вене, Отто, что Наполеон этим заявлением делает невозможным мир ни с Россией, ни с Англией, ни с Пруссией.
Австрийские представители побывали и в Лондоне у Кэстльри и в Калише у Александра. И там и тут им ответили одинаково: если Наполеон не идет решительно ни на какие уступки, тогда пусть война решит вопрос. Наконец прусский король формально примкнул к Александру и заключил с ним союз. В ответ на это Наполеон объявил еще новый рекрутский набор. Саксония, Бавария, Вюртемберг, Баден оставались еще покорными.
15 апреля 1813 г. Наполеон выехал к своей армии в Эрфурт и двинулся против русских и пруссаков. Снабжена была армия очень хорошо. В течение всех первых месяцев 1813 г. Наполеон, просиживая дни над созданием и организацией армии, посвящал часть своих ночей на упорядочение финансов, и теперь армия ни в чем не нуждалась и могла за все платить звонкой монетой, — важно было не разорять и не раздражать жителей германских стран, пока еще «союзных», т.е. покорных.
200 тысяч у него были уже вполне готовы; почти такие же резервы были собраны или продолжали формироваться. Перед самым началом кампании умер Кутузов, и в момент начала военных действий фактического главнокомандующего у русских и пруссаков не было. С первых же шагов начались успехи Наполеона. Русские были вытеснены из Вейсенфельса. Затем произошли 1 и 2 мая бои у Вейсенфельса и под Лютценом. Победа Наполеона была полная. В бою под Вейсенфельсом находившийся в свите Наполеона маршал Бесьер, оказавшийся вместе с императором несколько впереди рядов старой гвардии, был убит ядром, разорвавшим ему грудь. «Смерть приближается к нам», — сказал Наполеон, глядя, как мертвого маршала завертывали в плащ, чтобы унести с поля битвы. Сражение под Лютценом было очень упорным и кровопролитным. Наполеон лично скакал с одного фланга на другой, руководя всеми операциями боя. Александр и Фридрих-Вильгельм были недалеко от места боя, но не принимали в нем участия. Русские и пруссаки были отброшены с поля сражения, союзники потеряли около 20 тысяч, но и французы немногим меньше. Спустя несколько дней Наполеон был уже в Дрездене.
После победы Наполеона под Лютценом Меттерних брался восстановить мир между Наполеоном и союзниками и гарантировать вместе с тем союз Наполеона с Австрией на таких основаниях: Наполеон отказывается от герцогства Варшавского, от протектората над Рейнским союзом, от ганзейских городов и от Иллирии. Все остальное (т.е. вся империя с Бельгией, вся Италия, Голландия, Вестфальское королевство Жерома Бонапарта) остается по-прежнему за Наполеоном. Наполеон отказался. «Я не хочу вашего вооруженного посредничества, — сказал Наполеон посланцу венского двора генералу фон Бубна, — вы хотите удить рыбу в мутной воде. Нельзя приобретать (новые) провинции, проливая только розовую воду. Вы начнете с того, что потребуете у меня Иллирию, а потом вы потребуете Венецианскую область, потом Миланскую землю, потом Тоскану и этим все-таки заставите меня сражаться с вами. Лучше с этого теперь и начать. Да, если вы хотите получить от меня земли, то вам нужно будет проливать кровь». Он решил воевать и воевать дальше, ничего не уступая. В Гамбурге обнаружилось движение против Наполеона. Император послал туда Даву, чтобы наказать ганзейские города за их борьбу против полиции и французских таможенных чиновников, губивших торговлю слишком строгим исполнением блокады. Наполеон приказал маршалу Даву расстрелять некоторых гамбургских сенаторов, расстрелять вожаков антифранцузского движения, расстрелять некоторых офицеров, арестовать 500 влиятельнейших граждан из тех, которые известны своей неблагонадежностью, и конфисковать все их имущество.
Отдав эти распоряжения. Наполеон вышел с гвардией из Дрездена и присоединился к армии, шедшей на восток к Бауцену (на Шпрее). На дороге из Дрездена в Бреславль с ним были четыре корпуса — Нея, Мармона, Удино, Бертрана. У союзников командовали Витгенштейн, Барклай де Толли, Милорадович и Блюхер. Битва под Бауценом началась 20 мая и кончилась вечером 21-го. Нея Наполеон направил на север в обход правого фланга противника, но Ней, пренебрегая советами своего начальника штаба, Жомини, не прибыл своевременно на поле сражения. Союзники отступили в порядке.
Битва была почти такая же кровопролитная, как под Лютценом. С той и другой стороны было потеряно aianoa около 30 тысяч человек убитыми и ранеными. Победа оставалась опять за Наполеоном, и он намеревался, преследуя отступающих русских и пруссаков, идти прямо на Берлин. Союзники отступали с боем, задерживая преследование. Под Герлицем 22 мая Наполеон напал на арьергард отступавших в отбросил их. Сражение уже кончалось, неприятель отступал. Дюрок подошел вечером к Наполеону, поговорил с ним, потом отошел и сказал с грустью Коленкуру: «Друг мой, наблюдаете ли вы за императором? Вот он теперь опять одерживает победы после неудач, это и был бы как раз случай воспользоваться уроками несчастья. Но вы видите, он не изменился. Он ненасытно ищет битв... Конец всего этого не может быть счастливым».
Это была последняя минута жизни маршала. Ядро ударило в дерево, около которого стоял Наполеон, и рикошетом попало в Дюрока. Он еще успел сказать императору, что желает ему победы и заключить мир. «Прощай, — ответил Наполеон, — может быть, мы скоро увидимся».
Смерть Дюрока, одного из немногих, кого Наполеон любил и кому верил, сильно его поразила. Он машинально сел на пень; осколки снарядов прусского арьергарда ложились вокруг него, но он так задумайся, что не скоро покинул этот пень. В течение всей этой кампании 1813 г. он очень часто подвергал себя опасности, и, главное, без всякой нужды, чего никогда до сих пор с ним не бывало и что противоречило его мнению о месте главнокомандующего в бою. У свиты даже составилось впечатление, что он в 1813 г. тайно искал смерти, но скрывал это. В течение почти всего преследования отступавших, но энергично отстреливавшихся русских и пруссаков он был в авангарде, в самом опасном месте, без малейшей военной надобности лично там присутствовать.
После Бауцена и нескольких дней преследования отступавших союзников враждующие стороны приняли посредническое предложение Австрии, инспирированное Меттернихом, и заключили перемирие. 4 июня 1813 г. в Плейсвице договор о перемирии был подписан. Ни союзники, ни Наполеон, подписывая перемирие, не желали, чтобы оно превратилось в мир, хотя обе стороны и согласились на предложение Меттерниха послать своих представителей в Прагу для переговоров. Союзники знали, что Наполеон, который еще до Лютцена и Бауцена не шел ни на какие уступки, подавно не пойдет на них теперь, после двух побед; со своей стороны, если Александр согласился на перемирие, то потому, что Барклай де Толли прямо заявлял, что армии нужно отправиться после испытанных поражений, привести себя в порядок и получить подкрепления. Наполеон согласился на перемирие тоже для того, чтобы получить подкрепления и окончательно раздавить союзников. Подписывая это перемирие, он сделал роковую ошибку, потому что перемирие пошло на пользу его врагам, а не ему, и было одной из причин, побудивших Австрию выйти из своей посреднической роли и примкнуть к союзникам.
Любопытно, что союзники совсем ничего не поняли в этой роковой для Наполеона ошибке, хотя много лет спустя их генералы (как русские, так и прусские и шведский наследный принц Бернадотт) утверждали, будто с самого начала перемирия искусно им воспользовались и очень были ему рады. У нас есть неопровержимое свидетельство подполковника Владимира Ивановича Левенштерна, ближайшего наблюдателя настроений в штабах союзной армии: он утверждает, что «в войске союзников, в Пруссии, в германских странах, всюду, где звучал немецкий язык», это перемирие «оплакивалось как величайшее несчастье». И Левенштерн со справедливой иронией восклицает: «О, мудрость человеческая!» Эти немецкие записки Левенштерна («Denkwürdigkeiten eines Livländers») — один из драгоценнейших и беспристрастнейших документов по истории 1813 г., о которой столько раз сознательно или неумышленно лгали и французские, и прусские, и русские, и австрийские, и шведские мемуаристы.
Итак, перемирие было подписано. Но не верил Наполеон в серьезность шансов на заключение такого мира, к которому он стремился. А другого он твердо решил не подписывать.
Все или ничего. С этим лозунгом Наполеон начал великую борьбу 1813 г. и с этим лозунгом продолжал ее. Даже на острове Св. Елены, проиграв все, потеряв личную свободу, император никогда не выражал ни малейшего раскаяния в совершенной ошибке, потому что для него это поведение вовсе не было ошибкой. «Если бы я был не собой, а своим собственным внуком, — иронически говаривал он, — я мог бы возвратиться побежденным и царствовать после потерь». И еще несколько раз он пояснял свою мысль, говоря о разнице между собой и монархами, царствующими по наследственному праву.
После ужасов московского похода, приведших в подавленное состояние почти все население Франции, Париж встретил Наполеона беспрекословным повиновением. Он так же встретил бы его и подавно, если бы после блестящей весенней кампании 1813 г. он вернулся, сохранив все колоссальные свои владения, и без далекой балканской, ненужной Иллирии, пожертвовав только Варшавским герцогством и Рейнским союзом, где он даже и правил не лично, а через вассалов, которые вовсе не входили в состав его империи. Но он знал, что эти уступки, этот отказ от мысли доделать мировую империю означали бы и экономическую и политическую победу Англии. Та задача, которую он считал своей, оставалась бы невыполненной, французская торговля и промышленность были бы дальше бессильны бороться с английской, кризис 1811 г. стал бы хроническим явлением, безработица тоже, «революция пустого желудка», не боящаяся пуль, свила бы себе прочное гнездо в рабочих центрах, в столице и провинции, а буржуазии он, верный, могучий ее вождь в экономической борьбе против Англии, стал бы просто не нужен. Во имя чего французская буржуазия и дальше переносила бы его неслыханный деспотизм? А править иначе он и не хотел и органически не мог. Вот что заставило Наполеона — как раз в те самые дни, когда Меттерних выбивался из сил, чтобы убедить его отказаться от Гамбурга, Бремена и Любека, — послать туда Даву с жестокими приказами о расстрелах и конфискациях. Вот что побуждало его думать не о мире и возвращении в Париж, но о походе снова на Вислу и Неман, вот что сделало переговоры Праге пустой комедией. Ему говорили об уступке Гамбурга, а он думал о Немане; ему предлагали отказаться от Иллирии, а он все еще не отзывал из Турции, Персии, Сирии, Египта своих агентов и разведчиков, которых послал туда перед походом на Россию. Спор этот могли решить только пушки, а не дипломатические тонкости.
Австрийская дипломатия, в сущности, не хотела ни окончательной победы Наполеона над коалицией, ни окончательной победы коалиции над Наполеоном, которая дала бы гегемонию русскому царю. Меттерних желал склонить Наполеона к уступкам и, приехав в Дрезден, где жил император, явился во дворец 28 июня 1813 г.
Наполеон начал с угроз, прямо обвиняя Австрию в том, что она под предлогом посредничества готовится примкнуть к коалиции. «Объяснитесь: вы хотите воевать со мной? Значит, люди неисправимы! Уроки им ни для чего не служат! Русские и пруссаки, несмотря на жестокий опыт, осмелев после успехов последней зимы, дерзнули пойти против меня, — и я их побил. Вы тоже хотите Получить в свою очередь? Хорошо, вы получите свое. Я вам назначаю свидание в Вене в октябре!»
Меттерних почтительно, но очень твердо возразил, что ничего подобного Австрия не имеет в виду, а хочет прочного мира. И тут же перечислил условия: все остается при Наполеоне, если он уступит Иллирию, Гамбург, Бремен и Любек, герцогство Варшавское и откажется от звания протектора Рейнского союза. Наполеон пришел в бешенство. «Я знаю ваш секрет! Вы, австрийцы, хотите всю Италию, ваши друзья русские хотят Польшу, пруссаки — Саксонию, англичане — Бельгию и Голландию... и если я уступлю сегодня, вы у меня всего этого потребуете завтра! Но для этого будьте готовы мобилизовать миллионы людей, пролить кровь нескольких поколений и вести переговоры у подножия Монмартра!»
Меттерних ответил, что ничего подобного от него не требуют, что мир, который ему предлагается, это почетный, славный мир. Наполеон выдвинул тогда такой аргумент: даже малейшая уступка его унизит. «Ваши государи, рожденные на троне, не могут понять чувств, которые меня воодушевляют. Они возвращаются побежденными в свои столицы, и для них это все равно. А я солдат, мне нужна честь, слава, я не могу показаться униженным перед моим народом. Мне нужно оставаться великим, славным, возбуждающим восхищение!»
На это Меттерних ответил, что если так, то война никогда не кончится, а вся Европа и Франция тоже утомлены войной и нуждаются в мире. «Государь, я только что проходил мимо ваших полков; ваши солдаты — дети. Вы произвели несколько преждевременных наборов и призвали в войска едва лишь сформировавшиеся возрасты. Когда это поколение будет уничтожено нынешней войной, произведете ли вы следующий досрочный набор? Призовете ли еще более молодых?»
Наполеон побледнел от ярости, вспоминает Меттерних, и швырнул на землю свою шляпу. «Вы не военный, у вас нет души солдата, какая есть у меня, вы не жили в лагере, вы не привыкли презирать свою и чужую жизнь, когда это нужно. Что для меня значит 200 тысяч человек?» Наполеон был в одном из тех припадков гнева, когда говорил циничнейшие вещи, стремясь оскорбить противника. «Наконец, французы, кровь которых вы тут защищаете, не могут так уж жаловаться на меня. Я потерял, правда в России 200 тысяч человек; в том числе было 100 тысяч лучших французских солдат; о них я, действительно, жалею. Что касается остальных, то это были итальянцы, поляки и главным образом немцы!» При последнем слове он сделал пренебрежительный жест. «Допустим, — ответил Меттеринх, — но согласитесь, государь, что это не такой аргумент, который следует приводить, говоря с немцем». Разговор, конечно, ни к чему не привел после подобных заявлений. Наполеон стал издеваться над тем, что Австрия преувеличивает свои военные силы, и на просьбу Меттерниха позволить ему взять на себя дипломатическое посредничество на указанных условиях, Наполеон вскричал: «А, вы настаиваете! Вы все-таки хотите мне диктовать законы! Ах, Меттерних! — в гневе кричал император. — Скажите, сколько Англия вам заплатила, чтобы заставить вас играть эту роль против меня? Хорошо, пусть будет война! Но до свидания, увидимся в Вене!»
Когда Меттерних откланялся и вышел в зал, то маршалу Бертье, спросившему о результатах переговоров (сам Бертье страстно желал мира и считал условия вполне приемлемыми и почетными), Меттерних сказал: «Клянусь вам, ваш повелитель потерял рассудок!»
Несмотря на эту сцену (где, между прочим, Наполеон заявил, что он оказал Австрии милость и снисхождение, взяв в жены Марию-Луизу, и что это была с его стороны ошибка), Наполеон, ничем не обязываясь официально, согласился в конце концов на австрийское посредничество. Пока по приглашению Меттерниха русский, прусский и австрийский уполномоченные съезжались к 12 июля 1813 г. в Прагу и время тянулось за бесплодными переговорами, армия Наполеона укреплялась, но общее политическое положение явно расшатывалось. Между прочим пришел ряд известий о французских поражениях и неудачах в Испании. Англичане и испанские гверильясы оттеснили французские войсках Пиренеям. Битва при Виттории кончилась полной победой английского главнокомандующего лорда Веллингтона.
Наполеон, зная наперед, что из пражских переговоров ничего не выйдет, да и не желая, чтобы что-нибудь вышло, тянул дело. Русский и прусский уполномоченные и сам Меттерних оскорблялись и раздражались проволочками. Они с 12 июля сидели в Праге, а французы все не являлись и всячески затрудняли переговоры.
Впрочем, после разговора Меттерниха с Наполеоном австрийские колебания кончились. Меттерних прямо сказал французскому представителю Нарбонну, что если пражское совещание не соберется до конца перемирия, т.е. до 10 августа, то Австрия примкнет к коалиции.
Ничего из всех этих бесплодных переговоров не вышло. Наполеон отдал наперед приказ графу Нарбонну: 1) тянуть дело и не начинать совещаний; 2) если уж они начнутся, то не идти ни на какие уступки; соблюсти дипломатический принцип, выраженный в латинской формуле: «кто чем владеет, — пусть у того и остается».
Нарбонн, Коленкур, Фуше, Савари, Бертье, почти все маршалы убеждали императора заключить мир. Все было напрасно. Савари, министр полиции, которого Наполеон сделал герцогом Ровиго, осмелился сказать императору, что народ измучен бесконечными войнами и, чего доброго, может наконец обозлиться даже и на своего обожаемого монарха. На это министру полиции ведено было молчать и «не вмешиваться в то, чего он не знает».
10 августа кончилось перемирие, а 11 августа Меттерних заявил, что Австрия объявляет Наполеону войну.
Ликование в Лондоне и в русско-прусском лагере было полное. Силы коалиции теперь явно превышали силы Наполеона.
Приближалась развязка кампании 1813 г. Наборы за наборами следовали и в России, и в Пруссии, и в Австрии. Подтягивались резервы, напрягались все силы. Англия снова широко раскрывала свою казну и не скупилась на золото для подкрепления коалиции, как не скупилась она и на усиление армии Веллингтона в Испании. У коалиции была теперь армия с резервами численностью почти в 850 тысяч, у Наполеона (тоже с резервами) — около 550 тысяч.
Главнокомандующим всех союзных сил был назначен австрийский фельдмаршал Шварценберг. Его Наполеон не боялся нисколько. У русских не было уже ни Кутузова, ни Багратиона, а остальных русских генералов в их массе французский император после 1812 г. все-таки не стал уважать больше, чем прежде. Его мнение о некоторых участниках Смоленска и Бородина было довольно высоким, но в общем главный русский штаб Наполеон ставил очень низко. Он считал сплошь нелепыми, например, действия русского командования во время его отступления от Москвы, твердо убежден был и не переставал до конца жизни повторять, что только необъятные пространства, пожар Москвы, страшные морозы, его собственная ошибка, заключавшаяся в занятии Москвы и долгой стоянке там, привели поход к неудаче, а русские генералы, русские стратеги и тактики будто бы ничего не сумели сделать, чтобы воспользоваться хоть сколько-нибудь толково счастливейшими для них обстоятельствами. Русских же солдат теперь, в 1813 г., он ставил еще выше, чем ставил их уже после Эйлау, в 1807 г., выше, чем всех других солдат враждебных армий.
Что касается пруссаков, то у них, как и у австрийцев и у русские, Наполеон не видел сколько-нибудь страшных для себя соперников в военном искусстве. Но он знал, что, по совету Бернадотта, бывшего наполеоновского маршала, а теперь, в 1813 г., в качестве шведского наследного принца — врага Наполеона, Александр I и союзные монархи упросили явиться к ним на помощь генерала Моро, талантливого полководца, которого в 1804 г. привлекли и обвинили по делу о заговоре против Наполеона и которого Наполеон выслал тогда из Франции. Моро с тех пор проживал в изгнании в Америке. Непримиримый враг Наполеона, Моро прибыл в лагерь Александра как раз к возобновлению военных действий после провала попытки мирных переговоров в Праге. «Не нападайте на те части армии, где сам Наполеон, нападайте только на маршалов», — таков был первый совет, данный генералом Моро Александру и его союзникам. Нужно сказать, что, судя по всему, неладно было до душе у генерала Моро, хоть он и утешал себя соображением, что сражается не против Франции, а против ее деспота. Русский генерал князь Репнин был свидетелем потрясающей сцены. Моро встретился с одним французским пленным, старым солдатом, и заговорил с ним. Тот узнал французского полководца, теперь помогающего врагам Франции. Солдат отступил от Моро на несколько шагов и вскричал: «Да здравствует республика!» В бывшем республиканском генерале солдат видел теперь изменника, с которым не захотел разговаривать. Александр I осыпал генерала Моро знаками величайшего внимания и почтения, непременно хотел предоставить ему первую роль. Русский император считал, что, во-первых, только один Моро и может быть достойным противником Наполеона по своим стратегическим дарованиям, а во-вторых, что присутствие Моро в союзном стане может поселить некоторые колебания во французской армии, так как у Моро до тех пор была репутация безупречного республиканского генерала, без вины запутанного в дело Жоржа Кадудаля к изгнанного Наполеоном. Но для французской солдатской массы в этот момент слова: Франция, империя, император, родина, сливались в единое целое, которое противопоставлялось неприятелю, интервентам, роялистам, эмигрантам; и расчет царя был неправилен. Морально генерал Моро перестал существовать для наполеоновских солдат, как только он прибыл в неприятельский лагерь. Александр хотел, чтобы Моро стал главнокомандующим всех союзных армий вместо Шварценберга. Сам Моро предлагал, чтобы главнокомандующим числился Александр, а он, Моро, был бы начальником штаба и фактически верховным руководителем. Но случилось все иначе.
Первая большая битва по возобновлении кампании произошла при Дрездене 27 августа 1813 г. Наполеон одержал здесь одну из блестящих побед. Убитыми, ранеными, пленными союзники потеряли около 25 тысяч человек, а Наполеон — около 10 тысяч. Союзная армия частями отступила в порядке, а некоторые корпуса бежали с поля битвы, преследуемые по пятам кавалерией. С обеих сторон действовала артиллерия, и вся битва происходила при неумолкаемом грохоте 1200 орудий. В разгаре боя, когда левое крыло союзников было уже совершенно разгромлено, Наполеон в центре взял на себя непосредственное руководство артиллерийским огнем. На небольшой возвышенности Ронникс он заметил в неприятельском расположении группу всадников, на которую прежде всего и велел одной из своих батарей направить огонь. В центре этой группы всадников оказался император Александр, а рядом — генерал Моро, впервые тут выступивший в качестве руководителя союзных войск. И одно из первых ядер, пущенных в эту группу по приказу Наполеона, раздробило генералу Моро обе ноги. Он скончался несколько дней спустя. Во французской и в союзной армиях была распространена легенда, будто Моро был убит ядром, которое лично выпустил, подойдя к батарее, Наполеон, разглядев и узнав в подзорную трубу «изменника». Так или иначе, разгром частей союзной армии, сражавшихся у Дрездена, был полный, и сразу же лишиться Моро, наилучшего своего стратега, было для союзников дополнительным тяжким ударом.
Союзники, разбитые под Дрезденом, несколькими дорогами отступали к Рудным горам. В следующие дни маршалы Мармон, Викто́р, Мюрат, Сен-Сир, генерал Вандамм, преследуя союзников, взяли еще несколько тысяч русских, пруссаков и австрийцев в плен. Но Вандамм слишком увлекся преследованием и оторвался от главных сил авангарда; 20 и 30 августа в битве при Кульме Вандамм был разбит, ранен и взят в плен с частью своего отряда. Это приободрило растерявшихся было после Дрездена союзников. Упорствовать, не мириться с Наполеоном после поражений — это был тоже один из советов, который Моро успел дать союзникам перед своей внезапной гибелью. Союзники видели, что если военный гений Наполеона не изменился, то солдаты у него уже не те. 18- и 19-летние юноши не могли заменить те непобедимые, железные легионы, с которыми он воевал в Египте, в Сирии, с которыми он завоевал Европу, даже те войска, с которыми ходил в Москву и костями которых он усеял поля сражений. Наполеон тоже это знал. Он видел перед собой и еще одну трудность. Собственно его классическое правило, вошедшее потом во все учебники стратегии и тактики, гласило, что секрет военного искусства заключается в том, чтобы быть сильнее неприятеля в нужный момент в нужном месте. И сам же он теперь, когда все зависело от этой кампании в Саксонии, нарушал это правило. Где был Даву, один из лучших его маршалов, с большим отрядом? Расстреливал купцов в Гамбурге. Где были значительные отряды пехоты, артиллерии, кавалерии, которые так пригодились бы Наполеону для близившейся решительной битвы? В Данциге, в северной Германии, в южной к средней Италии, в Испании. Созвать их к себе значило бы самому разрушить великую империю, державшуюся теперь исключительно силой этих гарнизонов, не собирать их значило тоже разрушить империю, потерпев неминуемое поражение от союзников, у которых теперь, после смерти Моро, нет хороших генералов, но почти вдвое больше солдат, чем у него.
Безвыхедные, глубокие противоречия обступали Наполеона. Дорога на Берлин оказалась затрудненной. Бернадотт с шведской армией и Бюлов счастью прусской отбросили французские дивизии, где было очень много баварских, саксонских и других германских вассалов Наполеона, которые с каждым днем становились все ненадежнее, дезертировали сотнями и просто не хотели сражаться против других немцев ради неведомых им целей Наполеона. Маршал Удино был отброшен 23 августа у Гроссберена от путей наступления на Берлин. Макдональд потерпел поражение на реке Кацбах, на путях в Силезию. Мюрат 4 сентября напал и обратил в бегство Блюхера, но не уничтожил его корпуса. Маршал Ней потерпел 6 сентября неудачу при Денневице. На немецких солдат своей армии Наполеон теперь уже не мог никак положиться: Ней только потому должен был отойти, что саксонцы, бывшие у него в отряде, массой бежали без всякого прямого повода. Наполеон был недоволен и маршалами. «Генералы и офицеры утомлены войной, и у них нет той подвижности, которая заставляла их делать великие дела», — писал он военному министру Кларку 8 сентября 1813 г., приказывая озаботиться укреплением и снабжением прирейнских крепостей.
Сентябрь кончился без решающих событий, но и Наполеон и союзники желали еще до зимы сразиться в генеральном бою. Национально-освободительное движение все больше и больше охватывало Германию. Появились добровольческие партизанские отряды, организованные Тугендбундом и другими патриотическими ассоциациями. Молодая буржуазия, студенчество Пруссии, Саксонии, государств Рейнского союза, Вестфалии увлекались теперь идеей освобождения Германии от иноземного завоевателя.
Наполеон усиленно готовился к осенней кампании. Но он уже наперед учитывал, что если даже он будет победителем, то война не окончится немедленно: ведь он твердо решил не идти ни на какие уступки и понимал, что и союзники со своими громадными резервами, даже если потерпят поражение, не захотят признать себя побежденными. И вот он сделал новое распоряжение: призвать под знамена в империи еще 280 тысяч молодых людей, причем из этого числа 160 тысяч призывников 1815 г., т.е. совсем почти подростков. Предсказание Меттерниха осуществлялось: почти дети уже направлялись в казармы.
С первых же чисел октября начались сложные маневрирования враждебных армий с отдельными мелкими стычками, атаками и отступлениями. Деятельность Наполеона, направляющего, контролирующего, изобретающего ежедневно новые и новые уловки и военные хитрости, была в эти роковые для него дни изумительная.
Русские в это время вторглись в Вестфальское королевство Жерома Бонапарта, и король бежал. Бавария отпала от союза с Наполеоном и примкнула к коалиции. Наполеону нужно было скорее дать генеральный бой и победить. Он так говорил, но не мог не понимать зловещего смысла того факта, что вассалы независимо от результатов грядущих боев уже стали изменять ему.
16 октября 1813 г. на равнине у Лейпцига началась величайшая из битв на протяжении всей наполеоновской эпопеи, «битва народов», как ее тогда же назвали в Германии. Наполеон на лейпцигских полях три дня — 16, 18 и 19 октября сражался с коалицией, состоявшей из русских, австрийцев, пруссаков и шведов. В собственной его армии были, кроме французов, поляки, саксонцы, голландцы, итальянцы, бельгийцы, немцы Рейнского союза. К началу битвы у Наполеона было 155 тысяч, у союзников — 220 тысяч человек. Когда спустилась ночь, обе стороны в общем не дрогнули, и сражение оказалось не решенным. Потери Наполеона за этот первый день составляли почти 30 тысяч человек, потери союзников — около 40 тысяч. Ждали следующего дня. Подкрепления прибывали всю ночь и к Наполеону и к союзникам. Но Наполеон получил ко второму даю битвы подкрепление в 15 тысяч, а к союзникам подошла северная армия Бернадотта и Беннигсена с 110 тысячами человек. Рано утром Наполеон объезжал вчерашнее поле битвы в сопровождении Мюрата. Мюрат указал ему, что со времени Бородина не было такой массы убитых. Наполеон думал в эти утренние часы 17 октября об отступлении, но в конце концов решил остаться. Он велел привести к себе взятого накануне в плен австрийского генерала Мервельдта. Он заговорил с ним о мире с Австрией. Мервельдт сказал, что он знает, что Австрия и сейчас хочет мира и что если Наполеон согласился бы «для счастья всего света и Франции» на мир, то мир сейчас бы мог быть заключен.
Весь день 17 октября прошел в уборке раненых, в приготовлениях к продолжению битвы. Наполеон после долгих колебаний решил отойти к линии реки Заале. Но он не успел привести это намерение в исполнение, как разгорелось на рассвете 18 октября новое сражение. Соотношение сил еще более круто изменилось в пользу союзников. Потеряв 16 октября около 40 тысяч человек, они получили огромные подкрепления 17-го и в ночь на 18-е, и в битве 18 октября у них было почти в два раза больше войск, чем у Наполеона. Битва 18 октября была еще страшнее, чем та, которая происходила 16-го, и тут-то, в разгаре боя, вдруг вся саксонская армия (подневольно сражавшаяся в рядах Наполеона) внезапно перешла в лагерь союзников и, мгновенно повернув пушки, стала стрелять по французам, в рядах которых только что сражалась. Но Наполеон продолжал бой с удвоенной энергией, несмотря на отчаянное положение.
Когда смерклось и бой стал утихать, снова обе стороны остались друг против друга, и опять не было решительной развязки. Но в ночь с 18 на 19-е она наступила. Наполеон после новых страшных потерь и измены саксонцев уже не мог больше держаться. Он решил отступать. Отступление началось ночью и продолжалось весь день 19 октября. Наполеон с боем отступал из Лейпцига и за Лейпциг, теснимый союзниками. Бои были необычайно кровопролитны вследствие того, что на улицах города и предместий и на мостах теснились густые толпы отступавших войск. Наполеон приказал, отступая, взорвать мосты, но саперы по ошибке взорвали их слишком рано, и около 28 тысяч человек не успели перейти, в том числе поляки. Их начальник, маршал Понятовский, командир польского корпуса, утонул раненый, пытаясь переплыть верхом реку Эльстер. Преследование, впрочем, скоро прекратилось. Наполеон ушел со своей армией и двинулся по направлению к Рейну.
Общие потери французов за 16–19 октября были равны по крайней мере 65 тысяч человек, союзники тоже потеряли около 60 тысяч. Долгие еще дни страшные вопли тяжелораненых оглашали лейпцигские поля и разложение трупов наполняло окрестности невыносимым зловонием. Не хватало рабочих рук, чтобы очистить поле, и медицинского персонала, чтобы подать помощь искалеченным и раненым.
Наполеон отступал от Лейпцига к границам Франции, к той черте, которая отделяла ее от германских государств до начала наполеоновских завоеваний, к линии Рейна. Во французской живописи неоднократно этот именно момент и события начала 1814 г. служили темами для художников, причем в центре их внимания был Наполеон. Гениальная кисть Мейссонье уловила настроение императора. Он едет на боевом коне между своими гренадерами и угрюмо к чему-то присматривается, чего не видят глаза гренадер. В эти дни конца октября и начала ноября 1813 г., между концом кампании в Саксонии и началом кампании во Франции, в этом человеке совершалась огромная и несомненно мучительная борьба, о которой он не говорил с окружавшей его свитой, ехавшей за ним между поредевшими рядами конных гренадер старой гвардии, но которая отражалась на его суровом лице и в угрюмых глазах.
Впервые Наполеон должен был понять, что великая империя рушилась, что распался пестрый конгломерат стран и народов, который он столько лет старался огнем и мечом спаять в единую империю. Вот с ним распрощался Мюрат, его маршал, его начальник кавалерии, герой многих битв, которого он сделал сам королем неаполитанским. Мюрат уехал в Неаполь, и Наполеон знал, что он уехал для измены и уже тайно перешел на сторону коалиции, чтобы сохранить свой трон. Вот назначенный им в Испанию брат его, король Жозеф, вытесняется англичанами и испанскими повстанцами с Пиренейского полуострова. Из Касселя уехал другой брат его, король вестфальский Жером. В Гамбурге Даву осажден русскими и пруссаками. Власть французов в Голландии шатается. Англия, Россия, Австрия, Пруссия не успокоятся, пока не сведут Францию к прежним границам. Великой империи, созданной им, наступает конец, она растаяла.
У него было еще около 100 тысяч человек, из них 40 тысяч вполне вооруженных, остальных еще нужно было вооружить и вводить в кадры. У него еще были гарнизоны и в Данциге, и в Гамбурге, и разбросанные там и сям в еще покорных ему частях Европы — в общем от 150 до 180 тысяч человек. Юноши-призывники 1815 г., взятые в войска в 1813 г., поспешно обучались в лагерях.
Наполеон еще не складывал оружия. Он думал о новой предстоявшей стадии борьбы, и когда заговаривал с маршалами, прерывая свое угрюмое молчание, то делал это затем, чтобы отдать новые распоряжения. Он решил теперь отпустить папу в Рим; он позволил испанскому королю Фердинанду VII, которого держал в плену пять лет, вернуться в Испанию. Понадобились 125 тысяч потерянных обеими сторонами людей на лейпцигском поле, и главное понадобилось отступление от Лейпцига, чтобы Наполеон наконец примирился с мыслью, что уже не поправить ему одним ударом всего, что случилось, не загладить Бородина, московского пожара, гибели великой армии в русских снегах, отпадения Пруссии, Австрии, Саксонии, Баварии, Вестфальского королевства, не ликвидировать Лейпцига, испанской народной войны, не сбросить Веллингтона с англичанами в море. Еще в июне, июле, августе этого страшного 1813 года он мог кричать на Меттерниха, топать на него ногами, спрашивая, сколько он денег получил от англичан, оскорблять австрийского императора, провоцировать Австрию, срывать мирные переговоры, впадать в бешенство от одной мысли об уступке Иллирии на юге или ганзейских городов на севере, продолжать жечь английские конфискованные товары; расстреливать гамбургских сенаторов, — словом, вести себя так, будто он вернулся в 1812 г. из России победителем и будто речь идет теперь, в 1813 г., лишь о наказании взбунтовавшейся Пруссии. Но после Лейпцига, приближаясь к границам старой Франции, ведя следом за собой несметные полки врагов, он должен был перестроить все эти навыки своей политической мысли. Речь шла о вторжении неприятеля во Францию, о защите своих территорий.
По пути к Рейну ему пришлось еще при Ганау (30 октября) пробиваться с оружием в руках сквозь баварско-австрийские отряды, и когда 2 ноября 1813 г. император вошел в Майнц, то при нем было лишь около 40 тысяч боеспособных солдат. Остальные вошедшие в Майнц толпы безоружных, изнуренных, больных людей, тоже еще числившихся в армии, можно было смело не считать.
В середине ноября Наполеон был в Париже. Кампания 1813 г. кончилась, и начиналась кампания 1814 г. Подводя итоги, Франция могла видеть, что за полумиллионом (приблизительно) погибшей великой армии 1812 г. следовала гибель новых сотен тысяч, набранных и истребленных в 1813 г.
А война свирепела все сильнее и сильнее, и орудия гремели уже у границ Франции. В стране опять возник экономический кризис вроде того, который существовал в империи в первой половине 1811 г. Но на этот раз не было и не могло быть попыток смягчить безработицу правительственными субсидиями, не было и надежд на скорое прекращение безработицы. В 1813 г., пока Наполеон воевал в Германии, парижская полиция стала замечать (и отмечать в своих сообщениях) явление, о котором говорили, правда сдержанно, уже в 1811 г.: рабочие явно роптали, раздражались, начинали произносить, по донесениям полиции, «мятежные слова».
Подавленные долгим железным гнетом военного деспотизма и почти не выступавшие организованно уже больше 18 лет (с жерминаля и прериаля 1795 г.), рабочие предместья начинали роптать по мере обострения нужды и безработицы. Но все же и в 1813 г. дело не дошло не только до восстания в рабочих кварталах столицы, не только до выступлений, напоминающих хоть отдаленно жерминаль и прериаль, но даже до крупных демонстраций. И не только потому, что шпионаж был доведен до совершенства еще при Фуше и поддерживался при его преемнике Савари, герцоге Ровиго, и не только потому, что наружная полиция была представлена в изобилии и конные патрули разъезжали по городу, и особенно по Сент-Антуанскому и Сен-Марсельскому предместьям, по улице Муффтар, по кварталу Тампль, и днем и ночью. Не потому также, что не было причин к самым горьким, к самым раздраженным чувствам рабочей массы против правительства. Эти причины были. Наполеон — автор «рабочих книжек», ставивших рабочего человека в положение прямой зависимости, — ведь эти книжки отдавали рабочего в полную власть хозяина; Наполеон, ежегодно требовавший налога крови сначала взрослых сыновей, а потом 18-летних юношей и хоронивший их сотнями тысяч на далеких полях мировых побоищ; Наполеон, удушивший даже и тень какой бы то ни было возможности для рабочего отстаивать себя от эксплуатации хозяев, — не имел никаких прав на расположение со стороны рабочих масс.
Но теперь, когда к французским границам приближалось, как в начале революции, вражеское нашествие, когда это вражеское нашествие шло затем, чтобы восстановить господство аристократии и посадить на престол Бурбонов, среди рабочих царили растерянность и недоумение. Образ залитого кровью деспота, ненасытного властолюбца вдруг куда-то отодвинулся. На сцену выступила опять ненавистная роялистская нечисть, эти эмигранты-изменники. Они снова идут на Францию и на Париж и, прячась в обозе иноземного нашествия, уже наперед мечтают о восстановлении дореволюционного строя и изрыгают хулу на все, что было сделано революцией.
Что же делать? Восстать в тылу Наполеона и этим облегчить врагам подчинение Франции их воле и водворение Бурбонов?
Рабочая масса не восстала в конце 1813 г. и в начале 1814 г., хотя за все наполеоновское царствование ей не приходилось так страдать, как в это время.
Настроение буржуазии было иное. Промышленники в большинстве своем еще готовы были поддерживать Наполеона. Они знали лучше других, чего желает и ждет Англия и как трудно будет бороться им с английской конкуренцией вне и внутри страны, если Наполеон потерпит поражение. Крупная торговая буржуазия, финансисты, биржа давно уже жаловались на невозможность жить и работать при непрерывной войне и при произволе, возведенном в систему. Давно уже начал катастрофически сокращаться внешний рынок; теперь не менее катастрофически сократился и внутренний рынок. Деньги были, но они «прятались»: это явление наблюдалось самыми разнообразными свидетелями. Денежные тузы уже утратили надежду на то, что в наполеоновское царствование когда-либо прекратятся войны, а после катастрофы великой армии в России, и особенно после провала пражских мирных переговоров и Лейпцига, мысль о неизбежном поражении императора не позволяла и мечтать о сколько-нибудь устойчивом кредите, о торговых сделках и больших заказах и закупках. Нетерпение, горечь, уныние, раздражение охватили эту (очень значительную) часть буржуазии. Она быстро отходила от Наполеона.
Что касается деревни, то там Наполеон еще мог бы найти опору. Непрерывными рекрутскими наборами, всей массой физических и материальных издержек Наполеон опустошил французскую деревню, и все же масса собственнического крестьянства (кроме Вандеи) особенно страшилась политических перемен, которые несло с собой нашествие. Для крестьянства в его подавляющей массе Бурбоны означали возрождение феодализма, с властью сеньоров, с несвободой земли, с отнятием как церковных, так и конфискованных у эмигрантов земельных имуществ, раскупленных участками буржуазией и крестьянами в эпоху революции. Под страхом лишиться с таким трудом завоеванного права на безраздельное владение своими участками земли крестьянство готово было и дальше терпеть все последствия завоевательной, грабительской внешней политики Наполеона. Наполеон оказывался для деревни более терпим, чем старый феодальный строй, который несли с собой Бурбоны.
Наконец, была еще небольшая, но влиятельная кучка: старая и новая аристократия. Старая (даже часть ее, служившая Наполеону), конечно, была всегда ближе к Бурбонам, чем к нему. Новая — маршалы, графы, герцоги, бароны, созданные Наполеоном, щедро осыпанные золотом и всяческими императорскими милостями, — тоже далеко не единодушно поддерживала императора. Они были просто утомлены той жизнью, которую должны были вести. Они жаждали использовать свои огромные материальные ресурсы как полагается подлинным аристократам: пожить в почете и с комфортом, относя свои недавние военные подвиги в область приятных воспоминаний. «Вы не желаете больше воевать, вам хочется погулять в Париже», — раздраженно сказал император в 1813 г. одному из своих генералов. «Да, ваше величество, я ведь так мало в своей жизни гулял в Париже!» — с горечью ответил тот. Жизнь на бивуаках, среди вечных опасностей, под картечью, а главное, в вечной грандиозной азартной игре со смертью так измучила и утомила их, что самые храбрые и стойкие, как Макдональд, Ней, Ожеро, Себастьяни, Викто́р, самые преданные, как Коленкур или Савари, начинали прислушиваться к намекам и инсинуациям Талейрана и Фуше, которые уже давно во мраке и под шумок терпеливо и осторожно готовили измену.
Таково было положение, таковы были настроения, когда, проиграв 16–19 октября в Лейпциге так блистательно начатую весной кампанию 1813 г.. Наполеон явился в ноябре в Париж и стал подготовлять новые силы, с которыми должен был встретить двигавшееся на Францию нашествие европейских народов.
«Пойдемте бить дедушку Франца», — говорил маленький римский король, повторяя со всей серьезностью трехлетнего ребенка фразу, которой научил его Наполеон, обожавший своего сына. Император неудержимо смеялся, слушая эти слова, которые ребенок повторял, как попугай, не понимая их смысла. Между тем дедушка Франц, по мере приближения союзных армий к берегам Рейна, был в очень большой и все возраставшей нерешительности. И не только он, но и его руководитель и вдохновитель, министр Меттерних.
Дело было не в семейных отношениях, конечно, не в том, что Наполеон был женат на дочери австрийского императора и что наследником наполеоновского престола являлся родной внук Франца I. Были другие причины, которые заставляли австрийскую дипломатию смотреть далеко не так прямолинейно на желательный результат войны, как смотрели, например, англичане, или Александр 1, или прусский король Фридрих-Вильгельм III. Для Англии Наполеон был самым непримиримым и самым опасным из всех врагов английской державы, каких только она имела за свою полуторатысячелетнюю историю. При нем между Францией и Англией сколько-нибудь длительного мира быть не могло. Для Александра он был оскорбителем, личным, но и помимо того единственным монархом, который мог восстановить Польшу при ближайшем удобном случае. А что Наполеон, если останется на престоле, найдет и военные и дипломатические возможности наносить своим противникам страшные удары, Александр в этом нисколько не сомневался.
Еще в большей (и гораздо большей) степени этот же мотив руководил и прусским королем. Фридрих-Вильгельм III, которого, можно сказать, силой заставили в марте 1813 г. выступить против Наполеона, не переставал с момента этого решения буквально обмирать от страха вплоть до самого Лейпцига. Он устраивал сцены Александру, особенно после неудач — после Лютцена, после Бауцена, после Дрездена: «Вот я опять на Висле!» — в отчаянии повторял он. Его и Лейпциг не очень успокоил. Этот панический, похожий на суеверие страх перед Наполеоном был тогда очень распространен. Даже после Лейпцига, после потери почти всех завоеваний, с истощенной, отчасти уже ропщущей Францией в тылу. Наполеон казался настолько страшен, что Фридрих-Вильгельм III без ужаса не мог и помыслить о том, как по окончании войны и по уходе союзников ему, прусскому королю, придется снова жить рядом с таким соседом, как Наполеон.
У Австрии не было всех этих мотивов, какие были у Англии, у Александра, у Фридриха-Вильгельма, считавших, что если на этот раз коалиция оставит Наполеона на престоле, то все кровопролития 1812 и 1813 гг. окажутся абсолютно бесполезными. Меттерних вовсе не желал, чтобы Россия осталась без должного противовеса на западе. Ему хотелось, чтобы в Европе остался Наполеон, уже не страшный для Австрии, но очень неприятный для России в качестве возможного союзника Австрии.
Меттерних и Франц I снова решили попробовать договориться с Наполеоном. И вот Меттерниху, который мог очень сильно пугать союзников угрозой выхода Австрии из коалиции, удалось вынудить у Англии, России и Пруссии согласие снова предложить Наполеону мирные переговоры на таких условиях: он отказывается от завоеваний (и без того потерянных) и прекращает войну; ему остается Франция в тех границах (с очень малыми изменениями), которые она получила по Люневильскому миру 1801 г. Союзные монархи находились во Франкфурте. Меттерних пригласил бывшего во Франкфурте задержавшегося там французского дипломата Сент-Эньяна, и в присутствии лорда Эбердина, представителя Англии, и Нессельроде, представителя России, который тут же объявил, что передает также мнение Гарденберга, канцлера Пруссии, наполеоновскому дипломату было поручено отправиться к императору и передать ему мирное предложение союзных держав. Люневильский мир 1801 г. был в свое время результатом победоносной войны. Наполеону оставалась, следовательно, великая держава, которую он создал в 1801 г., после французских побед при Маренго и при Гогенлиндене. Уже на самом краю пропасти, после страшных катастроф 1812 и 1813 гг., под непосредственной угрозой вторжения союзников во Францию, неожиданно явился шанс на спасение. Наполеон оставался повелителем первоклассной державы.
Сент-Эньян прибыл в Париж 14 ноября 1813 г. с предложениями союзных держав.
Наполеон не хотел сразу высказаться. Он был погружен в самую кипучую, лихорадочную деятельность по новым наборам, по всесторонней подготовке новой войны. Нехотя, с оговорками он согласился начать переговоры и одновременно еще больше усилил энергию по подготовке новой армии.
«Погодите, погодите, — говорил он, ни к кому не обращаясь и неустанно шагая по своему кабинету, — вы скоро узнаете, что я и мои солдаты, мы не забыли наше ремесло! Нас победили между Эльбой и Рейном, победили изменой... Но между Рейном и Парижем изменников не будет...»
Эти слова разносились по Франции и по Европе. Никто из знавших Наполеона не верил в успех мирных предложений союзников. Ежедневно новые и новые формирования проходили перед испытующим взором императора и направлялись на восток, к Рейну. Близился конец великой трагедии.
Глава XV. Война во Франции и первое отречение Наполеона. 1814 г.
Наполеон и в 1814 г., как и во время борьбы с Европой в 1813 г., всецело уповал на оружие, и только на оружие. Но он понимал, что теперь, после Лейпцига и накануне вторжения неприятеля во Францию, нет никакой возможности повести себя так, как он вел себя в июле и августе 1813 г., когда он вполне сознательно и планомерно сорвал пражские переговоры. Тогда ему предлагали оставить не только Францию, но и все завоевания, кроме Иллирии, ганзейских городов, еще кое-каких пунктов в Германии, и все его права и титулы, кроме звания протектора над Рейнским союзом. Он сорвал переговоры, потому что надеялся одним ударом покончить с враждебной коалицией.
Теперь, конечно, предложения были хуже, но все-таки он знал, что и крестьянство, и рабочие, и торговая и финансовая буржуазия, и весь огромный созданный им бюрократический слой общества, и — что было очень важно — верхи армии во главе с маршалами, — словом, весь народ, все его классы, за единичными исключениями, утомлены войнами до последней степени и жаждут мира. Поэтому, не отвергая прямо условий, привезенных к нему в Париж из Франкфурта Сент-Эньяном, Наполеон в течение почти двух месяцев (считая с 15 ноября 1813 г., когда условия были ему доставлены) делал вид, будто он тоже хочет мира, но всевозможными способами затягивал дело. Он надеялся (и имел полное к тому основание), что союзники сами нарушат свои условия и вина в возобновлении войны падет не на него. Он понимал, что, кроме Австрии, никакая из держав, воевавших с ним, не хотела бы видеть продолжения его царствования и что в частности Англия не может считать себя удовлетворенной, пока Антверпен остается в руках Наполеона. А по условиям, присланным ему из Франкфурта с Сент-Эньяном, вся Бельгия (а не только один Антверпен) оставалась в составе французской империи. Не мог он не знать и того, что чем больше сам он будет тянуть дело, тем больше шансов, что министр иностранных дел Англии лорд Кэстльри откажется от тех условий, на которые в начале ноября согласился во Франкфурте под давлением Меттерниха английский представитель лорд Эбердин.
Но пока нужно было делать вид, что на этот раз он, Наполеон, ничуть не противится мирным переговорам и если требует опять новобранцев, то вовсе не для войны, а для подкрепления своих мирных намерений. «Ничто с моей стороны не препятствует восстановлению мира, — выслушали сенаторы тронную речь 19 декабря 1813 г. — Я знаю и разделяю чувства французов, я говорю французов, потому что нет из них ни одного, который желал бы получить мир ценой чести. С сожалением я требую от этого благородного народа новых жертв, но эти жертвы диктуются самыми благородными и дорогими интересами народа. Я принужден был усилить свои армии многочисленными наборами: нации ведут переговоры с безопасностью для себя только тогда, когда они развертывают все свои силы». Было ясно, что он мира не хочет. «Пусть будущие поколения не скажут о нас: они пожертвовали первейшими интересами страны: они признали законы, которые Англия тщетно старалась навязать Франции».
Так кончалась эта тронная речь в ответ на сделанные уже больше месяца тому назад мирные предложения держав.
110 тысяч новобранцев были призваны в декабре 1813 г. Затевался и новый набор. Наполеон послал во все концы Франции сенаторов, которые должны были усилить энергию властей на местах по части: 1) наборов и 2) взимания обычных и экстренных налогов на содержание армии.
Уже в январе 1814 г. стало известно, что неприятельские армии перешли, наконец, через Рейн и нашествие разливается по Эльзасу и Франш-Конте, что Веллингтон на юге из Испании перешел через Пиренеи и вторгся в южную Францию...
«Я не боюсь признать, — сказал император собравшимся сенаторам, которых назначил для этого объезда Франции, — я не боюсь признать, что я слишком много воевал; я создал громадные планы, я хотел обеспечить за Францией господство над всем светом. Я ошибся, эти проекты не были соразмерны с численной силой нашего населения. Следовало призвать все население целиком к оружию, но я признаю, что прогресс общественного быта, смягчение нравов не позволяют обратить всю нацию в солдат». Сенаторы, если бы они не разучились за время царствования Наполеона пользоваться даром слова, могли бы возразить императору, что он скромничает, что он именно и обратил уже всю нацию, кроме женщин, детей и стариков, в солдат. «Я ошибся, я и должен страдать, — продолжал император. — Франция ничем не погрешила, она мне щедро дала свою кровь, она не отказала мне ни в одной жертве». Свое же личное самопожертвование он усматривал в том, что заключает мир и отказывается от «самого большого честолюбия, какое когда-либо было». «Во имя счастья моего народа я пожертвую величием, которое могло бы осуществиться лишь такими усилиями, каких я не хочу более требовать».
Редко когда Наполеон говорил так откровенно, как в этот раз. Но сенаторам он верил очень мало. Сегодняшние рабы, завтрашние изменники — вот к чему, по-видимому, сводилось его суждение о них. В измене Талейрана он уже не сомневался. Еще после Лейпцига, в ноябре 1813 г., едва вернувшись в Париж, он на одном из общих приемов остановился возле Талейрана: «Зачем вы тут? — закричал он ему. — Берегитесь, ничего нельзя выиграть, борясь против моего могущества. Я объявляю вам, что если бы я опасно заболел, то вы умерли бы до меня».
Но он не расстрелял Талейрана, как того некоторое время опасался старый дипломат, а в январе 1814 г. Наполеон даже предложил ему вместе с Коленкуром ехать для переговоров и грозно поднял кулак, когда тот отказался.
Не верил он и Фуше. Но в этот момент он и маршалам перестал верить. Он верил только солдатам, не тем совсем юным мальчикам, которых он оторвал от их семейств последние два года, а старослуживым. Но мало их уже оставалось, их кости разбросаны были и около Рима, и около Мадрида, и недалеко от Иерусалима, и между Москвой и Березиной, и возле Лейпцига. Ему пришлось спешно созвать уцелевших старых солдат из Испании, из Голландии, из Италии. И все-таки он хотел битв, а не мирных переговоров.
Впрочем, теперь, после двух месяцев проволочек и после уже состоявшегося вторжения во Францию, убедившись в страшной усталости страны, в широких размерах дезертирства вновь призванных во Франции возрастов, союзники уже утвердились на том, что они предложат Наполеону границы Франции, какие страна имела в 1790 г., т.е. без Бельгии, без Голландии, без Савойи, без той части левого берега Рейна, которая была присоединена в эпоху революционных войн. Это было меньше того, что они предлагали в ноябре 1813 г. На этот новый мир они все были согласны, даже лорд Кэстльри, лично прибывший в главную квартиру союзников.
Мирный конгресс собрался в Шатильоне. Конечно, из этих переговоров ровно ничего не вышло.
«Я так взволнован гнусным проектом (мирного договора), который вы мне прислали, что я считаю себя уже обесчещенным тем, что нам его предлагают, — писал Наполеон своему представителю на Шатильонском конгрессе, Коленкуру, который сообщал ему, что это последняя надежда сохранить императорский престол и предупредить воцарение Бурбонов при помощи союзных армий. — Вы все говорите о Бурбонах, но я предпочел бы видеть во Франции Бурбонов с разумными условиями (мира), чем принять гнусные условия, которые вы мне посылаете!»
Война, и только война, должна была решить все. Шатильонский конгресс ровно ни к чему не привел и разошелся. Но это было уже в разгаре отчаянной борьбы, которую вел Наполеон против союзников.
В ночь с 24 на 25 января 1814 г. Наполеон должен был выехать к армии. Регентшей империи он назначил свою жену, императрицу Марию-Луизу. В случае смерти Наполеона на императорский престол должен был немедленно вступить его трехлетний сын, римский король, при продолжающемся регентстве матери. Наполеон так любил это маленькое существо, как он в своей жизни никогда никого не любил. Знавшие Наполеона даже и не подозревали в нем вообще способности до такой степени к кому бы то ни было привязываться. Барон Меневаль, один из личных секретарей Наполеона, говорит, что был ли занят император у своего стола, писал ли, читал ли у камина, — ребенок не сходил с его колен, не хотел покидать его кабинета, требовал, чтобы отец играл с ним в солдатики. Он один во всем дворце нисколько не боялся императора и чувствовал себя в кабинете отца полным хозяином. 24 января Наполеон весь день провел у себя в кабинете за срочными делами, которые нужно было устроить перед отъездом на эту решающую войну, перед грозной боевой встречей со всей Европой, поднявшейся против него. Ребенок со своей деревянной лошадкой был, как всегда, около отца, и так как ему, по-видимому, надоело наблюдать возню Наполеона с бумагами, то он стал дергать отца за фалды сюртука, требуя внимания к себе. Император взял его на руки и стал подкидывать кверху и ловить. Маленький римский король был в полнейшем восторге и без счета целовал отца. Но наступил вечер, и его унесли спать. В три часа утра дежурившая в эту ночь в детской спальне няня увидела неожиданно вошедшего потихоньку («à pas de loup») Наполеона, не знавшего, что за ним наблюдают. Войдя, он неподвижно постоял около кровати спавшего глубоким сном ребенка, долго глядел на него, не спуская глаз, и вышел. Через минуту он уже был в экипаже и мчался к армии. Больше он уже никогда не видел своего сына.
Подготовка новобранцев не была закончена, наборы продолжались, готовых к бою солдат у Наполеона и его маршалов оказалось всего около 47 тысяч человек, а у вторгшихся союзников — около 230 тысяч да почти столько же шло разными дорогами им на подмогу. Маршалы почти все — даже Ней — пали духом. Только Наполеон был бодр, оживлен и старался вдохнуть и в них бодрость. «Он казался энергичным, помолодевшим», — передавали очевидцы.
Уже на другой день по прибытии в Витри, 26 января, Наполеон, стянув к себе силы маршалов, выбил части Блюхера из Сен-Дизье. Оттуда, выследив движение корпуса Блюхера, Наполеон двинул свои силы против него и против русского корпуса Остен-Сакена и 31 января при Бриенне, после упорного боя, одержал новую победу. Это необыкновенно подняло дух приунывших перед прибытием Наполеона солдат.
Тотчас после поражения Блюхер поспешил к Бар-сюр-Об, где были сосредоточены главные силы Шварценберга. Союзники располагали силами в 122 тысячи человек между Шомоном и Бар-сюр-Об.
У Наполеона в этот момент было несколько больше 30 тысяч, но он решил не отступать, а принять бой. Битва при Ла Ротъере началась рано утром 1 февраля и длилась до 10 часов. Наполеон после этого боя, никем не преследуемый, перешел через реку Об и вошел 3 февраля в г. Труа. Сражение при Ла Ротьере оставило у французов впечатление почти выигранной битвы: так успешно шла защита Наполеона против сил, в четыре-пять раз превосходивших его армию. Но положение все-таки оставалось крайне опасным, подкреплений подходило мало и поступали они медленно. Ней, Макдональд, Бертье, Мармон считали, что единственное спасение императорского трона — в мирных переговорах, а когда конгресс в Шатильоне остался безрезультатным, то маршалы совсем пали духом.
Но Наполеон, по мере возрастания опасностей, становился все энергичнее. Еще в 1812 г. маршалы видели некоторое как бы отяжеление, утомление Наполеона, ослабление его военного гения. Но теперь, в феврале и марте 1814 г., они глазам своим не верили: перед ними опять был генерал Бонапарт, молодой герой Италии и Египта. Как будто и не бывало 15 лет царствования, непрерывных кровавых войн, самодержавного управления колоссальной империей и вассальной Европой. Он поддерживал дух маршалов, бодрость солдат, успокаивал оставшихся в Париже министров. 10 февраля, после нескольких быстрых переходов, он напал на стоявший у Шампобера корпус Олсуфьева и разбил его наголову. Больше 1500 русских было перебито, около 3 тысяч (вместе с самим Олсуфьевым) было взято в плен, остальные бежали.
Наполеон вечером сказал своим маршалам: «Если завтра я буду так счастлив, как сегодня, то в 15 дней я отброшу неприятеля к Рейну, а от Рейна до Вислы — всего один шаг».
На другой день он повернул от Шампобера к Монмирайлю, где стояли русские и пруссаки. Битва при Монмирайле, происшедшая 11 февраля, кончилась новой блестящей победой Наполеона. Неприятель потерял из 20 тыс., сражавшихся под союзными знаменами в этот день, около 8 тысяч человек, а Наполеон меньше 1 тысячи. Союзники поспешно отступали с поля битвы. Немедленно после этого Наполеон устремился к Шато-Тьери, где стояло около 18 тысяч пруссаков и около 10 тысяч русских. «Я нашел свои сапоги итальянской кампании», — воскликнул Наполеон, вспомнив свои молниеносные победы 1796 г.
Военные критики находят кампанию 1814 г. одной из самых замечательных частей наполеоновской эпохи с точки зрения стратегического творчества императора.
Битва при Шато-Тьери 12 февраля кончилась новой большой победой Наполеона. Если бы не ошибочное движение и опоздание маршала Макдональда, дело кончилось бы полным истреблением сражавшихся у Шато-Тьери союзных сил. 13 февраля Блюхер разбил и отбросил маршала Мармона. Но 14 февраля подоспевший на помощь Мармону Наполеон разбил снова Блюхера в битве при Вошане. Блюхер потерял около 9 тысяч человек. К Наполеону подходили подкрепления, а союзники потерпели ряд поражений, и все-таки положение императора оставалось критическим; у союзников в наличии сил было гораздо больше, чем у него. Но эти неожиданные, ежедневно следующие одна за другой победы Наполеона так смутили союзников, что числившийся главнокомандующим Шварценберг послал в лагерь Наполеона адъютанта с просьбой о перемирии. Новые две битвы — при Мормане и при Вильневе, тоже окончившиеся победой французов, — побудили союзников к этому неожиданному шагу — просьбе о перемирии. Наполеон отказал посланцу Шварценберга (графу Парру) в личном свидании, а письмо Шварценберга принял, но отложил свой ответ.
«Я взял от 30 до 40 тысяч пленных; я взял 200 пушек и большое количество генералов», — писал он Коленкуру и заявлял при этом, что может примириться с коалицией только на основании оставления за Францией ее «естественных границ» (Рейн, Альпы, Пиренеи). На перемирие он не согласился.
18 февраля произошла новая битва при Монтеро, и опять союзники потеряли убитыми и ранеными 3 тысячи, а пленными — 4 тысячи человек и были отброшены.
Наполеон, по отзывам даже неприятельских наблюдателей и мемуаристов, превзошел самого себя в этой, казалось, совсем безнадежной кампании 1814 г. Но солдат было мало, а маршалы (Викто́р, Ожеро) были утомлены до последней степени и делали ряд ошибок, поэтому Наполеон не мог использовать полностью свои неожиданные в тот момент и блестящие победы. Наполеон гневно и нетерпеливо выговаривал маршалам и торопил их. «Какие жалкие оправдания вы мне приводите, Ожеро! Я уничтожил 80 тысяч врагов с помощью новобранцев, которые были еле одеты... Если ваши 60 лет вас тяготят, сдайте командование!..» «Император никак не желал понять, что не все его подчиненные — Наполеоны», — говорил потом, вспоминая об этом времени, один из его генералов.
Шварценберг собрал военный совет, спросил мнения императора Александра, прусского короля, австрийского императора, и было решено снова предложить Наполеону перемирие.
К Наполеону был послан один из знатнейших в Австрии владетельных князей, Лихтенштейн, с новым предложением о перемирии. Было ясно, что союзники серьезно встревожены и что некоторые из них очень хотели бы кончить поскорее, и кончить компромиссом.
Наполеон на этот раз не отказал посланцу коалиции в приеме. Лихтенштейн говорил очень примирительно, уверял Наполеона, что союзники действительно хотят мириться и не желают сажать Бурбонов на французский престол, но и из этого свидания ничего не вышло. Наполеон в разгаре своих блистательных успехов, разгромив, как он представлял себе тогда, в ряде сражений чуть не половину союзных армий (80 тысяч из 200), уповал на свое совершеннейшее искусство, благодаря которому снова и снова побеждал сильнейшего неприятеля.
Талейран и другие давно и деятельно вели из Парижа тайные сношения с союзниками, готовя реставрацию Бурбонов. Союзники к Бурбонам относились очень сдержанно и даже самые непримиримые (например, Александр) удовольствовались бы воцарением сына Наполеона, трехлетнего римского короля, лишь бы сам Наполеон отрекся от престола. Но теперь даже и об отречении императора уже не говорили. Известен такой факт, когда один французский аристократ, старый барон де Гуо, родом из г. Труа, подал Александру I петицию, в которой просил о помощи Бурбонам. Александр ответил, что ничего решительно еще не постановлено союзниками относительно смены династии Бонапарта династией Бурбонов, и предостерег петиционеров (Гуо был не один) от таких опаснейших шагов, как их петиция. Прошло несколько дней. Наполеон вошел в г. Труа, Гуо был арестован, предан военно-полевому суду и расстрелян.
Александр I несколько позже удивлялся, что нигде в деревнях Франции не обнаруживается желания освободиться от Наполеона. Напротив, крестьяне в Вогезских горах, в Лотарингии-на юге-у Юры даже начали нападать на отставших солдат союзников и обнаруживали к вторгнувшемуся неприятелю определенную ненависть. Тут действовал и протест против грабежа крестьянского имущества войсками противника, действовал и страх, что союзники везут «в своих фургонах» реставрацию Бурбонской династии и восстановление сеньориальных, дореволюционных порядков. Наполеон быстро учуял это. «Нужно драться с решимостью 1793 г.», — писал он маршалам.
Но и союзники, несмотря на поражения, еще не падали духом. Слишком много было поставлено на карту. Эти изумительные следующие одна за другой блестящие победы уже совсем погибавшего, казалось, Наполеона и заставляли их с тревогой думать о том, что же будет, если этот человек, которого они единодушно и уж давно считали первым полководцем всемирной истории, останется на престоле, отдохнет, соберется с новыми силами? Кто справится с ним тогда, через год, через два?
У императора к началу марта было уже больше 75 тысяч человек, из них 40 тысяч он выставил заслонами против отступившего Шварценберга, а с 35 тысячами устремился против Блюхера, который чуть не погиб во время преследования его Наполеоном и спасся только вследствие оплошности коменданта Суассона, сдавшего город.
Но, спасшись от плена, Блюхер не ушел от сражения: 7 марта Наполеон настиг его у Краонна и разбил; после тяжелых потерь Блюхер бежал к г. Лаону. Попытки Наполеона выбить его из лаонской позиции (9, 10 марта) не удались. От Блюхера на время он отделался, хоть и не прикончил его, как замышлял. Но в это время маршалы Удино и Макдональд, которым он дал 40 тысяч солдат и приказал следить за Шварценбергом, австрийским главнокомандующим, были отброшены в район Прованса.
9 марта в г. Шамоне представители союзных держав заключили между собой новый договор, по которому обязались, во-первых, требовать от Наполеона возвращения Франции к границам до 1792 г. и полного освобождения Голландии, Италии, Испании, Швейцарии и всех германских государств и не слагать оружия, пока они этого не добьются; во-вторых, Россия, Австрия и Пруссия обязуются для достижения этой цели выставить каждая по 150 тысяч солдат, а Великобритания обязуется отныне давать союзникам ежегодную субсидию на эту войну в 5 миллионов фунтов стерлингов.
Союзники просто не знали даже приблизительно, когда и как им удастся сломить отчаянное сопротивление Наполеона, по-прежнему не желавшего и слышать о границах империи, которые ему предлагались.
Между тем его маршалы терпели неудачу за неудачей. На юге Веллингтон с англичанами, перейдя Пирейеи, шел на Бордо, отбросив маршалов Сульта и Сюше. Шварценберг развивал свои успехи против Макдональда и Удино.
Не успев отдохнуть и не дав отдохнуть своей армии после боя у Лаона, Наполеон бросился на вошедший в Реймс 15-тысячный русско-прусский отряд под начальством русского генерала графа Сен-При (француза, эмигрировавшего в эпоху революции). Битва при Реймсе (13 марта) кончилась разгромом русско-прусского отряда, истреблением половины состава и смертью самого Сен-При.
Но все эти новые победы не могли уже изменить ничего, раз союзники твердо решили не отступать от своих условий, а Наполеон столь же твердо решил их не принимать: лучше потерять решительно все, потерять престол, чем получить империю в старых границах.
По приказу Наполеона, Коленкур объявил на заседании мирного конгресса в Шатильоне представителям Англии, России, Пруссии и Австрии, что Наполеон отвергает окончательно их условия и требует, чтобы в его империю по-прежнему входили левый берег Рейна, города Кельн и Майнц, по-прежнему входили бы Антверпен и Фландрия, Савойя и Ницца. Тогда переговоры были прерваны.
17 марта в лагерь союзников прибыл и был принят Александром граф Витроль, агент Бурбонов и эмиссар от Талейрана. Витролю удалось проникнуть из Парижа сквозь войска Наполеона и русские аванпосты к союзникам. Он привез им известие, что, по мнению Талейрана, союзникам нужно спешить в Париж, а не гоняться за Наполеоном, что в Париже их будто бы ждут и что едва они явятся туда, как можно будет провозгласить низложение Наполеона и восстановление Бурбонов в лице Людовика XVIII (так уже давно, заблаговременно, стал называть себя граф Прованский, брат казненного во время революции Людовика XVI).
К ужасу Витроля обнаружилось, что Александр, стойко желая низложения Наполеона, вовсе не считает, что союзники должны вмешиваться в вопрос о преемнике и что он, русский царь, считает неплохим исходом даже, например, республику. Витроль ушам своим не верил, слыша это. «Вот до чего мы дожили, о боже!» — восклицает Витроль, описывая это свидание.
По-видимому, на Александра произвело большое впечатление известие, что война начинает приобретать характер защиты новой, послереволюционной Франции от вторжения иноземцев, желающих восстановить старый строй с Бурбонами во главе, и так как он понимал, насколько это обстоятельство усиливает позицию все еще страшного, все еще победоносного Наполеона, то Александр и хотел поставить Францию, и особенно «чернь» (la vile populace) в Париже не перед дилеммой: Наполеон или Бурбоны, а перед совсем другой дилеммой: Наполеон или республика. Это было ловким тактическим шагом. В узенькую царедворческую, легитимистскую, эмигрантскую голову Витроля все это войти и уместиться не могло, оттого он так и удивился французскому республиканизму русского самодержца. Что Бурбоны и все их Витроли абсолютно ничего не понимают в настроениях Франции, в этом Александр всегда был твердо убежден, но совет Талейрана, переданный через Витроля вместе с его не подписанной и умышленно безграмотно написанной записочкой, Александр очень охотно принял к сведению. Рискуя головой, потому что Витроля могли схватить по дороге наполеоновские жандармы, а по записочке, несмотря на другой почерк и на грамматические ошибки, могли добраться до автора, Талейран настойчиво советовал Александру и союзникам идти прямо на Париж, даже оставляя у себя в тылу и на фланге не разбитого еще Наполеона. Риск был несвойственен Талейрану, осторожному изменнику, но он прекрасно знал, до какой степени в Париже и за Парижем, в городе и в войске, царят растерянность и неуверенность.
20 марта произошла битва при Арси-сюр-Об между Наполеоном, у которого в тот момент на поле сражения было около 30 тысяч человек, и союзниками (Шварценберг), у которых было до 40 тысяч в начале битвы и до 90 тысяч к концу. Хотя Наполеон считал себя победителем и действительно отбросил неприятеля на нескольких пунктах, но на самом деле битву должно считать не решенной по ее результатам: преследовать Шварценберга с его армией после сражения Наполеон не мог, он перешел обратно через реку Об и взорвал мосты. Наполеон потерял в сражении при Арси-сюр-Об 3 тысячи человек, союзники до 9 тысяч, но достигнуть разгрома союзных армий Наполеону, конечно, на этот раз не удалось.
Союзники боялись народной войны, всеобщего ополчения, вроде того, которое в героические времена Французской революции спасло Францию от интервентов и от реставрации Бурбонов...
Александр, Фридрих-Вильгельм, Франц, Шварценберг и Меттерних успокоились бы, если бы подслушали, о чем разговаривали вечером после битвы при Арси-сюр-Об Наполеон с генералом Себастьяни. «Ну что, генерал, что вы скажете о происходящем?» — «Я скажу, что ваше величество несомненно обладаете еще новыми ресурсами, которых мы не знаем». — «Только теми, какие вы видите перед глазами, и никакими иными». — «Но тогда почему ваше величество не помышляете о том, чтобы поднять нацию?» — «Химеры! Химеры, позаимствованные из воспоминаний об Испании и о Французской революции. Поднять нацию в стране, где революция уничтожила дворян и духовенство и где я сам уничтожил революцию!».
Наполеон правильно понимал дело: убивая так долго всякое воспоминание о революции, всякий признак революционного духа, он не мог теперь, даже отчаянно борясь за Париж, если б даже хотел, позвать себе на помощь Французскую революцию, которую он так долго и так успешно топтал и душил.
Этот разговор Наполеона с генералом Себастьяни происходил как раз спустя три дня после разговора Александра с Витролем: Наполеон считал химерой всенародное ополчение в духе 1792 г., когда это кончилось провозглашением республики, а его непримиримый враг Александр именно и хотел лишить Наполеона всякой опоры во французском народе, выдвигая идею восстановления республики.
После битвы при Арси-сюр-Об Наполеон попытался зайти в тыл союзников и напасть на сообщения их с Рейном, но союзники уже окончательно решили идти прямо на Париж. Из случайно перехваченных русскими казаками писем императрицы Марии-Луизы и министра полиции Савари к Наполеону Александр убедился, что настроение в Париже такое, что народного сопротивления ждать нельзя и что приход союзной армии в Париж сразу решит всю войну и кончит ее низвержением Наполеона.
Окончательно союзники на это решились под влиянием Поццо ди Борго, корсиканца родом, давнего и смертельного врага Наполеона и поэтому друга и приближенного Александра. Поццо ди Борго в лагере союзников после битвы при Арси-сюр-Об, когда пришла весть, что Наполеон стремится разрушить тыл союзной армии, заявил, что «цель войны — в Париже. Пока вы будете думать о сражениях, вы рискуете быть разбитыми, потому что Наполеон всегда будет давать битвы лучше, чем вы, и потому что его армия, хотя и недовольная, но поддерживаемая чувством чести, даст себя перебить до последнего человека, пока Наполеон около нее. Как бы ни было потрясено его военное могущество, оно еще велико, очень велико, больше вашего могущества. Но его политическое могущество уничтожено. Времена изменились. Военный деспотизм был принят как благодеяние на другой день после революции, но погиб теперь в общественном мнении.» Нужно стремиться кончить войну не военным способом, а политическим... Коснитесь Парижа только пальцем, и колосс Наполеон будет низвергнут, вы этим сломаете его меч, который вы не в состоянии вырвать у него». Что Бурбонов страна совершенно забыла, в этом Поццо ди Борго был уверен и высказал это союзникам, которые, впрочем, и без него склонялись к этому мнению. Союзники были согласны с ним в том, что после низвержения Наполеона Бурбоны станут «возможны». О республике Александр уже не считал нужным говорить: он видел, что и без разговоров на эту неприятную тему можно обойтись и покончить с Наполеоном. Решено было рискнуть: воспользоваться тем, что Наполеон был далеко (он обходил их тыл с целью именно задержать их далеко от Парижа), и идти прямо на Париж, ставя ставку на измену в Париже, которая отдаст им столицу раньше, чем император успеет явиться лично.
Путь загораживали только маршалы Мармон и Мортье и генералы Пакто и Амэ; у них в общей сложности было около 25 тысяч человек. Наполеон с главными силами был далеко в тылу союзников. Битва при Фер-Шампенуазе 25 марта кончилась победой союзников над маршалами. Они были отброшены к Парижу, 100-тысячная армия союзников подошла к столице.
Уже 29 марта императрица Мария-Луиза с маленьким наследником, римским королем, выехала из Парижа в Блуа.
У французов для защиты Парижа было около 40 тысяч человек. Настроение в Париже было паническое, в войсках тоже наблюдался упадок. Александр не желал кровопролития под Парижем и вообще разыгрывал великодушного победителя. «Париж, лишенный своих защитников и своего великого вождя, не в силах сопротивляться; я глубоко убежден в этом», — сказал царь М. Ф. Орлову, уполномочивая его прекращать бой всякий раз, когда явится надежда на мирную капитуляцию столицы. Ожесточенный бой длился несколько часов; союзники потеряли в эти часы 9 тысяч человек, из них около 6 тысяч русских, но, угнетенные страхом поражения, под влиянием Талейрана, маршал Мармон 30 марта в 5 часов вечера капитулировал. Наролеон узнал о неожиданном движении союзников на Париж в разгаре боев, которые он вел между Сен-Дизье и Бар-сюр-Об. «Это превосходный шахматный ход. Вот, никогда бы я не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать», — похвалил Наполеон, когда 27 марта узнал о происходящем. Специалист-стратег сказался в нем прежде всего в этой похвале. Он сейчас же бросился с армией к Парижу. 30 марта в ночь он прибыл в Фонтенебло и тут узнал о только что происшедшем сражении и капитуляции Парижа.
Он был полон всегдашней энергии и решимости. Узнав о случившемся, он молчал с четверть часа и затем изложил Коленкуру и генералам, бывшим около него, новый план. Коленкур поедет в Париж и предложит от имени Наполеона Александру и союзникам мир на тех условиях, какие они ставили в Шатильоне. Затем Коленкур под разными предлогами проведет в поездках из Парижа в Фонтенебло и обратно три дня, за эти три дня подойдут все силы, какие еще есть (от Сен-Дизье), с которыми Наполеон только что оперировал в тылу союзников, и тогда союзники будут выброшены из Парижа. Коленкур заикнулся: а может быть, не в виде военной хитрости, но на самом деле предложить мир союзникам на шатильонских условиях? «Нет, нет! — возразил император. — Довольно итого, что был момент колебаний. Нет, шпага все покончит. Перестаньте меня унижать!»
Сейчас же Коленкур отправился в Париж, а Наполеон снова принялся за кипучую работу по подготовке битвы, которая должна была разразиться через 3-4 дня. Ему важно было, чтобы в эти 3-4 дня союзники не предприняли каких-либо решительных политических мероприятий и не внесли бы этим смуту в умы и не склонили на свою сторону колеблющихся. Для этого-то он и придумал комедию с предложением мира на шатильонских условиях (которые с презрением отверг окончательно за две недели перед тем).
Но уже ничего нельзя было предотвратить. Роялистские радостные манифестации, встретившие въезд союзных монархов в Париж, апатия и покорность подавляющей части населения — все это показывало, что столица примет то правительство, какое ей навяжут.
Союзные монархи издали прокламацию, в которой заявляли, что вести переговоры с Наполеоном не будут, но что они призна́ют то правительство и то государственное устройство, которое французская нация себе выберет.
Из переговоров Коленкура с союзниками при этих условиях ровно ничего не могло выйти. Александр прямо сказал Коленкуру, что Франция не хочет уже Наполеона и утомлена им. Шварценберг с горечью напомнил, что Наполеон 18 лет подряд потрясал весь свет и что при нем покоя никому и никогда не будет и быть не может, что Наполеону не переставали предлагать мир, оставляя ему империю, и он сам не шел ни на какие уступки, а теперь поздно. Шварценберг, говоря это, не знал, что и сейчас Наполеон не идет ни на какие уступки, а послал Коленкура лишь бы провести в разговорах три дня, пока к Фонтенебло подойдет армия.
Вернувшись в Фонтенебло, Коленкур застал такую картину: войска стягивались к ставке императора, и он рассчитывал 5 апреля иметь 70 тысяч в своем распоряжении и с ними двинуться на Париж.
Утром 4 апреля Наполеон произвел смотр войскам и, обратясь к ним, сказал: «Солдаты, неприятель, опередив нас на три перехода, овладел Парижем. Нужно его оттуда выгнать. Недостойные французы, эмигранты, которым мы имели слабость некогда простить, соединившись с неприятелем, надели белые кокарды. Подлецы! Они получат заслуженное ими за это новое покушение! Поклянемся победить или умереть, отплатить за оскорбление, нанесенное отечеству и нашему оружию!» — «Мы клянемся!» — закричали ему в ответ. Но когда Наполеон вошел во дворец Фонтенебло после смотра, то здесь он застал иное настроение. Печально, молча, понурившись, стояли перед ним маршалы, и никто не решался заговорить. Тут были Удино, Ней, Макдональд, Бертье, герцог Бассано.
Наполеон вызвал их на объяснения, и они сказали ему, что вовсе не надеются на победу, что Париж весь, без различия мнений, трепещет от ужаса, ожидая нападения императора на союзников, вошедших в город, потому что это нападение будет знаменовать гибель населения и гибель столицы, что союзники отомстят за Москву и сожгут Париж, что трудно будет заставить солдат сражаться на развалинах Парижа. «Ступайте отсюда, я вас позову и скажу свое решение», — сказал Наполеон. Он оставил при себе лишь Коленкура, Бертье и герцога Бассано. Он гневно жаловался на колебания и робость маршалов, на отсутствие преданности к нему. Через несколько минут он заявил маршалам, что отказывается от престола в пользу своего сына, маленького римского короля, при регентстве Марии-Луизы, что если союзники согласны на этих условиях заключить мир, то война кончена, и что он отправляет с этим предложением Коленкура в Париж для переговоров с союзниками. Тотчас же после этого он прочел им следующий, тут же составленный им документ, в котором говорилось, что так как союзные державы провозгласили, что император Наполеон — единственное препятствие к восстановлению мира в Европе, то император Наполеон, верный своей присяге, объявляет, что он готов уйти с престола, покинув Францию и даже жизнь для блага отечества, блага, неразрывно связанного с правами его сына, правами регентства императрицы и законами империи.
Маршалы горячо одобрили этот акт. Прочтя эту бумагу, император взял перо и вдруг раньше чем подписать сказал: «А может быть мы пойдем на них? Мы их разобьем!» Но маршалы молчали. Ни один не поддержал этих слов. Наполеон подписал бумагу и вручил ее депутации, которую отправлял в Париж: Коленкуру, Нею и Макдональду.
Много событий за эти дни произошло в Париже. Талейран наскоро собрал часть сенаторов, в которых был уверен, заставил их вотировать низвержение династии Наполеона и призвание Бурбонов, и, главное, маршал Мармон изменил Наполеону и отступил со своим корпусом в Версаль, передавшись тем самым на сторону Талейрана и возглавляемого им (по желанию союзников) «временного правительства».
Александр сначала колебался; и он и австрийский император Франц не очень протестовали бы против воцарения трехлетнего «Наполеона II», но роялисты, окружавшие союзных монархов, настояли на том, чтобы предложение Наполеона было отвергнуто. Колебания союзников прекратились, когда им стало известно об измене Мармона. Теперь, после ухода главных сил, бывших непосредственно в распоряжении Наполеона, его нападение на Париж становилось невозможным, и союзники решили предоставить престол Бурбонам. «Убедите вашего повелителя в необходимости подчиниться року, — сказал Александр, прощаясь с Коленкуром. — Все, что только будет возможно сделать для почета (Наполеону), будет сделано»,-и он снова назвал Наполеона «великим человеком».
Прощаясь с Коленкуром, союзники просили его побудить Наполеона отречься от престола, не ставя условий; императору обещали сохранение его титула и отдавали ему в полное владение остров Эльбу на Средиземном море, настоятельно просили не откладывать акта отречения. Союзники и роялисты во главе с перешедшим на их сторону (уже вполне открыто) князем Талейраном несколько побаивались гражданской войны и солдатской массы, в которой по-прежнему обнаруживалось полное повиновение Наполеону. Официальное отречение Наполеона могло предотвратить опасность смуты. Решение сената ни малейшего морального веса в этом случае не имело. Сенаторов считали лакеями Наполеона, которые с полной готовностью предали своего барина и поступили на службу к новым господам. «Этот презренный сенат, — вскричал маршал Ней, говоря с Александром, — всегда торопился повиноваться воле человека, которого он теперь называет тираном! По какому праву сенат возвышает теперь свой голос? Он молчал тогда, когда обязан был говорить: как он позволяет себе говорить теперь, когда все повелевает ему молчать?»
Только слово самого Наполеона могло окончить всю тягостную неопределенность, освободить от старой присяги солдат, офицеров, генералов, чиновников. Так полагали и французы всех партий и союзники.
Вечером 5 апреля Коленкур, Ней и Макдональд вернулись из Парижа в Фонтенебло. Выслушав их рассказ о свидании с Александром и с союзниками и их советы подчиниться неизбежному. Наполеон сказал, что у него еще есть войска, что солдаты верны ему. «Впрочем, мы увидим. До завтра». Отпустив их, он велел позвать снова к себе Коленкура. «О, люди, люди, Коленкур! — сказал он в этой долгой ночной беседе. — Мои маршалы стыдились бы повести себя так, как Мармон, они говорят о нем с негодованием, но им досадно, что он их так опередил по пути почестей. Они хотели бы, не покрывая себя, правда, позором, получить те же права на благорасположение Бурбонов...» Он долго говорил об изменившем ему в этот решительный час Мармоне. «Несчастный не знает, что его ждет. Его имя опозорено. Поверьте мне, я не думаю о себе, мое поприще кончено или близко к концу. Впрочем, какое же удовольствие мог бы я теперь иметь в том, чтобы царствовать над сердцами, которые мною уже утомлены и готовы отдаться другим!.. Я думаю о Франции... Ах, если бы эти дураки не предали меня, ведь я в четыре часа восстановил бы ее величие, потому что, поверьте мне, союзники, сохраняя свое нынешнее положение, имея Париж в тылу и меня перед собой, погибли бы! Если бы они вышли из Парижа, чтобы избежать этой опасности, они бы уже туда. не вернулись... Этот несчастный Мармон сделал невозможной эту прекрасную развязку... Конечно, было бы средство продолжать войну и подняться. Со всех сторон до меня доходят вести, что крестьяне в Лотарингии, в Шампани, в Бургони уничтожают отдельные группы неприятельских солдат... Бурбоны явятся, и бог знает, что за ними последует... Бурбоны — это внешний мир, но внутренняя война. Посмотрите, что они через год сделают со страной!.. Впрочем, в данный момент нужен не я, нужно что-то другое. Мое имя, мой образ, моя шпага — все это наводит страх. Нужно сдаваться. Я позову маршалов, и вы увидите их радость, когда я их выведу из затруднения и разрешу им поступить, как Мармон, не утрачивая при этом чести».
Он высказал Коленкуру в эту ночь то, о чем, конечно, давно думал сам. Прежде всего в тот момент бросалось в глаза страшное, неимоверное утомление этим кровавым царствованием, этой непрерывной и бесконечной пляской смерти, этими гекатомбами трупов, этим принесением в жертву целых поколений для явно недостижимой цели.
«Я хотел дать Франции власть над всем светом», — открыто признавал Наполеон в 1814 г. Он не знал тогда, что возникнет в отдаленном потомстве целая школа патриотических французских историков, которые будут стараться доказывать, что Наполеон, собственно, всю жизнь не нападал на других, а только защищался и что в сущности он, вступая в Вену, Милан, Мадрид, Берлин, Москву, этим только хотел защитить «естественные границы» и на Москва-реке «защищал» Рейн. Сам Наполеон до этого объяснения не додумался. Он был гораздо откровеннее.
Не знал он еще и тех точных подсчетов, которые совсем недавно закончил на основании всех официальных и неофициальных архивных данных современный исследователь Альберт Мейнье: по этим подсчетам общее число французских граждан, убитых и пропавших без вести за время наполеоновского владычества в сражениях и походах, равно одному миллиону с небольшим (471 тысяча убитых, зарегистрированных тогда же официально, и 530 тысяч пропавших без вести и о которых никогда уже не было слышно). В эту цифру, конечно, не входят, например, тяжелораненые и искалеченные, которые умерли от ран не тотчас же на поле битвы, а несколько позже, в военных госпиталях.
Эти подсчеты Мейнье касаются не всей наполеоновской империи, а только «старой Франции», «старых департаментов», т.е. даже не той страны, которую Наполеон застал при своем вступлении во власть 18 брюмера 1799 г. (потому что не подсчитаны Бельгия, Пьемонт и другие завоевания, сделанные при революции и самим Наполеоном до 18 брюмера), но исключительно Франция старых, дореволюционных границ. И подсчитаны не все войны Наполеона, а лишь те, которые он вел начиная с 1800 г. (значит, нет цифр, относящихся к первому завоеванию Италии в 1796–1797 гг., к завоеванию Египта, к походу в Сирию). Что из 26 миллионов населения, считая с женщинами и детьми, «старых департаментов» в его войнах перебито и уничтожено больше одного миллиона взрослых мужчин, — этого с такой точностью Наполеон мог не знать, но опустошенные наборами деревни он видел, и поля своих бесчисленных битв он тоже видел. Он иногда старался успокоить других (сам он беспокоился этим очень умеренно), указывая на то, что в его войнах солдат, набранных в его армию из вассальных и «союзных» стран, всех этих немцев, швейцарцев, итальянцев, бельгийцев, голландцев, поляков, иллирийцев и т.д., погибает гораздо больше, чем французов.
Но гибель трех или четырех миллионов иностранцев, сражавшихся в рядах наполеоновских армий, была плохим утешением при гибели миллиона «чистых» французов (о миллионах же убитых, пропавших без вести и искалеченных врагов он совсем никогда не заикался).
Теперь в эту долгую ночь, часть которой он проходил взад и вперед по великолепным залам роскошного и угрюмого дворца Фонтенебло, Наполеон, подводя итоги перед Коленкуром, высказывал лишь один основной вывод: он утомил Францию, страна изнемогла; может быть, и плохи Бурбоны, может быть, и недолго им придется оставаться на престоле, но сейчас нужен не он, нужно что угодно другое. Ему в эти апрельские дни передали, что парижское купечество, крупная буржуазия хоть и не встретила союзников с такими восторгами, как дворяне-роялисты, но что и купцы громко говорят, что они измучены и разорены войнами.
Он почти не ложился в эту ночь. Настало утро 6 апреля 1814 г. Он велел созвать маршалов и сказал им: «Господа, успокойтесь! Ни вам, ни армии не придется больше проливать кровь. Я согласен отречься. Я бы желал для вас, так же как для моей семьи, обеспечить престолонаследие за моим сыном. Я думаю, что эта развязка была бы для вас еще выгоднее, чем для меня, потому что вы жили бы тогда под властью правительства, соответствующего вашему происхождению, вашим чувствам, вашим интересам... Это было бы возможно, но низкая измена лишила вас положения, которое я хотел бы за вами обеспечить. Если бы не уход 6-го корпуса (Мармона), мы бы достигли и этого и еще другого, мы могли бы поднять Францию. Но вышло по-иному. Я покоряюсь своей участи, покоритесь и вы вашей. Примиритесь с тем, чтобы жить при Бурбонах, и верно служите. Вы хотели покоя — вы получите его. Но, увы! Пусть будет богу угодно, чтобы я ошибся в своих предчувствиях, но мы не были поколением, созданным для покоя. Мир, которого вы желаете, скосит на ваших пуховых постелях скорее и больше людей из вашей среды, чем скосила бы война на бивуаках».
Наполеон взял затем лист бумаги и прочел им следующее: «Так как союзные державы провозгласили, что император Наполеон есть единственное препятствие к установлению мира в Европе, то император Наполеон, верный своей присяге, — объявляет, что он отказывается за себя и за своих наследников от трона Франции и от трона Италии, потому что нет той личной жертвы, даже жертвы жизнью, которую он не был бы готов принести в интересах Франции». Он сел за стол и подписал. Маршалы были взволнованы. Они целовали его руки, осыпая его привычной лестью, которой награждали его во время царствования. Сейчас же Коленкур с двумя маршалами повез этот документ в Париж.
Александр и союзники ожидали развязки с большой тревогой. Получив документ об отречении, они были в полном восторге. Александр подтвердил, что остров Эльба будет дан Наполеону немедленно в полное державное обладание, что римский король, сын Наполеона, и Мария-Луиза получат самостоятельные владения в Италии. Все было кончено.
В этот момент Наполеон обратился мыслью к тому, о чем думал, несомненно, уже много раз во время своей блестящей со стратегической точки зрения, но политически безнадежной по самому существу дела кампании 1814 г. Уже и в 1813 г. маршалы, генералы, офицеры, свита, даже солдаты гвардии замечали, что император без нужды подвергает себя смертельной опасности и делает это не так, как, например, в прежних войнах: на Аркольском мосту в 1796 г. или на городском кладбище в Эйлау в 1807 г., т.е. не тогда, когда это нужно было по тем или иным военным соображениям, а совершенно напрасно.
Например, как уже было отмечено еще в 1819 г., после гибели Дюрока император сел на пень и некоторое время сидел неподвижно, являясь как бы живой мишенью для летавших вокруг осколков снарядов. В 1814 г. эти странные поступки стали учащаться, и ошибиться в их значении было уж невозможно. Когда, например, в битве при Арси-сюр-Об 20 марта Наполеон направился — опять-таки совсем без цели — к такому месту боя, которое по его же приказу было очищено от солдат, так как там невозможно было держаться, то генерал Эксельманс бросился за императором, чтобы удержать его, а маршал Себастьяни сказал Эксельмансу то, о чем все давно знали: «Оставьте же его, ведь вы видите, что он делает это нарочно; он хочет покончить с собой!» Но ни картечь, ни ядра его не брали.
На самоубийство Наполеон всегда смотрел как на проявление слабости и малодушия, и, очевидно, при Арси-сюр-Об и во многих предыдущих аналогичных случаях в 1813 и 1814 гг. он как бы хитрил с самим собой, ища смерти, но смерти не от своей собственной руки, стремясь к замаскированному самоубийству.
Но 11 апреля 1814 г., через пять дней после отречения, когда уже во дворце Фонтенебло начались сборы к выезду его на остров Эльбу, Наполеон, простившись с Коленкуром, с которым много времени проводил в эти дни, ушел в свои апартаменты и, как потом обнаружилось, достал пузырек с раствором опиума, лежавший у него в походном несессере, с которым он никогда не расставался. Как мы уже видели. Наполеон еще в 1812 г., после сражения у Малоярославца, где ему грозила опасность попасть в плен, приказал доктору Ювану дать ему сильно действующий яд на всякий случай и получил этот пузырек с опиумом, который и не вынимал из несессера полтора года.
Теперь, в Фонтенебло, он его вынул и выпил все содержимое.
Начались страшные мучения. Коленкур, чуя недоброе, вошел к Наполеону, приняв это за внезапную болезнь и хотел бежать за доктором, бывшим во дворце. Наполеон просил никого не звать и даже гневно приказал ему не делать этого. Спазмы были так сильны, что Коленкур все же вырвался, выбежал из комнаты и разбудил доктора, того самого Ювана, который и дал Наполеону после Малоярославца опиум. Доктор, увидя пузырек на столе, сейчас же понял в чем дело. Наполеон начал жаловаться на то, что яд слаб или выдохся, и стал повелительно требовать у доктора, чтобы он немедленно дал нового опиума. Доктор убежал из комнаты, сказав, что никогда такого преступления не сделает во второй раз.
Мучения Наполеона продолжались несколько часов, так как он отказался принять противоядие. Он категорически требовал скрыть от всех происшедшее: «Как трудно умирать! Как легко было умереть на поле битвы! Почему я не был убит в Арси-сюр-Об!» — вырвалось у него среди страшных конвульсий.
Яд не подействовал смертельно, и Наполеон с тех пор не повторял уже попытки самоубийства и никогда не вспоминал о своем покушении.
Сборы постепенно заканчивались. По условиям с союзниками, император мог взять с собой на остров Эльбу один батальон своей гвардии.
20 апреля 1814 г. все сборы были окончены. Экипажи для Наполеона, его небольшой свиты и для комиссаров держав, которые должны были провожать его на остров Эльбу, уже стояли у дворца.
Наполеон пожелал проститься со своей гвардией. Гвардейцы выстроились в парадном дворе дворца, в том самом громадном дворе, который теперь так известен путешественникам, осматривающим дворец Фонтенебло, и который с тех пор и получил свое историческое название «Двор прощания» (La cour des adieux).
Впереди стояла с офицерами и генералами старая гвардия, сзади — молодая гвардия. Когда император вышел, солдаты сделали на караул, знаменосец преклонил знамя старой гвардии к ногам Наполеона:
«Солдаты, вы мои старые товарищи по оружию, с которыми я всегда шел по дороге чести, нам теперь нужно с вами расстаться. Я мог бы дальше остаться среди вас, но нужно было бы продолжать жестокую борьбу, прибавить, может быть, к войне против иноземцев еще войну междоусобную, и я не мог решиться разрывать дальше грудь Франции. Пользуйтесь покоем, который вы так справедливо заслужили, и будьте счастливы. Обо мне не жалейте. У меня есть миссия, и чтобы ее выполнить, я соглашаюсь жить: она состоит в том, чтобы рассказать потомству о великих делах, которые мы с вами вместе совершили. Я хотел бы всех вас сжать в своих объятиях, но дайте мне поцеловать это знамя, которое вас всех собой представляет...»
Наполеон дальше не мог говорить. Его голос пресекся. Он обнял и поцеловал знаменосца и знамя, быстро вышел и, простившись с гвардией, сел в карету. Кареты умчались при криках гвардии: «Да здравствует император!» Многие гвардейцы плакали, как дети.
«Грандиознейшая героическая эпопея всемирной истории окончилась — он простился со своей гвардией», — так писали впоследствии об этом дне английские газеты.
Но на самом деле эта 20-летняя эпопея, начавшаяся в декабре 1793 г. в Тулоне, вовсе еще не окончилась в апреле 1814 г. в Фонтенебло.
Наполеону суждено было еще поразить изумлением свет, который, казалось, именно он в течение двадцати лет отучил уже чему бы то ни было удивляться.
Глава XVI. Сто дней. 1815 г.
Приступая к рассказу о самом необычайном из всех событий жизни Наполеона, прежде всего нужно отметить следующее. Бесспорно, что в первое время по прибытии на Эльбу он не имел никаких планов, считал свою политическую жизнь законченной и намеревался, как обещал, писать историю своего царствования. По крайней мере в первые полгода пребывания на острове он производил такое впечатление. Он был спокоен и ровен. Проехав через южные департаменты, где роялисты встречали его самым враждебным образом и где в иные моменты даже жизнь его могла быть в опасности, Наполеон 3 мая 1814 г. прибыл на остров Эльбу. Теперь он оказался на уединенном острове, среди чужого мирного населения, которое встретило своего нового государя с большим почтением.
Ровно за три года до прибытия на остров Эльбу Наполеон, весной 1811 г., принимал в своих Тюильрийских чертогах баварского генерала Вреде, и когда Вреде почтительно заикнулся о том, что лучше бы воздержаться от подготовлявшегося уже почти открыто нашествия на Россию, Наполеон резко прервал его словами: «Через три года я буду господином всего света».
Теперь, через три года после этого разговора, «великая империя» исчезла, и перед Наполеоном был остров в 223 квадратных километра, с тремя небольшими городами, с несколькими тысячами жителей.
Судьба привела Наполеона очень близко к месту его рождения: остров Эльба находился приблизительно в 50 километрах от Корсики. До апреля 1814 г. Эльба принадлежала герцогству Тосканскому, одному из вассальных итальянских владений Наполеона. Теперь, при падении, этот остров и отдали Наполеону в полное обладание.
Наполеон знакомился со своим владением, принимал жителей, делал распоряжения, устраивался, казалось, надолго. К нему приезжали время от времени родные, побывали его мать, Летиция, и сестра, княгиня Полина Боргезе. Приезжала графиня Валевская, с которой у Наполеона завязались близкие отношения в Польше в 1807 г. и которая его продолжала любить всю жизнь. Жена его, Мария-Луиза, с маленьким сыном не приехала: отец, австрийский император, не пускал ее, и сама она не очень-то стремилась посетить своего супруга. Французские биографы Наполеона порицают обыкновенно императрицу за ее равнодушие и измену мужу, забывая, очевидно, что когда Наполеон вытребовал ее себе в жены в 1810 г., то ни он и никто вообще не полюбопытствовали даже и спросить ее, желает ли она этого брака. Достаточно было бы вспомнить, как она перед этим событием писала в январе 1810 г. (из Офена, в Австрии) в письме к близкой подруге: «Со времени развода Наполеона я разворачиваю „Франкфуртскую газету“ с мыслью найти там имя его новой супруги и сознаюсь, что откладывание причиняет мне беспокойство. Я вверяю свою участь божественному провидению... Но если моя несчастная судьба того захочет, то я готова пожертвовать личным своим благополучием во имя государства». Так смотрела в 1810 г. будущая невеста и жена императора на грозившее ей сватовство. Ясно, что падение империи Наполеона для нее лично было почти равносильно освобождению от плена.
Не приехала к нему и первая жена, которую он когда-то так страстно любил и потом отверг. Жозефина скончалась в своем дворце в Мальмезоне близ Парижа через несколько недель после прибытия императора на остров Эльбу, 29 мая 1814 г. Угрюм и молчалив несколько дней подряд был Наполеон, узнав эту новость.
Так тихо и однообразно шли первые месяцы его пребывания на Эльбе. Ничем и ни перед кем не выдавал он своих внутренних переживаний. Долгими часами он бывал в глубочайшей задумчивости.
По-видимому, уже с осени 1814 г. и особенно с ноября — декабря этого года Наполеон стал внимательно выслушивать все, что ему сообщалось о Франции и о Венском конгрессе, который начал тогда свои заседания. Осведомителей было немало. И из Италии, от ближайшего пункта которой (г. Пьомбино) остров Эльба отделяется лишь 12 километрами, и непосредственно из Франции к нему поступали сведения, ясно показывающие, что реставрированные Бурбоны и их окружающие ведут себя еще неосторожнее, еще нелепее, чем можно было ожидать.
Талейран, умнейший из всех, кто изменил Наполеону и содействовал реставрации Бурбонов в 1814 г., сказал о них с первых же их шагов: «Они ничего не забыли и ничему не научились». Ту же мысль выразил и Александр I в разговоре с Коленкуром: «Бурбоны и не исправились и неисправимы».
Сам король, старый больной подагрик Людовик XVIII, был человеком осторожным, но брат его, Карл Артуа, и вся свора эмигрантов, вернувшаяся с Бурбонами, и дети этого Карла Артуа, герцог Ангулемский и герцог Беррийский, вели себя так, как если бы никакой революции и никакого Наполеона никогда не существовало. Они всемилостивейше соглашались забыть и простить прегрешения Франции, но с тем условием, что страна покается и вернется к прежнему благочестию и прежним порядкам. При всем их безумии они скоро убедились, что абсолютно невозможно ломать учреждения, основанные Наполеоном, и все эти учреждения остались в неприкосновенности: и префекты в провинции, и организация министерств, и полиция, и основы финансового обложения, и кодекс Наполеона, и суд — словом, решительно все создания Наполеона, и даже орден Почетного легиона остался, и весь уклад бюрократического аппарата, и устройство армии, устройство университетов, высшей и средней школы, и конкордат с папой — словом, остался наполеоновский государственный аппарат, но только вместо самодержавного императора наверху сидел «конституционный» король.
Самую конституцию короля заставили дать, и прежде всего настаивал на этом Александр I, убежденный, что без конституции Бурбоны и вовсе не продержатся. Эта конституция давала избирательные права лишь маленькой кучке очень богатых людей (одной сотне тысяч из 28— 29 миллионов населения).
Приверженцы полной реставрации старого строя, «ультрароялисты», были в бешенстве по поводу этой конституции. Почему узурпатор столько лет правил с диктаторской властью, а законный божьей милостью король ограничен в своих правах? Были они недовольны и многим другим. С первых же дней они не переставали кричать о том, что их земли, некогда конфискованные при революции и распроданные с публичных торгов крестьянам и буржуазии, должны быть им возвращены. Конечно, никто не осмелился этого сделать, но уже самые разговоры внушали крестьянам сильное беспокойство и страшно волновали деревню.
Духовенство всецело стояло на стороне вернувшихся дворян-эмигрантов и даже с церковного амвона проповедовало, что крестьян, некогда купивших конфискованные земли, постигнет божий гнев и их пожрут собаки, как библейскую Иезавель.
Вернувшиеся дворяне вели себя очень нагло. Были случаи избиения крестьян, причем избитый не мог в суде найти управы на обидчика. Те, кто был поумнее при дворе Людовика XVIII, с отчаянием видели, что творится в деревне и как волнуют деревню слухи об отнятии земли, но поделать ничего не могли.
Что касается буржуазии, то здесь дело обстояло так. В самый первый момент падения империи буржуазия в главной своей массе ощутила даже облегчение: явилась надежда на прекращение бесконечных войн, на оживление торговли, на прекращение наборов (в последние годы империи буржуазия уже не могла ставить вместо своих сыновей нанятых заместителей, как прежде, так как людей уже не хватало); явилась также надежда на прекращение произвола, вредившего делам. Даже крупная промышленная буржуазия уже перестала в 1813–1814 гг. смотреть на империю как на необходимое условие своего благополучия.
Но прошло несколько месяцев после падения империи и отмены континентальной блокады, и широкие слои торгово-промышленной буржуазии подняли вопль: правительство Бурбонов на первых порах не смело и помыслить о решительной таможенной борьбе против англичан, так много содействовавших падению Наполеона. Если кто из буржуазии принял Бурбонов с известным сочувствием и сравнительно дольше сохранял к ним симпатии, то это была интеллигенция — люди свободных профессий, адвокаты, доктора, журналисты и т.д. После железного деспотизма Наполеона — умереннейшая конституция, данная Людовиком XVIII, казалась им необычайным благом. Увеличилось количество газет, брошюр, книг, о чем при Наполеоне и речи быть не могло. Но эта образованная масса, воспитанная на просветительной литературе и свободомыслии XVIII в., очень скоро стала раздражаться засилием, проявленным духовенством и при дворе Бурбонов, и в администрации, и в общественной жизни. Гонения на все, напоминающее вольтерьянский дух, было поднято со всех сторон. Фанатики юродствовали особенно в провинции, где новые чиновники назначались кое-где по выбору и рекомендации церкви.
С каждым месяцем Бурбоны и их приближенные все более и более расшатывали свое положение. Бессильные восстановить старый строй, уничтожить гражданские законы, данные революцией и Наполеоном, бессильные даже только прикоснуться к зданию, сооруженному Наполеоном, они провоцировали своими словами, своими статьями, своей ярой агитацией, своим дерзким поведением как крестьянство, так и буржуазию. Их угрозы и провокации лишали устойчивости все политическое положение. Особенно взволнована была деревня.
Было и еще одно обстоятельство, имеющее большое значение. Солдатская масса почти вся, а офицерство в значительной степени относились к Бурбонам, как к навязанному извне необходимому злу, которое нужно молча и терпеливо переносить. По мере того как шло время, отходили в прошлое страшные раны и увечья, и непрерывная долголетняя бойня, и ужасы отступления из России. Все это бледнело и забывалось, а выступали воспоминания о воителе, водившем их к неслыханным победам, покрывшем их навеки славой. Для них он был не только прославленным героем, величайшим полководцем и властелином полумира, — он оставался для них в то же время своим братом-солдатом, маленьким капралом, помнившим их по имени, дергавшим их за уши и за усы в знак своего благоволения. Им всегда казалось, что Наполеон их точно так же любит, как они его. Ведь император очень успешно всегда поддерживал и укреплял в них эту иллюзию.
Офицерство по отношению к Бурбонам было не так враждебно настроено, как солдаты. По крайней мере часть их, бесспорно, была страшно утомлена войнами и тоже искала покоя. Но Бурбоны, во-первых, не доверяя офицерству политически, а во-вторых, не имея нужды в содержании таких больших кадров, уволили сразу очень много офицеров в отставку, переведя их на половинную пенсию. Другие, оставшиеся на службе, со злобой и презрением относились к новым, молодым офицерам из роялистского дворянства, которых им часто сажали на шею в качестве начальства. Раздражало солдат и офицеров также белое знамя, введенное Бурбонами взамен трехцветного, бывшего при революции и при Наполеоне. Для наполеоновских солдат белое знамя было знаменем изменников-эмигрантов, которых они встречали и били в былые годы, когда нужно было отразить натиск интервентов. Теперь под этим знаменем пришли и водворились при помощи русских, австрийских и прусских штыков эти самые контрреволюционные изменники, желающие к тому же, как пишут из деревни, отнять у крестьян землю...
«Где он? Когда он снова явится?» Этот вопрос встал в казарме и в деревне раньше, чем где бы то ни было в других слоях населения.
Наполеон знал это. Он знал и другое. Через Италию, наконец, просто через газеты до него доходили известия и о том, что делается на Венском конгрессе. Он следил за тем, как государи и дипломаты делят его огромное наследство и никак поделить не могут, как его завоевания, отнятые у Франции, возбуждают жадность и ссорят бывших союзников. Он видел, что Англия и Австрия решительно выступают против России и Пруссии и по вопросу о Саксонии и по вопросу о Польше. Прежнего единства действий европейских держав, положившего в 1814 г. конец великой империи Наполеона, ожидать было нельзя...
В декабре 1814 г., гуляя около своего дворца в Порто-Феррайо (главном городе острова Эльбы), Наполеон вдруг остановился около гренадера, стоявшего на часах. Это был солдат из того батальона старой гвардии, который последовал с разрешения союзников на Эльбу за императором. «Что, старый ворчун, тебе тут скучно?» — «Нет, государь, но я не очень развлекаюсь». Наполеон вложил ему в руку золотую монету и отошел, вполголоса сказав: «Это не всегда будет продолжаться».
Дошло ли до кого-нибудь известие об этом случае или о двух-трех вырвавшихся у Наполеона аналогичных словах, — мы не знаем. Знаем только, что и Меттерних, и Людовик XVIII, и английский кабинет очень забеспокоились по поводу слишком близкого пребывания Наполеона у берегов Франции. Были разговоры о переводе его куда-нибудь подальше. Он продолжал казаться страшным даже и на своем маленьком острове. Ходили слухи, что к нему хотят подослать убийц. Чем больше нелепостей делали Бурбоны и их сторонники во Франции, тем больше беспокоились государи и дипломаты в Вене. Но с острова Эльбы стали приходить одновременно также и самые успокоительные известия, противоречившие тревожным слухам. Император почти не выходит из своих комнат, он очень спокоен, он вполне примирился со своей участью, он разговаривал очень милостиво с английским представителем Кемпбелем и сказал ему, что его теперь ничто не интересует, кроме его маленького острова.
Вечером 7 марта 1815 г. в Вене в императорском дворце происходил бал, данный австрийским двором в честь собравшихся государей и представителей европейских держав. Вдруг в разгаре празднества гости заметили какое-то смятение около императора Франца: бледные, перепуганные царедворцы поспешно спускались с парадной лестницы; было такое впечатление, будто во дворце внезапно вспыхнул пожар. В одно мгновение ока все залы дворца облетела невероятная весть, заставившая собравшихся сейчас же в панике оставить бал: только что примчавшийся курьер привез известие, что Наполеон покинул Эльбу, высадился во Франции и, безоружный, идет прямой дорогой на Париж.
Уже к началу февраля 1815 г. у Наполеона стало складываться решение вернуться во Францию и восстановить империю. Он никогда и никому не рассказал, как он пришел к этому решению. Может быть, только в самом конце 1814 и в первый месяц 1815 г. в нем созрело убеждение, что вся армия, а не только его гвардия, к нему относится по-прежнему и что рядом с маршалами, которые его убеждали в апреле 1814 г. в необходимости отречения, существуют маршалы вроде Даву, генералы вроде Эксельманса, офицеры, как отставные, так и на действительной службе, которые с презрением и ненавистью смотрят на Бурбонов и вполне разделяют чувства солдатской массы. Убедился он и в том, что даже многие из тех маршалов, которые жаждали покоя и были утомлены непрерывными войнами и с готовностью стали служить Бурбонам, теперь раздражены и недовольны королем Людовиком XVIII, его братом и его племянниками. Знал он и хорошо учитывал настроение крестьян, всю ту тревогу, которая росла в деревне. Одно сообщение ускорило его решение.
В середине февраля ему пришлось побеседовать с одним молодым чиновником еще наполеоновских времен, Флери де Шабулоном, явившимся на Эльбу с информацией от проживавшего во Франции бывшего наполеоновского министра иностранных дел Марэ, герцога Бассано. Герцог Бассано поручил Флери де Шабулону подробно рассказать императору о росте всеобщего недовольства, о безобразиях дворян-эмигрантов, вернувшихся в свои деревни, о том, что армия почти сплошь считает в душе своим законным государем только Наполеона, а короля Людовика XVIII и прочих членов бурбонской семьи и знать не хочет. Доклад был обстоятельный. Наполеон очень много знал, впрочем, еще до прибытия этого эмиссара от герцога Бассано. Так или иначе, но после этого разговора он решился.
В это время у него гостила его мать, Летиция, женщина умная, твердая, мужественная, которую Наполеон уважал больше чем кого-либо из своей семьи. Он открыл ей первой свое решение. «Я не могу умереть на этом острове и кончить свое поприще в покое, который был бы недостоин меня, — сказал он ей. — Армия меня желает. Все заставляет меня надеяться, что, увидя меня, армия поспешит ко мне. Конечно, я могу встретиться с офицером, который верен Бурбонам, который остановит порыв войска, и тогда я буду кончен в несколько часов. Этот конец лучше, чем пребывание на этом острове... Я хочу отправиться и еще раз попытать счастья. Каково ваше мнение, мать?» Летиция была так потрясена неожиданным вопросом, что не могла сразу ответить: «Позвольте мне быть минутку матерью, я вам отвечу после». И после долгого молчания ответила: «Отправляйтесь, сын мой, и следуйте вашему назначению. Может быть, вас постигнет неудача и сейчас же последует ваша смерть. Но вы не можете здесь оставаться, я это вижу со скорбью. Будем надеяться, что бог, который вас сохранил среди стольких сражений, еще раз сохранит вас». Она крепко обняла сына, сказав это.
Сейчас же после разговора с матерью Наполеон призвал своих генералов, которые последовали за ним в свое время на остров Эльбу: Бертрана, Друо и Камбронна. Бертран и Камбронн приняли известие с восторгом, Друо — с сомнениями в успехе. Но сам Наполеон сказал ему, что он теперь не намерен ни воевать, ни править самодержавно, он хочет сделать французский народ свободным. Это было характерно для той новой политической программы, с которой Наполеон начинал свое предприятие если не с целью ее осуществить, то с целью ее использовать в тактическом смысле.
Сейчас же он дал приказания и инструкции генералам. Он ехал не завоевывать Францию оружием, а просто намерен был явиться во Францию, высадиться на берегу, объявить о своих целях и потребовать себе обратно императорский престол. Так велика была его вера в обаяние своего имени; ему казалось, что страна должна была сразу, без боя, без попытки сопротивления, пасть к его ногам.
Следовательно, отсутствие у него вооруженных сил не могло послужить препятствием. А для того, чтобы его не могли арестовать и прикончить раньше, чем кто-нибудь узнает о его прибытии, и раньше, чем хотя один настоящий солдат его увидит, у Наполеона под рукой были люди. Во-первых, при нем находилось 724 человека, которых было вполне достаточно для ближайшей личной охраны, нужной лишь в первый момент; из них 600 человек гренадер и пеших егерей старой гвардии и больше сотни кавалеристов. Затем в его распоряжении оказалось больше 300 солдат расположенного здесь с давних пор 35-го полка, посланного в свое время им же для охраны острова. Их всех — около 1100 человек — Наполеон решил взять с собой. Для переезда у него оказалось несколько небольших судов.
Все приготовления происходили в глубокой тайне. Наполеон приказал своим трем генералам, чтобы все было готово к 26 февраля. В этот день в г. Порто-Феррайо после полудня 1100 солдат были внезапно в полном вооружении направлены в порт и посажены на суда. Они понятия не имели о том, зачем их посадили на суда и куда собираются везти, ни одного слова раньше не было сказано, но, конечно, еще до начала посадки они догадались и с восторгом приветствовали императора, когда он появился в порту в сопровождении трех генералов и нескольких офицеров старой гвардии.
Мать Наполеона неутешно рыдала, прощаясь с сыном. Солдаты, офицеры, генералы и Наполеон заняли свои места на суденышках, и в семь часов вечера маленькая флотилия при попутном ветре отплыла на север.
Первая опасность заключалась в постоянно круживших вокруг острова Эльбы английских и французских королевских военных фрегатах. Эти суда находились тут на всякий случай, для наблюдения за островом. Один французский военный корабль прошел так близко, что офицер с корабля даже перекинулся несколькими словами в рупор с капитаном наполеоновского брига. «Как здоровье императора?» — спросил офицер. «Очень хорошо», — ответил капитан. Встреча этим только и кончилась, — солдаты были спрятаны, и с королевского корабля никто ничего не заметил. По счастливой случайности англичан не встретили вовсе. Плаванье продолжалось почти трое суток, так как попутный ветер несколько ослабел.
В три часа дня 1 марта 1815 г. флотилия причалила к французскому берегу, остановилась в бухте Жуан, недалека от мыса Антиб; император вышел на берег и немедленно приказал начать высадку. Прибежавшая таможенная стража, увидев Наполеона, сняла шапки и громко приветствовала его. Наполеон послал Камбронна с несколькими солдатами в г. Канн за припасами. Припасы были доставлены немедленно, после чего Наполеон двинулся со своим отрядом на север через провинцию Дофинэ, предварительно бросив на берегу четыре пушки, которые он взял с собой из Порто-Феррайо. Он решил идти горными дорогами. Одновременно он приказал отпечатать в типографии г. Грасс свои воззвания к французской армии и к народу. И Канн и Грасс уже были в его власти без всякой попытки сопротивления. Не задерживаясь, он двинулся дальше через деревушку Сернон и через Динь и Гап на Гренобль.
Командир войск, стоявших в Гренобле, главном городе департамента, решил было сопротивляться, но солдаты громко, не стесняясь, говорили, что они сражаться с императором не будут ни за что. Буржуазия в Гренобде казалась встревоженной и смущенной, часть дворян осаждала власти, умоляя сопротивляться, часть же их бежала врассыпную из города.
7 марта в Гренобль пришли высланные спешно против Наполеона войска — два с половиной линейных пехотных падка с артиллерией и один гусарский полк.
Наполеон уже подходил к Греноблю. Приближалась самая критическая минута. О сражении против всех этих полков, снабженных к тому же артиллерией, не могло быть и речи. Королевские войска могли бы расстрелять его и его солдат издали, даже не потеряв ни одного человека, — ведь у Наполеона не было ни одного орудия.
7 марта утром Наполеон прибыл в деревню Ламюр. Впереди в отдалении виднелись войска в боевом строю, загораживавшие дорогу и имевшие задачу взорвать мост у Пэнго. Наполеон долго смотрел в подзорную трубу на выдвинутые против него войска. Затем он приказал своим солдатам взять ружье под левую руку и повернуть дулом в землю. «Вперед!» — скомандовал он и пошел впереди прямо под ружья выстроенного против него передового батальона королевских войск.
Начальник этого батальона поглядел на своих солдат, обратился к адъютанту командира гарнизона и сказал ему, указывая на своих солдат: «Что мне делать? Посмотрите на них, они бледны, как смерть, и дрожат при одной мысли о необходимости стрелять в этого человека». Он велел батальону отступить, но они не успели. Наполеон приказал 50 своим кавалеристам остановить приготовившийся отступать батальон. «Друзья, не стреляйте! — кричали кавалеристы. — Вот император!» Батальон остановился. Тогда Наполеон подошел вплотную к солдатам, которые замерли с ружьями наперевес, не спуская глаз с приближавшейся к ним твердым шагом одинокой фигуры в сером сюртуке и треугольной шляпе. «Солдаты пятого полка! — раздалось среди мертвой тишины. — Вы меня узнаете?» — «Да, да, да!» — кричали из рядов. Наполеон расстегнул сюртук и раскрыл грудь. «Кто из вас хочет стрелять в своего императора? Стреляйте!» Очевидцы до конца дней своих не могли забыть тех громовых радостных криков, с которыми солдаты, расстроив фронт, бросились к Наполеону.
Солдаты окружили его тесной толпой, целовали его руки, его колени, плакали от восторга и вели себя как бы в припадке массового помешательства. С трудом их можно было успокоить, построить в ряды и повести на Гренобль.
Все войска, высланные для защиты Гренобля, полк за полком перешли на сторону Наполеона. Полковник Лабедойер, командир полка, стоявшего в самом Гренобле с 7 марта, не хотел ждать прихода Наполеона, а собрал свой полк на главной площади, крикнул перед фронтом: «Да здравствует император!» — и вместе с полком вышел навстречу Наполеону. Лабедойер сделал это, еще не зная даже, что случилось в Ламюре. Наполеон въехал в Гренобль, сопровождаемый перешедшими на его сторону полками и толпой крестьян, вооруженных вилами и старыми ружьями. В город помогли ему войти местные ремесленники-каретники.
В Гренобле ему представились власти и начальствующие лица всех ведомств, кроме немногих, бежавших из города. На этих приемах Наполеон повторял, что он окончательно решил дать народу свободу и мир, что прежде он действительно слишком «любил величие и завоевания», но теперь он уже поведет иную политику. Он подчеркнул, что и в прошлом «ему нужно извинить искушение сделать Францию владычицей над всеми народами». Еще характернее было его указание, повторяемое им с не меньшей настойчивостью, что он пришел спасти крестьян от грозящего им со стороны Бурбонов восстановления феодального строя, пришел обеспечить крестьянские земли от покушений со стороны дворян-эмигрантов. Он твердо заявил, что хочет пересмотреть данное им самим государственное устройство и сделать империю конституционной монархией, настоящей монархией с представительным образом правления; этим самым он откровенно признавал, что существовавший при нем Законодательный корпус был чем угодно, но только не настоящим представительным учреждением. Он обещал полное прощение всем, кто встанет на его сторону, и утверждал, что сам же, отрекшись от престола, советовал своим приближенным служить Бурбонам и освободил их от присяги ему, императору. «Но Бурбоны показали», что они «несовместимы с новой Францией».
Приказав окрестным полкам явиться в Гренобль и сделав им смотр, он уже с шестью полками и довольно значительной артиллерией двинулся из Гренобля прямой дорогой на Лион. Отовсюду к нему стекались по пути крестьянские делегации. Впереди шел отряд в 7 тысяч солдат с 30 орудиями. Наполеон с остальным войском задержался на лишний день в Гренобле и выступил, разослав ряд приказов и распоряжений. Он снова чувствовал себя настоящим повелителем Франции. Теперь он мог принять в случае надобности сражение с королевскими войсками, но он по-прежнему твердо был убежден, что ни единого выстрела ему сделать не придется и что вообще никаких королевских войск во Франции нет и никогда не было, а есть войска его, наполеоновские, императорские, которым пришлось по несчастному случаю пробыть 11 месяцев под чужим белым знаменем.
Толпы крестьян, и толпы огромные, исчисляемые свидетелями в 3-4 тысячи человек, шли за Наполеоном и его армией, стекаясь к нему по пути, провожая его от села к селу и сменяясь в каждом новом пункте новыми толпами, одна толпа крестьян как бы передавала его другой толпе, принося припасы, предлагая всякую помощь. Толпы, меняясь в составе, не уменьшались в числе. Ничего подобного даже и сам Наполеон при всей своей самоуверенности все-таки не ожидал. Он уже нисколько не сомневался, что через несколько дней будет в Париже. Что могло остановить его? Запертые ворота города? Но и в Гренобле роялисты пробовали перед своим бегством из города запереть ворота. «Я только постучал об эти ворота своей табакеркой, и они открылись», — так выразился об этом Наполеон. Он даже преувеличил свои усилия, говоря это, ему и табакеркой постучать не пришлось — ворота были распахнуты настежь, как только он приблизился. Триумфатором, предшествуемый и сопровождаемый стройными полками, Наполеон шел прямо на Лион, по пути отдавая приказы, рассылая эстафеты, получая донесения, назначая новых командиров и сановников.
Вечером 5 марта королю Людовику XVIII доложили о только что пришедшей (по тогдашнему сигнальному телеграфу) невероятной новости — о высадке Наполеона. Париж в этот момент еще не знал ничего, король велел прежде всего скрыть телеграмму. Только 7 марта позволено было напечатать в газетах о высадке. Впечатление было потрясающее. Сначала никто понять не мог, как умудрился Наполеон, во-первых, спокойно проплыть эту часть Средиземного моря сквозь два стерегущих остров Эльбу флота, а во-вторых, как его, безоружного или с несколькими провожатыми, не схватили тотчас по высадке. Правительство было сначала в полной уверенности, что ликвидация неприятного инцидента не затянется: разбойник Бонапарт, очевидно, сошел с ума, потому что не сумасшедший никогда бы не решился на подобный поступок.
Однако полиция в Париже сразу усмотрела один беспокойный признак: революционеры, якобинцы, безбожники, все эпигоны Великой революции, бывшие на учете и замечании, совершенно определенно радовались происшедшему событию, радовались возвращению деспота, который задушил в начале своей карьеры революцию и так долго продолжал душить ее приверженцев. В Париже еще не знали тогда о новой политической платформе, с которой вернулся Наполеон, о его гренобльских речах, о «свободе», которую он обещает.
Но в Париже в этот первый момент наблюдалась и растерянность, особенно среди состоятельной буржуазии. Боялись прежде всего новой войны и нового разорения торговли. Либералы-конституционалисты видели в возможной победе Наполеона возвращение военного деспотизма и конец даже той форме участия в управлении государством, какую они надеялись выработать при Бурбонах.
Кто был в полной панике — это роялисты, особенно дворяне-эмигранты, вернувшиеся в 1814 г. с Бурбонами. Они совершенно потеряли голову в моральном смысле слова и с нескрываемым ужасом готовились потерять ее в буквальном, физическом смысле. Что с ними сделает корсиканский людоед? Окровавленная тень герцога Энгиенского неотступно стояла перед глазами Бурбонов и их двора в эти дни.
И все-таки король отказывался пока верить в серьезность опасности. Новые и новые известия говорили о движении Наполеона через горы на Гренобль. Еще не знали о том, что случилось в Ламюре, но что войска ненадежны, это было вполне ясно. Маршалы и генералы пока устояли, офицеры, может быть, тоже не перейдут на сторону императора, но солдаты парижского гарнизона даже не скрывали своей радости.
Решено было противопоставить Наполеону человека, который после императора был, может быть, наиболее популярным в армии: маршала Нея. Маршал Ней, казалось, вполне искренно присоединился к Бурбонам, он больше всех убеждал Наполеона в 1814 г. в необходимости отречения. С другой стороны, сам Наполеон дал ему и маршальский жезл, а потом и герцогский титул, и княжеский титул, и, что было для него еще почетнее в глазах солдат, император дал ему название «храбрейший из храбрых». Если бы такой человек согласился взять на себя командование, может быть, солдаты пойдут за ним даже против Наполеона?
Нея вызвали к королю. Ней был решительно против наполеоновского предприятия, от которого он, кроме зла для Франции, ничего не ожидал. Горячий рубака, вспыльчивый солдат, он под влиянием той подобострастной лести, с которой его упрашивали король и весь двор Бурбонов, воскликнул, ручаясь за всех солдат: «Я привезу его пленником, в железной клетке». Но раньше еще, чем маршал Ней выступил, пришли новые ужасные для Бурбонов известия: войска переходят на сторону императора без боя, провинция за провинцией, город за городом падают к его ногам без тени сопротивления, творится что-то, чего никак нельзя было ожидать.
Нужно было удержать во что бы то ни стало Лион, второй после Парижа город Франции по богатству, по числу жителей, по политическому значению. Туда отправился королевский брат граф Артуа, наиболее ненавистный из Бурбонов, с наивной надеждой воспламенить лионских рабочих чувством преданности к Бурбонам. Прибыл туда и маршал Макдональд, на которого Бурбоны тоже полагались, как на Нея. Макдональд забаррикадировал мосты, произвел наспех еще некоторые оборонительные работы и вздумал устроить смотр войскам и при этом показать им королевского брата графа Артуа.
Уже все было готово для этой торжественной демонстрации, как вдруг к Макдональду явился один генерал и сказал, что лучше бы королевского брата поскорее отвезти в более безопасное место. Макдональд собрал на смотр три полка гарнизона, сказал перед фронтом речь, где упоминал о грозящей новой войне с Европой в случае торжества Наполеона и предложил им приветствовать графа Артуа, посланного королем, криком «Да здравствует король!», чтобы этим подтвердить их верность Бурбонам. Мертвое молчание было ответом.
В полной панике граф Артуа бежал со смотра и сейчас же с предельной скоростью покинул Лион. Макдональд сам остался, чтобы руководить работами по обороне. Солдаты работали угрюмо и нехотя. Один сапер подошел к маршалу и укоризненно сказал ему: «Лучше бы вы нас повели к нашему государю, к императору Наполеону». Маршал ничего не ответил.
«Да здравствует император! Долой дворян!» — этим криком крестьяне, войдя в лионское предместье Ла Гильотиер, оповестили город о приближении императорского авангарда.
Действительно, наполеоновские гусары и кирасиры уже вступали в город. Макдональд со своими войсками пошел навстречу, все еще рассчитывая дать сражение. Но едва его полки (впереди шли драгуны) увидели кирасир, как с криком «Да здравствует император!» бросились прямо к ним. Разом, в одну минуту, все части, бывшие в распоряжении маршала, смешались с войсками Наполеона в одну общую массу. Чтобы не попасть в плен к своим же солдатам, Макдональд ускакал прочь и бежал из города.
Спустя полчаса после этой сцены Наполеон, окруженный свитой, вступил в Лион, доставшийся ему, как и все прочие города, без единого выстрела. Это произошло 10 марта, через девять дней после его высадки в бухте Жуан.
На следующий день (11 марта) Наполеон принимал парад лионской дивизии, специально присланной сюда и пополненной королевским правительством, чтобы сражаться против возвратившегося императора. «Все мосты, набережные, все улицы были полны людей, мужчин, стариков, женщин, детей», — рассказывает Флери де Шабулон, ехавший в свите за Наполеоном. Люди теснились к лошадям свиты, «чтобы видеть его, слышать его, ближе рассмотреть, коснуться его одежды. Царило чистейшее безумие». Непрерывные оглушительные крики «Да здравствует император!» часами гремели вокруг. Как ни была велика самоуверенность Наполеона, но подобных неслыханных триумфов он, судя по вырывавшимся у него словам, все-таки не ожидал.
Принимая городские власти Лиона, Наполеон подтвердил то, о чем уже много раз говорил и в Гренобле, и до и после Гренобля: он даст Франции свободу внутри и мир извне. Он прибыл, чтобы сохранить и укрепить принципы Великой революции, он понимает, что времена изменились, и отныне он удовольствуется одной Францией и не будет думать о завоеваниях. В Лионе он уже подписал акт, объявлявший уничтоженной палату пэров и палату депутатов, т.е. учреждения, действовавшие по конституции, данной Бурбонами, аннулировал все назначения по судебному ведомству, произведенные Бурбонами, и назначил новых судей. Большинство префектов он оставил на их местах, — это были за немногими исключениями его собственные префекты, которых и не могли и не решились сменить в 1814 г. Бурбоны.
В Лионе он уже формально восстановил свое владычество, низложив с престола династию Бурбонов и уничтожив данную ими конституцию. Во главе почти 15 тысяч войск он двинулся из Лиона дальше, держа путь на Париж. «Мои орлы полетят с колокольни на колокольню и усядутся на соборе Нотр-Дам», — говорил он, повторяя мысль, которую высказал в своем воззвании к солдатам еще в первый момент после высадки.
Наполеон шел, по-прежнему не встречая препятствий, с триумфом войдя в Макон, в села и деревни между Лионом и Маконом, между Маконом и Шалоном на Соне. Но раньше, чем достигнуть Шалона, должна была произойти решающая встреча с маршалом Неем. Наполеон знал Нея, любил его сердце и совсем не уважал его голову. Он видел Нея в боях, помнил Нея у Семеновских флешей в день Бородина, никогда не забывал, что делал Ней, командуя арьергардом отступавшей из России великой армии. В тот момент, когда он шел из Макона и ему доложили, что маршал Ней со своей армией расположился в Лон-ле-Сонье и загородил дорогу, Наполеон уже не страшился боя. С 15 тысячами солдат он и не то еще предпринимал на своем веку, но он не хотел кровопролития, ему важно было овладеть страной без единой человеческой жертвы, потому что более убедительной политической демонстрации в свою пользу он не мог и придумать.
Маршал Ней прибыл в Лон-ле-Сонье 12 марта. У него было четыре полка, и он поджидал еще подкреплений. Он был в тот момент убежден в правоте своих действий: ему представлялось, что единственным спасением для Франции в 1814 г. было отречение императора. Отрекшись, Наполеон сам разрешил маршалам остаться на службе при Бурбонах. Теперь, нарушив свой договор с державами, Наполеон покинул Эльбу и хочет снова занять престол, что неизбежно повлечет за собой войну с Европой. Ней искренно считал, что он прав, борясь против императора. Он знал, что на него возложены теперь все надежды короля Людовика XVIII, всецело ему доверившегося.
Но солдаты угрюмо молчали, когда он, их любимец, пытался говорить с ними. Он собрал офицеров и солдат и произнес речь, в которой напоминал, как он, не щадя себя, всю жизнь служил императору, но заявил, что теперь восстановление империи повлечет неисчислимые беды для Франции и прежде всего войну со всей Европой, которая ни за что не примирится с Наполеоном. Он добавил, что сейчас же отпустит из своего отряда тех, кто почему-либо не желает сражаться, и пойдет вперед с остальными. Молчание и офицеров и солдат было ему ответом. Раздраженный и обеспокоенный, вернулся он в свою ставку.
В ночь с 13 на 14 марта маршала разбудили известием, что артиллерийская часть, которая должна была прийти к нему в подкрепление из Шалона, взбунтовалась и перешла вместе со своим эскортом (кавалерийским эскадроном) на сторону Наполеона. Затем на рассвете и утром непрерывно сыпались новые и новые известия о городах, прогоняющих роялистские власти и присоединяющихся к императору, о движении самого императора к Лон-ле-Сонье. В момент жестоких колебаний, начавших обуревать его душу, окруженный мрачными, явно не желающими ни говорить с ним, ни отвечать ему солдатами и избегающими его взгляда офицерами, Ней получил записку, привезенную в его лагерь верховым ординарцем от Наполеона: «Я вас приму так, как принял на другой день после сражения под Москвой. Наполеон», — прочел маршал в записке.
Колебания маршала Нея кончились. Он приказал полковым командирам сейчас же собрать и выстроить полки. Выйдя перед фронтом, он выхватил шпагу из ножен и прокричал громким голосом: «Солдаты! Дело Бурбонов навсегда проиграно. Законная династия, которую выбрала себе Франция, восходит на престол. Императору, нашему государю, надлежит впредь царствовать над этой прекрасной страной». Крики «Да здравствует император! Да здравствует маршал Ней!» заглушили его слова. Несколько роялистских офицеров сейчас же скрылись. Ней им не препятствовал. Один из них тут же сломал свою шпагу и горько упрекнул Нея. «А что же, по-вашему, было делать? Разве я могу остановить движение моря своими двумя руками?» — ответил Ней.
Крайне любопытно, что, внезапно перейдя на сторону Наполеона, маршал Ней немедленно стал исполнять вполне точный (как всегда) приказ императора о ближайших движениях отряда, стоявшего в Лон-ле-Сонье. Наполеон прислал этот приказ заблаговременно, еще ничего не зная о переходе Нея на его сторону, но твердо убежденный, что Ней не поднимет против него оружия.
В Париже почти одновременно узнали и о въезде Наполеона в Лион, и о дальнейшем его движении на север, и о переходе Нея с войском на его сторону.
Бежать! Это было первой мыслью королевского двора. Бежать без оглядки от смертельной опасности, бежать от Венсенского рва, где гниет труп герцога Энгиенского. Столпотворение в умах было невообразимое. Король Людовик XVIII сначала противился мысли о бегстве, ему это казалось и позором и потерей престола. Но тогда что же предпринять? Дело дошло до серьезного обсуждения такого стратегического плана: король сядет в карету и со всеми сановниками, со всей своей семьей, с высшим духовенством выедет за город, у заставы все эти экипажи остановятся и будут ждать идущего на столицу узурпатора. Узурпатор, увидя седовласого легитимного монарха, гордого своим правом и бестрепетно своей собственной особой заграждающего вход в столицу, несомненно, устыдится своего поведения — и повернет обратно. Не было той бессмыслицы, которая не предлагалась бы в этой панике теми головами, которые и в спокойном-то состоянии были не очень хитры на выдумку.
Правительственная и близкая к правящим сферам парижская пресса от крайней самоуверенности перешла к полному упадку духа и нескрываемому страху. Типичной для ее поведения в эти дни была строгая последовательность эпитетов, прилагавшихся к Наполеону по мере его наступательного движения от юга к северу. Первое известие: «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». Второе известие: «Людоед идет к Грассу». Третье известие: «Узурпатор вошел в Гренобль». Четвертое известие: «Бонапарт занял Лион». Пятое известие: «Наполеон приближается к Фонтенебло». Шестое известие: «Его императорское величество ожидается сегодня в своем верном Париже». Вся эта литературная гамма уместилась в одних и тех же газетах, при одной и той же редакции на протяжении нескольких дней.
Оставалась еще одна слабая надежда, но и она вскоре угасла. В Париже знали, что Наполеон не принимает никаких мер предосторожности, что, например, при своем торжественном вступлении в Лион он ехал впереди свиты и армии и лошадь его шагом ступала среди огромной массы со всех сторон окружавшего и приветствовавшего его народа. Ничего не стоило одним ударом кинжала спасти династию Бурбонов. И в Париже, говорят нам свидетели, «тайные агенты вмешивались в толпу, чтобы вложить кинжал в руки нового Жака Клемана» (убившего в 1589 г. короля Генриха III). Будущему убийце обещали открыто большую награду, ссылаясь при этом на то, что такое деяние будет законнейшим и не подлежащим суду актом, так как Венский конгресс объявил Наполеона врагом человечества и поставил его вне закона.
Но Жака Клемана в короткие оставшиеся дни найти не успели.
В ночь с 19 на 20 марта Наполеон со своим авангардом вошел в Фонтенебло. Уже в 11 часов вечера 19 марта король со всей семьей бежал из Парижа по направлению к бельгийской границе.
На другой день, 20 марта 1815 г., в 9 часов вечера Наполеон, окруженный свитой и кавалерией, вступил в Париж.
Несметная толпа ждала его во дворце Тюильри и вокруг дворца.
Когда еще с очень далекого расстояния стали доноситься на дворцовую площадь с каждой минутой усиливавшиеся и наконец превратившиеся в сплошной, оглушительный, радостный вопль крики несметной толпы, бежавшей за каретой Наполеона и за скакавшей вокруг кареты свитой, другая огромная толпа, ждавшая у дворца, ринулась навстречу. Карета и свита, окруженные со всех сторон несметной массой, не могли дальше двинуться. Конные гвардейцы совершенно тщетно пытались освободить путь. «Люди кричали, плакали, бросались прямо к лошадям, к карете, ничего не желая слушать», — говорили потом кавалеристы, окружавшие императорскую карету. Толпа, как обезумевшая (по показанию свидетелей), бросилась к императору, оттеснив свиту, раскрыла карету и при несмолкаемых криках на руках понесла Наполеона во дворец и по главной лестнице дворца наверх, к апартаментам второго этажа.
После самых грандиозных побед, самых блестящих походов, после самых огромных и богатых завоеваний никогда его не встречали в Париже так, как вечером 20 марта 1815 г. Один старый роялист говорил потом, что это было самое настоящее идолопоклонство.
Едва только толпу с трудом уговорили выйти из дворца и Наполеон очутился в своем старом кабинете (откуда за 24 часа до этого вышел бежавший король Людовик XVIII), как тут же принялся за дела, обступившие его со всех сторон.
Невероятное совершилось. Безоружный человек без выстрела, без малейшей борьбы в 19 дней прошел от Средиземного побережья до Парижа, изгнал династию Бурбонов и воцарился снова.
Но он лучше всех знал, что опять, как и в первое свое царствование, не мир он принес с собой, а меч, и что потрясенная его внезапным появлением Европа на этот раз сделает все, чтобы помешать ему собрать свои силы.
Наполеон торжественно обещал, начиная свое новое царствование, дать Франции свободу и мир, откровенно и громогласно сознавшись тем самым и многократно это повторяя и в Гренобле, и в Лионе, и в Париже, что в свое первое царствование он не давал Франции ни свободы, ни мира. Свободолюбивый и миролюбивые Наполеон — это, конечно, должно было звучать в ушах Франции и Европы так же, как если бы сказали «холодный огонь» или «горячий лед».
При всем громадном, быстром и ясно взвешивающем уме Наполеон хорошо понимал, что если он без всякой борьбы, голыми руками в несколько дней отвоевал обратно французский престол, то это произошло не потому, что сразу все пленились размерами той свободы и надежностью того мира, которые он сулил своим подданным. Внешнего мира Бурбоны пока не нарушили и не собирались нарушить. Следовательно, от них отвернулись по другой причине. Он очень ясно понимал, что его успех вызван в очень значительной степени его обещаниями крестьянству, т.е. подавляющему большинству нации.
«Бескорыстные люди меня привели в Париж. Унтер-офицеры и солдаты сделали все. Народу и войску я обязан всем», — повторял Наполеон несколько раз в первый вечер после своего приезда в Тюильри 20 марта 1815 г., согласно свидетельству находившегося при нем Флери де Шабулона.
«Крестьяне кричали: Да здравствует император! Долой дворян! Долой попов! Они следовали за мной из города в город, а когда не могли идти дальше, то их заменяли другие эскортировать меня, и так до Парижа. После провансальцев — дофинцы, после дофинцев — лионцы, после лионцев — бургундцы составляли мой кортеж, и истинными заговорщиками, которые приготовили мне всех этих друзей, были сами Бурбоны», — так рассказывал Наполеон о своем шествии в первые дни после водворения в Тюильри.
Но крестьян, по крайней мере отчасти, удовлетворить было легко: для них Наполеон был символом полного уничтожения феодализма и обеспечения крестьянской собственности на землю. Правда, крестьяне еще хотели, чтобы не было войн и наборов, и чутко прислушивались, когда император говорил о своей будущей мирной политике. Но этот вопрос о мире был во всяком случае не первым по важности. Важным был другой вопрос: Наполеон понимал, что после 11 месяцев конституционной монархии Бурбонов и некоторой свободы прессы городская буржуазия ждет от него хотя бы какого-нибудь минимума свобод; ему нужно было поскорее иллюстрировать ту программу, которую он развивал, двигаясь к Парижу и разыгрывая революционного генерала. «Я явился, чтобы избавить Францию от эмигрантов», — сказал он в Гренобле. — «Пусть берегутся священники и дворяне, которые хотели подчинить французов рабству. Я их повешу на фонарях», — заявил он в Лионе.
Он получил целый ряд адресов от старых якобинцев, уцелевших каким-то образом в провинции от преследований в его первое царствование; они теперь приветствовали его как представителя революционной активности против Бурбонов, монахов, дворян, священников. В Тулузе по городу весь день носили бюст императора Наполеона с пением Марсельезы и с криками «Аристократов на пику!». К маршалу Даву, любимцу Наполеона, которого он назначил сейчас же по своем возвращении военным министром, обращались из провинции с просьбой, чтобы император ввел террор 1793 г. И сам Наполеон знал очень хорошо это настроение. Уже ночью 20 марта, как только его внесли на руках во дворец, он сказал графу Моле: «Я нашел всюду ту же ненависть к попам и дворянству, и притом такую же сильную, как в начале революции».
Но так же как в 1812 г. в Кремле он побоялся иметь союзником русскую крестьянскую революцию, так в 1815 г. в Тюильри он испугался помощи со стороны жакерии и революционного террора. Он не позвал к себе на помощь ни «Пугачева» тогда, ни «Марата» теперь, и это не было случайностью. Тот класс французского общества, который победил в эпоху революции и главным представителем и укрепителем победы которого являлся Наполеон, т.е. крупная буржуазия, был единственным классом, стремления которого были Наполеону близки и понятны. Именно в этом классе он хотел чувствовать свою опору, и в его интересах готов был вести борьбу. И как в 1812 г. он чувствовал себя ближе к врагу, к Александру I, чем к крестьянской массе России, так в 1815 г. он не желал даже во имя борьбы с вражескими полчищами звать на помощь революцию. «Я не хочу быть королем жакерии», — сказал Наполеон типичному выразителю буржуазных чаяний в этот момент, Бенжамену Констану. Император велел позвать его во дворец вскоре после своего нового воцарения именно по вопросу либеральной государственной реформы, которая удовлетворила бы буржуазию, доказала бы новоявленное свободомыслие императора Наполеона и вместе с тем утихомирила бы поднявших голову якобинцев.
Очень интересно отметить, что Наполеон отлично сознавал и тогда и впоследствии, что только революционный подъем мог бы помочь ему в этот момент, а вовсе не умеренно-либеральные конституционные узоры: «Моя система защиты ничего не стоила, потому что средства были слишком не в уровень с опасностью. Нужно было бы снова начать революцию, чтобы я мог получить от нее все средства, какие она создает. Нужно было взволновать все страсти, чтобы воспользоваться их ослеплением. Без этого я не мог уже спасти Францию», — говорил он, вспоминая о 1815 г. И знаменитый военный историк и теоретик генерал Жомини совершенно в этом случае согласен с императором. Отказавшись даже от попытки вызвать к жизни 1793 год и могучие силы, которые сам же он признал за революцией, Наполеон велел отыскать где-то спрятавшегося либерала и теоретика-публициста Бенжамена Констана и привести во дворец. Прятался Бенжамен Констан потому, что еще всего только за один день до въезда Наполеона в Париж он печатно называл возвращение императора общественным бедствием, а самого Наполеона именовал Нероном.
Бенжамен Констан предстал перед «Нероном» не без трепета и к восторгу своему узнал, что его не только не расстреляют, но предлагают ему немедленно изготовить конституцию для Французской империи.
6 апреля Констана привели к императору, а 23 апреля конституция была готова. Она была странно окрещена: «Дополнительный акт к конституциям империи». Наполеон хотел, чтобы этим была установлена преемственность между первым и вторым его царствованиями. Бенжамен Констан просто взял хартию, т.е. конституцию, данную королем Людовиком XVIII в 1814 г., и сделал ее несколько либеральнее. Сильно был понижен избирательный ценз для избирателей и для избираемых, но все-таки, чтобы попасть в депутаты, нужно было быть богатым человеком. Несколько больше обеспечивалась свобода печати. Уничтожалась предварительная цензура, преступления печати могли отныне караться лишь по суду. Кроме избираемой палаты депутатов (из 300 человек), учреждалась другая — верхняя палата, которая должна была назначаться императором и быть наследственной. Законы должны были проходить через обе палаты и утверждаться императором.
Наполеон принял этот проект, и новая конституция была опубликована 23 апреля. Наполеон не очень сопротивлялся либеральному творчеству Бенжамена Констана. Ему хотелось только поотложить выборы и созыв палат, пока не решится вопрос о войне, а там, если будет победа, видно будет, что делать и с депутатами, и с прессой, и с самим Бенжаменом Констаном. До поры до времени эта конституция должна была успокоить умы. Но либеральная буржуазия плохо верила в его либерализм, и императора очень просили ускорить созыв палат. Наполеон после некоторых возражений согласился и на 25 мая назначил «майское поле», когда должны были быть оглашены результаты плебисцита, которому император подверг свою новую конституцию, должны были быть розданы знамена национальной гвардии и открыться заседания палаты.
Плебисцит дал 1552 450 голосов за конституцию и 4800 против. Церемония раздачи знамен (фактически она произошла не 26 мая, а 1 июня) была величественной и волнующей; тогда же, 1 июня, открылись заседания вновь избранной палаты (называвшейся, как прежде, Законодательным корпусом).
Всего полторы недели заседали народные представители, а Наполеон был ими уже недоволен и обнаруживал гнев. Он был абсолютно не способен ужиться с каким бы то ни было ограничением своей власти и даже с признаком чьего-либо независимого поведения. Палата выбрала своим председателем Ланжюине, умеренного либерала, бывшего жирондиста, которого Наполеон не очень жаловал. Еще и оппозиции никакой в этом нельзя было усмотреть — Ланжюине определенно предпочитал Наполеона Бурбонам, — а император уже сердился и, принимая всеподданнейший и очень почтительный адрес от Законодательного корпуса, сказал: «Не будем подражать примеру Византии, которая, теснимая со всех сторон варварами, стала посмешищем потомства, занимаясь отвлеченными дискуссиями в тот момент, когда таран разбивал ворота города». Он намекал на европейскую коалицию, полчища которой со всех сторон устремились к пределам Франции.
Он принял адрес народных представителей 11 июня, а на другой день, 12 июня, выехал к армии, на последнюю в его жизни гигантскую схватку с Европой.
Уезжая к армии, Наполеон хорошо понимал, что он оставляет в тылу людей весьма ненадежных и что дело не столько в либералах собравшейся 11 июня палаты, сколько в человеке, которого он сейчас же по возвращении своем с острова Эльбы опять сделал министром полиции. Жозеф Фуше ухитрился перед самым въездом Наполеона в Париж вызвать против себя гнев Бурбонов и опалу, и этот искусный прием доставил ему место министра, как только Наполеон вошел в Париж. Что Фуше способен на всякую интригу, подлость и измену, это Наполеону было очень хорошо известно. Но, во-первых, в Вандее было неспокойно, а Фуше знал, как никто, вандейские инсуррекции и умел, как никто, с ними бороться, а во-вторых, император надеялся на ссору Фуше с Бурбонами. Вместе с тем, как и в первое свое царствование, используя полицейские и провокаторские таланты Фуше, Наполеон учредил особое, совсем уже засекреченное, наблюдение за самим Фуше. Наблюдателем за Фуше он назначил Флери де Шабулона, того самого, который приезжал тайком к императору на остров Эльбу. Флери де Шабулон однажды разоблачил какие-то тайные махинации между Фуше и Меттернихом. Правда, Фуше отвертелся от опасности, но Наполеон все-таки заключил (дело было еще в мае) разговор с ним следующими словами: «Вы изменник, Фуше! Мне бы следовало приказать вас повесить!» На что Фуше, за свою долгую службу при Наполеоне уже несколько привыкший к таким оборотам беседы, отвечал с низким поклоном, изогнувшись в три погибели: «Я не разделяю этого мнения вашего величества».
Но что же было делать? И палата смирится, и Фуше будет верен и обезврежен, если удастся победить союзников. А если не удастся, то не все ли равно, кто похоронит империю: либеральные депутаты или неверные министры?
Наполеон полагался на Даву, которого оставил на правах генерал-губернатора Парижа и военного министра, полагался на старого убежденного республиканца Карно, который прежде ни за что не хотел служить деспоту, задушившему республику, а теперь, в 1815 г., сам предложил Наполеону свои услуги, считая Бурбонов наихудшим злом.
Наполеон твердо знал, что и рабочие предместья (голодавшие в 1815 г. еще больше, чем весной 1814 г.) не восстанут у него в тылу, так же как они не восстали ни в 1814 г., ни еще раньше, в 1813 г., — и тоже по той самой причине, по какой Карно пошел к нему теперь на службу и якобинцы приветствовали его высадку в бухте Жуан. Он понимал, что и рабочие, и Карно, и якобинцы в провинции сейчас смотрят на него не как на императора, защищающего свой престол от другого монархического претендента, но как на вождя войск послереволюционной Франции, который отправляется оборонять территорию от интервентов и от Бурбонов, идущих восстановлять старый строй. Этот военный вождь был к тому же в глазах всего света, и друзей и врагов, неподражаемым мастером и художником в деле войны, гениальнейшим из всех когда-либо существовавших до того времени великих полководцев, виртуозом военной стратегии и тактики. Страна и стоявшая перед ней Европа замерли в ожидании.
Эта последняя в жизни Наполеона война являлась всегда предметом страстных споров и обильно была использована не только научной, но и художественной литературой. О ряде фатальных случайностей, вырвавших у Наполеона уже совсем будто бы готовую победу, говорит почти вся литература.
С точки зрения научного, реалистического анализа событий этот вопрос о случайностях может иметь разве только военно-технический интерес. Если даже, не вникая и не критикуя, принять без малейших возражений, с полной готовностью тезис, что не будь таких-то случайностей, Наполеон выиграл бы битву под Ватерлоо, то все равно главный результат всей этой войны был бы тот же самый: империя погибла бы, потому что Европа только начинала развертывать все свои силы, а Наполеон уже окончательно истощил и свои силы и военные резервы.
Из 198 тысяч, которыми располагал Наполеон 10 июня 1815 г., более трети было разбросано по разным местам страны (в одной только Вандее на всякий случай пришлось оставить до 65 тысяч человек). У императора для предстоящей кампании было непосредственно в руках около 128 тысяч при 344 орудиях в составе гвардии, пяти армейских корпусов и резерва кавалерии. Кроме того, имелась чрезвычайная армия (национальная гвардия и пр.) в 200 тысяч человек, из которых половина не обмундированных, а третья часть не была вооружена. Если бы кампания затянулась, то он, используя организационную работу своего военного министра Даву, мог бы собрать с величайшими усилиями еще около 230–240 тысяч человек. А как же кампания в случае побед Наполеона могла не затянуться, когда англичане, пруссаки, австрийцы, русские выставили уже сразу около 700 тысяч человек, а к концу лета выставили бы еще 300 тысяч и к осени еще дополнительные силы? Они рассчитывали в общем выставить больше миллиона бойцов.
Коалиция совершенно непоколебимо решила покончить с Наполеоном. После первого испуга и упадка духа все правительства держав, представители которых заседали на Венском конгрессе, обнаружили необычайную энергию. Все попытки Наполеона завести с какой-нибудь державой сепаратные переговоры были отклонены, Наполеон был объявлен вне закона как «враг человечества».
Достаточно напомнить, даже оставляя в стороне второстепенные державы, что после Ватерлоо немедленно во Францию вторглись армии: австрийская (230 тысяч человек), русская (250 тысяч человек), прусская (310 тысяч человек), английская (100 тысяч человек). Составляться эти армии начали с большой поспешностью тотчас после получения известий о высадке Наполеона на юге Франции.
Кроме ненависти к захватчику и завоевателю, кроме ужаса перед страшным полководцем и вечным победителем, на этот раз на Александра, Франца, Фридриха-Вильгельма, Меттерниха, лорда Кэстльри (очень обеспокоенного как раз в это время настроениями рабочих и буржуазно-реформистскими течениями в своей стране), — на всю эту реакционную правящую верхушку Европы действовала еще и тревога по поводу новых «либеральных» замашек вернувшегося Наполеона. Красный платок, которым обматывал свою голову Марат, был для европейских правителей более страшен, чем императорский золотой венец Наполеона. В 1815 г. им показалось, что Наполеон именно собирается «воскресить Марата» для общей борьбы. Наполеон на это не только не решился, а больше всего этого боялся, но в Вене, Лондоне, Берлине и Петербурге так померещилось. И это еще более усилило и без того непримиримую вражду к завоевателю.
Когда Наполеон прибыл к армии, он был встречен с необычайным энтузиазмом. Английские лазутчики не могли прийти в себя от удивления и доносили начальнику английской армии Веллингтону, что обожание Наполеона в армии дошло до размеров умопомешательства. С этими свидетельствами согласуются и показания других иностранных соглядатаев, присматривавшихся к настроениям во Франции. Ни Веллингтон, ни его шпионы не разглядели в настроениях солдат еще и другой черты, которой не было до сих пор в наполеоновских армиях, — это подозрительности и недоверия солдат к генералам и маршалам. Солдаты помнили, как маршалы в 1814 г. изменяли императору. Слепо веря Наполеону, они хотели, чтобы он поступил с «изменниками» так же, как в свое время Конвент с подозрительными генералами. Гильотина для изменников в генеральских галунах! Но Наполеон на это не шел, маршалы и генералы оставались на своих местах, он не решился на революционный террор ни в тылу, ни на фронте, хотя сам и проговорился, что это удвоило бы его силы.
Присутствие императора ободряюще подействовало на солдат: они уверились, что генералы и маршалы под хорошим надзором и можно не опасаться внезапного предательства с их стороны, в чем солдатская масса не всех, но некоторых из них подозревала.
Перед Наполеоном были англичане и пруссаки, первыми из всех союзников явившиеся на поле битвы. Австрийцы тоже спешили к Рейну. Еще в самом начале после нового воцарения Наполеона король неаполитанский Мюрат, усидевший на престоле в 1814 г. и молчаливо признанный пока в королевском звании Венским конгрессом, внезапно (дело было в марте 1815 г.), как только узнал о высадке императора, перешел на его сторону, объявил войну австрийцам, но был разбит, раньше чем сам Наполеон выступил против коалиции, так что теперь, в середине июня, Наполеон не мог рассчитывать даже на эту частичную диверсию, которая могла бы отвлечь часть австрийской армии. Но австрийцы еще были далеко. Прежде всего нужно было отбросить англичан и пруссаков. Веллингтон с английской армией стоял в Брюсселе, в Бельгии; Блюхер с пруссаками — разбросанно на реке Самбре и Маасе, между Шарлеруа и Льежем.
14 июня Наполеон начал кампанию вторжением в Бельгию. Он быстро двинулся в промежуток, который отделял Веллингтона от Блюхера, и бросился на Блюхера. Французы заняли Шарлеруа и с боем перешли через реку Самбру. Но операция Наполеона на правом фланге несколько замедлилась: генерал Бурмон, роялист по убеждениям, давно подозреваемый солдатами, бежал в прусский лагерь. Солдаты после этого стали еще подозрительнее относиться к своему начальству. Блюхеру этот инцидент показался благоприятным признаком, хотя он и отказался принять изменившего Наполеону генерала Бурмона и даже велел передать изменнику, что считает его «собачьими отбросами» (Блюхер выразился еще энергичнее). Наполеон, когда ему доложили об измене Бурмона, вандейца и роялиста, сказал: «Белые всегда останутся белыми».
Наполеон велел маршалу Нею еще 15 июня занять селение Катр-Бра на Брюссельской дороге, чтобы сковать англичан, но Ней, действуя вяло, опоздал это сделать. 16 июня произошло большое сражение Наполеона с Блюхером при Линьи. Победа осталась за Наполеоном; Блюхер потерял больше 20 тысяч человек, Наполеон — около 11 тысяч. Но Наполеон не был доволен этой победой, потому что если б не ошибка Нея, который задержал без нужды 1-й корпус, заставив его напрасно совершить прогулку между Катр-Бра и Линьи, он мог бы при Линьи уничтожить всю прусскую армию. Блюхер был разбит и отброшен (в неизвестном направлении), но не разгромлен.
17-го числа Наполеон дал передохнуть своей армии. Военные критики укоряют его, что он даром потерял драгоценный день и этим дал возможность разбитому Блюхеру привести свои войска в порядок. Около полудня Наполеон отделил от всей армии 36 тысяч человек, поставил над ними маршала Груши и велел ему продолжать преследование Блюхера. Часть кавалерии Наполеона преследовала англичан, которые накануне пытались у Катр-Бра сковать французов, но страшный летний ливень размыл дороги и прекратил преследование. Сам Наполеон с главными силами соединился с Неем и двинулся на север, по прямому направлению на Брюссель. Веллингтон со всеми силами английской армии занял позицию в 22 километрах от Брюсселя, на плато Мон-Сен-Жан, южнее деревни Ватерлоо. Лес Суаньи, севернее Ватерлоо, отрезал ему путь отхода к Брюсселю.
Веллингтон укрепился на этом плато. Его идея была ждать Наполеона на этой очень сильной позиции и продержаться, чего бы это ни стоило, до той поры, пока Блюхер успеет, оправившись от поражения и получив подкрепления, прийти к нему на помощь.
Лазутчики один за другим доносили в английскую ставку, что, невзирая на размытые ливнем дороги, Наполеон безостановочно движется прямо к Мон-Сен-Жанскому плато. Если удастся продержаться до прихода Блюхера — победа; если не удастся — разгром английской армии. Так ставился для Веллингтона вопрос еще с полудня 17 июня, когда начальник штаба Блюхера, генерал Гнейзенау, дал ему знать, что Блюхер, как только оправится, поспешит к нему.
К исходу дня 17 июня Наполеон подошел со своими войсками к плато и вдали в тумане увидел английскую армию.
У Наполеона было приблизительно 72 тысячи человек, у Веллингтона — 70 тысяч в тот момент, когда утром 18 июня 1815 г. они стали друг против друга. Оба ожидали подкреплений и имели твердое основание ждать их: Наполеон ждал маршала Груши, у которого имелось не больше 33 тысяч человек; англичане ждали Блюхера, у которого после поражения, испытанного им при Линьи, осталось около 80 тысяч человек и который мог появиться с готовыми к бою 40-50 тысячами.
Уже с конца ночи Наполеон был на месте, но он не мог начать атаку на рассвете, потому что прошедший дождь так разрыхлил землю, что трудно было развернуть кавалерию. Император объехал утром свои войска и был в восторге от оказанного ему приема: это был совсем исключительный порыв массового энтузиазма, не виданного в таких размерах со времен Аустерлица. Этот смотр, которому суждено было быть последним смотром армии в жизни Наполеона, произвел на него и на всех присутствующих неизгладимое впечатление.
Ставка Наполеона была сначала у фермы дю Кайю. В 11 1/2 часов утра Наполеону показалось, что почва достаточно высохла, и только тогда он велел начать сражение. Против левого крыла англичан открыт был сильный артиллерийский огонь 84 орудий и начата атака под руководством Нея. Одновременно французами была предпринята более слабая атака с целью демонстрации у замка Угумон на правом фланге английской армии, где нападение встретило самый энергичный отпор и натолкнулось на укрепленную позицию.
Атака на левом крыле англичан продолжалась. Убийственная борьба шла полтора часа, как вдруг Наполеон заметил в очень большом отдалении на северо-востоке у Сен-Ламбер неясные очертания двигающихся войск. Он сначала думал, что это Груши, которому с ночи и потом несколько раз в течение утра был послан приказ спешить к полю битвы. Но это был не Груши, а Блюхер, ушедший от преследования Груши и после очень искусно исполненных переходов обманувший французского маршала, а теперь спешивший на помощь Веллингтону. Наполеон, узнав истину, все-таки не смутился; он был убежден, что по пятам за Блюхером идет Груши и что когда оба они прибудут на место боя, то хотя Блюхер приведет Веллингтону больше подкреплений, чем Груши приведет императору, но все-таки силы более или менее уравновесятся, а если до появления Блюхера и Груши он успеет нанести сокрушительный удар англичанам, то сражение после подхода Груши будет окончательно выиграно.
Направив против Блюхера часть конницы, Наполеон приказал маршалу Нею продолжать атаку левого крыла и центра англичан, уже испытавшего с начала боя ряд страшных ударов. Здесь наступали в плотном боевом построении четыре дивизии корпуса д’Эрлона. На всем этом фронте закипел кровопролитный бой. Англичане встретили огнем эти массивные колонны и несколько раз ходили в контратаку. Французские дивизии одна за другой вступили в бой и понесли страшные потери. Шотландская кавалерия врубилась в эти дивизии и изрубила часть состава. Заметив свалку и поражение дивизии, Наполеон лично примчался к высоте у фермы Бель-Альянс, направил туда несколько тысяч кирасир генерала Мильо, и шотландцы, потеряв целый полк, были отброшены.
Эта атака расстроила почти весь корпус д’Эрлона. Левое крыло английской армии не могло быть сломлено. Тогда Наполеон меняет свой план и переносит главный удар на центр и правое крыло английской армии. В 3 1/2 часа ферма Ла-Хэ-Сэнт была взята левофланговой дивизией корпуса д’Эрлона. Но этот корпус не имел сил развить успех. Тогда Наполеон передает Нею 40 эскадронов конницы Мильо и Лефевр-Денуэтта с задачей нанести удар правому крылу англичан между замком Угумон и Ла-Хэ-Сэнт. Замок Угумон был, наконец, в это время взят, но англичане держались, падая сотнями и сотнями и не отступая от своих главных позиций.
Во время этой знаменитой атаки французская кавалерия попала под огонь английской пехоты и артиллерии. Но это не смутило остальных. Был момент, когда Веллингтон думал, что все пропало, — а это не только думали, но и говорили в его штабе. Английский полководец выдал свое настроение словами, которыми он ответил на доклад о невозможности английским войскам удержать известные пункты: «Пусть в таком случае они все умрут на месте! У меня уже нет подкреплений. Пусть умрут до последнего человека, но мы должны продержаться, пока придет Блюхер», — отвечал Веллингтон на все встревоженные доклады своих генералов, бросая в бой свои последние резервы.
Но Наполеон не ждал пехотных резервов. Он послал в огонь еще кавалерию, 37 эскадронов Келлермана. Наступил вечер. Наполеон послал наконец на англичан свою гвардию и сам направил ее в атаку. И вот в этот самый момент раздались крики и грохот выстрелов на правом фланге французской армии: Блюхер с 30 тысячами солдат прибыл на поле битвы. Но атаки гвардии продолжаются. так как Наполеон верит, что вслед за Блюхером идет Груши! Вскоре, однако, распространилась паника: прусская кавалерия обрушилась на французскую гвардию, очутившуюся между двух огней, а сам Блюхер бросился с остальными своими силами к ферме Бель-Альянс, откуда перед этим и выступил Наполеон с гвардией. Блюхер этим маневром хотел отрезать Наполеону отступление. Уже было восемь часов вечера, но еще достаточно светло, и тогда Веллингтон, весь день стоявший под непрерывными убийственными атаками французов, перешел в общее наступление. А Груши все не приходил. До последней минуты Наполеон ждал его напрасно.
Все было кончено. Гвардия, построившись в каре, медленно отступала, отчаянно обороняясь, сквозь тесные ряды неприятеля. Наполеон ехал шагом среди охранявшего его батальона гвардейских гренадер. Отчаянное сопротивление старой гвардии задерживало победителей. «Храбрые французы, сдавайтесь!» — крикнул английский полковник Хелькетт, подъехав к окруженному со всех сторон каре, которым командовал генерал Камбронн, но гвардейцы не ослабили сопротивления, предпочли смерть сдаче. На предложение сдаться Камбронн крикнул англичанам презрительное ругательство. На других участках французские войска, и особенно у Плансенуа, где дрался резерв — корпус Лобо, — оказали сопротивление, но в конечном итоге, подвергаясь атакам свежих сил пруссаков, они рассеялись в разных направлениях, спасаясь бегством, и только на следующий день, и то лишь частично, стали собираться в организованные единицы. Пруссаки преследовали врага всю ночь на далекое расстояние.
25 тысяч французов и 22 тысячи англичан и их союзников легли на поле битвы убитыми и ранеными. Но поражение французской армии, потеря почти всей артиллерии, приближение к границам Франции сотен тысяч свежих австрийских войск, близкая перспектива появления еще новых сотен тысяч русских — все это делало положение Наполеона совсем безнадежным, и он это сознал сразу, удаляясь от ватерлооского поля, на котором кончилось его кровавое поприще. Изменил ли Груши, своим опозданием погубивший французскую армию, или только случайно ошибся и сбился с дороги, вел ли себя Ней во время кавалерийской атаки против англичан, как герой (мнение Тьера) или как сумасшедший (мнение Мадлена), стоило ли ждать полудня или нужно было начинать бой на рассвете, чтобы покончить с англичанами до прихода Блюхера, — все эти и тысяча других вопросов, связанных с битвой при Ватерлоо, занимали больше ста лет историков, занимали (и очень страстно) современников этого сражения. Но эти вопросы, нужно тут же отметить, очень мало занимали в этот первый момент ум самого Наполеона. Внешне он был спокоен и очень задумчив во все время пути от Ватерлоо до Парижа, но лицо его не было таким угрюмым, как после Лейпцига, хотя теперь в самом деле все было для него потеряно, и потеряно безвозвратно.
Любопытна данная им спустя неделю после Ватерлоо оценка сокровенного смысла этого сражения: «Державы не со мной ведут войну, а с революцией. Они всегда видели во мне ее представителя, человека революции».
В этой оценке он всецело сошелся со всеми ближайшими поколениями свободомыслящей Европы, от которых был так далек во всех других воззрениях. Достаточно вспомнить, как волновала всегда Герцена картина художника, изобразившего встречу и взаимные поздравления Веллингтона и Блюхера ночью на поле Ватерлооской битвы. «Наполеон додразнил другие народы до дикого бешенства отпора, — пишет Герцен, — и они стали отчаянно драться за свои рабства и своих господ. На этот раз военный деспотизм был побежден феодальным... Я не могу равнодушно пройти мимо гравюры, представляющей встречу Веллингтона с Блюхером в минуту победы под Ватерлоо. Я долго смотрю на нее всякий раз, и всякий раз внутри груди делается холодно и страшно». Веллингтон и Блюхер «приветствуют радостно друг друга. И как им не радоваться. Они только что своротили историю с большой дороги по ступицу в грязь, и в такую грязь, из которой ее в полвека не вытащат... Дело на рассвете... Европа еще спала в это время и не знала, что судьбы ее переменились». Герцен винил при этом самого Наполеона, который «додразнил» европейские народы до бешенства своим произволом и презрением к их интересам и их достоинству; сам Наполеон об этой стороне дела всегда молчал, она его нисколько не занимала. Но что разгромленная им так много раз феодально-абсолютистская аристократия взяла под Ватерлоо до известной степени свой реванш, что послереволюционная Франция как-то тоже отступила вместе со старой гвардией 18 июня 1815 г., это императору было, судя по его словам, вполне ясно.
Замечательно, что он уже сразу после Ватерлоо говорил обо всей своей грандиозной эпопее и об этом только что наступившем ее конце как будто из какого-то отдаления, а не как центральное действующее лицо.
С ним совершилась сразу крутая перемена. Он приехал после Ватерлоо в Париж не бороться за престол, а сдавать все свои позиции. И не потому, что исчезла его исключительная энергия, а потому, что он, по-видимому, не только понял умом, но ощутил всем существом, что он свое дело — худо ли, хорошо ли — сделал и что его роль окончена. Еще когда за 15 месяцев до того он, уже держа перо в руках, чтобы подписать в Фонтенебло свое первое отречение, вдруг поднял голову и сказал своим маршалам: «А может быть, нам пойти на них? Мы их разобьем!» — ему казалось, что роль его не кончена. Даже еще три месяца назад, в марте этого же 1815 г., он сделал то, чего никто во всемирной истории не делал, — он был тогда еще полон веры в себя и свое предназначение.
Теперь — все потухло сразу и навеки. Он, после Ватерлоо, ни разу не переживал такого отчаяния, как 11 апреля 1814 г., когда принял яд. Но он потерял всякий интерес и вкус к деятельности, он просто ждал, что с ним сделают грядущие события, в подготовке которых он уже решил не принимать никакого участия.
Он прибыл в Париж 21 июня, созвал министров. Карно предлагал потребовать у палат провозглашения диктатуры Наполеона. Даву советовал просто объявить перерыв сессии и распустить палату. Наполеон отказался это сделать. Палата в это время тоже собралась и, по предложению снова появившегося на исторической сцене Лафайета, объявила себя нераспускаемой.
Наполеон впоследствии сказал, что от одного его слова зависело, чтобы народная масса перерезала всю палату, и многие депутаты, пережившие эти дни, подтвердили его слова. Но опять-таки: он для этого должен был противопоставить Лафайету «Марата», либералам, желавшим воскресить 1789 г., противопоставить 1793 г., буржуазии противопоставить плебейскую массу, которая спасла Францию от монархической Европы за четверть века до той поры. Ни до, ни после Ватерлоо Наполеон не захотел на это пойти.
Любопытнейшие известия приходили непрерывно из рабочих предместий 21, 22, 23 июня: там громко, собираясь большими толпами, высказывались решительно против отречения императора, требовали продолжения военной борьбы против надвигавшегося вражеского нашествия.
В течение всего 21 июня, почти всей ночи с 21 на 22 июня, в течение всего дня 22 июня в Сент-Антуанском и Сен-Марсельском предместьях, в квартале Тампль по улицам ходили процессии с криками: «Да здравствует император! Долой изменников! Император или смерть! Не нужно отречения! Император и оборона! Долой палату!» Но Наполеон уже не хотел бороться и не хотел царствовать.
В Париже происходили совещания встревоженных финансистов, членов торговой палаты, банкиров; паническое настроение биржи не поддавалось описанию. Наполеон ясно мог видеть, что буржуазия покидает его, что он ей не нужен и кажется опасным. Ему изменил тот класс, на который он в течение всего своего царствования опирался, и он окончательно отказался от продолжения борьбы.
22 июня он отрекся вторично от престола в пользу своего маленького сына (бывшего еще с весны 1814 г. с матерью у своего деда, императора Франца). Его второе царствование, продолжавшееся сто дней, кончилось. На этот раз Наполеон не мог надеяться, что державы согласятся пожертвовать Бурбонами в пользу его сына.
Громадная толпа собралась тогда вокруг Елисейского дворца, где остановился Наполеон после возвращения из армии. «Не нужно отречения! Да здравствует император?» — кричали собравшиеся. Дело дошло до того, что буржуазия центральных кварталов столицы стала серьезнейшим образом беспокоиться и ждать революционного взрыва. Революция, да еще такая, которая может провозгласить диктатором Наполеона, стала мерещиться даже трезвой бирже и пугать ее. Как только разнесся слух об отречении императора, государственная рента моментально круто пошла в гору: буржуазия гораздо легче примирялась с грядущей перспективой вступления в город англичан, пруссаков, австрийцев и русских, чем с начинавшимся как будто политическим вмешательством в дело рабочих предместий столицы, желавших сопротивляться нашествию. Узнав 22-го вечером, что Наполеон выехал в Мальмезон и что отречение его решено им бесповоротно, толпы стали медленно расходиться.
Участие и настроение отдельных групп рабочих объяснялось, между прочим, отчасти и тем, что летом в Париже всегда, кроме оседлого рабочего населения, находились пришедшие из департаментов многие десятки тысяч строительных рабочих, занятых постройкой домов и мощением улиц: каменщики, плотники, столяры, слесари, маляры, кровельщики, обойщики, землекопы и т.п. Они шли из деревень в столицу на отхожие промыслы, на летний строительный сезон. Они были гораздо более связаны с деревней, чем постоянные парижские рабочие. И поэтому они ненавидели Бурбонов двойной ненавистью — и как рабочие и как крестьяне, а в Наполеоне видели верный залог избавления от Бурбонов. Эта масса не хотела успокоиться, не хотела примириться с отречением Наполеона, Она избила до полусмерти на улице несколько хорошо одетых людей, в которых заподозрили роялистов-«аристократов», потому что они отказались кричать с толпой: «Не нужно отречения!» Эти народные толпы беспрестанно сменяли друг друга. «Никогда народ, тот самый народ, который платит и сражается, не обнаруживал к императору больше привязанности, чем в эти дни», — пишет свидетель того, что происходило в Париже не только до отречения, но и после него 23, 24, 25 июня, когда тысячные толпы все еще не хотели примириться с совершившимся.
Из Мальмезона отрекшийся император выехал 28 июня. Он направился к берегу Атлантического океана. У него созрело решение сесть на один из фрегатов, стоявших в порту Рошфор, и отправиться в Америку. Два фрегата были, по приказу морского министра, предоставлены для этого путешествия в распоряжение императора. Когда 3 июля в 8 часов утра Наполеон прибыл в Рошфор, фрегаты были готовы, но выйти в море было нельзя: английская эскадра тесно блокировала гавань. Наполеон стал ждать. Он явно медлил и сам с отъездом. Романтическое поколение 20 и 30-х годов даже создало гипотезу, что «к славе императора недоставало только мученичества», что наполеоновская легенда была бы не так полна и не так величава, если бы в памяти человечества не остался навсегда этот образ нового Прометея, прикованного к скале, и что Наполеон сознательно не захотел иного конца своей эпопеи. Никогда после сам он не дал удовлетворительного объяснения своему поведению в эти дни. Ему предлагали вывезти его не на одном из фрегатов, а на небольшом судне тайно. Он не пожелал. В г. Рошфоре узнали о присутствии императора, и каждый день под его окнами стояла часами толпа в несколько тысяч человек, кричавшая: «Да здравствует император!» Наконец 8 июля он переехал на борт одного из своих двух фрегатов и вышел в море. Фрегат остановился у большого острова Экс, лежавшего несколько северо-западнее Рошфора, но дальше выйти не мог, так как английская эскадра замыкала все выходы в океан...
Наполеон вышел на берег. Его сейчас же узнали. Матросы, солдаты, рыбаки, все окрестное население сбежалось к фрегату. Солдаты стоявшего там гарнизона просили, чтобы император произвел им смотр. Наполеон это сделал к величайшему их восторгу. Он осмотрел и укрепления острова, некогда выстроенные тут по его приказу.
Когда он вернулся на борт фрегата, оказалось, что из Парижа фрегатам прислан приказ только в том случае выйти в море, если поблизости нет английской эскадры. Но англичане стояли у выхода из бухты в боевой готовности...
Наполеон тотчас же принял решение. При императоре находились герцог Ровиго (Савари), генерал Монтолон, маршал Бертран и Лас-Каз, офицеры великой армии, фанатически преданные Наполеону. Император отправил на крейсировавшую вокруг английскую эскадру Савари и Лас-Каза для переговоров, не пропустит ли эскадра французские фрегаты, которые отвезут Наполеона в Америку? Не получено ли распоряжения по этому поводу? Принятые капитаном Мэтлендом на корабле «Беллерофон», они натолкнулись на вежливый, но решительный отказ. «Где же ручательство, — сказал Мэтленд, — что император Наполеон не вернется снова и не заставит опять Англию и всю Европу принести новые кровавые и материальные жертвы, если он теперь выедет в Америку?» На это Савари отвечал, что есть огромная разница между первым отречением в 1814 г. и нынешним, вторым отречением, что теперь он отрекся совершенно добровольно, хотя мог еще оставаться на престоле и продолжать войну и после Ватерлоо; что император решительно и навсегда удаляется в частную жизнь. «Но если так, то почему император не обратится к Англии и не ищет в Англии убежища?» — возразил Мэтленд. Из дальнейшего разговора, однако, посланные Наполеона не уловили никаких обещаний, ни даже главного слова: будет ли Англия считать Наполеона пленником или нет.
Когда они вернулись на свой фрегат и когда матросы и офицеры обоих французских судов узнали, что император может попасть в руки англичан, экипаж бурно взволновался. Капитан другого фрегата, Понэ, заявил генералу Монтолону: «Я только что совещался с моими офицерами и всем моим экипажем. Я говорю, следовательно, и от своего и от имени всех». После такого вступления он изложил свой план: его фрегат «Медуза» ночью нападет на «Беллерофон» и затеет с ним бой. Это займет и отвлечет англичан на два часа; конечно, «Медуза» по истечении этих двух часов погибнет, но за эти два часа другой фрегат, «Заале», на котором находится император, успеет проскользнуть и выйти в океан, так как остальная английская эскадра стоит далеко от «Беллерофона», а те суда, которые находятся близко, очень малы и задержать фрегат «Заале» не смогут. Матросы и офицеры «Медузы» выразили полную готовность погибнуть, чтобы спасти императора.
Наполеон, которому доложили об этом предложении, сказал Монтолону, что не согласен принять такую жертву; что он теперь уже не император, а для спасения частного человека жертвовать французским фрегатом со всем его личным составом нельзя. Наполеон покинул фрегат «Заале» и перебрался на остров Экс. И там несколько молодых офицеров брались украдкой на небольшом судне вывезти императора.
Но Наполеон уже решил свою судьбу. Лас-Каз снова отправился к капитану Мэтленду и сообщил ему, что Наполеон решился доверить свою участь Англии. Мэтленд утверждал, не беря на себя никаких обязательств, конечно, что императору будет оказан приличный и достойный прием.
15 июля 1815 г. Наполеон сел на бриг «Ястреб», который должен был перевезти его на «Беллерофон». На нем был всегдашний любимый его мундир гвардейских егерей и треугольная шляпа. Матросы «Ястреба» выстроились во фронт, командир брига рапортовал императору. Матросы кричали: «Да здравствует император!» «Ястреб» подошел к «Беллерофону». Капитан Мэтленд встретил императора низким поклоном на нижней ступеньке лестницы. Поднявшись на борт, Наполеон увидел весь выстроенный перед ним экипаж английского военного корабля, и Мэтленд представил ему свой штаб.
Наполеон сейчас же ушел в лучшее помещение на корабле, предоставленное ему Мэтлендом.
Самый могучий, упорный и грозный враг, какого Англия имела за все свое историческое существование, был в ее руках.
Глава XVII. Остров Св. Елены. 1815–1821 гг.
Еще в одно из самых первых после Васко де Гама португальских путешествий в южные части Атлантического океана в начале XVI в. был открыт до 15 1/2° южной широты небольшой совершенно пустынный островок. Открыт он был 21 мая 1501 г., как раз в тот день, когда католическая церковь праздновала память св. Елены, отсюда остров и получил свое название. Остров принадлежал некоторое время (в XVII в.) голландцам и окончательно был отнят у них англичанами в 1673 г. Английская Ост-Индская компания тогда же устроила здесь стоянку для судов, направляющихся из Англии в Индию и обратно.
Сюда-то и решило английское правительство отправить Наполеона, как только получило известие о том, что император находится на борту «Беллерофона». Самый близкий берег (африканский) находится почти в 2 тысячах километрах от острова; расстояние от Англии до острова для тогдашнего парусного флота измерялось, приблизительно, 2 1/2-3 месяцами пути. Это географическое положение острова Св. Елены и повлияло больше всего на решение английского кабинета. После Ста дней Наполеон казался еще страшнее, чем до этого последнего акта своей эпопеи. Возможное новое появление Наполеона во Франции могло вызвать новое восстановление империи и новую всеевропейскую войну.
Уже вследствие своего положения на океане и отдаленности от суши остров Св. Елены гарантировал невозможность возвращения Наполеона.
Романтическая поэзия и французская патриотическая историография впоследствии рассказывали об этом острове как о месте, специально выбранном англичанами, чтобы поскорее уморить своего пленника. Это неверно. Климат острова Св. Елены очень здоровый. В самом жарком месяце средняя дневная температура — около 24° по Цельсию, в самом холодном месяце — около 18 1/2°, а средняя годовая температура 21°. Теперь там больших лесов сравнительно мало, но 100 лет тому назад на острове их было еще много. Питьевая вода очень вкусная и здоровая, орошение острова обильное, много травы и густых кустарников, зарослей, где водится дичь. Весь остров занимает 122 квадратных километра и базальтовыми темно-зелеными почти отвесными скалами как бы подымается из океана.
Когда Наполеону объявили о том, что его местопребыванием будет остров Св. Елены, он протестовал, заявив, что с ним не имеют права обращаться, как с военнопленным. С «Беллерофона» он пересел на фрегат «Нортумберлэнд», который после 2 1/2 месяцев плавания и привез 15 октября 1815 г. пленного императора на остров, где ему суждено было окончить свои дни.
Наполеона сопровождала в изгнание очень небольшая свита, так как английское правительство отказало большинству домогавшихся следовать за императором на остров Св. Елены. С ним были маршал Бертран с женой, генерал граф Монтолон с женой, генерал Гурго и Лас-Каз со своим сыном. Был также его слуга Маршан и кое-кто еще из прислуги (корсиканец Сантини и пр.). Сначала Наполеону предоставили помещение не очень удобное, потом более поместительный дом в части острова, называемой Лонгвудом.
До апреля 1816 г. главное начальство над островом принадлежало адмиралу Кокбэрну, а с апреля 1816 г. до самой смерти Наполеона губернатором был Гудсон Лоу. Этот Лоу был тупым и ограниченным служакой, боявшимся всего на свете, а больше всего — своего пленника. Лоу был подавлен чувством ответственности, страхом, что Наполеон снова бежит. Вместе с тем по инструкции, данной губернатору, Наполеон пользовался свободой, выходил и выезжал куда угодно, совершал верховые прогулки, принимал или не принимал кого ему заблагорассудится. Наполеон с самого начала был в непримиримо неприязненных отношениях с Гудсоном Лоу. Он почти вовсе отказывался принимать губернатора, не отвечал на приглашения к обеду на том основании, что они были адресованы генералу Бонапарту (Англия была с Наполеоном в войне с 1803 г., когда он еще не был императором). Были на острове также представители держав: Франции, России, Австрии. Наполеон принимал иногда путешественников англичан и неангличан, которых по пути в Индию или в Африку (или из Индии и Африки в Европу) заносило на остров Св. Елены.
Был прислан и размещен в единственном городке Джемстоуне, расположенном далеко от Лонгвуда, целый отряд войск для охраны острова. Любопытно, что и офицеры и солдаты гарнизона на острове обнаруживали к Наполеону, смертельному врагу Англии, не только почтение, но иногда какое-то сентиментальное чувство. Солдаты передавали ему букеты цветов, просили у наполеоновской свиты, как милости, чтобы им позволено было украдкой на него взглянуть. Офицеры, даже спустя много лет, выражали, говоря о пленнике, из-за которого им пришлось прожить несколько лет на пустынном острове, чувство симпатии.
Это наконец обратило на себя внимание комиссаров держав, живших для наблюдения за Наполеоном на острове: «Что более всего удивительно, — заявлял граф Бальмэн, представитель Александра I, — это влияние, которое этот человек, пленник, лишенный трона, окруженный стражей, оказывает на всех, кто к нему приближается... Французы трепещут при виде его и считают себя совершенно счастливыми, что служат ему... Англичане приближаются к нему только с благоговением. Даже те, которые его стерегут, ревностно ищут его взгляда, домогаются от него одного словечка. Никто не осмеливается держать себя с ним на равной ноге».
Маленький двор Наполеона, последовавший за ним на остров Св. Елены и поселившийся с ним в Лонгвуде, ссорился и интриговал точь-в-точь, как если бы все они были еще в Тюильрийском дворце в Париже. Лас-Каз, Гурго, Монтолон, Бертран обожали Наполеона, заявляли, что он для них бог, и ревновали друг к другу. Генерал Гурго даже раз вызвал на дуэль Монтолона, и только гневный окрик императора положил конец ссоре. Наполеон под разными предлогами даже отправил спустя три года Гурго в Европу, так он ему надоел своим обожанием и невозможным характером. Лишился он и Лас-Каза, которого Гудсон Лоу выжил с острова в 1818 г. Лас-Каз записывал беседы с Наполеоном, а многое Наполеон и просто диктовал ему, и из всей литературы воспоминаний, относящихся к острову Св. Елены, конечно, эти записи наиболее любопытный памятник. Когда Лас-Каз должен был уехать, у Наполеона уже не оказалось такого подходящего и такого образованного секретаря, и о последних годах жизни императора мы поэтому знаем гораздо меньше.
Не придирки Гудсона Лоу, досадные и мелочные, но все же не могущие оскорбить Наполеона сколько-нибудь серьезно, тем более что он вовсе и не пускал к себе губернатора, не климат острова, здоровый и ровный, не материальные условия жизни, бывшие ничуть не хуже, чем, например, у самого губернатора, порождали ту угрюмую тоску, которой Наполеон никогда не делился со своим маленьким двором, но которую они все очень хорошо замечали. По-видимому, его больше всего убивала праздность. Он очень много читал, катался верхом, ходил, диктовал Лас-Казу. Но перейти к такому существованию после привычки к неустанной работе, к 15-часовому, а иногда 18-часовому рабочему дню, к которому он привык за всю свою жизнь, было для него непереносимо.
Свое настроение он скрывал. Он старался быть разговорчивым и оживленным с окружающими, часто и сам, по-видимому, отвлекался этим от своей тоски. Переносил он свое положение стоически.
Уже во время долгого морского переезда на «Нортумберлэнде» он начал диктовать Лас-Казу свои воспоминания. Он продолжал это делать и на острове вплоть до отъезда Лас-Каза. Разговоры с Лас-Казом, разговоры с Монтолоном, с Гурго, продиктованные им и им просмотренные «Письма с Мыса», которые по его поручению (но без его подписи) напечатал потом Лас-Каз, — все эти источники дают понятие не об объективной исторической истинности фактов, о которых идет там речь, но о том, какое представление об этих фактах желал Наполеон внушить потомству.
Из всех записей разговоров с Наполеоном, из всех воспоминаний, заслуживающих сколько-нибудь доверия (т.е., точнее говоря, из воспоминаний Лас-Каза, Монтолона и Гурго, потому что Антомарки и О’Мира никакого доверия не заслуживают), можно извлечь очень много для истории так называемой «наполеоновской легенды», но очень мало ценных и убедительных материалов для характеристики самого Наполеона и для истории его владычества. «Наполеоновская легенда», сыгравшая впоследствии такую активную историческую роль, стала строиться задолго до Виктора Гюго и Гейне, до Гете и Цедлица, до Пушкина и Лермонтова, до Бальзака и Беранже, до Мицкевича и Товянского и до целого легиона поэтов, публицистов, политических деятелей и историков, мысль и чувство которых, а больше всего воображение, упорно обращались и надолго приковывались к этой гигантской фигуре, показавшейся Гегелю после Иены олицетворением «мирового духа», двигателем истории человечества. Создаваться легенда начала уже на острове Св. Елены.
Но в этой моей работе речь идет исключительно о Наполеоне, а вовсе не об истории «наполеоновской легенды».
Итак, материалы, порожденные пребыванием императора на острове Св. Елены, дают очень мало. «Бог» изрекал непогрешимые глаголы, а верующие записывали обожание, влюбленность, религиозное почитание — не такие чувства. которые способствуют критическому анализу. Говорил Наполеон с окружающими не для них, конечно, а для потомства, для истории. Мог ли он тогда быть очень твердо уверен, что его династии суждено еще раз царствовать во Франции, мы не знаем, но беседовал он с окружающими так, как если бы имел в виду этот будущий факт. Однажды он прямо высказал мысль, что его сын еще будет царствовать.
Полны специального интереса, конечно, все его обильные замечания (и диктанты), касающиеся его войн и военного искусства других знаменитых полководцев и военного дела вообще. В каждом слове чувствуется первоклассный мастер, знаток и любитель предмета. «Странное искусство — война; я сражался в 60 битвах и уверяю вас, что из них всех я не научился ничему, чего бы я не знал уже в своей первой битве», — сказал он однажды. Из полководцев он высоко ставил Тюренна, Конде. Наполеон считал себя, без сомнения, величайшим полководцем во всемирной истории, хотя не выразил этого ни разу точными словами. С особенной гордостью он говорил об Аустерлице, Бородине и Ваграме, а также о первой (итальянской, 1796–1797 гг.) своей кампании и о предпоследней (1814 г.). Разгром австрийской армии под Ваграмом он считал одним из лучших своих стратегических достижений. Если бы Тюренн или Конде были при Ваграме, то они тоже сразу увидели бы, в чем ключ позиции, как увидел это Наполеон, «а Цезарь или Ганнибал не увидели бы», — прибавлял император. «Если бы при мне для помощи в моих войнах находился Тюренн, я был бы властелином всего света», — утверждал он. Самой лучшей армией Наполеон называл ту армию, в которой каждый офицер знает, что делать при данных обстоятельствах. Однажды он выразил сожаление, что не был убит при Бородине или в Кремле. Иногда, говоря об этом, он называл не Бородино, а Дрезден, еще охотнее Ватерлоо; о «Ста днях» он вспоминал с гордостью и говорил о «народной любви» к нему, проявившейся и при высадке в бухте Жуан и после Ватерлоо.
Он не переставал сожалеть, что покинул завоеванный им Египет и что, сняв осаду с Акра, вернулся из Сирии в 1799 г. По его мнению, ему следовало остаться на Востоке, завоевать Аравию, Индию, быть восточным императором, а не западным. «Если бы я взял Акр, я бы пошел на Индию. Кто владеет Египтом, тот будет владеть и Индией», — повторял он (в этом утверждении, заметим, с ним совершенно сходится новейшая стратегия). Об английском владычестве в Индии он говорил, что если бы он даже с малым отрядом добрался до Индии, то выгнал бы англичан оттуда. Он много и часто говорил о Ватерлоо и считал, что если бы не совсем непредвиденные случайности и если бы у него были прежние, убитые в предшествующих войнах, маршалы Бессьер, Ланн, если бы при нем был Мюрат, — исход сражения был бы другой. Ему особенно тяжело было вспомнить, что эта последняя его битва выиграна именно англичанами.
Что вторжение в Испанию было первой его ошибкой («испанская язва»), а русский поход 1812 г. — второй и самой роковой, это он теперь признавал, хотя снисходительно (к себе) говорил о «недоразумении», вовлекшем его в поход на Москву. Но он ничуть не отказывался от своей ответственности. Наполеон считал, что когда он, прибыв в Дрезден в 1812 г., узнал, что Бернадотт, ставший шведским наследным принцем, не намерен помогать ему против России и что султан турецкий заключает с Россией мир, то ему следовало тут же отказаться от нашествия. Войдя в Москву, ему надо было бы сейчас же из нее выйти и, догнав Кутузова, уничтожить русскую армию. «Эта роковая война с Россией, в которую я был вовлечен по недоразумению, эта ужасающая суровость стихии, поглотившей целую армию... и затем вся вселенная, поднявшаяся против меня!» Не чудо ли (продолжал он), что он, император, мог еще так долго сопротивляться и что не раз конечная победа в этой борьбе против вселенной склонялась на его сторону?
То, что в Тильзите он отказался от своей первоначальной мысли стереть Пруссию как самостоятельное государство с лица земли, он считал одной из своих ошибок. Австрию, как он теперь признавал, он тоже хотел уничтожить в 1809 г., но помешала неудача его в битве под Эсслингом, так что после Ваграма все-таки Австрия хоть и много потеряла, но продолжала существовать.
Несколько раз возвращался он мыслью к казни герцога Энгиенского, но никакого раскаяния по этому поводу не обнаруживал, а высказывался в том духе, что снова бы это повторил, если бы пришлось начинать сначала. Интересно, что долгое, 20-летнее всеевропейское страшное кровопролитие, в центре которого он находился и решающую роль в котором он, по собственному представлению, играл, ни в малейшей степени не вспоминалось им как нечто печальное, тяжелое, способное омрачить душу хоть на один миг. Да, совершенно верно, он стремился к завоеваниям, но у него вообще было это пристрастие: он «слишком любил войну».
Маленькая девочка Бетси Балькомб, дочь одного англичанина, проживавшего в качестве подрядчика на острове Св. Елены, пользовалась ласковой благосклонностью Наполеона, который захотел учить ее французскому языку и позволил бегать к нему и болтать с ним. И когда она, уже прирученная им, и другая маленькая девочка, Лэджи, спросили императора однажды, правда ли, что он ест людей (как они слышали о том еще в Англии), то он со смехом стал уверять их, что действительно ест людей и всегда ими питался... Его рассмешило, что ребенок Лэджи понял слова взрослых, очевидно, слишком буквально: в переносном значении эти слова доходили до него задолго до знакомства с маленькой Балькомб и ее подругой, но никогда ничего, кроме презрительного пожатия плеч, в нем не порождали.
После отдаления Жозефины, после смерти Ланна под Эсслингом, после смерти Дюрока под Герлицем на свете оставалось еще одно существо, которое на своем веку любил Наполеон: это был его маленький сын, живший еще с 1814 г. вместе со своей матерью, императрицей Марией-Луизой, у деда, австрийского императора Франца. Наполеон еще в 1816 г., в начале своего пребывания на острове Св. Елены, высказывал убеждение, что его сын еще будет царствовать, так как во Франции отныне можно опираться, только «на массы», значит: или республика, или популярная, «народная» монархия. А популярной династией может быть лишь династия, избранная народной волей, т.е. Бонапарты.
И с той же внешней непоследовательностью, которая не дала ему возможности в 1815 г. стать во главе широкого массового движения против Бурбонов, дворян, священников, он и на острове Св. Елены продолжал одобрять свое тогдашнее поведение. Непоследовательность тут была внешняя, происходившая от неточного понимания вещей: монархия Наполеона была не «народная», а буржуазная, и для своего сына он мечтал тоже о государстве, опирающемся не на волю и интересы плебейских широких трудящихся масс, а на волю и интересы буржуазии. «Чем мне эти люди обязаны? Я нашел их в бедности и оставляю их в бедности!» — вырвалось у него раз после Ватерлоо, когда толпа строительных рабочих окружила дворец и требовала, чтобы Наполеон остался на престоле.
И тому же графу Монтолону Наполеон и тогда, в Париже, и на острове Св. Елены повторял, что если бы он захотел использовать революционную ненависть против дворян и духовенства, которую он застал при своей высадке в 1815 г., то он прибыл бы в Париж в сопровождении «двух миллионов» крестьян»; но он не желал предводительствовать «чернью», потому что его «возмущала (по его выражению) самая мысль об этом».
Ясно, что он остался при тех же настроениях, какие не раз нами отмечались. Но вдруг — к самому уже концу, под явным впечатлением известий, приходивших на остров Св. Елены из Европы через газеты и устные сообщения о германском революционном брожении, о студенческих волнениях, об освободительных течениях в Германии и т.д., — император круто переменил фронт и заявил (дело было уже в 1819 г.) тому же Монтолону нечто диаметрально противоположное своим прежним высказываниям. «Я должен был бы основать свою империю на поддержке якобинцев». Потому что якобинская революция — это вулкан, посредством которого можно легко взорвать Пруссию. А как только революция победила бы в Пруссии, ему казалось, что вся Пруссия была бы в его власти и в его руки попала бы вся Европа («моим оружием и силой якобинизма»). Правда, когда он говорил о будущей или возможной революции, мысль его не шла дальше мелкобуржуазного «якобинизма» и не предполагала социального переворота. Якобинская революция начинала представляться ему порой уже союзницей, которую он напрасно оттолкнул.
Последний большой разговор с Монтолоном — о якобинцах и революции — происходил 10 марта 1819 г. и был одной из последних его бесед со свитой.
Реже и глуше, смутнее и отрывочнее становились уже в это время известия об императоре.
Не было уже Лас-Каза, высланного Гудсоном Лоу, не было Гурго, которого убедил уехать сам император. Был некоторое время и тоже вскоре уехал ирландский доктор О’Мира, игравший при случае роль соглядатая и доносивший губернатору о том, что творится в Лонгвуде. Из оставшихся был доктор Антомарки, присланный семьей Наполеона из Европы, невежественный врач (и лживый мемуарист), которого Наполеон в конце концов перестал даже и на глаза к себе пускать. Бертран, Монтолон, несколько человек слуг — вот кто больше всех в эти последние два года видел Наполеона.
Уже в 1819 г. он болел все чаще и чаще. В 1820 г. болезнь усилилась, а в начале 1821 г. английский врач Арнотт, допущенный Наполеоном, нашел положение довольно серьезным, но все-таки были большие промежутки улучшения, когда Наполеон выходил гулять. К концу 1820 г. утомление стало заметнее. Он начинал фразу и не кончал ее, впадая в глубокое раздумье. Он стал молчалив, тогда как до конца 1820 г. его диктанты и его воспоминания о своем царствовании, сообщенные двум доверенным лицам — Лас-Казу до 1818 г. и графу Монтолону отчасти в те же годы, а отчасти с 1818 до 1820 г. включительно, — занимают в записях Лас-Каза два огромных фолианта (в последних изданиях), а в записях Монтолона восемь томов (в издании 1847 г.), — и это не считая особой двухтомной книги воспоминаний того же Монтолона специально о пребывании императора на острове Св. Елены.
С конца 1820 г. он уже реже катался в коляске. Верхом он уже давно перестал выезжать.
В марте 1821 г. страшные внутренние боли стали повторяться и учащаться. Император, по-видимому, уже давно догадался, что это — рак, болезнь наследственная в их роду, от которой в возрасте всего лишь 40 лет умер его отец, Карло Бонапарте.
Следует, кстати, заметить, что в последние 15–20 лет в медицинских журналах во Франции и Германии несколько раз высказывалось мнение, будто последней болезнью Наполеона был вовсе не рак, а особая тропическая болезнь, зародыш которой был захвачен им еще в молодости, во время похода в Египет и Сирию, развившаяся, когда он попал в тропики.
5 апреля доктор Арнотт уведомил свиту Наполеона в лице маршала Бертрана и графа Монтолона, что положение больного крайне серьезно. Когда боли несколько ослабевали, Наполеон старался поддержать бодрость в окружающих.
Он острил над своей болезнью: «Рак — это Ватерлоо, вошедшее внутрь».
13 апреля он приказал графу Монтолону писать под его диктовку завещание, которое 15 апреля переписал и подписал своей рукой. Там между прочим содержатся те строки, которые теперь красуются на мраморной доске в парижском Дворце инвалидов, в соборе, где с 1840 г. находился саркофаг с останками императора: «Я желаю чтобы мой прах покоился на берегах Сены, среди французского народа, который я так любил». Мармона, Ожеро, Талейрана и Лафайета он назвал в этом завещании изменниками, которые два раза помогли врагам Франции одержать победу: Ожеро — очевидно, за резкую ссору с ним в апреле 1814 г., Лафайета — за оппозицию в палате в июне 1815 г. Эти два суровых приговора не были впоследствии санкционированы даже самыми горячими приверженцами императора, но за Мармоном и Талейраном эта квалификация утвердилась. Большинство остальных пунктов завещания касалось денежных сумм, назначенных разным лицам: Бертрану — полмиллиона, слуге Маршану — 400 тысяч, другим, служившим ему на острове, — по 100 тысяч каждому, столько же Лас-Казу и многим генералам и сановникам, оставшимся во Франции, но лично ему известным своей преданностью, и т.д. А главную часть своих имуществ, в общей сумме до 200 миллионов франков золотом, он завещал: половину — «офицерам и солдатам», сражавшимся под его знаменем, а другую половину — местностям Франции, пострадавшим от нашествий 1814 и 1815 гг. Есть и пункт, посвященный англичанам и Гудсону Лоу: «Я умираю преждевременно, убитый английской олигархией и ее наемником. Английский народ не замедлит отомстить за меня». Сыну он завещал никогда не выступать против Франции и помнить девиз: «Все для французского народа».
Он был совершенно спокоен, диктуя, а потом лично переписывая это завещание. Спустя три дня он продиктовал Монтолону письмо, которым тот должен был уже после его смерти уведомить губернатора о случившемся и требовать от англичан доставления всей свиты и слуг с острова Св. Елены в Европу.
В четыре часа ночи 21 апреля он вдруг стал диктовать Монтолону проект переустройства национальной гвардии во Франции в целях наиболее рационального ее использования при обороне территории от неприятельского нашествия. 2 мая доктора Арнотт, Шорт и Майкельс сказали свите, что смерть совсем уже близка. Мучения так усилились, что в ночь на 5 мая он в полубреду бросился с постели и, конвульсивно сдавив с необычайной силой Монтолона, упал с ним на пол. Его уложили, и он уже не приходил больше в создание, а лежал несколько часов подряд неподвижно, с открытыми глазами и не стонал. Он, впрочем, и раньше во время самых страшных приступов боли почти не стонал) а только метался. В комнате Наполеона — одни у постели, другие у дверей — собрались его свита и служители. Наполеон шевелил губами, но почти ничего нельзя было расслышать явственно; на океане свирепствовал в этот день страшнейший шторм, вырывавший с корнем деревья, снесший несколько домов на острове и сотрясавший всю Лонгвудскую усадьбу.
Губернатор острова Гудсон Лоу и офицеры английского гарнизона, узнав о начале агонии, прибыли спешно и находились в других комнатах дома. Последние слова, которые удалось расслышать стоявшим близко от постели, были: «Франция... армия... авангард...»
Перед вечером, в шесть часов, 5 мая 1821 г. Наполеон скончался.
Плачущий слуга Маршан принес сохранявшуюся у него старую шинель, в которой Наполеон был 14 июня 1800 г., в день битвы под Маренго, и накрыл его тело. После этого вошли губернатор и офицеры и низко поклонились покойнику. Затем были впущены Бертраном и Монтолоном и комиссары держав, которые теперь в первый раз за все годы своего пребывания на острове вошли в дом императора, не допускавшего их к себе.
Через четыре дня гроб вынесли из Лонгвуда. В похоронном шествии, кроме свиты и служителей, принял участие весь гарнизон в полном составе, а также все матросы и морские офицеры, все гражданские чиновники с губернатором во главе и почти все население острова. Когда гроб опускали в могилу, раздался гром пушечных салютов: англичане отдали мертвому императору последнюю воинскую почесть.
Заключение
С Наполеоном I связано историческое явление, получившее название «бонапартизм». Классики марксизма с большим вниманием останавливались на этом явлении, и их высказывания вполне гармонируют друг с другом и дополняют друг друга. Они, многократно останавливаясь на бонапартизме, имели в виду эпоху и Наполеона I и Наполеона III, справедливо признавая родоначальником этой политической системы именно первого французского императора. Но в то время как Наполеон I, стремясь утвердить диктатуру крупной буржуазии, боролся не только с якобинцами, но (особенно в начале своего правления) и с роялистами, желавшими реставрации полуфеодальной монархии, «старого режима», — Наполеон III основывал свою империю именно как боевое орудие буржуазии (и преимущественно крупной буржуазии) против рабочего класса и против демократических течений мелкой буржуазии.
Чтобы в пределах нашей темы коснуться бонапартизма в эпоху первого Наполеона, необходимо уяснить, какую роль сыграл Наполеон I в судьбах Французской буржуазной революции конца XVIII в.
Не только старая, но и современная буржуазная историография называет Наполеона завершителем революции. Это, конечно, не так. Он действительно взял от революции, использовал то, что она сделала для развития экономической деятельности крупной французской буржуазии, и потушил революционную бурю. Следовательно, его ни в какой степени нельзя считать «завершителем» революции, а с полным правом необходимо считать ее ликвидатором. Окончание революции диктатурой Наполеона знаменовало прежде всего победу крупнобуржуазных элементов над ремесленным пролетариатом, над малоимущей мелкобуржуазной массой, над той плебейской стихией, которая в 1789–1794 гг., до 9 термидора, сыграла такую великую революционную роль. При этом собственническое крестьянство, интересы которого от попыток феодальной реставрации ограждал Наполеон, всецело поддержало, со своей стороны, его диктатуру.
Наполеон, расстреливающий якобинцев, самодержавный монарх, обративший республики, окружавшие Францию, в королевства и раздавший их своим братьям, зятьям и маршалам, — этот бесспорный исторический образ не имеет ничего общего с титулом завершителя революции. И только фальшивая идеализация Наполеона может это отрицать. Ликвидация демократии, установление самой беспредельной личной власти, и все это с прямой целью охраны интересов имущих классов и установления владычества над всей Европой, — вот что было налицо в деятельности первого Бонапарта, к отрицать это можно, только отказавшись от исторической правды во имя продолжения и подкрепления «наполеоновской легенды», уже принесшей так много страшного зла в прошлом именно потому, что она рассчитана была на малосознательную, колеблющуюся массу. В конечном счете эта легенда, начиная особенно с 30-х годов XIX в., всегда служила социальной и политической реакции.
Не признавать огромных и разнообразных дарований Наполеона, исключительных размеров этой колоссальной исторической фигуры было бы, конечно, нелепо.
Читатель этой книги найдет в ней, между прочим, некоторые очень положительные отзывы, например, Маркса и Энгельса о военном гении Наполеона, о влиянии его завоеваний на феодальную Европу. Еще больше таких отзывов интересующийся найдет при систематическом чтении полного собрания сочинений Маркса и Энгельса. Но они совершенно беспристрастно отмечают не только ту прогрессивную роль, которую Наполеону объективно пришлось сыграть в истории человечества, но и его значение как основоположника реакционного бонапартизма, задавившего ростки политической свободы во Франции.
Маркс и Энгельс пережили Вторую империю, но им, конечно, и этого жестокого эксперимента не требовалось, чтобы отчетливо понять, до какой степени бонапартизм, как система внутренней и внешней политики, может быть в обстановке быстро развивающегося в XIX в. капиталистического строя только реакционным и может держаться только на безудержном насилии, на систематическом обмане масс и, при удобном случае, на военных авантюрах.
В области внешней политики завоевательные империалистские устремления, диктовавшиеся интересами крупной французской буржуазии, толкнули Наполеона на Европу, а разлагающийся полуфеодальный европейский мир не мог успешно противиться первым натискам великого полководца, каким буквально с первых же шагов оказался Наполеон. Вместе с тем подчинение, которому подвергал Наполеон завоеванные народы, подняло волну национально-освободительного движения, так же как удары, которые наносила английской экономике политика Наполеона, сказались на усилении и упрочении революционных настроений в английском рабочем классе.
Военная теория и практика Наполеона сыграли огромную роль в разрушении феодализма и абсолютизма крепостнической Европы. Эта теория и практика были порождены буржуазной революцией, создавшей те возможности, которыми Наполеон умело воспользовался. Не он, а революция сделала возможными и неизбежными массовые движения, тактику рассыпного строя в соединении с густыми колоннами, грандиозные размеры армий, сознательность солдат, новые принципы рекрутского набора; но именно он, и не кто другой, гениально показал, как всем этим можно пользоваться, чего можно достигнуть, а Энгельс, глубоко изучавший его походы, утверждал, что и вообще понимать-то, осмысливать, просто сознательно воспринимать все эти изменения научил впервые Наполеон. В этой военной области он оказался тогда несравненным, гораздо более великим, чем во всех других областях своей деятельности.
Наполеон, по мнению Энгельса, неизмеримо превосходил не только предшественников своих, но и современных генералов, пытавшихся учиться у него и подражать ему в этом труднейшем искусстве: «...историческая заслуга Наполеона заключается в том, что он нашел единственно правильное тактическое и стратегическое применение колоссальных вооруженных масс, появление которых стало возможно лишь благодаря революции, и эту стратегию и тактику довел до такой степени совершенства, что современные генералы, в общем и целом, не только не в состоянии превзойти его, но в своих самых блестящих и удачных операциях лишь пытаются подражать ему».
Считая, что военная система была усовершенствована Наполеоном, Энгельс признает двумя ее «осями» «массовые масштабы применения средств наступления — живая сила, кони и орудия — и подвижность этих наступательных средств».
Энгельс считал вообще Наполеона великим полководцем, даже в тех походах, которые кончились неудачей. «Два самых замечательных примера наступательных операций и прямых атак, применявшихся в строго оборонительных кампаниях, имели место в двух замечательных походах Наполеона — в походе 1814 г., который закончился его ссылкой на Эльбу, и в походе 1815 г., который окончился поражением при Ватерлоо и сдачей Парижа. В обеих этих необычных кампаниях полководец, действовавший исключительно в целях обороны подвергшейся нашествию страны, атаковывал своих противников во всех пунктах и при всяком удобном случае; всегда будучи в целом значительно более слабым, нежели противник, он каждый раз умел оказываться сильнее его и обычно побеждал в данном пункте атаки». Оба похода, 1814 и 1815 гг., были проиграны Наполеоном по причинам, «совершенно не зависевшим» от планов или их выполнения Наполеоном, а, главным образом, вследствие огромного превосходства сил соединенной Европы и невозможности «для одной нации, истощенной войнами в течение четверти столетия, сопротивляться нападению всего вооружившегося против нее мира». Об Аустерлице Энгельс говорит, что несравненный военный гений Наполеона, проявившийся в этой битве, и его «...coup d’œil [проницательность], с которой он открыл их промах... и молниеносная быстрота в завершении катастрофы — все это стоит выше всякой похвалы и достойно всяческого восхищения. Аустерлиц представляет чудо стратегии, он не будет забыт до тех пор, пока существуют войны».
«В Европе есть много хороших генералов, — говаривал Наполеон, — но они хотят смотреть на много вещей разом, а я смотрю лишь на одно — на массы (неприятеля) и стремлюсь их уничтожить». Неподражаем Наполеон был также в использовании победы, в умении довершить разгром неприятеля дальнейшим преследованием. Прусский военный историк граф Иорк фон Вартенбург, автор известного двухтомного исследования о Наполеоне как полководце, называет приказ Наполеона маршалу Сульту 3 декабря 1805 г. (на другой день после Аустерлица) содержащим «в кратких словах всю науку о преследовании, изложенную наиболее авторитетным источником». Наполеон был непревзойденным в свое время мастером в умении держать в своих руках и заставлять маневрировать не только в период подготовки сражений, но и на поле битвы громадные войсковые массы, заставляя их выполнять внезапные, не предусмотренные никем новые построения.
Ученые историки-стратеги, писавшие о Наполеоне специальные исследования или только попутно говорившие о нем, признают, что Наполеон использовал и осмыслил именно те новые, небывалые возможности в военном деле, которые создала Французская революция, что, гениально использовав это наследство, он стал тогда и величайшим теоретиком послереволюционных методов ведения войны. Война большими массами, война с большими резервами, какие только была способна дать мощь крупного буржуазного государства, война с действительным использованием громадных материальных средств и людских формирований тыла — все это выявилось при Наполеоне в полной мере. Компактные массы великой армии, предводимые им, оказывались, по его же слову, сильнее неприятеля «в данный момент в нужном месте».
Наполеон знал карту и умел обращаться с картой, как никто, он превосходил в этом своего начальника штаба и ученого картографа маршала Бертье, превосходил в этом всех полководцев, до него гремевших в истории, и в то же время карта никогда не связывала его, и когда он отрывался от нее, выезжая в поле, воодушевляя войска своими обращениями, раздавая приказы, ворочая громадными густыми колоннами, то и здесь он оказывался на своем, т.е. на первом и недосягаемом, месте. Его приказы, его письма к маршалам, отдельные его изречения до сих пор имеют значение как бы основных трактатов по вопросу о крепостях, об артиллерии, об устройстве тыла, о фланговых движениях, об обходах, о самых разноообразных предметах военного дела.
Правда, кроме, может быть, Александра Македонского, никогда ни один из прославленных полководцев не был поставлен так длительно в такие выгодные условия, как Наполеон: он не только соединял в своем лице неограниченного монарха с главнокомандующим, но и царствовал над богатейшими странами мира. Цезарь сначала долго воевал в качестве полководца, которому управляющий государством сенат предоставил завоевывать новую провинцию, а в последние годы жизни вел упорную и долгую войну, гоняясь за войсками враждебной партии. Никогда не воевал он пользуясь всеми силами римской державы и в качестве ее полновластного правителя. Ганнибал был полководцем, зависевшим от скупого и ингригующего сената купеческой республики. Тюренн и Конде зависели от капризов французского двора, Суворов зависел сначала от несимпатизировавшей ему Екатерины, потом от полусумасшедшего Павла и от австрийского гофкригсрата. Густав-Адольф Шведский, Карл II Шведский, Фридрих II Прусский были, правда, неограниченными монархами, но очень уж скудны были людские резервы и материальные средства небольших бедных стран, которыми они владели.
Что касается Наполеона, то лишь его первые подвиги и завоевания (Тулон, Италия, Египет, сирийский поход) совершились, когда он имел над собой правительство, которому он, впрочем, и тогда уже не повиновался, а с 1799 г. он сам был неограниченным властителем Франции и всех стран, прямо или косвенно ей подчиненных. И среди этих стран были также и такие, которые в экономическом отношении считались передовыми на континенте: сама Франция, Голландия, прирейнская Германия. Неограниченным властителем после 18 брюмера Наполеон был целых 15 лет, а, например, Юлий Цезарь после перехода через Рубикон — всего около пяти лет, из которых первые два целиком были заняты междоусобной борьбой, дробившей силы государства.
И материальных сил, и средств, и времени, и возможностей Наполеону было отпущено для игры его военного гения больше, чем кому бы то ни было из его предшественников по военному искусству. Но, бесспорно, и самый гений его оказался более могучим, чем у кого бы то ни было из них.
Наполеон, со своей оригинальной манерой выражаться, уподоблял комплекс качеств хорошего полководца квадрату, где основание и высота всегда равны: под основанием он тут понимает характер, смелость, мужество, решимость, а под высотой — ум, интеллектуальные качества. Если характер сильнее ума, то полководец увлечется и пойдет дальше, чем нужно. Если ум сильнее характера, то у него, напротив, недостанет мужества осуществить свой план. Полное единоначалие он считал абсолютно необходимым в армии, если эта армия уже наперед не решила терпеть поражения: «Один плохой главнокомандующий лучше, чем два хороших». И сам он, если не считать осады и взятия Тулона в 1793 г., никогда ни в одной из своих войн не имел ни равноправного товарища, ни, подавно, старшего над собой.
Коснемся лишь очень немногих частностей. Наполеон ниспроверг то преклонение перед штыковым боем, которое после Суворова сделалось таким общепринятым, хотя сам Суворов вовсе не отрицал значения артиллерии. «Теперь сражения решаются огнем, а не рукопашной схваткой», — категорически заявил император в своем сочинении о полевых укреплениях. Продолжая применять тактику армий Французской революции, в первых своих войнах он бросал вперед подвижные «линии» стрелков, которые при поддержке артиллерии подготовляли основной удар, расчищали путь штурмующим колоннам. Он зорко следил сам и строго внушал своим маршалам и вице-королю Италии, Евгению Богарне, что недостаточно просто обучить солдата стрельбе, нужно добиться, чтобы он стрелял с предельной меткостью. Но, с другой стороны, никогда не следует, по мнению Наполеона, слишком долго оставлять армейских пехотных стрелков без артиллерийской поддержки: если против них действует неприятельская артиллерия, то они легко могут в конце концов пасть духом и подвергнуться разгрому, а, подтягивая артиллерию, он рекомендовал делать это возможно энергичнее, потому что только массовое действие артиллерийского огня может иметь сколько-нибудь серьезное значение. В наполеоновских битвах артиллерия играет громадную, а иногда и просто решающую роль; известно, например, дело под Фридландом, где 40 крупных орудий Сенармона, поддерживавших корпус Викто́ра, внесли еще в начале боя страшнейшее смятение в русские ряды и принудили русскую армию начать гибельное для нее беспорядочное отступление через г. Фридланд и через реку Алле.
Надо отметить, что начиная с 1807 г. Наполеон все больше и чаще применяет новую тактику и новые боевые порядки, действуя слишком уж массивными, а потому и слишком уязвимыми построениями, чего он не делал в первую половину своей военной карьеры; пока у него не поредели ряды старых солдат революционных армий и ветеранов Египта, Маренго, Аустерлица, он не прибегал к этому преувеличенному уплотнению боевых масс.
Неправильно ходячее мнение, будто Наполеон не придавал значения крепостям противника. Он только требовал и воспитывал своих маршалов и генералов в убеждении, что не взятие крепостей противника, но уничтожение живой силы его полевой армии решает войну. Но, конечно, и тут он обнаруживал изумительную гибкость и умение считаться с неповторяющимся своеобразием обстановки.
Когда в 1805 г. он увидел, что взятием Ульма он уничтожит главные силы австрийской армии, то именно на осаду этой крепости он и направил все усилия и главный удар.
Второстепенное значение, которое он придавал крепостям, логически связано с тем воззрением на инициативу, которое так характерно для Наполеона. «Начинай поход обдуманно, но, начав, до самой последней крайности борись за то, чтобы инициатива действий осталась за тобой».
Кончился страшный день 8 февраля 1807 г. под Эйлау. Армия Наполеона, как и армия русская, испытала такие потери, что в некоторых полках осталось по батальону, а в некоторых и батальона не было. Наполеон уходит на ночь в свою палатку и пишет своему другу Дюроку записку, в которой неясными намеками признает свою неудачу. Но вот наступает тусклый рассвет зимнего дня, и оказывается, что Беннигсен не только отступил, но что он сильно отступил. Значит, инициатива осталась за Наполеоном. Значит, вчера была победа. И император сейчас же начинает именовать Эйлау своей победой, хотя он знал отлично, что русские еще далеко не сломлены. У Беннигсена не хватило выдержки и упорства, он оробел и отступил первый, и инициативу он у Наполеона не вырвал, хотя на поле битвы на каждые три русских трупа приходилось кое-где два, кое-где и все три французских.
Инициатива в общем ведении войны, в выборе места и времени битвы, в первых тактических действиях перед битвой и в начале битвы должна оставаться в руках главнокомандующего. Но, давая маршалам до сих пор восхищающие специалистов своей ясностью приказы перед началом боя, Наполеон никогда не стеснял их детальными мелочными указаниями, к чему так склонны были современные ему главнокомандующие старой школы — и австрийские, и прусские, и английские, и (в гораздо, впрочем, меньшей степени) русские.
Он приказывал маршалам стремиться к выполнению такой-то задачи на таком-то участке и указывал, для какой общей стратегической цели должна служить эта реализация, а уж как маршал осуществит эту цель — это дело его разумения. Но в бою Наполеон оставался центром, мозгом армии. Осуществляя свои задания, маршалы были в постоянных сношениях с императором, осведомляя его о ходе действий, прося у него подкреплений, держа его в курсе непрерывно изменяющейся обстановки.
Сам Наполеон, критикуя спустя почти пять месяцев после сражения под Аустерлицем донесение Кутузова Александру об этой битве, писал, что вся громадная французская армия так же управлялась императором и так же была готова исполнить любой его приказ, как отдельный батальон управляется своим майором.
Самое трудное для современников и для потомства было понять, как сохраняет Наполеон эту руководящую роль, не подавляя личной инициативы своих маршалов и главных генералов. Но, конечно, эта их частная, исполнительная, так сказать, инициатива вполне подчинялась общей, верховной власти, всем управляющей инициативе императора и в конце концов приучала их там, где поблизости Наполеона не было, отказызаться от самостоятельных решений при слишком большом риске. Больших, совсем самостоятельных полководцев среди них было немного: Даву, Массена, отчасти Ожеро. Остальные большей частью были превосходными, талантливыми исполнителями, и их самостоятельность была именно только относительной и условной, как исполнителей. Наполеон с горечью признавал это, когда у него вырывались восклицания: «Не могу же я быть одновременно повсюду!»
Когда он вел бои в 1814 г. на подступах к Парижу, ему недоставало не только 300 тысяч отборных солдат, которые отчасти уже с 1898 г. легли костьми, отчасти готовились лечь в Испании, и не только французских войск, продолжавших занимать еще некоторые города Германии и некоторые части Италии, но ему недоставало и Массена, который так долго и тщетно истощал себя в бесконечной испанской войне, и Даву, который в это время сидел, осажденный врагами, в Гамбурге, и Мюрата, не пришедшего из Неаполя. И своих лучших солдат и своих испытанных помощников он разбросал по разным концам своей необъятной империи, и в роковой час многих из них не оказалось около него. Не только в этом, но также и в этом была одна из причин конечного поражения и в 1814 и в 1815 гг.
Но пока они все были с ним и пока великая армия не была на безнадежно долгий срок разделена на две части, причем одна из этих частей сражалась и погибла в далекой Испании, он долго чувствовал себя несокрушимым самодержавным повелителем Европы.
Превосходный подбор исполнителей особенно сказывался в той новой практике глубоких обходных движений, теоретиком которой стал на основании изучения наполеоновских войн Жомини. Именно Наполеон показал, что обход неприятельской армии только тогда имеет смысл, когда, во-первых, достигает тыла противника и перерезает в его тылу неприятельские линии сообщений, во-вторых, когда этот обход приводит к сражению, в котором обходящие колонны принимают участие.
Другой теоретик наполеоновских времен, фон Бюлов, считал, что достаточно только угрожать сообщениям. Но Жомини, именно опираясь на наполеоновское военное творчество, настаивал на сражении, которым непременно должен кончиться удачный и целесообразный обход. Наполеон считал, что при обходе сам обходящий, если не поторопится, рискует подвергнуться контр-маневру и атаке неприятеля. Выросшие в боях Наполеона его маршалы выполняли операции обходов иногда с идеальной точностью и быстротой и почти всегда с полной удачей.
Где неприятель с главными силами замыкался в крепости или в укрепленном лагере, там Наполеон приступал к осаде и, в случае отказа неприятеля сдаться, — к штурму. При этом, если доходило до штурма, то в случае победы Наполеон был беспощаден. Когда в 1796 г. Блюхер пробовал защищаться на улицах Любека, то после французской победы, по весьма, впрочем, старой традиции, город был разграблен дочиста и многие жители перебиты. Таких образчиков беспощадности в наполеоновских войнах было немало. Когда турецкая армия, прекрасно вооруженная (в 12 тысяч человек), в июле 1799 г. высадилась в Египте и заперлась в Абукирской крепости, где к ней прибавилось еще три тысячи человек, Наполеон увидел перед собой страшное препятствие: законченному им завоеванию Египта грозила очень большая опасность. Турки быстро возвели прекрасные укрепления; осадой их было взять нельзя, так как с моря им могли помогать англичане. Наполеон решился на фронтовую атаку, штурм в лоб, чего бы это ни стоило. Приказ был им отдан в два часа ночи 25 июля 1799 г. Ланн и Мюрат первые ворвались в крепость со своими отрядами, за ними — главные силы. Вся турецкая армия была переколота и перерезана на месте. «Эта битва — одна из прекраснейших, какие я только видел, — от всей высадившейся неприятельской армии не спасся ни один человек», — сообщал Наполеон под свежим впечатлением через два дня после штурма. Однако фронтальные атаки дорого стоили не только врагам, но и французам, и Наполеон прибегал к ним только тогда, когда не видел другого исхода.
Высоко ценя индивидуальную храбрость, ловкость и специфическое искусство боя отдельных лиц, Наполеон не верил, чтобы рассыпной строй каких-нибудь лихих наездников (вроде мамелюков или казаков) мог продержаться против больших компактных масс дисциплинированной европейской армии, хотя и допускал, что при столкновениях малыми кучками такие индивидуально превосходные наездники могли оказаться сильнее, и действительно были сильнее. Что в конечном счете массы решают все, — эту истину Наполеон не переставал повторять. Искусство полководца, во-первых, в том, чтобы уметь добывать, вооружать и быстро обучать большие батальоны, создавать массовые армии; во-вторых, в том, чтобы к моменту нанесения решающего удара они оказались в нужном пункте полностью; в-третьих, в том, чтобы, начиная битву, уметь не щадить эти большие батальоны, если это нужно для выигрыша сражения; в-четвертых, в том, чтобы, собрав эту массу, никогда не избегать и не отсрочивать битву, а искать скорейшей решительной развязки едва только есть шансы победить; в-пятых, и это самое трудное, находить в неприятельском расположении тот пункт, на который нужно направить решающий удар. Наполеон говорил, что роль счастья, роль случая на войне существенна, но истинно великие дела все-таки зависят от личных качеств полководца, от работы ума, знаний, способности к методическим действиям, от дара комбинации, от изобретательности и находчивости. «Не гений мне внезапно открывает по секрету, что мне нужно сказать или сделать в каких-либо обстоятельствах, неожиданных для других, а рассуждение и размышление», — сказал как-то сам Наполеон. Не потому Александр Македонский, Цезарь, Ганнибал, Густав-Адольф стали велики, что им служило счастье: нет, счастье им служило потому, что они были великие люди и умели овладевать счастьем. Так говорил Наполеон уже в самом конце своей жизни.
Его военный гений, заключающийся в умении использовать все средства при осуществлении цели, несмотря на отдельные случаи ошибок и признаки утомления, по единодушным отзывам стратегов и тактиков, изучавших его историю, в общем нисколько не ослабел в 1813-1814 гг. сравнительно с лучшими годами его карьеры. Даже в 1815 г., когда у него было гораздо меньше сил, чем у врагов, когда политическое положение было безнадежно, когда сам он чувствовал длительное физическое недомогание, он составил не менее талантливый стратегический план уничтожения неприятельских армий по частям, чем тот, который так великолепно удался ему в первом его итальянском походе, в 1796 г. И блистательное начало осуществления этого плана (поражение Блюхера у Линьи) и продолжение дела (битва при Ватерлоо, когда исключительно только случайно удавшийся во время приход Блюхера спас Веллингтона от неминуемого и страшного разгрома) — все это показало, что действительный мастер военного искусства еще был налицо.
Но уже не было чего-то другого, того, что, по мнению самого Наполеона, важнее всего на свете для полководца, даже важнее гения, — не было уверенности в конечном успехе, было сознание, что его время прошло. «Уже не было моего прежнего доверия к себе», — говорил он Лас-Казу о ватерлооской кампании.
К потере доверия к себе привели его ошибки, которые были прежде всего ошибками политическими. Грандиознейшие, неосуществимые политические задачи завоевания всего мира влекли за собой губительные отступления Наполеона от собственных стратегических правил.
Взять хотя бы технику завоевания: как совместить военную оккупацию уже раньше завоеванной наполеоновской колоссальнейшей всеевропейской империи с оккупацией русских областей и с охраной путей к Москве? Откуда было взять при этих условиях нужные силы для дальнейших битв, для завоевания России? Как выполнить собственное же правило: всегда быть сильнее неприятеля в нужный момент в данном пункте? Как умудриться быть одновременно победителем в битвах недалеко от Мадрида и в битвах между Смоленском и Москвой?
В своих грандиозных военных предприятиях Наполеон старался не отступать от основного своего принципа: крепко охранять свои сообщения. Именно поэтому так страшно ослабели его средства в московском походе еще задолго до отступления. Из 420 тысяч человек, которые у него были в июне 1812 г. близ Немана и с которыми он перешел границу и начал вторжение в глубь России, он пошел уже всего с 363 тысячами, остальные должны были ограждать фланги к северу и к югу от линии нашествия. В Витебск Наполеон пришел уже не с 363 тысячами, а с 229 тысячами человек; к Смоленску он подошел со 185 тысячами, после битвы у Смоленска и оставления там гарнизона он подошел из Смоленска к Гжатску с 156 тысячами человек; к Бородинскому полю он привел 135 тысяч, а в Москву с ним вошло 95 тысяч человек. Не только смерть от неприятельского оружия, от болезней, от климата, но и колоссальная коммуникационная линия пожрала великую армию. О 220 тысячах человек, которых Наполеон даже и к Неману не подвел, а должен был разбросать по своей необъятной всеевропейской империи, даже и говорить нечего, так же как о 200 тысячах с лишком, сражавшихся к Испании.
По вместе с тем, говорил он Лас-Казу, бывают моменты, когда нужно сжечь все корабли, подтянуть все силы для решительного удара и сокрушительной победой уничтожить противника; для этого приходится рискнуть даже и временным ослаблением коммуникационной линии. «В кампании 1805 г., когда я сражался в середине Моравии, Пруссия готова была напасть на меня, и отступление в Германию было невозможно. Но я победил при Аустерлице. В 1806 г. ...я видел, что Австрия совсем готова броситься на мои сообщения, а Испания готова вторгнуться во Францию, перейдя через Пиренеи. Но я победил при Иене». Еще опаснее были обстоятельства во время войны 1809 г. «Но я победил, при Ваграме». Наполеон говорил, что каждая война должна быть «методической», т.е. глубоко продуманной войной, и только тогда она имеет шансы на удачу. Он решительно опроверг установившуюся мысль, что нашествия Чингис-хана и Тамерлана были просто стихийным, беспорядочным движением: «Эти завоевательные войны, — сказал он как-то графу Монтолону, — велись правильно и основательно; предприятия (Чингис-хана и Тамерлана) соответствовали их силам и средствам и только потому и удавались». К слову замечу, что позднейшие историки-ориенталисты совершенно подтверждают зто мнение Наполеона о монгольских завоеваниях.
Много раз и по разным поводам Наполеон говорил, что все военное искусство заключается в умении сосредоточить в нужный момент и в нужном месте больше сил, чем есть в этот момент в этом месте у противника. Когда член Директории Гойе, говоря о войне 1796-1797 гг., как-то сказал Наполеону: «Вы часто, имея меньше сил, разбивали неприятеля, который был сильнее», — то Наполеон отрицал это, говоря, что он лишь старался с молниеносной быстротой бросаться на разрозненные силы врага и по частям, поочередно, бить их, но что именно поэтому во всяком отдельном таком нападении он в тот момент оказывался сильнее, хотя общее количество солдат у неприятеля во всей армии было и больше, чем общее количество солдат у Бонапарта.
Он много заботился о «духе» своей армии. Наполеон решительно подтвердил произведенное еще революцией изгнание телесных наказаний из армии и, разговаривая с англичанами, всегда недоумевал, как они не гнушаются пускать в ход потеть в войсках. «Чего же можно ожидать от людей обесчещенных? Как может быть чуток к чести тот, кого в присутствии товарищей подвергают телесным наказаниям? Вместо плети я управлял честью... После битвы я собирал солдат и офицеров и спрашивал их о наиболее отличившихся». Награждал он чинами тех из отличившихся, которые умели читать и писать, а неграмотных приказывал усиленно («по пяти часов в день») учить грамоте, после чего и производил их в унтер-офицерский, а дальше в офицерский чин. За серьезные провинности Наполеон расстреливал беспощадно, но, вообще говоря, он гораздо больше полагался на награды, чем на наказания. А награждать — и деньгами, и чинами, и орденами, и публичным чествованием — он умел с совершенно неслыханной щедростью. «Неужели вы думаете, что можно заставить людей сражаться, действуя на них рассуждениями? — воскликнул он на заседании Государственного совета в 1801 г. (14 флореаля) во время обсуждения вопроса об учреждении ордена Почетного легиона. — Они (эти рассуждения. — Е. Т.) годны только для ученого в кабинете. Солдат дерется из-за славы, отличий, наград. Армии республики совершили великие дела потому, что они состояли из сыновей крестьян и фермеров, а не из навербованных наемников, у них были не дворянские офицеры, а новые офицеры и у них было честолюбие».
Сознательно, обдуманно и с блистательным успехом Наполеон приготовил себе, таким образом, из материала, созданного революцией, дееспособнейшее и могучее орудие, которое в руках искусного мастера и должно было проявить себя неслыханными в военной истории достижениями.
Сам он ценил в себе основное, по его мнению, качество, которое, как он утверждал, важнее всего и незаменимее всего: железная воля, твердость духа и та особенная храбрость, которая состоит не в том, чтобы в критический миг броситься со знаменем в руке брать Аркольский мост или простоять несколько часов под русскими ядрами на городском кладбище под Эйлау, а в том, чтобы взять на себя целиком самую страшную, самую тяжелую ответственность за решение. Выигрывает сражение не тот, кто придумал план битвы или нашел нужный выход, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение.
По утверждению всех военных авторитетов, изучавших Наполеона, он был одинаково велик и как тактик, т.е. в искусстве выигрывать битвы, и как стратег, т.е. в искусстве выигрывать войны, и как дипломат — в искусстве навязать целиком свою волю разбитому врагу, не только сломить окончательно его дух и его способность к сопротивлению, но и заставить его зафиксировать в трактате то, что желательно победителю. У него все эти три способности сливались в одно неразрывное и гармоничное целое. Когда генеральная битва выиграна, нужно пустить Мюрата с кавалерией для преследования и окончательного уничтожения бегущих. А когда Мюрат сделал свое дело, нужно, чтобы выигрыш битвы превратился в выигрыш войны, т.е. нужно продолжать и закончить преследование врага за «зеленым столам» — дипломатическими формулировками и требованиями.
Наполеон обыковенно, начиная войну, стремился как можно скорее, молниеносным наступлением, одним-двумя сокрушающими ударами, повергнуть противника и заставить его просить мира.
Это дало повод Клаузевицу определить наполеоновский способ ведения войны как совершенно новое явление в истории, как приближение войн «к своему абсолютному совершенству». Клаузевиц пишет: «...со времени Бонапарта, сперва на одной стороне, затем на другой, война снова стала делом всего народа. Она приобрела совершенно другую природу или, точнее говоря, война сильно приблизилась к своей действительной природе, к своему абсолютному совершенству. Энергия ведения войны была значительно усилена вследствие увеличения средств, широкой перспективы возможных успехов и сильного возбуждения умов. Целью же военных действий стало сокрушение противника; остановиться и вступить в переговоры стало возможным только тогда, когда противник был повержен и обессилен». Однако эта глубокая оценка наполеоновского способа ведения войны в целом, данная Клаузевицем в связи с изучением вопроса «о размерах политической цели войны и напряжения», должна быть дополнена указанием, что сам Наполеон различал два вида войны (война наступательная и война оборонительная), не проводя между ними резкой грани, в зависимости от характера той или другой конкретной войны, обусловливаемой политической обстановкой и соотношением сил. В примечаниях к труду генерала Ронья, изданному в 1816 г., Наполеон писал: «Всякая наступательная война является войной вторжения, всякая хорошо веденная война является методической войной. Оборонительная война не исключает наступления, равно как и наступательная война не исключает обороны, хотя ее целью и является переход через границу и вторжение в неприятельскую страну». Дав краткий очерк походов величайших полководцев, Наполеон считал «излишним приводить какие-либо замечания относительно так называемых систем военного искусства». Однако, как и все великие полководцы, он, конечно, стремился разбить и добить врага.
Приведенное мнение Клаузевица является односторонним: Жомини, например, нигде его не высказывает. Кстати, следует заметить, что, признавая большие качества за трудами Клаузевица, Энгельс именно для изучения Наполеона предпочитал все-таки Жомини. Вот, например, что писал Энгельс Иосифу Вейдемейеру (12 апреля 1853 г.): «Жомини в конце концов является все же их лучшим (наполеоновских походов. — Е. Т.) историком, а самородный гений Клаузевиц, несмотря на некоторые прекрасные вещи, мне не совсем по вкусу».
Наполеон беспощаден был к тем ненавистным ему «якобинцам», которые хотели блага революционных завоеваний распространить и на плебейские массы.
Ограждение собственности, всякой собственности, в том числе и той земельной, парцеллярной, т.е. мелкой и мельчайшей крестьянской собственности, которая так расширилась при революции, — вот что стало одной из главных основ наполеоновской внутренней политики, хотя, как отметил еще Маркс в «Святом семействе», он и интересы отдельных групп буржуазии старался подчинить интересам своей империи. «Несобственники», — например, рабочие Парижа, рабочие Лиона, рабочие Амьена и Руана — были беспокойным для него элементом, но он был достаточно умен, чтобы не считать единственной защитой от них патрули и пикеты, жандармерию и идеальный по дееспособности и ловкости шпионаж, созданный Фуше. Он пытался оказывать сопротивление волнам безработицы, которые выгоняли в 1811 г. на улицы тысячи голодных рабочих. В этом он тоже искал оправдания как континентальной блокады, так и жестокой экономической эксплуатации и монополизации всех завоевываемых стран во имя французского сбыта и во имя дешевизны сырья французской промышленности.
Главными мотивами наполеоновской экономической политики были: желание сделать французскую промышленность главенствующей на земном шаре и неразрывно с этим связанное стремление изгнать Англию со всех европейских рынков. Но в области отношений между рабочим и работодателем Наполеон не только сохранил полностью и ввел в свое систематизированное законодательство эксплуататорский закон Ле Шапелье, запрещающий даже отдаленную видимость рабочих стачек; но сделал еще новый шаг по этому пути угнетения и эксплуатации рабочего, введя «рабочие книжки».
Как же случилось, что рабочие даже в самые критические моменты не восставали против императора? Как случилось, что в 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821 гг. так часто судьи реставрированной бурбонской монархии отправляли рабочих и в Париже и в провинции в тюрьму на долгие месяцы за «мятежные крики»: «Да здравствует император!»?
Ответ на это я старался дать в своей книге: объяснение заключается в том, что рабочие инстинктом понимали, что буржуазный послереволюционный строй, представленный императором, все-таки, невзирая ни на что, для них выгоднее, чем затхлое дворянско-феодальное старье, которое везли к ним фургоны, ехавшие вслед за армиями союзников.
В оседлой рабочей массе столицы, населявшей Сент-Антуанское, Сен-Марсельское предместья, кварталы Тампль и Муффтар, еще не были забыты героические дни революции. Но на Наполеона во время Ста дней даже и наиболее верные революционным преданиям смотрели все-таки как на меньшее из двух зол, считая наибольшим злом феодальную реставрацию.
Если во Франции в борьбе против угрожавшей реставрации старого строя Наполеон был представителем новой, промышленной, экономически прогрессивной эры, то естественной делалась революционизирующая роль его завоеваний в разрушении устоев феодальной Европы.
Во всех высказываниях Маркса и Энгельса подчеркивается значение прогрессивного толчка, данного Наполеоном. «Наполеон разрушил Священную Римскую империю и сократил в Германии число мелких государств путем образования более крупных. Он принес с собой в завоеванные страны свой кодекс законов, который был бесконечно выше всех существовавших кодексов и в принципе признавал равенство». По мнению Энгельса, Наполеона не поняли ни немецкие крестьяне, ни немецкие бюргеры, которые раздражались дороговизной кофе, сахара, табака и т.д., хотя та же континентальная блокада была причиной начала их собственной промышленности... «К тому же это не были люди, способные понять великие планы Наполеона. Они проклинали Наполеона за то, что он отнимал у них сыновей для войн, которые затевались на деньги английской аристократии и буржуазии; они прославляли как своих друзей именно те классы англичан, которые были действительными виновниками этих войн...»
«Режим террора, который сделал свое дело во Франции, Наполеон применил в других странах в ходе войны, и этот „режим террора“ в Германии был крайне необходим».
В статье против Бакунина (14 февраля 1849 г.) мы читаем: «Но без насилия и неумолимой беспощадности ничто в истории не делается, и если бы Александр, Цезарь и Наполеон отличались таким же мягкосердечием, к которому ныне апеллируют панслависты в интересах своих ослабевших клиентов, что сталось бы тогда с историей!»
Маркс и Энгельс находили даже (именно по поводу бездарного ведения с обеих сторон восточной войны 1853-1855 гг.), что наполеоновская решительность была «гуманнее», чем действия бездарных эпигонов.
Вот что они писали по поводу осады Севастополя: «Поистине Наполеон Великий, этот „убийца“ стольких миллионов людей, с его быстрым, решительным и сокрушительным способом ведения войны, был образцом гуманности по сравнению с нерешительными, медлительными „государственными мужами“, руководящими этой русской войной...»
Не снижая революционизирующей роли наполеоновских завоеваний для Европы, Энгельс ничуть не закрывает глаза на то, как Наполеон все больше и больше сам начинает к концу обращаться в монарха «божьей милостью». Величайшей ошибкой Наполеона было «то, что Наполеон вступил в союз со старыми антиреволюционными династиями, женившись на дочери австрийского императора, что, вместо того чтобы уничтожить всякие следы старой Европы, он, наоборот, старался вступить с ней в компромисс (курсив наш. — Е. Т.), что он добивался чести быть первым среди европейских монархов и поэтому по возможности уподоблял свой двор их дворам». То, что он тоже стал преклоняться перед «принципом легитимности», и погубило его в конечном счете, по мнению Энгельса.
Разгром всех континентальных монархий, произведенный Наполеоном, был результатом титанической борьбы, которая в конце концов истощила его силы, потому что на стороне Европы, экономически отставшей от наполеоновской Франции, оказалась Англия, экономически далеко опередившая наполеоновскую Францию, а вместе с тем стратегически недоступная для прямых ударов Наполеона вследствие владычества английского флота на морях.
Наполеон сразу увидел, что этот враг — самый страшный. Он хотел победить этого врага на Востоке, из Египта и Сирии; он собирался победить этого врага в Лондоне, из Булонского лагеря. Когда ни та, ни другая попытка не удалась, он хотел изгнать английские товары не обилием, качеством и дешевизной французских товаров, что было невозможно, а штыками и ружьями, солдатами и таможнями, и изгнать со всего континента Европы. Чтобы разорить Англию, было мало, однако, уничтожить только ее промышленность, нужно было подорвать и торговлю и торговое мореплавание и свести к нулю значение британских колоний. Наполеон и на это пошел, воспретив ввоз сахара, хлопка, индиго, индонезийского чая, кофе, пряностей. Континентальная блокада для своего завершения логически требовала беспрекословного подчинения всей Европы и России воле Наполеона, т.е. всемирной монархии, к которой он явно шел уже после Аустерлица, прикрывая (довольно прозрачно) свои стремления термином «император Запада». После Тильзита эти стремления обозначались все яснее и яснее. На этом пути он не мог не погибнуть, и он погиб.
Все попытки представить Наполеона безгрешным, добрым гением, слетевшим на землю исключительно для благодеяний роду человеческому, все усилия объяснить непрерывное двадцатилетнее кровопролитие исключительно необходимостью «защищаться», все старания (особенно этим отличаются французские историки) обелить некоторые черные дела, неразрывно связанные с именем Наполеона, совершенно бесплодны. Наполеон сам, кстати, никогда этими черными воспоминаниями не тревожился. Он так, по-видимому, искренне раз навсегда отождествил себя с Францией, что у него наперед было готово оправдание всему тому, что он делал; благо Франции, величие Франции, безопасность Франции — вот что в его глазах оправдывало все, что он делал.
Какой класс народа фактически он понимал преимущественно под Францией, я уже сказал выше: класс крупной буржуазии, а отчасти также собственническое крестьянство.
Но, переходя от «моральной» (или «морализующей») стороны к интеллектуальной, можно понять лорда Розбери, который сказал, что «Наполеон до бесконечности раздвинул то, что до его появления считалось крайними пределами человеческого ума и человеческой энергии». Другой англичанин, профессор Холленд Роз, отнюдь не увлекающийся Наполеоном, относящийся ко многому в нем отрицательно, тоже считает его «стоящим в первом ряду бессмертных людей» по тем неслыханно громадным и разнообразнейшим дарованиям, которыми наделила его природа, и по тому месту, которое он занял во всемирной истории. «Наполеон умел в одно мгновение решать участь целых материков, обнаруживая при этом как настоящую гениальность, так и неуклонность в достижении намеченной цели».
В нем не было жестокости как страсти, но было полнейшее равнодушие к людям, в которых он видел лишь средства и орудия. И когда жестокость, коварство, вероломный обман представлялись ему необходимыми, он их совершал без малейших колебаний. Его холодный ум подсказывал ему, что при прочих равных условиях, если это возможно, всегда выгоднее достигнуть цели без жестокости, чем при ее помощи. Он и действовал всегда сообразно с этим правилом там (но только там), где, по его разумению, позволяли условия. Цели, и именно самые главные, которые он себе ставил после Тильзита, а особенно после Ваграма, были часто фантастическими и невыполнимыми, но в стремлении к их осуществлению его ум давал ему разнообразнейшие указания, выискивал неожиданные средства, контролировал неустанно и главное и детали и не терялся в этих деталях. Он умел как-то, вопреки поговорке, разом видеть и лес, и деревья, и даже сучья и листья на деревьях.
Власть и слава — вот были личные основные его страсти, и притом власть даже больше, чем слава. Озабоченность, зоркая требовательность, всегдашняя предрасположенность к подозрительности и раздражению были ему свойственны в высшей степени. Обожание окружающих, доходившее до размеров суеверия, окружало его так долго, что он к нему привык и относился как к чему-то должному и совсем обыкновенному. Но и это обожание он расценивал больше всего с точки зрения той реальной пользы, которую из него можно извлечь. Не любовь, а страх и корысть — главные рычаги, которыми можно воздействовать на людей, — таково было его твердое убеждение. Только для своих солдат он делал отчасти исключение. Однажды, в годы его владычества над Европой, на его внезапный вопрос, как отнесутся люди к известию о его смерти, придворные льстецы стали расписывать будущую глубокую скорбь, а император насмешливо оборвал их и сказал, что Европа испустит вздох облегчения, воскликнет: «Уф!»
Что его солдаты его обожают, это он знал очень хорошо, и хотя солдат он даже и отдаленно так не любил, как они любили его, но всегда им верил.
Смерти он не боялся. Когда его тело после кончины обмывали, на нем нашли какие-то следы ран, о которых ничего не знали до тех пор (кроме следа от штыкового удара при штурме Тулона в 1793 г. и пулевой раны в ногу при Регенсбурге в 1809 г.). Очевидно, он в свое время скрыл об этих других ранениях, чтобы не смутить солдат в бою, и обошелся тогда помощью ближайшего окружения, которому и велел молчать. В своей посмертной вечной славе он был вполне уверен. Свою изумительную жизнь он объяснял больше всего совсем особыми, исключительными условиями, совпадение которых может встретиться раз в тысячелетие. «Какой роман моя жизнь!» — сказал он однажды Лас-Казу на острове Св. Елены.
Его исчезновение с исторической арены произвело на современников впечатление внезапно прекратившегося, долго бушевавшего урагана неслыханной ярости. Социально-экономическое развитие уже до Наполеона ослабило в тогдашнем европейском мире много старых, державшихся столетиями политических скреп феодализма, разрушило базис под многими юридическими и государственно-правовыми надстройками, продолжавшими по инерции существовать, превратило в гниль много зданий с древними и пышными фасадами. Ураган, который разразился и потом бушевал над Европой столько лет и в центре которого стоял Наполеон, разрушил и снес прочь много этих гнилых сооружений. Они упали бы, конечно, и без Наполеона, но он ускорил эту неизбежную ликвидацию. Смертоносное искусство, в котором он оказался таким мастером и специалистом, облегчило ему эту историческую задачу.
После Наполеона дворянско-феодальные пережитки могли в Западной Европе еще просуществовать известное время, но уже, за некоторыми исключениями, лишь в виде гальванизированного трупа. Революция 1830 г. во Франции, революция 1848 г. в Германии и Австрии в этом смысле значительно подвинули дело уборки исторического мусора. В России первый крупный шаг к этому (уничтожение крепостного права) был сделан лишь в 1861 г., и был сделан нехотя, со скрежетом зубовным, с откровенным стремлением дворянского большинства отнять вынужденную обстоятельствами уступку, что не удалось, или умалить ее, что удалось полностью. Однако вместе с тем следует признать, что сам Наполеон сделал очень и очень многое, чтобы облегчить феодальной Европе борьбу с ним и победу над ним. Чем больше бывший генерал французского революционного правительства заслонялся французским императором, а французский император — вселенским монархом, тем нерешительнее становился Наполеон в деле освобождения народов от феодальных пут (Польша в 1807-1812 гг., где он освободил крестьян, не наделив их землей и этим фактически оставив их в кабале; Россия в 1812 г.), тем-параллельно с этим — он делался категоричнее и настойчивее в деле подчинения своему личному произволу и народов и правительств и тем решительнее поэтому при первой же возможности Европа поднялась на борьбу против всемирного угнетателя.
И в избавлении от Наполеона видели в 1813–1814 гг. свое спасение не одни только обломки дворянско-феодального класса. Буржуазия покоренных Наполеоном стран жаждала теперь сбросить путы, которые наложил на нее Наполеон и которые мешали ей развернуться. Буржуазия завоеванных Наполеоном земель очень хорошо понимала и больно чувствовала, как Наполеон планомерно и беспощадно эксплуатирует эти земли в интересах исключительно французской буржуазии. Правда, когда национально-освободительное восстание против Наполеона окончилось низвержением наложенного им ига, то воспользовалась этой победой непосредственно не буржуазия, а та же феодально-абсолютистская реакция, но это уже произошло от относительной слабости и политической неорганизованности буржуазного класса тогдашней Европы.
Таким образом, в 1813, 1814, 1815 гг. против Наполеона боролся также и тот класс европейского общества, который некогда восторгался «гражданином первым консулом», якобы носителем революционных освободительных идей, каким его считали многие еще в промежуток времени между 18 брюмера и провозглашением империи.
Его экономическая политика в покоренных странах и не могла иметь другого конечного результата. Этого он до конца и не хотел понять и органически не мог понять. Бронзовый император в лавровом венце, со скипетром в одной руке и державой в другой, стоящий в центре Парижа на вершине своей колоссальной Вандомской колонны, отлитой из взятых им пушек, как бы напоминает, до какой степени он упорно при жизни цеплялся за безумную мысль держать в своей руке Европу, а если можно, то и Азию, и держать так же крепко, как на памятнике он сжимает символический шар державы, эту геральдическую эмблему всемирной монархии. Но мировая империя рухнула, длительное существование было суждено лишь тем делам Наполеона, которые обусловлены и подготовлены были еще до его воцарения детерминирующими, глубокими социально-экономическими причинами. А в памяти человечества навсегда остался образ, который в психологии одних перекликался с образами Аттилы, Тамерлана и Чингисхана, в душе других — с тенями Александра Македонского и Юлия Цезаря, но который по мере роста исторических исследований все более и более выясняется в его неповторяемом своеобразии и поразительной индивидуальной сложности.
О наполеоновской историографии
Наполеоновская историография поистине колоссальна. Из существующих библиографий тому читателю, который хотел бы продолжать изучение какой-либо стороны деятельности Наполеона, можно порекомендовать как самую новую и полную труд Кирхейзена, который дает много тысяч названий отдельных книг (не говоря уже о статьях).
Книги о Наполеоне в первые десятилетия после его смерти носили в подавляющем большинстве случаев характер патриотических славословий. Эта литература явилась реакцией после той тучи памфлетов против Наполеона, пасквилей, апокрифических сказаний и т.д., которыми были ознаменованы первые годы реставрации Бурбонов и которые писались роялистами, ненавидевшими «узурпатора». В противовес этим памфлетам и стали появляться такие мемуары, как многотомное сочинение герцогини д’Абрантес, как воспоминание Шапталя, книга Лас-Каза и т.д., а параллельно с этой мемуарной литературой начали выходить в свет и первые опыты систематической обработки истории наполеоновского правления.
Из этих ранних работ о Наполеоне много шума наделала и действительно дала большой и искусно обработанный материал знаменитая «История Консульства и Империи», написанная Адольфом Тьером и занимающая 20 томов. Она до сих пор в некоторых частях (например, в подробнейшем фактическом описании всех наполеоновских сражений) не утратила своего значения. Но написана она с откровенно «патриотической» точки зрения: во всех своих войнах, в которых успех был на его стороне, Наполеон прав. Тьера назвали «историком успеха». Он (чрезвычайно, впрочем, мягко) порицает Наполеона только за те войны, которые тот проиграл. Написана она в общем в восторженных тонах. Это исключительно политико-дипломатическая и военная история. Экономики Тьер не знает и даже не подозревает, что она нужна для понимания истории. Его труд имел громадное влияние и читался нарасхват, чему способствовал блеск изложения. Многотомная книга Вальтер Скотта о Наполеоне, одна из первых по времени больших книг о нем, тоже написана с внешней стороны блестяще. Знаменитый романист написал свою работу для самой широкой публики. Тон — английско-патриотический, враждебный Наполеону. Документация довольно слабая и поверхностная. Вообще это книга хоть и многотомная, но — для занимательного чтения, не больше. Успех ее был чрезвычайно велик и в Англии и вне Англии; она была переведена на все европейские языки. В середине XIX в. «наполеоновская легенда» настолько прочно овладела историографией Франции, что на книгу Вальтер Скотта там смотрели как на кощунственное произведение.
Вальтер Скотт хотел своей книгой как бы ответить Байрону, в 1822 г., за два года до своей кончины, прославлявшему победы Наполеона, который, «не родившись царем, влек царей за своей колесницей». Консервативный романтик Вальтер Скотт не прощал Наполеону этих ударов, нанесенных им феодальному миру. Книга Вальтер Скотта вызвала, к слову замечу, любопытный отзыв Гегеля.
13 октября 1806 г., накануне битвы под Иеной, но когда город уже был занят Наполеоном, Гегель писал Нитгаммеру: «Я видел, как через город на рекогносцировку проехал император, эта мировая душа» (diese Weltseeie).
Знаменитый философ впоследствии уже не говорил так о Наполеоне и склонен был считать его «бичом божьим», но книга Вальтер Скотта с ее благочестивыми обывательскими рассуждениями о Французской революции и об Империи возмутила его. Вальтер Скотт пишет, что «небо» послало революцию и Наполеона за грехи Франции и Европы. Гегель на это возражает, что если справедливое небо так распорядилось, то значит сама-то революция была справедлива и необходима, а вовсе не преступна. «Поверхностная голова!» (Seichter Kopf!) — заключает он свое замечание о Вальтер Скотте. Между тем документация росла неудержимо. Постоянно появлявшись новые и новые мемуары о Наполеоне и его эпохе. Французским правительством изданы были 32 громадных тома (in-quarto) писем, приказов и декретов, лично продиктованных Наполеоном. За этим изданием последовали добавочные. Монографическая литература о его походах, отдельных битвах, о его законодательстве, дипломатии, администрации ширилась и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Англии.
Романтическая школа выдвинула в историографии особое направление, которое «героям» приписывало руководящую роль в истории человечества. Книга Томаса Карлейля «Герои и героическое в истории» имела очень большое влияние, и это влияние крайне резко и крайне вредно, конечно, отразилось на литературе о Наполеоне. Уж если кто в самом деле мог ввести в соблазн историков «героического» направления, то, конечно, прежде всего Наполеон.
Первым серьезным протестом в наполеоновской историографии против этого совершенно ненаучного подхода к вопросу была книга полковника Шарраса о кампании 1815 г., изданная в период Второй империи в Брюсселе в 1858 г. Шаррас — французский эмигрант, враг бонапартизма. О Шаррасе Маркс в 1869 г. писал, что он «открыл атаку на наполеоновский культ». Ведет борьбу с «наполеоновской легендой» французский историк Эдгар Кине, который стремится доказать, что идея «великой империи» чужда Франции, что ее происхождение итальянское, что она скрывается в глубине мысли всех крупных деятелей Италии. Пятитомная книга Пьера Ланфрэ, начавшая выходить в 1867 г. и выдержавшая 11 изданий, написана в очень враждебном Наполеону тоне. Она была не только протестом против «героической» школы в наполеоновской историографии, но и выражением борьбы против удушающего официального культа традиций Наполеона: писалась эта книга и первые томы ее вышли в свет при Второй империи. Ланфрэ ненавидел обоих Наполеонов: и дядю, историю которого он писал, и племянника, в царствование которого он сам жил и действовал. Наполеон I для Ланфрэ — себялюбивый деспот, угнетатель народов, душитель свободы, тиран, залитый кровью человечества. Увлекшись правильным по существу желанием бороться против восторженных преувеличений господствующего направления в наполеоновской историографии, Ланфрэ впал в конце концов в ту же ошибку, что и его противники: он необычайно преувеличивал историческую (решающую будто бы все) роль Наполеона — роль, по его мнению, не положительную, а отрицательную.
Но все равно, методологически он так же впадает в наивность и ненаучные преувеличения, как его бесчисленные противники «героической» школы.
После конца Второй империи в интересующей нас области историографии начинаются новые течения. С одной стороны, в самые первые годы Третьей республики, когда еще была опасность восстановления империи Бонапартов, республикански настроенные историки продолжали борьбу против наполеоновской легенды. Книга Юнга была одним из таких проявлений этой борьбы. С другой стороны, большое впечатление (на университетских преподавателей истории особенно) произвел появившийся тогда же пятый том «Происхождения современной Франции» Ипполита Тэна. Реакционный историк Французской революции под прямым впечатлением испуга и злобы по отношению к Коммуне 1871 г. так извращенно изложивший историю людей и событий первой революции, относится к Наполеону как к наследнику и продолжателю итальянских кондотьеров XIV, XV, XVI вв., жившему войной и для войны. Он не порицает нисколько Наполеона за то, что тот задушил революцию и уничтожил республику.
Тогда же, в 70–80-х годах, стала выходить, а в 900-х годах была закончена восьмитомная работа Альбера Сореля «Европа и французская революция», последние четыре тома которой посвящены Наполеону. Сорель писал после франко-прусской войны 1870–1871 гг., и его патриотическое усердие выдвинуло тезис, который до сих пор и остался господствующим во французской наиболее влиятельной историографии: Франция ни на кого не нападает, а только защищается, отстаивая свои «естественные границы», т.е. Альпы и Рейн. Войны Наполеона, в сущности, только по своему внешнему виду наступательные, а на самом деле они оборонительные. Много литературного блеска, исследовательских изысканий, ловкой адвокатской казуистики и дипломатического лукавства потратил Альбер Сорель (дипломат по подготовке и по службе) для доказательства правильности своего недоказуемого и даже неправдоподобного тезиса. Но попутно работа Сореля выяснила много важных и интересных явлений наполеоновской истории, и в смысле фактического рассказа она может быть очень полезна. Тон по отношению к Наполеону — довольно восторженный и приподнятый.
Еще больший шаг по пути нового оживления «наполеоновской легенды» и фальшивого апофеоза императора сделал Артур Леви, написавший в 1894 г. огромную курьезную книгу, специально посвященную личной характеристике Наполеона (Napoleon intime). Оказывается, что император являлся собранием всех моральных совершенств, и если был, действительно, у покойника один недостаток, то разве только излишняя доброта к людям и безудержное великодушие. Нравственные красоты этого якобы кроткого друга человечества, мягкого добряка, благодушного и миролюбивого филантропа еле-еле уместились на 650 страницах книги этого восторженного биографа. Карикатурные, нелепые преувеличения и все эти лживые несообразности Артура Леви нисколько не помешали этой книге со всеми ее фантазиями иметь огромный успех и в ученых, и полуученых, и совсем неученых слоях читающей публики.
Отчасти до, а больше всего после Артура Леви и поощренный его успехом выступил Фредерик Массон в 1890-х и 1900-х годах с многочисленными томами о Наполеоне, о коронации Наполеона, о семье Наполеона, об армии Наполеона, о дворе Наполеона и т.д. Эти детальные архивные исследования, тоже написанные в духе обожания, осветили немало чисто фактических проблем, ко какого-нибудь общего взгляда, какого-нибудь, пусть даже неправильного, одностороннего, но обобщающего, теоретического подхода спрашивать и ожидать от Массона не приходится.
Гораздо серьезнее Массона Альбер Вандаль — самый талантливый продолжатель и последователь Сореля. В разгаре франко-русского дипломатического сближения, в 1890–1897 гг., один за другим вышли три тома его исследования «Наполеон и Александр», где он излагает историю франко-русских войн и франко-русского союза в эпоху Наполеона I. Точка зрения в основном сорелевская: Наполеон в сущности не виноват в войнах с Россией, как и вообще он ни в каких войнах не повинен. Да и вообще может ли Наполеон в чем-нибудь быть повинным? По-видимому, для Альбера Вандаля это неясно. По крайней мере во втором своем большом двухтомном исследовании «Возвышение Бонапарта», вышедшем в 1902 г., через пять лет после окончания первой работы, излагая с присущим ему блеском (в литературном отношении он пишет лучше не только Сореля, но и Тэна) историю переворота 18 брюмера, Вандаль находит, что Бонапарт не повинен в установлении деспотического режима и вообще во всем без исключения, что он сделал до и после государственного переворота. Тон напряженно-восторженный, такой, какого даже у старых историков, даже у Тьера, не было. Но обилие умело расположенных фактов, дающих широкую и яркую картину гибели Директории и ее предшествующей агонии, делает это исследование достойным изучения. За первые же десять лет после своего появления эта большая двухтомная работа (540+600 страниц) вышла в 18 изданиях. Война 1914–1918 гг. и послевоенное время отразились очень значительно на наполеоновской историографии. С одной стороны, резко обострился барабанно-шовинистический дух ее. Один за другим появлялись большие и малые, специальные и популярные томы о войнах Наполеона и о его деятельности. Еще можно назвать ряд книг Дрио (редактора специального журнала «Revue des études napoléoniennes», посвященного истории Наполеона). В этих больших монографиях Дрио имеется много частичных фактических поправок и дополнений к прежним материалам. Последние книги Дрио проникнуты духом самого крайнего шовинизма и реакции.
Вообще крутое обострение буржуазной реакции после Версальского мира сказалось соответствующим образом на книгах, посвященных внутренней деятельности Наполеона и его общеисторическому значению. В этом смысле характерны (я называю лишь самые новые книги, и притом только такие, которые могут представить хоть какой-нибудь самостоятельный фактический интерес) такие работы, как двухтомный «Наполеон» Луи Мздлена (вышел в 1934 г.), или два больших тома того же Мадлена «Консульство и Империя», вышедшие в 1933 г., или книга Бэнвиля. Что касается двухтомного специального исследования Обри «Св. Елена», вышедшего в 1935 г., то оно дает много ценного для истории последних лет Наполеона. Подводящая итоги многочисленным монографиям Эдуарда Дрио его новая трехтомная книга «Наполеон Великий», вышедшая в 1930 г., превосходит работы Бэнвиля и Мадлена большим обилием фактического материала. С 1936 г. начала выходить в свет рассчитанная на двенадцать томов «История Консульства и Империи» Луи Мадлена. Тон автора благоговейно-восторженный.
В конце 1934 г. вышла книга о Наполеоне известного исследователя Мейнье, составившего себе имя, между прочим, вышедшей еще в 1928 г. работой о 18 брюмера. Называется эта новая его книга (1934 г.) так: «За и против Наполеона». Мейнье сначала вкратце излагает то, что могут сказать и сказали о Наполеоне враги его, а затем излагает заслуги Наполеона перед Францией. Общий вывод оказывается всецело в пользу Наполеона. Самое появление книги Мейнье — характерное явление для общего апологетического направления современной наполеоновской историографии. Гораздо более объективна и научна книга Лефевра, вышедшая в серии «Peuples et civilisations» в 1932 г.
Таковы были главные течения во французской наполеоновской историографии за 100 лет. Я назвал лишь несколько особенно заметных и оказавших влияние общих трудов о Наполеоне. В списке, которым я заканчиваю свою книгу, я указываю еще на несколько монографий об отдельных сторонах его жизни и деятельности.
Что касается наполеоновской историографии в других странах Европы, то в общем она шла за французской. Назовем Фурнье и огромное, законченное в 1934 г., девятитомное исследование Кирхейзена, того самого швейцарского ученого, который предварительно составил уже упомянутую мною лучшую библиографию о Наполеоне. Конечно, самые масштабы обеих биографий несоизмеримы: в своих огромных девяти томах Кирхейзен дает детальное изложение, и каждый из этих томов чуть ли не вдвое больше любого тома книги Фурнье. Оба этих немецких исследования, из которых второе основано на громадном количестве данных, изданных и неизданных, отличаются спокойным изложением и научностью тона и подхода к материалу. Англичане дали очень большое количество исследований по отдельным вопросам истории Наполеона; из общих обзоров удачнее других книга Холлэнда Роза. Огромный девятый том всемирной «Новой истории», издаваемой Кембриджским университетом, посвящен истории Наполеона. Это самый полный из общих обзоров эпохи. Дельный общий обзор эпохи Наполеона советский читатель найдет и в первых двух томах «Истории XIX века» Лависса и Рамбо (Соцэкгиз, 1938 г.).
Экономическая история наполеоновской эпохи в общем оставалась до последнего времени очень мало разработанной, несмотря на обильнейшие неизданные материалы по экономической истории Первой империи, хранящиеся в Национальном архиве. Кроме работы Пауля Дармштеттера, моих работ о континентальной блокаде во Франции и Европе и об экономической жизни Италии в царствование Наполеона, книги Ролоффа о колониальной политике Наполеона, новейшей книги Сентуайяна о том же предмете, труда шведского ученого Гекшера о континентальной блокаде (основанного, как оговаривается Гекшер, в значительной мере на материалах моей монографии) и кроме еще очень немногих частичных исследований, почти ничего сколько-нибудь систематического в области разработки экономической истории наполеоновской империи не сделано. Итальянская экономика в царствование Наполеона на основании неизданных документов Миланского и других архивов составила предмет вышедшего в 1928 г. в Париже моего специального тома «Le blocus continental en Italie» («Континентальная блокада в Италии»).
В самом конце 1936 г. вышла книга Луи Вилла «Революция и Империя», том II (подзаголовок — «Наполеон»). Это полезный критико-библиографический справочник, дающий как бы общий очерк того, что сделано в науке по истории Наполеона. Но Вилла не очень хорошо знает историю покоренных Наполеоном стран. Изложение истории Наполеона у самого автора очень уж схематичное и совсем беглое, напоминающее скорее учебник. Библиография у Вилла очень полная. Строго научное исследование истории Наполеона неминуемо даст пересмотр целого ряда устоявшихся, весьма популярных, но ничуть не ставших от этого правильными взглядов на цели и результаты наполеоновской деятельности и прежде всего должно вызвать интенсивную разработку неизданных архивных материалов по экономике империи.
Живым марксистским популярным очерком наполеоновской эпохи, поскольку речь идет о Пруссии, является работа Франца Меринга «Zur preussischen Geschichte, I. Vom Mittelalter bis Jena, II. Von Tilsitt bis Reichsgründung» («К истории Пруссии, 1. От средних веков до Иены, II. От Тильзита до основания Империи»), последнее, наиболее полное издание 1930 г. В первом томе страницы 292–380, а во втором томе страницы 1–218 посвящены истории Пруссии при Наполеоне. Написаны эти страницы с литературной стороны очень увлекательно. Эта работа полемически заострена против патриотических выемок и плоскостей прусско-шовинистической и гогенцоллернско-монархической историографами. Владычество Наполеона в Германии Меринг, как и Энгельс, считает «историческим прогрессом» для этой страны.
Книга Меринга в сущности одна из немногих пока марксистских работ, посвященных наполеоновской эпохе.
Можно отметить также книгу Шульца (страницы, посвященные Наполеону в его «Blut und Eisen»), книгу Лауфенберга (о положении Гамбурга при французской оккупации). О Гамбурге и вообще об экономическом положении Германии при Наполеоне на основании неизданных документов, оставшихся неизвестными авторам этих работ, я говорю в моем исследовании «Deutsch-französische Handelsbeziehlingen zur Napoleonischen Zeit». Berlin, 1914 («Германо-французские торговые отношения во времена Наполеона»).
Косвенным доказательством проявившегося в Европе и Америке интереса к анализу деятельности Наполеона советскими историками могут послужить, во-первых, многочисленные переводы моей книги о Наполеоне на иностранные языки и, во-вторых, отзывы, рецензии, критические разборы, отклики, вызванные изданиями этой работы в Англии, США, Франции, Швеции, Норвегии, Италии и Польше.
В. С. Кошелев, доктор исторических наук, профессор Академик Тарле и его «Наполеон»
В июле 1989-го года мировая общественность отмечала 200-летие Великой французской революции. В печати, на проходивших повсюду научных коллоквиумах и конференциях развернулись горячие споры о ее сложнейшем политическом и социальном наследии, его ценностях и значении для современной цивилизации. К юбилею было выпущено множество книг как во Франции, так и в других странах. Историография Французской революции, и до того чрезвычайно обширная, пополнилась значительным количеством оригинальных исследований. Естественно, многое из того, что было написано, уже забыто или еще будет забыто. Однако «золотой фонд» историографии самой революции и наполеоновских войн, создававшийся на протяжении почти двух столетий, как будто не подвержен воздействию времени. И достойное место в нем занимает книга «Наполеон», принадлежащая перу выдающегося советского историка Е. В. Тарле.
Евгений Викторович Тарле родился 8 ноября 1874 года в купеческой семье среднего достатка. Получил классическое образование: сначала Первая херсонская гимназия, затем Киевский университет. После окончания историко-филологического факультета молодой человек всецело посвящает свою жизнь научной и педагогической деятельности, начав работу на этом поприще с изучения общественных воззрений Томаса Мора и развития социалистических учений в Европе. Но сфера его научных интересов стремительно расширялась, поглощая все новые и новые проблемы, и к началу Октябрьской революции он уже был признанным авторитетом в области всемирной истории.
Октябрьскую социалистическую революцию историк встретил настороженно. Практика революционного насилия была несовместима с его либеральными взглядами. Не будучи сторонником марксизма, Тарле тем не менее признавал его значение как одного из методов исторического исследования. В 1918 году Тарле издал подборку документов по истории Французской революции. Книга была названа «тенденциозной». И это понятно, т.к. историк недвусмысленно обвинял в ней якобинскую диктатуру, столь близкую сердцу руководителей большевистской партии, совершившей революционный переворот в России.
Пережив период сомнений и духовных потрясений, Тарле с головой окунулся в научную и преподавательскую работу, а с конца 20-х годов вступает в полосу творческого подъема. Особенно плодотворными в научном отношении оказались 30-е годы. В это время опубликованы книги «Наполеон» и «Нашествие Наполеона на Россию», в которых достойное место заняло освещение борьбы русского народа против французских завоевателей и которые явились событием в советской историографии.
Тарле раньше многих других советских историков приступил к разработке патриотической тематики. Упомянутые книг стали серьезным прорывом в этом направлении. И в связи с этим необходимо сделать принципиально важное пояснение. Дело в том, что Отечественная война 1812 года и темы, связанные с ней, не привлекали особого внимания историков после Октябрьской революции. До середины 30-х годов в советской исторической науке господствовала вульгарно-социологическая школа М. Н. Покровского, лихая кавалерийская атака которой против дворянской историографии обернулась полным забвением истории «двенадцатого года». В своих работах по этому периоду русской истории М. Н. Покровский оправдывал агрессию Наполеона, отрицал патриотизм народа в борьбе против захватчиков и даже отказывал войне 1812 года в названии «отечественная». Также приуменьшалось значение деятельности российских полководцев, и особенно М. И. Кутузова. Заслуга Тарле как раз и заключалась в том, что ему удалось преодолеть уничижительное отношение к великим событиям «двенадцатого года». Первые рецензенты назвали книгу «Нашествие Наполеона на Россию» «книгой о героизме русского народа».
Тарле был не только талантливый историк, но и прекрасный лектор. Его лекции вызывали неизменное восхищение у аудитории. В годы Великой Отечественной войны раскрылась еще одна грань его таланта как публициста. В первые же дни войны Тарле выступил со статьей «Начало конца», название которой имело глубокий исторический подтекст. Эти слова произнес министр иностранных дел наполеоновской Франции Талейран после вторжения в июне 1812 года французской армии в пределы Российского государства. В июле 1941 года газета «Известия» опубликовала статью историка «Война отечественная, война освободительная», в которой Великая Отечественная война рассматривалась «как начало великого всеевропейского освобождения».
В годы войны Тарле завершил большое исследование «Крымская война», удостоенное в 1943 году Государственной премии I степени. По словам академика Н. М. Дружинина, «Крымская война» читалась с одинаковым интересом и в тылу и на фронте.
Последние годы жизни Е. В. Тарле были отданы работе над задуманной им трилогией «Русский народ в борьбе с агрессорами в XVIII–XX веках». Но смерть ученого в 1955 году не позволили ему завершить начатый труд. «Е. В. Тарле прожил большую и, можно сказать, счастливую жизнь, — писал известный историк А. С. Ерусалимский, — он познал радость огромного творческого труда, радость первооткрывателя новых исторических материалов, радость публициста», отдавшего свое перо служению народу.
Счастливая судьба и у многих произведений Тарле, среди которых талантливая книга «Наполеон».
Личность Наполеона привлекала не только ученых. О нем писали государственные и политические деятели, знаменитый писатели и поэты. Многие политики подражали ему, некоторые мечтали повторить его попытку мирового господства. Быть похожим на Наполеона старался Гитлер, поставивший своей целью добиться того, чего не удалось французскому императору. Параллели с Наполеоном импонировали Сталину, у которого на этой почве существовало, можно сказать, некое ревнивое отношение к объекту подражания. Сталин насмехался над наполеоновскими претензиями Гитлера, а в одном из своих выступлений в период Великой Отечественной войны с сарказмом подчеркнул, что фашистский диктатор похож на Наполеона, как котенок на льва.
Французский поэт Огюст Барбье, обращаясь к образу Наполеона, трактует его как проявление стихийных сил природы. Он сравнивал Францию с дикой и гордой лошадью, которая согласилась нести на себе честолюбивого юношу, совершившего много чудесных и удивительных подвигов. Но маленький корсиканец так укротил благородное животное, что оно забыло о том времени, когда было диким и свободным. А седок между тем, не зная меры, все погонял и погонял лошадь, пока она не сбросила его и не пала сама.
Трагически противоречивым и монументальным, как гипертрофированное сочетание добра и зла, предстает перед нами «могучий баловень побед» в знаменитом стихотворении А. С. Пушкина «Наполеон». «Великий человек» и «тиран» — это одно и то же лицо.
Над урной, где твой прах лежит, Народов ненависть почила И луч бессмертия горит.Пушкинский Наполеон — не каприз природы. Он дитя Великой французской революции, но и ее же могильщик. Вот ключевые строки к пониманию образа «великого человека»:
…Тогда в волненье бурь народных Предвидя чудный свой удел, В его надеждах благородных Ты человечество презрел. В свое погибельное счастье Ты дерзкой веровал душой, Тебя пленяло самовластье Разочарованной красой. И обновленного народа Ты буйность юную смирил…Великий завоеватель совершил роковую ошибку — «поздно русских разгадал». Суд народной Немезиды свершился, и все обиды тирану были отплачены. Но с христианским смирением поэт предупреждает:
Да будет омрачен позором Тот малодушный, кто в сей день Безумным возмутит укором Его развечанную тень! Хвала!.. Он русскому народу Высокий жребий указал И миру вечную свободу Из мрака ссылки завещал.Пушкинское понимание образа Наполеона оказало несомненное влияние на Тарле. И тем не менее у него свой Наполеон.
Стендаль писал: «Одинаково трудно удовлетворить читателей, когда пишешь о предметах либо малоинтересных, либо представляющих слишком большой интерес». Тарле, конечно же, осознавал всю меру возложенной на него ответственности, приступая к описанию жизни человека, который приковал к себе внимание всего мира и о котором у каждого имелось определенное суждение. Позднее ученый делился своими сомнениями на этот счет: «Такие предшественники! Вальтер Скотт, Стендаль, Толстой… Было над чем задуматься. И все-таки я решился».
Работу над жизнеописанием Наполеона Тарле начал в 1934 году. Обращение к биографическому жанру было для него делом не новым. Но интерес к этой личности во многом подогревался обострением международной обстановки, когда фашистская пропаганда призывала пойти по стопам Наполеона походом на Восток. Книга «Наполеон» вышла в 1936 году в серии «Жизнь замечательных людей» и сразу же приобрела широкую популярность, а позднее была издана во многих зарубежных странах. Вот как о ней отзывался историк Д. М. Петрушевский: «Вашего „Наполеона“ прочел с большим увлечением. Это настоящий шедевр исторической науки и искусства, с которым от всей души поздравляю Вас. Это общее мнение всех, кто читал Вашу книгу». Писатель и драматург А. М. Борщаговский отмечал ее художественные достоинства: «Для людей моего поколения автор „Наполеона“ всегда будет стоять в ряду крупнейших мастеров слова и тонких художников».
Приступая к книге, Тарле поставил своей целью показать место и роль Наполеона в истории, рассказать о жизни и деятельности выдающегося полководца и государственного деятеля. Талантливый мастер и блестящий стилист, автор с первой же страницы увлекает читателя в драматический мир Французской революции и наполеоновских войн, которые оказали огромное влияние на всю европейскую историю. Тарле объясняет необыкновенные успехи Наполеона не только его личными качествами и достоинствами, которые, несомненно, помогли ему выдвинуться на гребне революционной волны. Автор обращает также внимание на то обстоятельство, что Наполеон объективно стал выразителем интересов буржуазии, перед которой не устоял старый феодальный мир. «Историческая обстановка, — отмечает Тарле, — при которой началась, развивалась и окончилась изумительная карьера Наполеона, была такова, что ему суждено было отчасти в истории Франции, а особенно в истории покоренных им стран играть долгое время определенно прогрессивную роль».
Говоря о прогрессивной стороне в разнообразной деятельности Наполеона, Тарле не забывает и о другой, теневой, его стороне — как человека и как политика. Наполеон — душитель Французской революции. Деспот, изгнавший «даже отдаленное представление о свободе из всего государственного и общественного быта своей империи». Тиран для покоренных народов Европы, Наполеон — это и «звериные меры» в отношении каирского населения, восставшего против завоевателя в 1798 году.
Пробиваясь сквозь толщу лжи и легенд вокруг Наполеона, Тарле пытался объективно подойти к этой сложной и противоречивой фигуре, интересовался не только мотивацией его поступков, но и тем, как он выполнил свою огромную историческую роль, отталкиваясь при этом от еще одной известной пушкинской характеристики Наполеона — «свершитель роковой безвестного веленья».
И все же Тарле, как и многие до и после него, не смог избежать идеализации своего героя. Наполеон у него все время на переднем плане, действует не зная сомнений, словно по заранее составленному плану, подобно актеру, играющему свою роль. Вероятно, Наполеон обладал даром предвидения того, что может произойти. И если верить ему, осознавал эту способность. Но все-таки не до такой степени, чтобы из множества вероятных решений всегда выбрать единственно правильное.
В небольшой, ярко написанной главе о походе Наполеона в Египет читатель вряд ли обратил внимание на некоторые внешне, казалось бы, незначительные детали. В частности, на сообщение автора о том, что, находясь в Каире, Наполеон стал готовиться к походу в Сирию. Зачем? Разве стратегический план предусматривал это? Нет, ничего подобного в нем не существовало. Поход в Сирию — вынужденная мера. Можно сказать, бегство французского генерала из долины Нила, где он, окруженный враждебно настроенным населением и отрезанный с моря английской эскадрой адмирала Нельсона, оказался в ловушке.
Влияние «наполеоновской легенды» отразилось и на следующем эпизоде. Безуспешно осаждая турецкую крепость Акка, Наполен вдруг узнает, что, пока он воевал на Востоке, европейские державы возобновили войну против Республики, а Суворов даже угрожает вторжением во Францию. «Мне нужно ехать», — сказал он. То есть спасать Францию. Однако не это сообщение послужило побудительным мотивом. Как отмечалось выше, неблагоприятные обстоятельства принудили Наполеона осознать необходимость «уехать», независимо от того, что происходило на родине. Оказавшись не в состоянии взять Акку, защитников которой поддерживали англичане, ему пришлось повторить свой поход в обратном направлении, то есть в Египет. Здесь он тайком оставляет свою армию на произвол судьбы, а сам в сопровождении нескольких сотен солдат и офицеров, по существу, спасается бегством на корабле.
Автор преувеличивает предусмотрительность Наполеона во время подготовки государственного переворота 18 брюмера 1799 года, который в книге разыгран как по нотам. За кадром остались растерянность, неуверенность и даже трусость Наполеона, судьба которого в то время висела на волоске. Был момент, когда он меньше всего напоминал героя. И если бы не решительность и находчивость его брата Люсьена, это рискованное предприятие вошло бы в историю всего лишь как попытка переворота с трагическими для Наполеона последствиями.
В главе «Сто дней» и «Остров св. Елены» также чувствуется влияние «наполеоновской легенды». Подчеркивая в ряде эпизодов обаятельность Наполеона, автор, по словам академика Н. М. Лукина, «словно хочет примирить читателя со своим героем, которому сам не раз давал перед тем весьма нелестную характеристику».
Многие поколения историков пытались разгадать тайну смерти Наполеона. Тарле в своей книге придерживается официальной версии, в соответствии с которой кончина последовала в результате естественного заболевания (рак желудка). Между тем сразу же после смерти стали распространяться слухи об отравлении императора и причастности к этому английской агентуры. Надо сказать, что оснований для сомнений относительно официальной версии было немало. Наполеон Бонапарт был сослан на остров св. Елены в расцвете сил, в 46 лет, а умер в 51 год. Как известно, он отличался исключительно крепким здоровьем и удивительной работоспособностью (до 20 часов в сутки). Климатические же условия на острове были весьма благоприятны для человеческого организма.
В 1840 году под давлением общественного мнения Франции тело Наполеона эксгумировали и перевезли для перезахоронения в Париж. Производившееся тогда вскрытие не подтвердило прежнего диагноза, но и действительная причина смерти не была выявлена. Тайна смерти Наполеона казалась навсегда погребенной под мраморными плитами Дома инвалидов в самом центре Парижа.
И только спустя 150 лет шведский врач и историк Стена Форсхувуд раскрыл тайну гибели французского императора. Проведенные им в 50–70-х годах научные изыскания с применением новейших достижений науки позволили собрать неопровержимые улики о преднамеренном отравлении Наполеона одним из сопровождавших его офицеров графом де Монтолоном.
Тайна смерти Наполеона, пожалуй, раскрыта. Но не раскрыта тайна его жизни и исторического предназначения. К этой тайне еще не раз будут обращаться историки и писатели. Выход в начале 70-х годов биографической книги «Наполеон Бонапарт», написанной советским историком А. З. Манфредом, — лишнее тому подтверждение.
У каждой эпохи свой Наполеон. И «Наполеон» Манфреда, естественно, отличается от «Наполеона» Тарле. Но объединяет обоих авторов то, что ни один из них не исчерпал возможностей проникновения в исторический образ Наполеона.
Поэтическое озарение Пушкина, сказавшего, что Наполеон является роковым орудием «безвестного явления», представляется глубочайшим постижением сути этого сложного и противоречивого духа.
Русский поэт и писатель-философ 20 века Даниил Андреев, обладавший способностью улавливать отзвуки иных миров и создавший одну из самых необыкновенных книг нашего времени — «Роза Мира», раскрывает метаисторическое содержание пушкинского «безвестного явления» и называет Наполеона «крупнейшим из носителей темных миссий той эпохи». Такое видение образа Наполеона для любознательного читателя может послужить дополнительным импульсом в постижении этой драматической фигуры.
Несмотря на свой «почтенный» возраст, книга Тарле до сих пор остается непревзойденным образцом историко-биографического жанра. К ней обращались и будут обращаться широкие круги читателей, каждый по-своему открывая легендарную личность, оказавшую столь неоднозначное влияние на ход мировой истории.


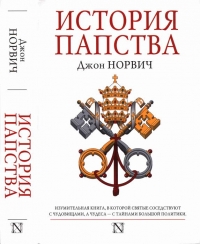
Комментарии к книге «Наполеон», Евгений Викторович Тарле
Всего 0 комментариев