Д. А. Засосов, В. И. Пызин
Из жизни Петербурга
1890-1910-х годов
ЗАПИСКИ ОЧЕВИДЦЕВ
Изданию воспоминаний Д. А. Засосова и В. П. Пызина предшествовала частичная публикация их в литературной обработке М. Е. Абелина в журнале "Нева" (1987-1989 гг.) под названием "Пешком по старому Петербургу".
Настоящая книга не является перепечаткой изданных текстов. Издательство предлагает читателю авторскую редакцию рукописи, восстановленную вдовой В. И. Пызина Е. И. Вощининой, за исключением некоторых глав и страниц, оставленных ею в журнальном варианте.
Изданием этой книги, снабженной солидным научным комментарием и богато иллюстрированной, издательство отдает дань уважения труду и таланту авторов мемуаров и выражает искреннюю признательность Екатерине Ильиничне Вощининой за ее деятельное участие в подготовке текста к печати.
ОГЛАВЛЕНИЕ
От авторов ... 3
Реки, каналы и жизнь на них ....... 5
На улицах и площадях столицы ..... 22
Городской транспорт: извозчики, конка, трамвай .... 38
Быт старого петербургского дома .... 47
Жители доходного дома .... 62
Обитатели ночлежек и сиротских домов .... 74
Храмы и религиозная жизнь горожан .... 83
Рынки и торговые ряды .... 87
Магазины и лавки, рестораны и трактиры .... 96
Одежда и мода .... 105
Сад "Буфф" и народные развлечения .... 116
Пожарные команды и полиция .... 129
Школа, гимназия, университет ..... 134
О военных .... 161
Кронштадт .... 172
Окрестности Петербурга и дачная жизнь .... 180
Заключение .... 210
Послесловие .... 212
Примечания .... 213
Список литературы .... 268
Старые и новые названия улиц, площадей, набережных,
мостов, упоминаемых в книге .... 269
* Здесь в фигурные скобки {} помещены номера (окончания) страниц издания-оригинала- Ю. Ш.
* Принятая система ссылок: первая цифра означает номер издания по списку литературы на с. 268, затем следуют номера тома и страниц данного источника.
* Авторы вступления к комментарию - В. А. Витязева и А. В. Степанов.
ОТ АВТОРОВ
Мы старожилы великого города на Неве. Нам много лет, мы скоро уйдем из жизни.
В ряде очерков нам хочется рассказать нашим молодым современникам и тем, кто будет жить после нас, то, что мы помним о быте и нравах "последнего" Петербурга (с середины 90-х годов прошлого века до 1914 года, начала империалистической войны, когда город был переименован в Петроград).
Описываемые два десятилетия были действительно последними для Санкт-Петербурга, но важнее даже то, что в ту пору уже чувствовались его обреченность, близость конца изжившего себя строя по совершенной очевидности разящего неравенства, крайности богатства и бедности, несправедливости всего порядка вещей.
Это было время, интересное для судьбы города. Время крупных открытий в науке и технике, время больших взлетов в области литературы и искусства. На нашей памяти появились первые кинематографы, граммофоны, аэропланы. Мы были одни из первых пассажиров трамвая, автомобиля.
Быстро рос капиталистический город, изменялся облик его, приобретая европеизированный, но все еще "строгий, стройный вид".
Многоликая уличная толпа обогатилась потоком типажей из коммерсантов, купцов, банкиров, с одной стороны, и рабочих, ремесленников из деревни, приказчиков - с другой. Множились и расширялись магазины. {3}*
Мы не ставили перед собой задачи отразить постепенный ход изменений быта и нравов, а только попутно старались отмечать черты отмиравшего старого и нарождающегося нового.
Мы надеемся, что читатель, ознакомившись с нашими очерками, возымеет желание лишний раз пройтись по нашему прекрасному городу, сопоставляя современное и минувшее. И это уже хорошо. {4}
РЕКИ, КАНАЛЫ И ЖИЗНЬ НА НИХ
Петербург строился как крепость и порт. Но строился он не на море, а на реке. Город не обращен к морю - вся его жизнь в течение по крайней мере двух веков ориентировалась на реку и каналы. И застраиваться город начал главным образом по рекам. Нева главенствовала в городе, даже когда крепость утратила свое военное значение и порт переместился с Троицкой площади ближе к морю.
В Петербурге конца XIX - начала XX века - уже крупном промышленном городе - еще сохранялась эта значимость рек и каналов для жителей, его, в первую очередь потому, что наземной связи между повсюду возникающими фабриками и заводами почти не было (еще не появились железнодорожные подъездные пути), и естественно, что вся связь осуществлялась в основном по воде.
Но главное отличие заключалось в том, что зимой жизнь на реках, конечно, затихала, но не прекращалась, она продолжалась в своеобразной форме. Зимой реки, особенно малые, выглядели иначе, чем теперь, во-первых уже потому, что на них зимовали пароходы, пристани, дебаркадеры, баржи, плавучие краны, выбирая себе места, где течение медленнее, предпочтительно вблизи мастерских и заводов для осуществления ремонта. Пароходы заводились в устье реки Охты, ставились у левого берега Малой Невы между Биржевым и Тучковым мостами, зимовали у Канонерского острова, у Семянниковского завода и т. д.
В некоторых местах Большая и Средняя Невка оказывались сплошь забитыми баржами, пристанями, дебаркадерами. Так как баржи были деревянные и требовали плотничьего ремонта и осмолки, то для них близость завода не имела значения. Зимовали, как правило, только баржи надежной постройки, рассчитанные на длительный срок перевозки грузов (кирпича, бута, песка, гравия, путиловской плиты и пр.). Баржи, привозившие в город дрова, были обычно легкой постройки, с расчетом на "одну воду", то есть на 2-3 рейса. Эти баржи после очередной разгрузки разбирались на "барочный" лес, идущий {5} на временные постройки, дешевые дома на окраинах и частично на топливо. "Барочный" лес продавался на месте, очень дешево, так как был сырой и весь в дырах от деревянных нагелей.
В течение зимы на пароходах производился ремонт рабочими мастерских и заводов, а также квалифицированными членами команд. Значительная же часть команд пароходов на зиму увольнялась и разъезжалась по своим деревням.
Исключением из всех этих судов были живорыбные садки, которые круглый год стояли на одном месте и жили одинаковой жизнью и летом, и зимой. Садок - это большая баржа с надстройкой, на которой располагались торговые, складские и жилые помещения для приказчиков и рабочих. У этих садков стояли подсобные суда - садки в прямом смысле слова с живой рыбой. Зимой живая рыба добывалась подледным ловом в заливе. На месте лова она замерзала и немедленно гужом на санях доставлялась к садкам. В садках и чанах большая часть ее оживала.
Забавно было видеть, как на деревянной барже из возведенной кирпичной трубы валил дым. В торговом помещении стояли чаны с живой рыбой, навалом на рогожах лежала мороженая рыба - судаки, лещи, сиги, окуни, корюшка и др. По бокам от входа стояли дыбом громадные замороженные белуги, в 2 аршина и более. В бочках - соленая рыба, рядом в окоренках - икра всевозможных сортов. Над прилавком висели громадные коромысловые весы с медными цепями и тарелками, рядом - маленькие чашечные весы.
Такие садки стояли на Неве, Невках и Фонтанке. Особенно большие садки стояли на Неве против Сената и на Фонтанке у Аничкова моста. Они славились разнообразием отборного товара, и цены здесь были повыше, покупатели побогаче. В остальные садки приходила публика проще. Больше всего покупателей было в масленицу и посты, когда многие не ели мясного. Среди покупателей встречались и такие, у которых денег было мало, а полакомиться вкусной икрой хотелось. И вот приходили такие "покупатели" со своей булкой, подавали ее приказчику, прося помазать ее икрой то того, то другого сорта, чтобы попробовать, прежде чем купить. Так они "пробовали" несколько сортов, а потом, находя, что икра-де горьковата или солоновата, уходили, неплохо закусив, провожаемые недоброжелательными взорами хозяев и продавцов. {6}
Зимой оживлялась переправа через Неву по льду. Для пешеходов и переездов на лошадях у берегов строились деревянные сходни и съезды на лед, засыпаемые снегом. Такие переправы устраивались во многих местах, например с Французской набережной до клиники Виллие 1 (ныне Военно-медицинская академия). От набережной 3имнего дворца до Зоологического сада ходил даже электрический трамвайчик, перевозивший за пятак (малые дети при родителях бесплатно). По льду прокладывалась узкоколейка, вагончик малюсенький, на нем ригель с колесиком, катившимся по проводу. У берега стояли баржи с павильонами, вагончик входил в вырез баржи.
Во многих местах бедный люд промышлял тем, что перевозил людей через Неву по специальным ледяным дорожкам в двухместных креслах, примитивно сколоченных. Было жаль смотреть на человека, который, тяжело дыша, быстро бежал на коньках, толкая перед собой санки с пассажиром, иной раз - с двумя. Это были своеобразные рикши. Они обычно работали от хозяйчика, часто от арендатора лодочных перевозов, переключавшихся на зиму на это доходное дело.
Какими только картинами не оживлялись реки, их устья и взморье зимой! Из раннего детства всплывает в памяти катанье по Неве на высоких санях на северных оленях. Их погоняли самоеды - возницы в оленьих шубах кверху мехом. На льду реки стояли их чумы.
Катки тоже сооружались только на реках, а в зимы, когда лед был надежный, на Мойке, у Исаакиевской площади, были катки с ледяными горами. Сначала они освещались керосиновыми фонарями, позднее - электрическими. По воскресеньям там играл духовой оркестр. Катки на Фонтанке, около Аничкова моста, и на Мойке сооружались на днищах барок, иначе сточные воды могли нарушить прочность льда. Чтобы вокруг катка не собирались толпы зевак, предприниматель ограждал каток "забором" из парусины, натянутой на высоких столбах 2.
При некоторых яхт-клубах, в основном на Островах, устраивались специальные ледяные горки для катанья на саночках. Но главная специализация яхт-клубов зимой была, конечно, иная: они переключались на буерный спорт. Кроме настоящих спортсменов ходить на буере любила молодежь ради развлечения.
Не только буера носились по ледяным просторам. Вот отчаянный конькобежец, а таких немало, катается на коньках с парусом в руках, конечно, только ближе к весне, когда в устье рек образовывался гладкий лед. На {7} бамбуковую раму натянута парусина. Спортсмен умело подставляет такой парус под ветер под разными углами и носится со страшной быстротой по льду, лавируя по разным направлениям. Конечно, такой вид спорта был небезопасен,при сильном ветре скорость развивалась очень большая. Ветер мог занести этого смельчака бог знает куда. В опасный момент спортсмен бросал свой парус.
Когда лед на заливе был надежный, из гавани Васильевского острова в Кронштадт мчались тройки, перевозившие главным образом морских офицеров. Тройки были лихие, и многие предпочитали прокатиться на них, чем ехать на поезде до Ораниенбаума, а затем на небыстрых лошадях до Кронштадта. На середине пути примерно возводился деревянный балаган, где проезжие могли остановиться; согреться, закусить жареной рыбой. В ходу была корюшка, которую подавали с пылу с жару, поджаренную на постном масле на маленьких сковородках.
Описывая зимнюю жизнь Невы, надо сказать несколько слов об Иордани. 6 января по старому стилю праздновалось Крещенье. Во льду против Зимнего дворца вырубалась майна, над ней сооружалась часовня в виде красивого павильона. Это сооружение и называлось Иорданью,- так легенда из Палестины была перенесена на лед холодной Невы 3.
От главного, Иорданского, подъезда Зимнего ко льду и далее по льду до Иордани устраивались сходни и мостики, украшенные флагами и гирляндами. Вдоль них выстраивались шпалерами гвардейские части в зимней парадной форме без шинелей, солдаты без перчаток - такова была традиция. Офицеры были в лучших условиях - они надевали под шинель меховые жилеты.
После обедни во дворце высшее духовенство выходило на Иордань служить молебен с водосвятием по традиции с петровских времен. На лед выходила и царская семья. Высший служитель опускал крест в воду, в это время давался 101 выстрел из пушек Петропавловской крепости. По представлению верующих, вода в Неве мгновенно становилась святой, и все по очереди подходили испить ее, несмотря на то, что санитарная инспекция уже тогда запретила пить сырую невскую воду ввиду ее загрязнения сточными водами.
После водосвятия царь принимал Крещенский парад - мимо него проходили церемониальным маршем войска, присутствовавшие на Иордани.
На одном из таких водосвятий произошел инцидент: {8} одна из пушек Петропавловки выпалила боевым снарядом. Раненых и убитых не было, однако последний царь предпочел больше не присутствовать на этой церемонии. Вскоре она была отменена 4.
К весне на Неве и Невках добывали лед для набивки ледников. Лед нарезался большими параллелепипедами, называемыми "кабанами". Сначала вырезались длинные полосы льда продольными пилами с гирями под водой. Ширина этих полос была по длине "кабана". Затем от них пешнями откалывались "кабаны". Чтобы вытащить "кабан" из воды, лошадь с санями пятили к майне, дровни с удлиненными задними копыльями спускались в воду и подводились под "кабан". Лошади вытаскивали сани с "кабаном", зацепленным за задние копылья. "Кабаны" ставились на лед на попа. Они красиво искрились и переливались на весеннем солнце всеми цветами радуги. Работа была опасная, можно было загубить лошадь, если она недостаточно сильна и глыба льда ее перетянет; мог потонуть в майне и человек, но надо было заработать деньги, и от желающих выполнять такую работу отбоя не было: платили хорошо. Майна ограждалась легкой изгородью, вечером вокруг майны зажигались фонари, чтобы предупреждать неосторожных пешеходов и возчиков.
Набивали ледники льдом особые артели. Эта работа была также опасна и требовала особой сноровки. "Кабаны" опускали вниз, в ледник, по доскам на веревках, а там рабочие принимали их и укладывали рядами. Бывали случаи, когда "кабан" срывался со скользкой веревки и калечил рабочих, стоящих внизу.
С приближением весны оживление на реках и каналах возрастало. Начинали дымить пароходы, пробуя готовность машин к навигации. Красили пристани, смолили баржи. Переходы и переезды по льду закрывались. Но легкомысленные обыватели, невзирая на запрещение речной полиции, продолжали переходить реки по льду, часто рискуя своей жизнью. То же наблюдалось при ледоставе. В это время нередко можно было слышать со льда крики о помощи.
Наконец наступает ледоход 5. Когда пройдет главная масса льда, буксирные пароходы начинают расставлять по назначенным местам пристани, рестораны-поплавки, наводят плашкоутные мосты, которые зимовали вдоль набережных.
Пассажирские пароходики при первой же возможности возобновляли свою работу на перевозах. Постоянных {9} мостов через Неву было меньше, чем теперь, а потому с закрытием движения по льду возникала большая необходимость в этих перевозах. На нашей памяти произошла страшная катастрофа: пароход купца Шитова "Архангельск", обслуживавший перевоз с Пальменбахской набережной (около Смольного) на Охту, вечером, в канун Пасхи, приняв пассажиров сверх нормы, наскочил на крупную льдину и ушел кормой в воду. Спаслись только несколько человек. Шитова присудили к тюремному заключению сроком на один год и обязали выплатить пособия семьям погибших. Весь город был взволнован, говорили с горькой усмешкой: "Вот какое красное яичко подарил Шитов петербуржцам на Пасху!"
Открытие навигации назначалось обычно на ближайшее воскресенье после прохода ладожского льда. Это была торжественная церемония, привлекавшая к набережным Невы массу зрителей.
Примерно в половине двенадцатого от Петропавловского берега отваливал двенадцативесельный катер, на котором стоял в полной парадной форме генерал, комендант Петропавловской крепости, пытаясь придать своей старческой фигуре гордую военную осанку. Зрелище было интересное: матросы гвардейского экипажа изо всех сил наваливались на весла, быстро пересекали Неву и лихо подходили к Зимнему дворцу, при этом все весла ставились "на валёк" - вертикально, как полагалось в торжественных случаях и на парадах. Бодрящийся генерал нетвердой походкой направлялся во дворец, чтобы получить разрешение открыть навигацию. Через несколько минут он возвращался, и катер так же стремительно мчал его к крепости под грохот пушечного салюта, это почти всегда совпадало с полднем. Одновременно на сигнальной мачте крепости поднимался флаг. Все пароходы, стоявшие у пристаней, гудели и тоже поднимали флаги, то же делалось и на пристанях. Вскоре от них отваливали пароходы, начиналось регулярное движение - навигация открыта! 6
Многочисленные пассажирские пароходы бороздили по всем направлениям воды нашего города 7. Пароходы принадлежали или Обществу легкого финляндского пароходства, или купцу Шитову. Они конкурировали между собой. Их пароходы ходили по Неве, Невкам, Фонтанке и даже по Екатерининскому каналу (только меньшего размера). Пароходы общества имели темно-синюю окраску корпуса и желтую кормовой каюты. Носовая часть была открыта, труба высокая, черная, при прохо-{10}де под мостами она опускалась с помощью рычагов с балансиром. На носу у них был номер. Шитовские пароходы, ходившие только по Неве, кают не имели, над всем корпусом зеленой окраски была крыша, а для защиты от дождя, ветра и солнца опускались брезентовые обвесы. Плата за проезд через Неву - 2 коп. и 5-10 - по продольным линиям. Плата взималась матросами на пристанях при посадке.
На Фонтанке у Прачечного моста, против Летнего сада, была пристань перевоза на Выборгскую сторону, к клинике Виллие, и на Петроградскую сторону, к Домику Петра I, в котором находилась часовня с образом Спасителя, якобы помогавшим нерадивым ученикам сдавать экзамены. Родители возили своих лентяев прикладываться к этому образу, вместо того чтобы заставлять их хорошенько заниматься или даже пороть, по тогдашним обычаям. На этой пристани забавно звучали торопливые окрики пристанского матроса: "Скорее! К Спасителю за две копейки!" В часовне от множества горящих свечей и от толпы, набивающейся в маленькое помещение, было душно и жарко. Шли беспрерывные молебны, и люди, с трудом выбиравшиеся из толпы, с удовольствием садились на берегу отдохнуть на свежем воздухе Невы.
Тогда набережной здесь не было - тянулась песчаная отмель. На ней сушились мережи, неводы, валялись незатейливые рыбачьи лодки. Из-за мелководья пристань стояла далеко от берега, к ней шли деревянные мостки на козлах. Недалеко находилась пристань пожарных пароходов.
Такая же отмель была у клиники Виллие, и там же, близ Литейного моста, была водолазная станция. Артель водолазов (частное предприятие) выполняла всякие водолазные работы: найти труп утонувшего, поднять упавший в воду груз или ценности, починить корпус судна, проложить кабель и пр. К ним мог обратиться любой человек и учреждение, разумеется, за плату.
В теплую погоду масса народу ездила на Острова. С причалов Васильевского острова, ниже Николаевского моста, ходили пароходы на Кронштадт. От Калашниковской набережной, у церкви Бориса и Глеба, отходили пароходы на Валаам. Капитаны и команда на них были монахи. У Летнего сада стояла пристань пароходов на Шлиссельбург, они были крупнее, с каютами 1-го и 2-го классов и открытой верхней палубой. На этих пароходах ездили больше дачники, так как по берегам Невы было много дачных мест. {11}
Нужно подробнее остановиться на устройстве пароходиков, которые бегали по Неве, Невкам и каналам. В общем они отвечали правилам безопасности движения: на них были развешаны спасательные круги, с внутренней стороны фальшбортов крупные надписи: "Рук за борт не выставлять!"
Паровая машина находилась в открытой шахте, огражденной невысоким комингсом - оградой. Все части машины были на виду. Машинист, он же и кочегар, находился в этой тесной шахте, то подавая уголь в топку, то управляя машиной. Он работал в трудных условиях: с одной стороны его обдавало жаром, с другой - холодным ветром. Он то и дело вытирал засаленными концами пот с лица и шеи. Вся команда состояла из рулевого, он же капитан, машиниста-кочегара и одного матроса. Капитан-рулевой помещался на больших пароходах, ходивших по Неве и Невкам, в особой рубке; на маленьких - сидел на кожухе котла. На случай аварии на пароходике имелся запасной румпель - тросик от штурвала к рулю. Нас всегда восхищало необыкновенное искусство рулевых проводить пароходик в тесно заставленных баржами Фонтанке и каналах, умело и точно подваливать к пристаням, проходить под низкими и узкими арками консолей мостов, расходиться со встречными и обгоняющими его баржами, ведомыми не буксирными пароходами, а на шестах. С наступлением темноты управление пароходами еще более осложнялось, так как на баржах часто не бывало, как полагалось, сигнальных огней. На обязанности матроса, кроме поддержания чистоты на пароходе, лежали все операции по причаливанию и отваливанию парохода. При причаливании бросить канат, зачалить его за кнехты пристани; при отправлении, отдав конец, на ходу вскочить на пароход.
Команда пароходов носила форму речников. На пароходах Финляндского общества команда была обычно из финнов. Капитаны-рулевые набирались из отставных флотских. Они, а также машинист сдавали особый экзамен при управлении Торгового порта.
Пристани были сплошь обвешаны красочными объявлениями с рисунками. Реклама страхового общества "Россия" была с дебелой русской красавицей в старинном расшитом сарафане; завода "Треугольник" - с громадной калошей, мыловаренного завода Жукова - со страшным жуком и т. д. Издали пристань походила на жар-птицу. Надстройка на понтоне была выдержана в ложнорусском стиле с резьбой и выкрашена яркой охрой. {12}
На набережной Васильевского острова, против 8-й линии, стояла Кронштадтская пристань, откуда отправлялись большие колесные пароходы "Утро", "Баклан", "Буревестник" и др.
У завода Берда, около устья Мойки, была другая Кронштадтская пристань, откуда отходили винтовые пароходы ледокольного типа - "Луна", "Заря" и другие, постройки шведского завода Матала. Они же ходили и на Лисий Нос. На время ледохода и ледостава они использовались как ледоколы между Кронштадтом и Ораниенбаумом. Пароходы эти были значительно больше, там было два класса, каюты и хороший буфет. Здесь и публика особая: морские и артиллерийские офицеры с семьями, матросы с обветренными лицами, а также почитатели священника Иоанна Кронштадтского. Пароход шел до Кронштадта около двух часов, и мужчины с деньгами коротали время в буфете, где были не только холодные закуски, но и обеды и горячие ужины.
На мелких пароходиках, ходивших в пределах города, классов не было, можно было располагаться в любом месте - на палубе, в каюте.
У Воскресенской набережной на левом берегу Невы, выше Литейного моста, стояла пристань пароходов на Петрозаводск. Среди пассажиров было немало лесопромышленников и трудового народа, ехавшего на заработки.
У левого берега Невы, ниже Николаевского моста, стояли министерские яхты. Часть их была малого размера и колесная. Ниже, также у левого берега, стояли иногда царские яхты "Полярная звезда" и "Штандарт". Все эти яхты имели черный корпус, выше ватерлинии - золотая полоса. Рубки на них были из красного дерева, каюты роскошно отделаны, везде золоченая бронза и ярко начищенная медь. Обслуживал их гвардейский экипаж. Обычно около них на берегу стояли кучки любопытных. Пристани этих яхт обслуживали также матросы гвардейского экипажа.
Заканчивая описание водных сообщений в городе, необходимо вспомнить, что существовали многочисленные перевозы на яликах. В лодку брали до 8 пассажиров, плата за перевоз через Неву - до 5 копеек. На каждой лодке имелся спасательный круг, с наступлением темноты на носу зажигался фонарик. Обычно перевоз арендовал у города какой-нибудь купец, нанимавший рабочих-перевозчиков. Это был все народ опытный, перевозили в любую погоду, даже при большой волне. Одевались они {13} своеобразно: красная рубаха, поверх нее жилет, на голове выцветший картуз.
В Петербург приходило много барж, особенно с дровами. Они приносили в наш город запах лесов, смолы, от их команд тоже веяло лесным духом. На баржах главным лицом был шкипарь (испорченное "шкипер"). Во время плавания на буксире или самоходом он стоял у руля. На перекатах, порогах и при проходе под мостами роль его была особенно ответственна. Он же согласовывал все действия с капитанами буксирных пароходов, а также отвечал перед речной полицией, которая строго наблюдала за порядком и правильностью расстановки под разгрузку и устройством сходней.
На маленьких баржах вся команда состояла из одного шкипаря, на больших был еще водолей, главной обязанностью которого было наблюдать за количеством воды в ялах и своевременно откачивать ее. На хороших баржах берлинах и им подобных - для откачки воды с двух бортов ставились деревянные поршневые насосы. На них всасывающая труба из бревна большого диаметра, просверленного по оси. В ней ходил деревянный поршень, поднимаемый пружинящей доской. На баржах с дровами, несолидной постройки, "на одну воду", и такого примитивного устройства не было. Воду из ялов удаляли черпаками на длинной палке. Вода выплескивалась в окно, вырезанное в борту.
Для выгрузки барж нанимались особые артели каталей, носаков и крючников. Катали перевозили груз в тачках. Для каждого рода груза имелся свой тип тачки: для кирпича - в виде платформы, для песка и угля - в виде ящиков.
Для разгрузки барж с пиленым лесом нанимались носаки, на одном плече у каждого была кожаная подушка. Для разгрузки кулей, мешков и других штучных крупных грузов нанимались крючники.
Как прислуга барж, так и береговые рабочие были крестьяне, их гнала в город нужда. Как-то странно было видеть на наших богатых гранитных набережных бедно, даже рвано одетых людей в лаптях. Свою тяжелую работу они даже не могли скрасить песней - в Петербурге это было строго запрещено, следила полиция. Особенно гнетущее впечатление производили катали: черные, потные, с изнуренными лицами, с воспаленными от угольной пыли глазами.
В начале разгрузки палуба баржи была обычно ниже набережной. Поэтому на подмогу каталю выходил какой-{14}нибудь помощник, как правило, бродяжка с длинным железным прутом с крючком на конце; на подъеме он подхватывал тачку, за что просил на чай. У всех каталей была интересная традиция: уходили они на отдых (и днем, и на ночь), всегда оставляя тачки нагруженными, устанавливая их одну за другой, чтобы, придя, сразу вывезти их. Другая традиция - тачку с грузом толкали вперед, порожнюю везли за собой.
Работа носаков происходила следующим порядком: они выстраивались у штабелей досок цепочкой. Второй поднимал за один конец несколько досок и ставил их в наклонное положение, упирающимися передним концом. Первый подставлял плечо с кожаной подушкой. Затем второй подставлял плечо, третий ему нагружал и т. д. Носаки ловко находили центр тяжести подаваемого груза и переносили его "на рысях". Особенно тяжело было им при сильном ветре доски парусило, носаков разворачивало.
Когда груз был в мешках, кулях и вообще крупными "местами", работали крючники, таская груз на спине, удерживая его своим крюком, отсюда название "крючник". Работа была изнурительной: у причала часто скапливалось несколько барж, и приходилось таскать груз с пятого-шестого судна, а на берегу укладывать в высокие штабеля. Чтобы скорее справиться с работой, крючники брали по 2-3 мешка на спину, а мешок весил около 4 пудов, кули с солью были в два раза тяжелее. Слышались профессиональные словечки-приказы: "Наливай!" - клади на спину,- двое "наливали" третьему. "Даешь!" - кричит крючник, подставляя спину. Одежда крючников - брезентовая куртка с ватной спиной, спереди карманы, по краям обшитые кумачом, медные тщательно начищенные пуговицы "для форса".
Все эти грузчики были сезонниками, жили в ужасных условиях, в тесных грязных помещениях, спали на нарах, часто без подстилки. И это после 12-часового тяжелого труда.
Круглый лес приходил в плотах, которые в пределах города проводились буксирными пароходами. Как правило, плот или даже целая гонка из плотов перед мостом бралась буксиром "наотуру", то есть плоты спускались по течению первыми, а пароход после разворота, находясь выше их по течению, спускал плоты на буксире, точно направляя их в пролет моста. Круглого леса в плотах приходило очень много для нужд строек, лесопильных и деревообделочных заводов, бумажных фабрик, ча-{15}стично для экспорта. Плоты ставились под разгрузку или у специальных лесных складов или фабрик и заводов для их обработки. Разгрузка производилась вручную при помощи веревок, с выкаткой по наклонным слегам, с укладкой в штабеля.
Реки и каналы Петербурга оживлялись своеобразными контурами лайб. Теперь это слово забыто. Лайба - это двухмачтовая или трехмачтовая парусная шхуна небольшого водоизмещения. Прибрежные жители Финского залива из Эстонии и Финляндии доставляли на лайбах в Петербург дрова, песок, лес, картофель и даже ягоды. Эти лайбы, управляемые хорошими моряками, загруженные почти до фальшбортов, пускались в плавание в любую погоду, даже при штормах. Они бросали якоря у маяков в устьях Невы и Невок, а также у Синефлагской мели, поднимали синий флаг, вызывая тем самым буксирный пароход для вывода их к причалам. Многие лайбы проводились под разводные мосты в центр города.
Посмотришь с Калинкина моста вниз по Фонтанке - целый лес мачт с переплетенными снастями. Бушприты лайб прямо лежали на стенках набережных, которые были завалены выгруженным товаром. Любой товар не залеживался, его покупали и увозили, лишь бы цена была посходнее.
Около разгружаемых лайб и барж сновали на лодчонках или бродили по набережной хищники разного рода: "пираты", скободеры и пикальщики. "Пираты" тащили что плохо лежит или поднимали со дна длинными клещами упавшие кирпичи и другой тонущий товар. Пикальщики ходили вдоль набережных с пикалкой и вылавливали плывшие дрова, доски и пр. Пикалка - это деревянная колобашка, на одном конце которой было кольцо с веревкой, на другом торчал гвоздь. Пикальщик нацеливался и бросал свою пикалку в полено и вытаскивал его. Так он заготовлял себе дрова на зиму. Пикаленьем развлекались и мальчишки более состоятельных родителей, но они не уносили добычу домой, а отдавали ее нуждающимся собратьям 8. Скободеры тайком вырывали из барж скобы, петли, барочные гвозди.
С наступлением теплой погоды закипала жизнь в яхт-клубах и на территориях гребных обществ 9: ремонтировались, красились яхты и лодки, просушивались и чинились паруса, спортсмены готовились к открытию сезона. Самым привилегированным был Санкт-петербургский императорский яхт-клуб на Крестовском острове. Скромнее был Невский яхт-клуб, гавань которого находи-{16}лась на Шкиперском протоке около кроншпицев Галерной гавани Васильевского острова. Остальные клубы принимали членами скромных тружеников и рабочих.
Каждый яхт-клуб имел свой флаг и форму, а каждый судовладелец - свой вымпел. У более богатых и привилегированных яхт-клубов и форма была побогаче. Например, командор и вице-командор императорского яхт-клуба при полном параде надевали треуголку, морской вицмундир и кортик, совсем как адмирал настоящей эскадры начала XIX века. Гребные общества тоже имели форму, только более скромную.
Ремонт, окраска и спуск на воду в богатых яхт-клубах производились рабочими, а сами суда обслуживались матросами. В других клубах все эти работы и обслуживание осуществлялись самими спортсменами-любителями.
В мае яхт-клубы назначали открытие, так называемый подъем флага. В богатых клубах суда, украшенные флагами, выводились на рейд. На открытие приезжали особо почетные гости. Торжество начиналось молебствием. Вся публика собиралась вокруг береговой мачты. Звучали речи, сначала командоров, излагавших в высоком стиле задачи, цели и планы нового сезона, благодарили гостей за честь прибытия. Речь заканчивалась здравицей в честь парусного спорта и пожеланиями его процветания. Потом произносили речи гости, превозносившие хвалу яхт-клубам и особенно командорам. Речи покрывались аплодисментами, тушами оркестра и криками "ура!". Затем звучала громовая команда: "На флаг!" Наступала самая торжественная минута. Все замирало. Эту тишину наконец разрезала команда: "Флаг поднять!" Флаг комочком летел к вершине гафеля и там сильным рывком фала в умелых руках боцмана раскрывался и трепетал на ветру. Оркестр играл гимн, все кричали "ура!". Старинные сохранившиеся еще в яхт-клубе пушки палили, салютуя торжеству. В клубах гребных обществ это событие праздновалось скромнее без молебствия и пушечной пальбы.
В течение лета клубы организовывали эскадренные плавания до Кронштадта, в шхеры, в Ревель и дальше, за границу.
Кроме парусных яхт различных типов - шхун, тендеров, швертботов - были и моторные яхты, с каютами и без кают, яхты различных размеров. Многие любители водного спорта имели свои ялы и причальные плоты.
Летом многие обыватели, в том числе и рабочие, занимались рыбной ловлей, выезжали на Неву, Невки, взморье на самодельных плоскодонных лодках, по суббо-{17}там даже с ночевкой. Можно было наблюдать особый вид рыбной ловли - с тони. На берегу небольшой деревянный барак, около него на воде плот, на котором укреплен ручной вертикальный ворот. На лодке заводился невод, выбирался он воротом. Иногда веселая компания после бессонной ночи рано утром приезжала на тоню; гости просили рыбаков забросить на счастье невод, покупали эту тоню, помогали вытаскивать сети; пойманная рыба принадлежала им, но они выбирали себе на уху только самую крупную, тут же ее варили и угощали рыбаков, а остальную рыбу отдавали рыбакам. После изысканной закуски в ресторане юшка (так называли уху), сваренная в закопченном котелке на костре, казалась, по контрасту, особенно вкусной. Много таких компаний приезжало в белые ночи.
Кто же были эти рыбаки? Большей частью жители села Рыбацкого. Когда-то их деды и прадеды за участие в победоносных сражениях были пожалованы Екатериной II всеми рыбными угодьями по Неве и Невкам "безвозмездно и навечно". В свое время в селе Рыбацком стоял обелиск в память этого акта 10.
На Неве и Невках стояли плоты с лодками, называемые почему-то местными жителями фофанами, которые отдавались внаем почасно. В праздники трудовой люд целыми семьями катался на этих фофанах с гармошкой и песнями. На реках царствовало непринужденное веселье.
С водой связана также охота на водоплавающую птицу. В тростниках и камышах взморья водилось мною дичи. Охотники выезжали на самодельных плоскодонках, над которыми устраивали небольшие домики из камыша, что позволяло им близко подходить к птице, не пугая ее; шалаши защищали их от дождя. Возвращались они с богатым обычно трофеем: кряквы, чирки, турухтаны (отсюда и название заболоченных островков вблизи деревни Автово Турухтанные).
Жители Петербурга любили купаться. Пляжей тогда не было в пределах города, загорать не было принято. Купальных костюмов не надевали и купались в закрытых купальнях, установленных на Неве и Невках, где петербуржец за пятачок мог в жаркий день погрузить свое бренное тело в прохладные воды Невы. Большая купальня находилась против памятника Петру I. Торговая купальня представляла собою большой плот, середина которого была вырезана, и в вырез опускался решетчатый ящик, чтобы купающиеся не тонули. По периметру плот был зашит сплошным забором, который служил {18} задней стенкой будочек-кабинок. Посетитель платил пятачок в кассу, и ему выдавали не билет, а ключ с номером кабины. Хорошие пловцы обычно не купались в ящиках, а выходили через особую дверь наружу плота, откуда бросались в воду. Осенью эти купальни отводились в затишье, где и зимовали.
Описание судостроительных верфей не входит в задачи нашего повествования, опишем только некоторые бытовые сценки при спуске судна. Спуск судна привлекал много любопытствующих обывателей на противоположном берегу верфи, а также на лодках, которые держались на почтительном отдалении, так как речная полиция и служба верфи отгоняли их. На лодках выезжали не только ради любопытства, но и ради заработка. В то время спускные салазки корабля смазывались дешевым животным салом. После спуска корабля это сало в большом количестве плавало комками на воде. Любители заработать собирали это сало себе в лодку, а потом продавали той же верфи.
Торговый порт, или, как тогда он назывался, "новый порт", в отличие от прежнего порта, который находился между Биржевым и Тучковым мостами, отличался почти полным отсутствием механизации.
Механизация была на самих кораблях, где груз поднимался или опускался стрелами с лебедками. Типичной картиной портовой жизни того времени была работа лесной гавани, так называемой гребенки. Большой длинный деревянный пирс далеко выступал в акваторию порта. Этот пирс с обеих сторон имел вырезы, куда заводились деревянные плашкоуты. Если посмотреть сверху, то эта пристань-пирс со своими вырезами действительно запоминала двустороннюю гребенку. На этой гребенке носаки вручную, на своих плечах, перегружали громадное количество пиленого леса на иностранные корабли. Сначала они грузили этот лес на плашкоуты, плашкоуты отводились к кораблям, стоявшим на якорях, а затем лес перегружался стрелами на корабли, где опять-таки вручную укладывался в трюмы и на верхнюю палубу в высокие штабеля под самую рубку.
Рейдовая часть порта была обставлена тремя плавучими маяками Елагиным, Невским и большим корабельным, стоявшими на баре Невы и Невок. Постоянный находился на стенке ковша Морского канала, на траверзе поселка Стрельна. Фарватеры обставлялись вехами и светящимися буями. Команды маяков должны были ежедневно производить по нескольку раз промеры глубин, на {19} баре и показывать глубину в футах шаром на размеченной мачте. Эти же матросы, зажигали и тушили огни на маяках и буях, так как там, в фонарях, находились простые керосиновые лампы. В обязанность команд этих маяков входили также наблюдение и регистрация всех проходящих судов 11 и спасательная служба.
Разгрузка кораблей производилась не только на собственно территории порта, но также и у других причалов: на набережной Васильевского острова, от Кронштадтской пристани до Горного института, и на специальных складах, так называемых буянах - Сельдяном, Масляном, Пеньковом и других 12.
Вход на территорию порта и на буяны был довольно свободный, а потому в местах разгрузки судов собирались и посторонние, бродяжки, мальчишки, которые норовили что-нибудь стащить.
У Сельдяного буяна 13 можно было наблюдать следующее: идут подводы, груженные бочками с сельдями. Возчик скидывает бочку под откос, там бабы-селедочницы разбивают бочку и перекладывают сельди в свои кадушки. Через некоторое время во дворах жилых домов раздавались их певучие голоса: "Селедки голландские, селедки голландские".
На Масляном буяне, куда для виноторговца Шитта доставлялись бочки с коньячным спиртом, можно было видеть, как какая-нибудь личность, затерявшаяся в штабелях, просверливала буравчиком днище бочки и, вставив соломинку, надолго припадала к этому "источнику жизни".
Мы застали еще на Неве два плашкоутных моста - Дворцовый, от Зимнего дворца на Васильевский остров, и Троицкий, от Мраморного дворца к Петропавловской крепости 14.
Интересным зрелищем была наводка этих мостов. В разведенном состоянии мост устанавливался вдоль берега. Так как мост представлял собою жесткую систему из плашкоутов и ферм, то при наводке два-три буксирных парохода брали его целиком и разворачивали против течения для установки на свое место. Точная установка на место - вот главный момент всей операции. Надо было одновременно отдать якоря со всех понтонов и установленными на них воротами выбрать слабину канатов; все эти действия требовали согласования работы команд на буксирных пароходах и понтонах.
Хочется сказать несколько слов о двух замечательных мостах через Фонтанку, которых ныне уже нет. Это цеп-{20}ной мост к Летнему саду от Пантелеймоновской улицы, второй - от Могилевской улицы к Ново-Петергофскому проспекту, так называемый Египетский мост. Эти мосты были замечательны в архитектурном отношении: они имели портики-пилоны, поддерживающие цепи, на которых была подвешена пролетная конструкция моста, перекрывающая всю ширину реки. Пилоны второго моста были выдержаны в египетском стиле, перед ними стояли сфинксы, в которых были заанкерованы цепи. Теперь на этом месте новый мост современной конструкции, а установленные по сторонам сфинксы вызывают изумление прохожих.
Мы помним, как Египетский мост провалился при проходе по нему конной воинской части 15. Цепной мост у Летнего сада был той же системы. Вскоре после упомянутой катастрофы его перестроили, видимо, из боязни, как бы и этот не рухнул 16.
Завершим эту главу описанием празднования на Неве 200-летия со дня основания столицы - 16 мая 1903 года, к которому было приурочено открытие Троицкого моста.
Накануне в Неву было введено множество судов военных и коммерческих, расставленных в строгом порядке вдоль берегов. Ранним утром в день праздника в Неву вошли около полутора сот яхт разных клубов Петербурга. Все суда были украшены многочисленными флагами - от петровского времени до современных.
В 8 часов раздался первый салют. Отряд гвардейских моряков во флотской форме петровского времени вынес на руках из Домика Петра I четырехместную верейку, на которой ходил сам Петр. Матросы установили верейку на специальную баржу, всю увитую гирляндами и транспарантами. Миноноска "Пика" взяла эту баржу на буксир. Вслед за этим из часовни Домика Петра вынесли икону Спасителя, сопровождавшую русские войска в битве под Полтавой. Икона была установлена на пароходе, на который взошли представители высшего духовенства и весь генералитет. И вот вся эта процессия - впереди пароход, а за ним миноноска с баржей - двигается вверх по Неве. С Петропавловской крепости раздается салют пушек, народ, столпившийся по берегам, кричит "ура!". Отойдя примерно на километр вверх по реке, оба судна разворачиваются и идут вниз, направляясь в разведенный пролет нового Троицкого моста. Спустившись до Исаакиевской площади, флотилия останавливается против памятника Петру. Духовенство с иконой сходит с парохода и направляется к роскошно украшенному помосту у памят-{21}ника. Здесь их встречают митрополит и царская чета. Начинается торжественное богослужение.
После молебствия весь синклит направляется по Дворцовой набережной к Марсову полю. По бокам, образуя проход, стоят шпалерами гвардейские части. Слышится музыка многих духовых оркестров, играющих "Коль славен...". У портала моста процессия останавливается. Ее встречают городской голова и другие гражданские чины. Наступает торжественный момент: к ленточке, натянутой у входа на мост, подходит царица и перерезает ее. Тотчас же на мост вступают церемониальным маршем войска и члены добровольных пожарных дружин в ярко начищенных медных касках. Красивейший мост Петербурга открыт 17.
НА УЛИЦАХ И ПЛОЩАДЯХ
СТОЛИЦЫ
В Петербурге в описываемый период благоустроенные улицы центра резко отличались от скромных отдаленных улиц, а тем более от окраин. Здесь отличие разительное. Теперь нам трудно себе представить окраины в прежнем виде. Их просто нет.
Выделить центр того времени нетрудно, он очень ограничен для нашего представления. Это Невский и пересекающие его улицы: Большая Морская, Малая Морская, Садовая (ее средняя часть), Литейный проспект с поперечными к нему улицами - Кирочной, Сергиевской, Фурштатской, Захарьевской, конечно, набережные реки Невы (от Литейного моста до Николаевского), набережные Фонтанки (до Чернышева моста) и Мойки.
На правах значительных магистралей были Большие проспекты Васильевского острова и Петроградской стороны и, конечно, Каменноостровский. Эта часть города мало изменилась с начала века.
Мы помним строительство гостиницы "Астория" 1 и появление дома Елисеева 2, замену небольшого двухэтажного дома на углу Садовой улицы и Вознесенского проспекта новым большим зданием 3, в котором ныне размещается райисполком Октябрьского района, появление доходных домов и громадного универмага Гвардейского общества (ныне Дом ленинградской торговли) 4.
Кстати, Каменноостровский проспект на наших глазах {22} из скромной улицы с деревянными двухэтажными домами, садами и огородами превратился в прекрасную магистраль с большими, благоустроенными домами. Получился модный проспект с торцовой мостовой. Кроме больших магазинов на нем открывались увеселительные заведения, рестораны - "Аквариум" 5, "Эрнест", "Вилла Родэ" 6, что подняло сразу престиж проспекта, по вечерам шла и ехала публика к Островам 7, особенно в белые ночи, в Старую и Новую Деревню к цыганам, хотя времена "Феди Тарасова" уже уходили в прошлое.
Окраины в ту пору - это улицы за Обводным каналом, в Гавани Васильевского острова, за Невской и Нарвской заставами, Охта, Полюстрово. Насколько центр мало изменился, настолько эти окраины теперь неузнаваемы. Мы помним, как по Лиговской улице протекал канал 8, а сама улица была застроена небольшими домиками с извозчичьими дворами. Канал был в запустении, на его откосах лежал всякий хлам. Районы за Обводным каналом, за заставами были заводскими. Там торчали высокие трубы, стояли заводские цеха, а вдоль немощеных улиц жались друг к другу деревянные домишки с грязными дворами, маленькие лавчонки, трактиры, чайные, "казенки".
Изменения и в этих районах происходили на наших глазах в начале века. На Лиговке лачуги стали вытесняться доходными домами.
Трудно себе представить, что 80 лет назад почти сразу за Обводным каналом начинались территории совершенно неблагоустроенные. На нашей памяти еще не была засыпана речка Таракановка, перед Нарвскими воротами через нее был мост, далее она шла к территории завода "Треугольник". При постройке второго, большего фабричного корпуса для пропуска Таракановки был оставлен прогал, впоследствии перекрытый арочным коридором. Эта арка существует и поныне. Далее Таракановка пересекала Обводный канал и шла по направлению к Фонтанке, теперь здесь бульвар.
Резко разнились улицы центра от окраин видом мостовых. На главных улицах и по направлениям возможных царских проездов мостовые были торцовые, из шестигранных деревянных шашек, наложенных на деревянный настил, позже на бетонный 9. Мы наблюдали, как мостовщики из напиленных кругляшей весьма искусно по шаблону вырубали шестигранники. Они скреплялись металлическими шпильками, замазывались сверху газовой смолой и посыпались крупным песком. Этот уличный "паркет" был хорош во многих отношениях: мягок, бес-{23}шумен, не разбивал лошадям ноги, но недолговечен, негигиеничен - впитывал навозную жижу и становился скользким при длительных дождях и гололеде 10.
Асфальтовых мостовых почти не было, только кое-где у вокзалов и гостиниц устраивались асфальтовые полосы для стоянки извозчиков. Мало было и каменной брусчатки - этой долговечной и удобной мостовой. Улицы в большинстве своем были замощены булыжником, со скатом к середине и к тротуарам. Эти мостовые были неудобны: лошади очень уставали, тряска неимоверная, стоял грохот, особенно при проезде тяжелых подвод, между камнями застаивалась грязь, необходим был частый ремонт. Устройство их требовало много тяжелого труда и времени. Мостовщики целый день на коленях с помощью примитивных орудий - мастерка и молотка - прилаживали камни "тычком" по песчаной постели, трамбовали вручную тяжелыми трамбовками.
Тротуары в центре, как правило, настилались из путиловской плиты. На окраинах - из досок рядом с водоотводными и сточными канавами, иногда даже над ними.
Освещение улиц тоже было весьма различное. Авторы застали даже на главных улицах газовые фонари. Их зажигали фонарщики, которые с лестницами перебегали от столба к столбу, накидывали крючки лестниц на поперечины столбов, быстро поднимались до фонаря и зажигали его. На окраинах горели керосиновые фонари. Утром можно было видеть такую картину: ламповщик тушил фонари, вынимал из них лампу и ставил ее в ящик ручной тележки. Вечером фонарщик опять в тележке развозил лампы, останавливался у каждого фонаря, чистил стекла, ставил лампу в фонарь и зажигал ее.
В центре постепенно вводились электрические фонари, сначала дуговые, позже с лампами накаливания. Заменялись и столбы на более красивые. Но на окраинах долго еще улицы освещались керосиновыми фонарями 11.
В праздники улицы преображались. В "царские" дни, на Рождество и Пасху на улицах, увешанных флагами, бывала иллюминация 12. На богатых домах и правительственных зданиях горели газовые вензеля из букв членов царствующей фамилии с коронами. (Со временем эти газовые горелки на вензелях были тоже заменены электрическими лампочками.) На столбах газовых фонарей устанавливались звезды из трубок, которые тоже светились. На второстепенных улицах от одного столба к другому протягивалась проволока, на ней развешивались шестигранные фонарики с разноцветными стеклами. В фонари-{24}ках зажигались свечи. В пасхальную ночь кроме обычной иллюминации, зажигались факелы на Исаакиевском соборе. Горящих плошек, которые ранее расставлялись на тумбах тротуаров, мы уже не застали.
Площади Петербурга были мощены булыжником, даже у Зимнего дворца. Только для царского проезда, как уже сказано, была устроена торцовая полоса. Марсово поле совсем не имело мостовой. Это была пыльная площадь без единой травинки. В сухую ветреную погоду над ней стояла страшная пыль. Поле окружали невысокие деревянные столбики с медными шарами наверху. Между столбиками шла толстая пеньковая веревка. Местами она была оборвана, шаров на некоторых столбиках не было, они кем-то были отвинчены.
На Дворцовой площади у Александровской колонны и на Мариинской площади у памятника Николаю I стояли, помнится, на часах старики с седыми бородами из инвалидов роты дворцовых гренадер в очень живописной форме - высокие медвежьи шапки, черные шинели, на груди кресты и медали, на спине большая лядунка - старинная сумка-патронташ, белые ремни крест-накрест, большое старинное ружье со штыком. Здесь же полосатая будка, где старый воин отдыхал. Зимой инвалиду выдавались валяные сапоги с кенгами - большими кожаными галошами. Обычно высокий старик, прохаживаясь вокруг памятника, шаркал кенгами. У памятника Петру I, основателю города, такого караула почему-то не было.
Нельзя не рассказать хотя бы вкратце о главной магистрали - Невском проспекте 13, как он выглядел в обычный день. Мы еще помним, как по нему ходили конки и как их заменили трамваи. По обеим сторонам трамвайной линии двигались сплошным потоком экипажи: коляски, кареты, ландо, извозчичьи пролетки. Как ни покажется странным, никакой регулировки движения не было. По проезжей части свободно ходили люди. Некоторый порядок наводился полицией лишь при скоплении экипажей около театров, Дворянского собрания, против особняков в дни балов, свадеб. В последние годы перед империалистической войной на главных перекрестках - Невского с Литейным, с Садовой - размахивали руками для регулировки движения городовые или даже околоточные в белых перчатках. И лишь перед самой войной появились городовые с жезлами на оживленных перекрестках.
По тротуарам шла разномастная толпа. Все спешили, обгоняя друг друга. Невский с его банками, конторами, Гостиным двором, Пассажем, ресторанами и кафе, мага-{25}зином Елисеева и булочными Филиппова 14 был деловым и торговым центром столицы. Его заполняли люди уже с самого утра. Спешили к месту работы торговцы и приказчики, служащие и мелкие чиновники. Позже появлялись покупатели, больше модницы. Ближе к полудню к банкам и конторам подъезжали в собственных экипажах, а потом и в автомобилях важные дельцы, которые "делали погоду" на фондовой и торговой биржах. Самоуверенные, зимой - в бобрах, летом - в панамах.
После полудня, к часу-двум, на солнечной стороне начинали фланировать представители "золотой молодежи", молодящиеся старички, скучающие дамы, не избегающие знакомств. Военных на Невском было мало, гвардейские офицеры пешком по улице не ходили, тем более не гуляли, чтобы не смешиваться с толпой. А на теневой стороне Невского - толпа покупателей Гостиного двора. Здесь же и те, кто спешил в Публичную библиотеку, в книжные магазины, искал редкие книги, знакомился с издательскими новинками.
К 4-5 часам облик толпы на Невском несколько менялся. Большинство "гуляк", утомившись, уходили обедать. Вместо них появлялись люди, которые закончили трудовой день. Усталые, они спешили домой, устремлялись к переполненным конкам, те, кто посостоятельнее, разъезжали на извозчиках. После лекций группами проходили студенты, заглядывая по пути в механический буфет "Квисисана" 15, чтобы съесть салатик за 15 копеек, или к Федорову выпить рюмку водки с закуской за 10 копеек.
К вечеру зажигались огни, и начиналась особая жизнь 16. Заполнялись кафе и рестораны, люди спешили по Невскому в театры, концерты 17.
Садовая была второй деловой и торговой осью Петербурга. Оживление на ней было большое, но публика иная, чем на Невском. Фланирующих здесь не было, все спешили по делам, за покупками. Правда, начало и конец Садовой имели разный характер. От Невского до Летнего сада царил казенный, официальный тон, а на противоположном краю - за Покровской площадью другой мир: Коломна с тихими, скромными улицами, жили здесь мелкие служащие и заводской люд, работающий на верфях. Не увидишь собственный экипаж, богатый выезд. Извозчиков и тех мало. Печать забот.
Следующей торговой и деловой осью, пересекающей Невский, был Литейный, переходящий во Владимирский и Загородный проспекты. Мы помним, как по ним ходила {26} конка. У Технологического института была конечная станция деревянный павильон. На Литейном - от Невского до Бассейной - торговали букинисты. За Бассейной проспект приобретал более казенный характер. С правой стороны к Литейному примыкали улицы с особняками и дворцами, где жили богатые, родовитые люди,- Сергиевская, Кирочная, Захарьевская. Магазинов на них почти не было. Такой же характер имели набережная Невы - с левой стороны, от Литейной до Франко-русского завода 18, набережная Фонтанки от Невы до Невского, Большая и Малая Морские. На улицах мало пешеходов, у подъездов великолепные выезды, у парадных дверей величественные швейцары в ливреях.
Как и Невский проспект, набережная Невы была местом прогулок и катания аристократии, сановников и финансовых тузов. В то время можно было увидеть такую картину: едет ландо, в нем - одетые с подчеркнутой скромностью аристократки, рядом, сопровождая, на чистокровных скакунах офицеры. Или встречаем кавалькаду - две-три амазонки в сопровождении офицеров и штатских англоманов. Их путь - сначала по набережной, затем в Летний сад, на скаковую дорожку, потом по Каменноостровскому на Острова. Но в описываемое нами время такое зрелище было уже редкостью, оно не гармонировало с общей деловой жизнью города. На это смотрели как на диковинку.
Главной деловой улицей Петроградской стороны, как и теперь, был Большой проспект.
К числу оживленных улиц центра относились Вознесенский проспект 19 и Гороховая улица. Обе узкие, но движение большое. Кроме магазинов было много пивных, трактиров. Быстро застраивались благоустроенными домами линии Васильевского острова, улицы по обе стороны от Большого проспекта Петроградской стороны, Роты Измайловского полка.
Некоторые районы, хоть и невдалеке от центра (например, Гороховая), были своеобразны: в них магазины и рестораны были попроще, много "казенок", сохранились трактиры и чайные.
Улицы вблизи Мариинского театра и консерватории, Офицерская и прилегающие к ней были тихие, магазинов мало. Здесь проживали артисты и служащие театра, преподаватели и студенты консерватории. В районе институтов - Технологического, Путейского, гражданских инженеров и Женского политехнического - жило очень много студентов. "Латинский квартал" Петербурга составлял-{27}ли Роты Измайловского полка и улицы, перпендикулярные Загородному проспекту, между Царскосельским вокзалом и Технологическим институтом: Рузовская, Можайская, Верейская, Подольская. Дело в том, что на этих улицах многие квартиронаниматели сдавали комнаты, и в первую очередь, конечно, студентам. Комнаты были недорогие, с услугами (кипяток, уборка), и отличались чистотой - так уж завелось путем конкуренции. Сами хозяйки часто жили на кухне, выгадывая сдачей комнат себе на жизнь.
Характерную картину зимнему Петербургу, особенно в большие морозы, давали уличные костры 20. По распоряжению градоначальника костры для обогрева прохожих разводились на перекрестках улиц. Дрова закладывались в цилиндрические решетки из железных прутьев. Часть дров доставлялась соседними домохозяевами, часть - проезжавшими мимо возами с дровами, возчики по просьбе обогревающихся или по сигналу городового скидывали около костра несколько поленьев. Городовой был обязательным персонажем при костре. Обычно у костра наблюдалась такая картина: центральная фигура заиндевевший величественный городовой, около него два-три съежившихся бродяжки в рваной одежде, с завязанными грязным платком ушами, несколько вездесущих мальчишек и дворовых дрожащих голодных собак с поджатыми хвостами. Недолго останавливались у костра прохожие, чтобы мимоходом погреться. Подходили к кострам и легковые извозчики, которые мерзли, ожидая седоков. В лютые морозы костры горели круглые сутки, все чайные были открыты днем и ночью. По улицам проезжали конные разъезды городовых или солдат. Они смотрели, не замерзает ли кто на улице: пьяненький, заснувший извозчик или бедняк, у которого нет даже пятака на ночлежку.
Описывая улицы города, следует сказать несколько слов о садах и скверах. Бесплатные сады для прогулок и отдыха прохожих и близживущих в воскресные дни и по вечерам заполняла гуляющая молодежь, главным образом солдаты тех полков, которые стояли поблизости, со своими девушками.
В Александровском парке у Народного дома 21 народу было много и днем, и вечером. Люди прогуливались или направлялись в Зоологический сад, театр Народного дома в его сад с аттракционами и танцевальной площадкой. Михайловский сад был закрыт для публики. В Летнем саду публика была самой "чистой". Солдаты и матросы {28} сюда не ходили, чтобы не встретить офицеров. По скаковым, дорожкам проносились на рысях или галопом амазонки в сопровождении офицеров или штатских верхами. Амазонка, как правило, была в цилиндре, повязанном вуалью, в темном обтягивающем костюме, со стеком в руке.
Таврический сад 22 был разделен на три части: в прилегающую ко дворцу никого не пускали; вдоль Потемкинской улицы протянулся платный увеселительный сад; остальная часть, в запущенном состоянии, была открыта для публики.
По вечерам в некоторых садах играли военные оркестры. В больших садах стояли ларьки, где продавали прохладительные напитки, и павильоны с лактобациллином. Так называлась "мечниковская" простокваша на красных грибках. Лактобациллин входил в моду, и многие считали своим долгом посетить эти павильоны. Стояли и павильоны с мороженым.
Уборка улиц, площадей и садов отнимала много времени и сил. Прежде всего потому, что транспорт был почти исключительно конный и на мостовых оставалось много следов от лошадей. Но чистота поддерживалась, особенно в центре. За чистотой следила не только полиция, но и санитарная инспекция. Никакой механизации не было. Летом у каждых ворот стоял дворник с метлой и железным совком. Он тотчас же подбирал навоз, пока его не размесили колеса телег. При сухой погоде улицы поливались. В центре - из шлангов, подальше из леек и ведер, так как шланги были дорогие. Из шлангов же производилась поливка и промывка торцовых мостовых, их следовало держать в особой чистоте, так как иначе они издавали неприятный запах. Но в то время существование человека без услуг лошади, сильного, безропотного и доброго работяги, было немыслимо, и люди заботились о лошадке. В Петербурге эта забота проявлялась в устройстве целой сети водопоек 23. Водопойки были при вокзалах, на площадях, где скапливались обозы, у мостов, около товарных дворов, грузовых пристаней. Это - небольшие каменные здания, отапливаемые зимой. Снаружи несколько каменных или чугунных раковин, в которые напускалась вода из подведенных к ним труб. Краны к ним находились внутри здания, где сидел сторож, который по требованию извозчиков открывал воду. Водопойка была также местом, где извозчики передавали друг другу новости, ругали полицию, которая придиралась к ним, хвастали силой своих лошадей, жаловались друг другу на хозяев. {29}
Зимой тротуары очищались "под скребок", с обязательной посыпкой песком. Лишний снег с улиц сгребался большими деревянными лопатами-движками в кучи и валы вдоль тротуаров. Сбрасывать снег в каналы и реки не разрешалось. Снег отвозился на специально отведенные свалки, что обходилось дорого. Поэтому у домов стояли снеготаялки: большие деревянные ящики, внутри которых - железный шатер, где горели дрова. Снег накидывали на этот шатер, он таял, вода стекала в канализацию. (Деревянный ящик не горел, так как всегда был сырой.) Уборка улиц от снега производилась рано утром, а при больших снегопадах - несколько раз в день. Все это делалось, разумеется, только в центре города. На окраинах снег до самой весны лежал сугробами.
Чтобы создать правильное представление об облике улиц Петербурга, надо рассказать о рекламе. В ходу была поговорка: "Реклама - двигатель торговли". Было очень много вывесок, броских плакатов, светящихся названий. Рекламные объявления висели в вагонах трамваев. Ими обвешивали вагоны конок, облепляли специальные вращающиеся киоски на углах улиц. Рекламировалось все: вина, лекарства, новые ткани, кафешантаны, цирковые представления, театры (только "императорские" театры не рекламировались) 24. Табачные фабриканты называли свои папиросы уменьшительными именами любимых артистов. По всему Петербургу висели громадные портреты "Дяди Кости" - любимого публикой комика Александринки Константина Александровича Варламова 25.
После 1910 года на главных улицах появилась "ходячая реклама". Рядом с тротуаром один за другим шли тихим шагом обычно пожилые люди в одинаковых коричневого цвета пальто с металлическими пуговицами и такими же фуражками. Они несли высокие рамы из бамбука, на которые были натянуты полотнища с рекламными объявлениями. Обычно это была реклама кинотеатров, цирка. Иногда каждый нес друг за другом только одну букву, а было их человек 20, и прохожий мог, переводя взгляд от одного к другому, прочесть целую фразу: "Сегодня все идите в цирк".
На углах людных улиц стояли газетчики. Газетных киосков тогда не было. Через плечо у них висела большая кожаная сумка. Они носили форму, на фуражках - медные бляхи с названием газеты. Газетчики выкрикивали сенсационные сообщения из своих газет. В то время выписка газет на дом особенно не практиковалась, рас-{30}клейки газет на улицах не было, поэтому у газетчиков торговля шла бойко. "Новое время" покупали больше чиновники, "Речь" - студенты, интеллигенция, "Копейку" - рабочие, "Петербургскую газету" и "Листок" - торговцы, мещане. Газетчики были объединены в артели, у них была круговая порука, при вступлении в артель они вносили "вкуп". У каждого был свой угол, на котором он стоял иногда годами. Места сильно разнились по бойкости, а стало быть, доходности. Распределял места староста артели.
Облик улицы дополняла также фигура рассыльного. В то время их артели были полезны и даже необходимы. Рассыльными были обычно пожилые люди, проверенные на исполнительность, честность и умение сохранять тайну. Они носили темно-малиновую фуражку с надписью по околышу: "Рассыльный... артель...". И они стояли по углам бойких улиц, при гостиницах, вокзалах, в банках, крупных магазинах и ресторанах. Им давали самые всевозможные поручения: срочно доставить письмо, документы, отвезти какую-нибудь вещь. Можно было послать и за город. Была такса за услуги, но обычно ею не пользовались, все делалось по соглашению. Можно было не волноваться за выполнение поручения как подобает и в срок, за это отвечала артель. У этих людей была своя профессиональная гордость: никакая ценность не пропадала, полностью сохранялась тайна коммерческая и личная. Как во всех подобных артелях, при вступлении в нее вносился порядочный "вкуп". Кроме чисто деловых заданий посыльные выполняли и другие поручения: отнести букет, коробку конфет с записочкой, подарок даме, вызвать девушку на свидание. Часто поручалось принести ответ. Телефонов было сравнительно мало, поэтому потребность в такой доставке возникала нередко.
Характерной чертой улицы подальше от центра были крики торговцев вразнос 26 - мороженщиков, селедочниц, ягодников, а также точильщиков и скупщиков старья. У каждого были особые приемы своеобразной речи и свои напевные приемы. "Ма-ро-ожжин",- катя перед собой тележку или неся на голове кадушку, пел мороженщик. "Селе-едки гала-ански",- сладенькими голосками звенели селедочницы. "Точить ножи-ножницы" и много ниже: "бри-итвы править",- пел точильщик. "Халат, халат",- звучал гортанный речитатив татарина-старьевщика. Петербургский обыватель, подзывая его, почему-то кричал: "Князь, князь, поди сюда!" 27
На городских окраинах обитали бесчисленные нищие, {31} без которых наш Петербург и представить себе было нельзя 28. В большинстве случаев столичные нищие - это пройдохи, ловкачи, жулики, а не несчастные калеки, какими они себя представляли. Помнится, был знаменитый нищий Климов, здоровенный мужчина, проживавший с семьей в одном из домов за Обводным каналом, занимая целую квартиру. Ежедневно, выходя утром из дому, он садился на извозчика и направлялся к Гостиному двору. По пути он подвязывал к ногам своеобразное корытце-лоток и превращался в безногого. В течение всего дня он с большим мастерством изображал калеку. Жалостливые женщины бросали в его шапку монеты. После "трудового дня" он полз до ближайшего извозчика, по пути освобождался от протеза, дома пересчитывая доход и большую часть его откладывал в кубышку. Такие типы банкам не доверяли.
Среди них были строго разделены районы действий, и горе было настоящему нищему, который по незнанию занимал место, "принадлежавшее" лженищим. Его избивали, сдавали полицейским, которые, не разобравшись, устраивали жестокую расправу. Многие лженищие платили полицейским дань и поэтому чувствовали себя в полной безопасности.
Внимание прохожих на улицах обращали на себя похоронные процессии, нарушавшие порой движение транспорта.
Организацию похорон брало на себя похоронное бюро. Обычно обращались в похоронное бюро Шумилова на Владимирском, 7, привлекавшее внимание публики траурной черной вывеской с золотыми буквами.
Обставлялась эта церемония в зависимости от платы по пяти категориям. Похороны по первому разряду проходили торжественно: колесница, на которой везли гроб, была с белым парчовым балдахином-часовней с лампадами, ее везла шестерка лошадей по две, с султанами на голове, на лошадей накинуты белые сетки с серебряными кистями. Вели лошадей под уздцы и шли по бокам колесницы так называемые горюны с нарядными фонарями-факелами, одетые в белые цилиндры, белые сюртуки и брюки. Впереди процессии - красивая двуколка с еловыми ветками. Лошадь в белой сетке и с султаном на голове вели два горюна, а третий шел сзади и разбрасывал ветки. За похоронной колесницей шли родственники покойного, дамы в трауре, мужчины с черными креповыми повязками на руке. Далее шел оркестр, за ним кареты и коляски. {32}
Если же хоронили военного, имевшего высокий чин, то помпезности было еще больше: впереди колесницы офицеры несли на подушках ордена и медали покойного. Сзади родственников и сопровождающих шло несколько оркестров, затем воинские части, за ними кареты, в которых ехали старики, немощные, а также порожние для развоза публики с кладбища. Гроб строевых военных высших чинов везли на лафете, в который впрягали шестерку лошадей цугом по паре. Горюнов здесь уже не было, на каждой левой лошади сидел ездовой, сбоку ехал верхом фейерверкер, а впереди офицер, по обеим сторонам лафета - караул, солдаты с винтовками на плечах 29.
Чем ниже был разряд похорон (то есть чем меньше денег было у родственников покойного), тем скромнее были похороны 30. Жалко было смотреть на похороны по так называемому пятому разряду: дроги без балдахина, лошадь без попоны, на гробу сидит кучер в форме горюна, сзади идут немногочисленные провожающие.
Интересными типами были эти горюны. В штате похоронного бюро они не состояли. Их набирали от похорон к похоронам. В Малковом переулке существовала большая чайная, в которой с утра до ночи околачивались кандидаты в горюны 31. Обычно это были пожилые люди, сбившиеся с настоящего трудового пути, часто пьяницы, живущие на случайный заработок. Утром в эту чайную прибегал приказчик из похоронного бюро и подбирал 10-15 горюнов. По приходе в бюро они переодевались в униформу: длинный белый сюртук и белые брюки - в самом деле это была только нижняя часть брюк - поголенки, которые завязывались над коленками. На голову надевали белый цилиндр. По прибытии на кладбище горюны снимали гроб с колесницы и несли его к могиле, если родственники покойного и провожающие не делали этого сами. Горюны примечали, кто из родственников расплачивается, ждали, когда зароют могилу, подходили к нему и просили на чай, убеждая, что похоронили хорошо. Обычно на чай им давали и они возвращались, довольные, к колеснице, садились на площадку для гроба и весело возвращались в похоронное бюро. Теперь они ехали на паре, остальных лошадей вели в поводу. Картина была своеобразная: рысью катилась колесница, под балдахином сидели горюны, в пути они раздевались, снимали униформу и складывали ее в ящик, который располагался под площадкой для гроба. Оттуда они вытаскивали свою одежонку и надевали ее. {33}
Среди купеческого сословия было принято справлять поминки и дома, и в кухмистерских - ресторанах особого типа. Кухмистерские имели большой зал, большую столовую и две-три гостиных с мягкой мебелью. В этих кухмистерских заказывали обеды, ужины по случаю свадеб, крестин, поминок, справляли юбилеи, товарищеские встречи и т. п. В столовой накрывались столы, зал предназначался для танцев, гостиные - для отдыха гостей. Хозяин кухмистерской принимал заказ на известное количество персон за обусловленную плату с каждой персоны в зависимости от того, какая должна быть подана закуска, какие вина, из чего должен состоять обед, какой десерт. Договаривались об оркестре, нужны ли ковры на подъезде и пр. Некоторые кухмистерские располагались около кладбищ, учитывая заказы на поминки.
Нам довелось присутствовать на чрезвычайно торжественных похоронах любимицы Петербурга, человека большой души, певицы А. Д. Вяльцевой 32. Процессия растянулась по всему Невскому, приостановив всякое движение, за гробом шли люди всех сословий. Была масса венков, цветов. В публике говорили о таланте Вяльцевой, ее задушевном пении, с большим сочувствием отзывались о ее муже, полковнике Бискупском, о его большой любви к этой певице, ради которой он решился оставить гвардейский полк и сломать свою военную карьеру - жениться гвардейскому офицеру на певице было нельзя.
Особенно грандиозны были совершенно стихийно возникшие похороны военного летчика капитана Мациевича 33. Инженер-технолог и военно-морской инженер Л. М. Мациевич разбился при показательных полетах над Комендантским полем. Один из авторов был свидетелем этой катастрофы. Все следили за полетом. Внезапно аэроплан начал падать, от него что-то отделилось, он грохнулся наземь. Публика бросилась бежать к месту катастрофы, часть добежала, большинство же было остановлено конными жандармами.
Улицы Петербурга принимали совершенно иной вид, когда обыденная жизнь нарушалась приездом глав и представителей иностранных государств. В нашей памяти ярко запечатлелось прибытие перед войной английской эскадры и французской с президентом Франции Пуанкаре.
В середине июня 1914 года в Кронштадт с официальным визитом прибыла английская эскадра под брейд-вымпелом адмирала Битти 34. Большие корабли не могли войти в Неву, а два крейсера - "Блонд" и "Боадицея" - и собственная яхта леди Битти встали на якоря в киль-{34}ватер за Николаевским мостом. Леди находиться на военном корабле по уставу не имела права, почему и прибыла в Петербург на белоснежной роскошной яхте - морском судне, способном пересекать океаны. Толпы народа с набережных и моста любовались необычным зрелищем. На английские военные корабли был свободный доступ. На Васильевском острове около Кронштадтской пристани было сосредоточено много яликов, все яличники были одеты в новые красные рубахи с обязательной черной жилеткой и в черные картузы. Все ялики были заново выкрашены. Яличники едва успевали перевозить желающих на военные корабли и обратно, пятачок за каждый конец.
Один из авторов посетил крейсер "Боадицея". Поражала простота на военном корабле, непривычная для российского флота, даже больше недопустимая: вахтенный матрос ходил босиком, приезжая публика допускалась повсюду, мальчишки и взрослые вертели маховики у казенной части орудий, открывали и закрывали замки, не получая замечаний от англичан.
На палубу под тент вытащили небольшую фисгармонию, за нее сел разбитной матрос и заиграл танцы. Английские матросы сразу расхватали наших девушек и молодых женщин и стали с ними лихо отплясывать, распевая во все горло. Наша русская публика совершенно переменила мнение об англичанах, ранее представляя их людьми неразговорчивыми, сдержанными, даже скучными, а оказалось, что простые матросы, веселые ребята, не зная языка, умеют великолепно занимать наших женщин. Мужчины любезно обменивались с матросами табаком и папиросами. Около камбуза кок корабля на столе деревянным молотком разбивал большие, толстые плитки шоколада и, завертывая шоколад в фунтики, дарил детям и женщинам, а то жестами просил дать ему носовой платок и завязывал в него большие куски шоколада. Высокий солдат морской пехоты в алом мундире с золотым шитьем, в белом шлеме, с перевязью кирпичного цвета через плечо, по-видимому, во время дежурства, надевал на наших девушек такой же алый мундир и шлем, совал им в руку ружье и снимал фотографическим аппаратом. Вся эта процедура вызывала большой смех, так как девушка тонула в этом мундире, который был ей чуть не до колен, а из-под шлема не видно было и головы. Публика рассыпалась по всему кораблю без всяких сопровождающих, залезала в машинное и кочегарное отделение, в кубрики. Охраняемых {35} мест и часовых было очень мало. "Гости" брали из пирамид ружья и пистолеты, щелкали затворами. Вся охрана этого оружия заключалась в тонкой цепочке, пропущенной через предохранительные скобы. Цепочка имела большую слабину и не мешала брать оружие из пирамиды. На корабль приехало много русских матросов, которые как-то умудрялись объясняться с английскими матросами. Насколько английские матросы были общительны, настолько офицеры держали себя неприступно и гордо.
Английские матросы, которые были отпущены на берег, здесь же, на набережной, расхватывались петербуржцами. Их водили по городу, приглашали в рестораны, в пивные, угощали с русским гостеприимством.
Многие английские матросы в результате такого внимания и экскурсий по ресторанам и пивным были здорово выпивши, однако они очень оберегали тростинку с пломбочкой, которая им выдавалась при увольнении на берег. Эту тростинку они должны были вернуть при возвращении на корабль в полной сохранности, что свидетельствовало, что вели они себя на берегу хорошо. Остроумный контроль! Если тростинка была сломана или повреждена, их ожидало наказание.
Английские офицеры появлялись в городе всегда в экипажах, проезжая с официальными визитами на приемы и рауты. Публика приветствовала их. Они отвечали на приветствия, прикладывая руку в перчатке к богато расшитой треуголке. Парадная форма была у них очень нарядная.
Несколько позже, в начале июля, в Кронштадт прибыла французская эскадра с президентом Пуанкаре 35. Французских моряков петербуржцы принимали еще радушнее. На улицах продавались французские национальные флажки и жетоны на муаровой розетке. Публика тоже ездила на французские военные корабли, как ранее на английские, на большой кронштадтский рейд. От Кронштадтской пристани по Неве туда отходили пароходы.
Мы видели проезд Пуанкаре по Английской и Адмиралтейской набережным к Зимнему дворцу, его встречала масса народа с криками: "Ура!", "Да здравствует Франция!" Махали флажками, шляпами, женщины - зонтиками. Город был разукрашен русскими и французскими флагами. Процессия была очень красочной. Вначале проехали в колясках военные чины из свиты царя, затем на почтительной дистанции ехал президент в ландо {36} с каким-то военным, говорили, что это один из великих князей.
Вокруг экипажа на рысях сопровождал президента почетный эскорт из лейб-казаков, чтобы поразить француза русской экзотикой. Лейб-казаки с большими чубами и бородами, в высоких бараньих шапках с алыми шлыками на правую сторону, с кривыми султанами сбоку шапки, в алых поддевках, неимоверно широких шароварах с красными лампасами высоко сидели на своих рыжих дончаках, держа пику по-особому - поперек седла, наискосок. Эта азиатчина, правда очень картинная, поражала и самих петербуржцев, которые кричали истошными голосами: "Ура!" и "Вив ля Франс!" Господин президент снимал цилиндр и любезно раскланивался на обе стороны, улыбаясь своим широким бородатым лицом.
По улицам города группами и в одиночку гуляли французские матросы, их окружали наши люди всех слоев общества и разговаривали с ними - одни на изысканном французском языке, другие - на ломаном русском языке на французский (по их мнению) лад, а третьи - жестами, понятными всем народам, щелчками по горлу: предложение выпить вместе. Веселые французы громко смеялись и не упрямились, когда их прямо силой затаскивали в рестораны, кафе и пивные. После таких угощений можно было видеть такие сценки: во всю ширину панели идут, обнявшись, пьяные французы и наши студенты и поют "Марсельезу", а городовые, выпучив глаза, стоят в столбняке - песня-то революционная, а хватать нельзя. Нашу публику удивляли смешные береты на французских матросах, такие береты носили у нас только дети. Помпоны разноцветные: красные у артиллеристов, синие у "нижней палубы" - кочегаров и машинистов, белые у "верхней палубы" - рулевых, сигнальщиков и др. Идет высокий бородатый дядя-матрос, а на голове у него берет с помпоном. Смотришь, этот берет уже на голове русского, а картуз-"московка" - на голове француза, и, пошатываясь, идут под руку выпить-закусить.
На улицах было очень весело. По вечерам была иллюминация. В газетах писали и в народе говорили, что визиты англичан и французов были вызваны напряженным международным положением и они должны остепенять немцев, но, конечно, никто из обывателей не предполагал, что страшная мировая война разразится через какой-нибудь десяток дней 36. {37}
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ:
ИЗВОЗЧИКИ, КОНКА, ТРАМВАЙ
Транспорт для перевозки людей и грузов был самый разнообразный. Сухопутный транспорт был в основном конный: легковой для пассажиров и ломовой для грузов. Постепенно вводился общественный транспорт: конки, дилижансы, паровики. Но много народа, особенно бедного трудового люда, ходило пешком, даже на далекие расстояния. Для бедного человека общественный транспорт был дорог.
Естественно, что рабочие старались поселиться вблизи места работы заводов, фабрик. Владельцы новых расширяющихся предприятий шли рабочим навстречу и строили около фабрик каменные или деревянные дома и бараки для жилья рабочих и их семей. Так образовывались рабочие окраины 1.
Рано утром можно было видеть массу рабочих, идущих под завывание фабричных гудков к своим предприятиям 2. Позже, к 9-10 часам, в центральных районах города появлялись учащиеся, мелкие служащие, чиновники, приказчики. Вот к этому времени и начинал работать с большой нагрузкой общественный транспорт.
Конки, точнее, конно-железные дороги были очень распространенным видом перевозки людей. К началу XX века в столице насчитывалось около тридцати линий конок, три проходили по центру - они шли по Невскому, по Садовой и от Адмиралтейской площади до Николаевского моста. Все они принадлежали городу, а остальные - Обществу конно-железных дорог 3. До окраин, однако, и те не доходили.
Вагоны были двух типов: одноэтажные и двухэтажные. Одноэтажный вагон везла одна лошадь и, надо сказать, на подъемах мостов - с большим напряжением, а двухэтажный вагон с высоким империалом везли две лошади. Спереди и сзади вагонов были открытые площадки, а в двухэтажных вагонах с этих площадок наверх, на империал, вели винтовые металлические лестницы. Империал был открытый, проезд там стоил дешевле - две копейки за станцию вместо трех и даже пяти копеек внизу. Внутри нижнего вагона стояли вдоль боков скамейки, а на империале была посередине одна двухсторонняя скамейка, пассажиры сидели спинами друг к другу. Обслу-{38}живалась конка двумя лицами: вагоновожатым и кондуктором, обязательно мужчинами. Вагоновожатый правил лошадьми, кондуктор продавал билеты, давал сигналы остановок и отправления.
Нелегко было быть вагоновожатым: лошади впрягались в мягкие ременные постромки, прикрепленные к тяжелому вальку. Никаких оглобель и дышел не было. При малейшем уклоне при съездах с мостов или спусках в отдельных местах улиц вагон мог накатиться на лошадей и искалечить их. Надо было уметь вовремя затормозить и вообще все время чувствовать, как ведет себя вагон.
В правой руке у вожатого были вожжи, а левая все время лежала на ручном тормозе. Медный колокол был насажен на вертикальную ручку, по ней ходил ползунок с приливчиками, при резком движении ползунка вверх последний ударял о внутреннюю стенку колокола. Левая рука выполняла две функции: тормозила, вращая рукоятку тормоза, и поднимала трубку, ударявшую в колокол.
Звонить приходилось часто, так как народ переходил улицу в любом месте, нередко пьяные лезли прямо под вагон.
На конечном пункте вожатый снимал валёк с крючка и вел лошадей к другому концу вагона, прицеплял там валёк, устанавливал колокол с тормозом и был готов к обратному рейсу. На крутых подъемах к мостам, например к плашкоутному мосту у Зимнего дворца, прицеплялись дополнительно две лошади со своим кучером. Вожатые свистели и орали на лошадей, стегая их кнутами. Публика, стоящая на площадке вагона, тоже принимала участие в этом понукании. При спуске с моста в торможении участвовал и кондуктор на задней площадке. После спуска вагон останавливали, отцепляли дополнительных лошадей, которые оставались ждать встречную конку.
Работа кондуктора была также трудна; ему приходилась без счету подниматься на империал, чтобы продать там билеты тем, кто их не взял при проходе мимо него по нижней площадке.
Вечером внутри вагона зажигался керосиновый фонарь, тускло освещавший внутренность вагона. На крыше передней площадки зажигался фонарь побольше, но толку от него было мало - свет едва освещал крупы лошадей. Рельсовый путь для конок был весьма несовершенен, рельсы были без желобков для реборд колес. Междупутье было замощено булыжником вровень с головкой рельса, и реборды колес часто катились прямо по булыжникам, весь вагон содрогался и дребезжал всеми своими расхля-{39}банными частями. Разговаривать внутри вагона было совершенно невозможно от этого ужасного грохотания.
На конках ездил преимущественно народ скромный: мелкие чиновники, служащие, рабочие, прислуга. Солдатам позволялось ездить только на открытых площадках.
Постепенно конки начали заменять трамваем. Первый трамвай пошел в 1907 году, по линии от Александровского сада по Конногвардейскому бульвару, далее через Николаевский мост к Кронштадтской пристани. Чтобы пустить трамвай по тем улицам, где ходили конки, путь перестраивался на более солидный, рельсы заменялись желобчатыми, путь становился на шпалы, укладывался второй путь. Первоначально трамваи ходили без прицепных вагонов, всего один двухосный маленький вагон. Но по сравнению с конкой вагон был очень красив: внутри лакированная отделка, медные приборы. Снаружи низ красный, верх белый, окна большие. Сначала сделали два класса, перегородив вагон внутри: первый класс за пять копеек для "чистой публики", второй - за три копейки, но это разделение не привилось. Кондуктор и вагоновожатый были одеты в добротную красивую форму. Первоначально публика каталась по этой единственной линии, туда и обратно, у Александровского сада стояла очередь желающих прокатиться. Постепенно трамвай сделался основным видом пассажирского транспорта, связав окраины с центром. Появились прицепные вагоны, моторные постепенно совершенствовались, делались более мощными и быстроходными 4.
Надо вспомнить особый вид конного пассажирского транспорта дилижансы, которые метко назывались петербургскими обывателями "сорок мучеников". Название это было дано не зря. Дилижанс представлял пароконную большую повозку на колесах, окованных железом, на грубых рессорах. Вагон открытый, только крыша. От ветра и дождя спускались брезентовые шторы. Скамейки поперек вагона, ступеньки вдоль всего вагона. Так как большинство мостовых были булыжными, то эта колымага тряслась и громыхала, и можно себе представить, что чувствовали пассажиры. Разговаривать было невозможно, ничего не слышно, и легко прикусить язык. Запряжка в дышле, сбруя солидная ременная. Кондуктор перебирался по внешним продольным ступенькам, чтобы собрать плату с пассажиров, сидевших на разных скамейках. Плата была пятачок. Ходили они от Адмиралтейства по Вознесенскому и Гороховой к вокзалам. Зимой повозка заменялась на большие открытые сани. Эти дилижансы дожили до 1910 года и были заменены двухэтажными автобу-{40}сами на литых резиновых шинах. Они были несовершенны, не привились и были вскоре изъяты.
Гораздо более исправно служили паровички, которые ходили от клиники Виллие в Лесное и от Николаевского вокзала до Карточной фабрики. Там поезд, состоящий из пяти-шести вагонов, останавливался, и паровичок с одним вагоном шел до станции Рыбацкая. Сам паровик был весь закрыт металлической коробкой и ужасно дымил, машинист все время звонил, предупреждая прохожих. Освещение было настолько скудное, что кондуктор пользовался масляным фонариком, висящим на его пуговице. Деревянный ретирад с навесом для пассажиров (с другой стороны - водопойка для лошадей) находился, пока не было памятника Александру III, против Николаевского вокзала. Затем конечный пункт устроили на Лиговке. Оба паровичка принадлежали частной акционерной компании 5.
Легковых извозчиков - основной индивидуальный транспорт для зажиточных людей - в Петербурге было очень много, до 15 тысяч 6. Всем извозчикам для получения номера на право езды надо было пройти особый осмотр, за чем наблюдала городская управа.
Извозчики должны были иметь столичный вид: лошадь "годная", одежда по форме: синий кафтан, низенький цилиндр с пряжкой спереди. Сбруя должна быть ременная, экипаж-пролетка приличный, с подъемным верхом от дождя, с кожаным фартуком для ног седоков. Извозчик сидел на облучке-козлах и мок под дождем. Некоторые из них во время дождя надевали коротенькую клеенчатую накидочку.
В Семянниковском сквере на Песках (теперь район Советских улиц) был специальный навес с будочкой. В определенные дни здесь обычно сидела комиссия из представителей городского управления полиции для приема денег и выдачи номеров. Один за другим подъезжали извозчики, производился придирчивый осмотр лошади, экипажа и самого извозчика. Если все было в порядке, тотчас же принимались деньги и выдавался номер. Некоторых браковали, требовали что-то исправить.
Стоянки извозчиков имелись у вокзалов, гостиниц, на оживленных перекрестках; в прочих местах они стояли по своему усмотрению. Определенной, обязательной таксы не было 7. Извозчик запрашивал сумму, учитывая общий облик седока, один он или с дамой, какая погода, какое время (день или ночь), торопится седок или нет, приезжий он или местный, много ли у него вещей, знает ли город и, конечно, главное - на какое расстояние везти. Седок, {41} в свою очередь, оценивал ситуацию: много ли на стоянке извозчиков, удобна ли пролетка, хороша ли лошадь и т. д. Торговались, спорили, седок отходил, опять возвращался, наконец садился. При дамах обычно не торговались. В последние годы перед первой империалистической войной извозчикам вводили таксометры для измерения расстояния 8. Таксометр укреплялся у извозчичьего сиденья, на нем красовался красный флажок. Однако это нововведение не привилось.
Зимой извозчики ездили в санках, очень маленьких и неудобных. Спинка была очень низенькая, задняя лошадь, идущая следом, роняла пену прямо на голову седока; хотя и существовало правило - держать дистанцию не менее двух сажен, но оно не соблюдалось. Поздно вечером и ночью извозчики особенно разбирались.
Извозчики жили обычно на извозчичьих дворах, где была страшная теснота: стойла крошечные, над ними сеновалы. Тут же рядом сложенные одна на другую пролетки или сани, смотря по времени года.
Извозчики ездили обычно "от хозяина" 9. У каждого хозяина было по нескольку рабочих извозчиков, которых хозяин страшно эксплуатировал. Извозчик должен был сдавать хозяину ежедневно определенную сумму, например три рубля, заработал он их или нет. Это были обычно пожилые люди, нездоровые, которые не могли работать ни на фабрике, ни в деревне. За поломку экипажа или порчу сбруи хозяин вычитал из его заработка. Отвечал извозчик и за здоровье лошади. Он должен был проявлять расторопность в умении использовать разъезд публики из театров, найти удачное место стоянки. Среди обывателей извозчики часто именовались "желтоглазыми", видимо, из-за частой болезни глаз 10. Жили они в общежитии, где санитарные условия были скверные - тесно, одежду получали одну на двоих или троих, которая являлась рассадником насекомых.
Были в столице лихачи - извозчики высшей категории. У лихача лошадь и экипаж были лучше, сам он был виднее и богаче. Он был похож не на извозчика, а скорее на собственный выезд. Лихачи выжидали выгодный случай прокатить офицера с дамой, отвезти домой пьяного купчика, быстро умчать какого-нибудь вора или авантюриста, драли они безбожно, но мчали действительно лихо. Нанимали их люди, сорившие деньгами, и те, которые хотели пустить пыль в глаза. Стоянок их было немного - на Невском, на углу Троицкой, около Городской думы, на Исаакиевской площади 11. {42}
Особой категорией извозчиков были тройки для катания веселящихся компаний. Зимой они стояли у цирка Чинизелли. Кучер в русском кафтане, шапке с павлиньими перьями; сбруя с серебряным набором, с бубенцами. Сани с высокой спинкой, расписанные цветами и петушками в сказочном русском стиле. Внутри все обито коврами, полость тоже ковровая, лошади - удалые рысаки. В сани садилось 6-8 человек на скамейки, лицом друг к другу. Мы застали уже последние такие тройки. Но изредка можно было на главных улицах видеть тройку, мчавшую веселую компанию с песнями к цыганам в Новую Деревню или в загородный ресторан. Такие катания и в наше время уже казались чем-то отживающим.
В 10-х годах появились автотакси частных владельцев. Машины были заграничные, разных фирм и фасонов. На них были счетчики, но чаще их нанимали из расчета примерно 5 рублей в час. Стоянка была на Невском, около Гостиного. Шоферы этих такси выглядели людьми особого типа, одеты по-заграничному: каскетка, английское пальто, краги. Держались они с большим достоинством, ведь это были все хорошие механики, машины были несовершенной конструкции и часто портились, их надо было на ходу ремонтировать. Многие относились к таксомоторам с недоверием и предпочитали пользоваться извозчиками - надежнее и дешевле. На некоторых улицах с малым движением и с хорошим покрытием, например на набережной Фонтанки, иногда можно было наблюдать своеобразные гонки между рысаком и автомобилем. Победителем часто оказывался орловский рысак, правда на коротких дистанциях. При этом часть публики выражала явное удовольствие, сопровождая обгон криками восторга и нелестными выражениями в адрес автомобиля.
На масленице появлялся еще один вид пассажирского транспорта - вейки. В город на это время приезжали крестьяне на своих лошадях, в легких саночках. Это были большей частью представители финских племен: корелы, ингерманландцы, ижоры, которые в просторечии назывались чухнами. Лошадей они украшали красочной сбруей, бубенцами и ленточками. Дугу и оглобли также украшали. Большая часть населения столицы, особенно простолюдины, каталась на вейках с детишками, преимущественно днем, а вечером катались мужья с женами и рабочая молодежь. На улицах раздавались звуки гармошки, пение, и полиция не запрещала - была масленица. Иногда днем на вейках ездили и деловые люди; лошадки бойкие, санки удобные, брали недорого, даже дешевле из-{43}возчиков, знали город плохо и за любой конец запрашивали 30 копеек.
Много было в столице и собственных выездов. Их имели аристократы, крупные чиновники, банкиры, фабриканты, купцы. Начиная с 1907 года некоторые даже имели автомобили. Экипажи у собственников были самые разнообразные: кареты, коляски одноконные и пароконные, фаэтоны в английской запряжке с грумом в цилиндре (вместо кучера), с высоким стоящим хлыстом, "эгоистки" на высоких колесах, мальпосты на двух высоких колесах, шарабаны на одного или двух седоков без кучера; большое разнообразие было и в санях - одноконные, пароконные с запряжкой с дугой и в дышле. На лошадях сетки, чтобы на седоков не летели комья снега с лошадиных копыт. Мы застали еще кареты и пароконные сани с запятками: с площадкой сзади, на которой стоял лакей. Обыкновенно же лакей сидел рядом с кучером на козлах. Некоторые кареты и ландо имели на дверцах золотые гербы или короны, свидетельствующие о том, что выезд принадлежит "сиятельному" лицу.
Собственники гордились своими выездами - это был показатель их богатства, значит, и положения в свете. Купцы, фабриканты и прочие буржуи ездили без лакеев. В наше время езда с лакеями уже отдавала чем-то архаичным.
Особой пышностью отличались дворцовые и посольские выезды. Самым парадным дворцовым выездом было ландо "адамон" с запряжкой шестеркой белых лошадей цугом по две. Кучера не было, а на каждой левой лошади сидел форейтор, одетый под жокея. Так выезжала обыкновенно царица с детьми. В дворцовом Конюшенном ведомстве было много всевозможных экипажей, особенно карет, в которых ездили и зимой. Экипажи эти ничем особенно не отличались, разве только добротностью, а иногда и старомодностью. Дворцовыми выездами пользовались кроме царской фамилии приближенные им лица, министры и высшие чиновники дворцового ведомства.
В Конюшенном же ведомстве состояли выезды для обслуживания императорских театров - большие неуклюжие кареты старого образца. Эти кареты подавались "солистам его величества" и другим крупным артистам. Подавались они и для учениц театрального училища для вывоза на спектакли с их участием или как зрителей. Учеников театрального училища везли на открытых длинных линейках, на которых они сидели с обеих сторон, спинами друг к другу. {44}
Посольские выезды пароконные, в дышле, на дверцах карет или ландо герб своего государства; козлы накрыты особой накидкой, расшитой золотым позументом. На козлах сидели кучер и лакей в ливреях с позументами и в треугольных шляпах, надетых наискось.
Начиная с 1907-1908 годов появились частные автомобили различных типов заграничных фирм, в России автомобильной промышленности не было. Для того времени легковой автомобиль был редкостью и исключительной роскошью: шофер был одет на заграничный манер - короткое пальто реглан, желтые краги и ботинки, обязательно желтые кожаные перчатки с крагами. У автомобилей были различные гудки - от простого рожка с резиновой грушей до гудка с клапанами, на которых ловкие шоферы играли отрывки красивых мелодий. Были машины, снабженные клаксофонами и пр.12
Грузовой транспорт в пределах города был почти исключительно конным, гужевым. Это были ломовые извозчики - ломовики, обычно сильные, здоровые люди, малоразвитые, в большинстве неграмотные. Они же были и грузчиками. Желая отметить грубость, невежество, в народе говорили: "Ведешь себя, ругаешься, как ломовой извозчик". Ломовые обозы содержались хозяевами, имевшими по нескольку десятков подвод. Некоторые заводы, фабрики и другие предприятия, а также городское хозяйство имели свои ломовые обозы. Как общее правило, упряжка была русская - в дуге, хомут и шлея с медным набором. Телега на рессорах - качка, тяжелая, большого размера, на железном ходу, задние колеса большие, расстановка колес широкая, как раз по ширине трамвайных путей. Часто ломовики выезжали на трамвайный путь, колеса катились по рельсам - легко лошадям и извозчика не трясло. Такая езда запрещалась, но ломовики нарушали запрет. Чтобы удобно было грузить "с плеча", площадка была установлена высоко. Иногда площадка была с ящиком, в зависимости от того, что надо было перевозить. Лошади были крупные, тяжеловозы-битюги "першероны", на подводу накладывалось до 100 пудов и более. Проезд ломовиков по улицам с торцовой мостовой был запрещен или разрешался только в определенные часы, и грузовые обозы двигались преимущественно по улицам с булыжной мостовой. Их сопровождал грохот и крики ломовиков. Особенно картинным был обоз городских боен 13: лошади здоровенные, сбруя вся в медных бляхах, качки, а зимою сани, выкрашенные свинцовым суриком. Ломовики - отменные силачи - свободно переносили на спине {45} только что освежеванную тушу черкасского быка. Для того чтобы не перепачкаться в крови, они надевали себе на голову и спину рогожный куль.
Образцовые обозы содержались пивоваренными заводами Калинкина, Дурдина, "Бавария", "Вена": лошади сытые, разъевшиеся на пивной барде, с желобками вдоль всей спины. Упряжка была без дуги, на постромках. Весь этот гужевой обоз зимой становился на тяжелые сани. На улицах весь снег не убирали, а всегда заботились, чтобы был санный путь. В условиях ровной местности Петербурга зимой и летом можно было перевозить большие тяжести одной лошадью. Но во время распутицы и гололеда мучением для лошади и возчиков становились крутые въезды на мосты.
Особо тяжелые и громоздкие грузы перевозились на медведках. Это были массивные низкие повозки-площадки на невысоких сплошных колесах без спиц. В медведку впрягались минимум три особо сильные лошади. Для перевозки некоторых грузов требовалась запряжка в 15, а то и в 20 лошадей. Тогда прицеплялись дополнительные вальки с постромками, получалась запряжка цугом по три-четыре лошади в ряд. В таких случаях действовали несколько ломовых извозчиков.
Вывоз из города всякого рода навоза и нечистот производился главным образом пригородными огородниками, которые были заинтересованы в удобрении. Городская же управа имела специальный ассенизационный обоз - громадные деревянные бочки, поставленные на пароконные телеги летом и на сани зимой. Спереди большое сиденье для кучера, на которое усаживались 1-2 рабочих. Сзади был насос системы "летестю".
Автомобильный грузовой транспорт начал вводиться только с началом первой мировой войны, да и то в малом количестве.
БЫТ СТАРОГО
ПЕТЕРБУРГСКОГО ДОМА
Один из авторов прожил 60 лет в доме № 116 по набережной реки Фонтанки, доме Тарасова 1. Владельцами этого огромного дома, вернее, нескольких домов, выходивших и на 1-ю Роту Измайловского полка (№ 3, 5, 7 и 9), были два брата Тарасовы: старший - Николай Алексеевич и младший Сергей Алексеевич, в описываемое время уже старики 2. Эти братья Тарасовы пред-{46}ставляли собою яркие фигуры богатых петербуржцев, влиявших в свое время на жизнь и развитие города. Кроме упомянутых домов Тарасовы имели большое домовладение со многими строениями жилого и промышленного характера по Обводному каналу и Тарасову переулку, от имени владельца последний и получил свое название. Тарасовы владели большой дачей с огромным участком на Аптекарском острове на берегу Невки 3. У них было имение близ станции Толмачево, собственная богадельня с церковью на Охте, бани и пр., не говоря уже о капиталах в разных банках.
Такое громадное имущество и капиталы были приобретены не ими, а их предками в течение двух столетий. По указу Петра I для постройки кораблей и города были вывезены государственные крестьяне, плотники из Костромской губернии, и поселены на Охте. Некоторые из них вышли в десятники, в их числе и Тарасовы, а потом и в подрядчики и стали постепенно богатеть, приобретать земельные участки в городе, в частности и по Фонтанке, на котором в свое время была загородная дача Платона Зубова, последнего фаворита Екатерины II. Измайловский сад (сад "Буфф"), который также принадлежал Тарасовым,- это остатки сада усадьбы Зубовых, и старые дубы этого сада были свидетелями заговора против Павла I.
Семья Тарасовых особенно разбогатела на подрядах по восстановлению Зимнего дворца после пожара 1837 года, в частности на производстве паркетных и столярных работ. К этому времени они имели на участке по Фонтанке разные строения и паркетную фабрику. В некоторых квартирах домов Тарасовых были очень красивые паркеты из ценных пород дерева и двери красного дерева с бронзовыми ручками художественной чеканной работы. По-видимому, эти паркеты и двери были вывезены из остатков, уцелевших от пожара дворца 4.
Нам кажется небезынтересным для читателей изображение характерных типов петербуржцев из разных слоев населения. В этом отношении Тарасовы являлись типичными представителями буржуазии уходящего мира. Они уже дворяне, занимают почетные, хорошо оплачиваемые должности. Николай Алексеевич (старший), по образованию инженер путей сообщения, когда-то строил один из участков Архангелогородского шоссе, а в описываемое время был председателем Петербургского городского кредитного общества с окладом 60 тысяч рублей в год. (Это при своих-то миллионах!) От росчерка его пера зависела {47} выдача ссуды на постройку дома в городе под залог земельного участка. Бывало так: господин Н. формально числится владельцем громадного благоустроенного дома, а если разобраться по существу, то ему принадлежит, фигурально выражаясь, одна ручка от входной двери. Земля его заложена, потом поэтажно он закладывал дом, на достройку заключал вторую, а иногда и третью закладную, платил везде проценты по закладным, получал доходы с дома и гасил постепенно закладные. Таких домов, заложенных и перезаложенных, было большинство. Вот что разрешал господин Тарасов! Сам он был одинок, жил один в громадной квартире из 14 комнат, занимая весь второй этаж своего дома на Фонтанке. Его апартаменты были отделаны богато и с большим вкусом. В первом этаже в отдельной квартире была большая библиотека, а ниже, в подвале, собственный погреб дорогих вин. Этот практический человек и воротила Петербурга не был лишен и причуд: по верху каменных ледников, одной стенкой выходящих в сад "Буфф", он устроил изящный садик с цветущими кустами и цветниками, сидя в котором можно было любоваться тем, что происходит в увеселительном саду "Буфф", куда была потайная калитка. В этот "висячий сад Семирамиды" из квартиры Тарасова был перекинут чугунный мостик. Его одного в этой громадной квартире обслуживало много людей: повар с подручным, судомойка, прачка, две горничные и лакей Григорий, видный, красивый мужчина во фраке, которого естественно было принять за хозяина, так он был величествен. Почему же Тарасов жил один, не было у него семьи? Ежегодно бывая за границей еще молодым человеком, он заболел сухоткой спинного мозга. Эта страшная болезнь изуродовала его фигуру: ходил он сильно наклонившись вперед.
Младший брат, Сергей Алексеевич, служил когда-то в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку, самом блестящем из Варшавской гвардии. Сорвавшись с коня во время бешеной скачки, он повредил себе спину и вынужден был оставить военную службу. Он не мог сгибаться и держал свой корпус сильно откинутым назад, с высоко поднятой головой. Забавно было видеть братьев, стоящих рядом в церкви, всегда на одном и том же месте: один - откинувшись назад, другой - согнувшись вперед. Ходил Сергей Алексеевич в штатском, но его гордая осанка и гусарские усы выдавали прежнего кавалериста.
Он был женат, имел дочь; жена и дочь ударились в мистику, были религиозны, ездили по монастырям, соби-{48}рали иконы. Этот Тарасов несколько раз избирался товарищем городского головы столицы и членом правления какого-то банка. Он был любителем садоводства и цветоводства, устраивал выставки необычайных экспонатов, выращенных его садовниками. Жил он в своем доме в 1-й Роте, занимал громадную квартиру во втором этаже, богато, но безвкусно обставленную. Было у него много разной челяди, вдвое-втрое больше, чем членов семьи.
У каждого брата были свои выезды: по три лошади, черные орловские рысаки, кареты, коляски и другие экипажи, разные сани.
Колоритной фигурой был кучер старшего брата Василий: высокий, худощавый, с бородой, с лицом аскета и жестким взглядом. Жил он в небольшой квартирке на заднем дворе, около каретника - с женой, здоровой, цветущей дочкой и запуганным сынишкой. В семье он был деспот.
Рядом с квартирой Василия находилась конюшня, в денниках которой стояли рысаки и ломовая лошадь, обслуживавшая дом и бани. Денники были большие, содержались в чистоте, сам Василий мог завидовать житью лошадей.
Запряжка выезда - это целое представление. Горячий рысак выводился из денника самим Василием, конь весь дрожал, но, чувствуя власть опытных рук, давал себя завести в оглобли. Тотчас же рысак расчаливался крепкими поводами к кольцам у ворот каретника. Запрягал сам Василий, ему помогали дочь и кучер ломовой лошади. Перед выездом копыта смазывались лаком. Сбруя была отличная, но без всяких украшений. Рысак запряжен, от нетерпения он перебирал ногами, стуча копытами по деревянному полу. Начиналась церемония одевания кучера: сначала длинная ватная жилетка почти до колен (то же, что толстинка у артистов). Сверху кафтан синего сукна, зимой на меху. Потом помощники обматывали его шерстяным красным кушаком. Наконец Василий надевал низкий цилиндр с пряжкой спереди или меховую шапку, смотря по времени года. И вот на глазах происходила метаморфоза: худощавый, костлявый Василий превращался в дородного кучера богатого хозяина. Наступал самый ответственный момент: кучер взбирался на козлы, осенял себя крестным знамением, брал вожжи. Нетерпение лошади достигало высшего предела. Василий кивал головой, дочь с другим кучером "отдавали" карабины. Лошадь моментально вставала на дыбы, вынося экипаж во двор, но Василий сразу гасил ее порыв, и она, покоряясь воле кучера, {49} нервно перебирая ногами, выезжала со двора на набережную Фонтанки к подъезду хозяина.
Соблюдался особый фасон: кучер должен сидеть истуканом и не поворачиваться назад и не смотреть, сел ли хозяин, а чувствовать по колебанию коляски, что седок на месте и можно трогать.
Даже с опытным Василием бывали случаи такого рода: Тарасов брался только рукой за экипаж, чтобы сесть, а Василий "срывался" и пустой подъезжал к кредитному обществу, а там швейцар его спрашивал: "А где же хозяин?" Хозяин же подъезжал следом на извозчике.
У таких кучеров была своеобразная гордость за богатый выезд, за своего хозяина, они с презрением относились к простым извозчикам - "желтоглазым Ванькам" и к скромным прохожим. У них выработался своеобразный окрик на извозчиков и прохожих: "Э...гэп!" - с каким-то самолюбованием в голосе. Лошади у Тарасовых были бешеные, застоявшиеся, хозяин ездил мало, летом уезжал месяца на три за границу. Василию приходилось ежедневно "проезжать" лошадей. Работа была очень тяжелая; на вытянутых, напряженных руках, чуть ослабли вожжи - рысак разнесет. Надо было быть очень внимательным, улицы были тесны от экипажей; при обгоне умело лавировать, а обогнать обязательно, собственнику не "полагалось" плестись сзади извозчиков, да и неплохо обогнать другого собственника - все это возвышало кучера.
Остановим свое внимание на тружениках дома - дворниках. У Тарасовых было два старших дворника и около 30 младших, обслуживавших все домохозяйство. Старшие дворники подбирали из родни или земляков себе подручных - младших дворников, здоровых, нестарых крестьян, которых деревня выбрасывала в город на заработки. В большинстве это были неграмотные или малограмотные люди, от них требовались большая сила, трудолюбие, чистоплотность и честность. Жили они по дворницким, обыкновенно без семей, своего рода артелью. Харчи им готовила "матка", жена старшего дворника. Старшие дворники получали по 40 рублей, младшие - по 18-20 рублей. Старшие дворники были начальством, они не работали, а распоряжались и наблюдали за работой дворников. Был такой старший дворник Григорий, толстый рыжий детина, большая умница, получивший среди жильцов прозвище "министр". Каждое его слово было дельно, он умел правильно обходиться с подчиненными, дворники его уважали и боялись. Порядок на его участке был образцовый. Дворники с утра до вечера убирали улицы, {50} дворы, лестницы, разносили дрова по квартирам (в домах Тарасовых центрального отопления, ванн и лифтов не было). Особенно доставалось этим труженикам зимой при снегопадах: надо было скребками вычистить все панели, посыпать их песком, сгрести в кучи снег с улиц и дворов, на лошади отвезти снег в снеготаялку. Во дворе были две бетонные ямы, куда поступала из бань отработанная теплая вода, в них ссыпали снег, он таял, вода уходила в канализацию. Летом дворникам было легче, они по очереди могли уезжать в деревню: кто на пахоту, кто на сенокос, кто на уборку. Жалованье им шло, артель выполняла работу и за них. Кроме своего жалованья они получали чаевые за услуги жильцам: выколачивали ковры, завязывали и выносили вещи при отъезде жильцов на дачи, носили корзины с бельем на чердаки. Жили они очень экономно, копили деньги для деревни, где у них оставались семьи. Доход у них был также от "поздравлений" с Новым годом, с Пасхой; они знали, кто когда именинник, и обходили жильцов, проживающих по отведенной каждому лестнице. За такие поздравления им не только давали на чай, но и угощали водочкой и закуской. Многие из них старались одеться по-городскому, завести хромовые сапоги, пиджак, жилетку, гарусный шарф.
Подъезды хороших квартир обслуживались швейцарами. Они набирались из тех дворников, которые были пообходительней, состарились и не могли уже выполнять тяжелую работу. Также требовалась благообразная внешность и учтивость. Жили они в каморке под лестницей, убирали парадную лестницу (черную убирали дворники), натирали мозаичные площадки для блеска постным маслом, чистили медные ручки дверей, в общем работа была не тяжелая, но беспокойная - ночью по звонку запоздавшего жильца надо было отпирать дверь, особенно в праздники, когда ходили в гости. Хозяин выдавал им всем обмундирование - ливрею, фуражку с золотым позументом; часто эта, пришедшая, по-видимому, с Запада, форма одежды не гармонировала с русским лицом. Швейцары пользовались заслуженным доверием хозяев квартир, часто при отъездах на дачи им оставляли ключи от квартиры, поручали поливать цветы. Как правило, кроме жалованья от хозяина они получали еще и от квартирохозяев. Они старались как можно лучше обслужить своих жильцов, оказывать им разные услуги. Если приходил незнакомый человек, они спрашивали, к кому он идет, и следили за ним; если кто-нибудь незнакомый выносил {51} вещи, они справлялись, спрашивали хозяев и тогда только выпускали. Те парадные, на которых не было швейцаров, на ночь запирались, и обслуживали их ночные дежурные дворники, вызываемые по звонку. Интересно отметить, что до самой революции в доме Тарасовых для вызова дворников звонки были не электрические, а воздушные - за розеткой кнопки находилась большая резиновая груша, от нее шла тонкая свинцовая трубка к звонку, при нажатии кнопки воздух нажимал язычок звонка и колебал его. К квартирам с лестниц звонки обычно были ручные.
Кроме младших дворников и швейцаров наблюдение за порядком несли дежурные дворники у ворот, с бляхой и свистком, зимой в тулупе, валенках и теплой шапке. Они смотрели, кто входил во двор, незнакомых спрашивали, куда идет, не пускали шарманщиков, торговцев вразнос, наблюдали, чтобы не выносили вещей без сопровождения жильцов. Как правило, эти дворники не убирали улицы и дворы, дров не носили. Ночью ворота запирались, в подворотне стояла деревянная скамья, на которой они сидели или лежали, пока не потревожит их звонок запоздалого жильца, который совал им в руку монетку.
При доме жил водопроводчик Степан, великолепный слесарь, на нем лежало все водопроводное хозяйство огромного дома, он один отлично со всем справлялся. От хозяина он имел небольшую квартирку и мастерскую. На двери мастерской висела черная доска, на ней он писал, в какой квартире он работает, его всегда можно было найти. Этот умный мастер никогда не допускал аварий, а предупреждал их, хорошо понимая, что так ему будет легче. Получал он 35 рублей в месяц. Кроме обязанностей водопроводчика он выполнял частные работы: чинил кастрюли, лудил их, исправлял разные предметы домашнего обихода жильцов и даже чинил "аристоны" - музыкальные ящики. Он отличался передовыми взглядами, читал газеты, высказывал смело свое мнение, его уважали и понимали, что с ним надо считаться. Проработав около 10 лет у Тарасовых, он ушел на Путиловский завод.
Авторы этих записок уже не застали в доме Тарасовых паркетной фабрики. Вместо нее в этом весьма непрезентабельном двухэтажном здании помещались две мастерские - клавишных инструментов Мейера и столярная мастерская Шмунка. В мастерской Шмунка было два отделения: наверху работали замечательные мастера-краснодеревцы, а внизу - белодеревцы, тоже отличные сто-{52}ляры. Во главе производства стоял мастер Дормидонтыч - строгий сухой старик в очках, с "кляузной" бородкой, величайший знаток столярного дела - ему первому в Петербурге были поручены заказы на изготовление фюзеляжей и крыльев отечественных аэропланов на заре нашей авиации. Вскоре после этого по наследству мастерская перешла к сыну Шмунка, любителю охоты и стендовой стрельбы 5. Он мало интересовался делом, с увлечением все стрелял по тарелочкам, а потому "сгорел без дыма" и "вылетел в трубу" мастерская его закрылась и была продана "с молотка".
В противоположность ему Майер, знаток своего дела, был рачительным хозяином и с успехом вел дело, выпуская недорогие инструменты. Рабочие в обеих мастерских были люди серьезные, знатоки своего дела. Механизации никакой не было, даже продольная распиловка досок производилась лучковой пилой. Рабочий день был по десять - двенадцать часов. Как это ни парадоксально и даже покажется невероятным, в мастерской Шмунка освещение было масляное, самого примитивного устройства: к небольшому деревянному штативу прикреплен металлический баллончик емкостью около полулитра, в нем гарное масло и фитиль - вот и все освещение. Столяр передвигал этот штатив по верстаку как ему удобнее.
Во дворе того же дома была кузница Мозалева. Владелец ее широкоплечий, сильный, хромой старик, в кожаном фартуке, величайший знаток и мастер по изготовлению подков и ковке лошадей.
В его кузницу приводили дорогих лошадей, подчас такую лошадь-рысака вели под уздцы два конюха, которые прямо висели на поводах, когда она вставала на дыбы. На дворе возле кузницы был устроен специальный станок для завода туда горячих лошадей на время ковки, но у ковалей была своя профессиональная гордость - даже самых бешеных рысаков подковывать без завода в станок, а у кузнецов - сделать подкову за два нагрева. Надо отличать кузнеца, который гнул подкову по размеру копыта, от коваля, который только подковывал лошадь. Сам Мозалев совмещал обе эти специальности и однажды стал жертвой профессиональной гордости коваля: подковывал без станка злого жеребца, который разбил ему коленную чашечку.
Любо было смотреть на этих мастеров своего дела, когда почти моментально из куска стали выковывалась подкова, причем каждый удар ручника и молота был точно рассчитан и не было ни одного лишнего движения. С {53} таким же мастерством производилась сама ковка лошадей, особенно горячих и без станка. Ловким, быстрым движением коваль схватывал ногу лошади и зажимал ее между своих колен. Быстро отгибал гвозди и молотком сшибал подкову, особым ножом расчищал стрелку и обрезал копыто. После обработки копыта коваль примеривал еще горячую подкову, рог копыта горел и шипел, издавая удушливый запах. Если подкова подходила, ее охлаждали в обрезе с водой, а ту, которая немного не сходилась с копытом, сразу же кузнецы подправляли двумя-тремя ударами молота. Затем коваль пригнанную подкову пришивал к копыту специальными гвоздями, быстро их загибал, откусывал клещами лишние концы, еще два-три движения рашпилем - и нога лошади готова.
Работа в кузнице Мозалева была очень тяжелая: рабочий день с раннего утра до позднего вечера, помещение плохое, темное, сквозняки, зимой холод, летом жара. Особенно жалко было смотреть на мальчиков-учеников: грязные, закоптелые, потные, они раздували мехи, засыпали уголь в горны, рубили бруски стали на куски нужного размера, словом, не имели ни минуты отдыха.
Жил Мозалев с учениками-мальчиками в маленькой квартире при кузнице. У ворот в 1-й Роте висела вывеска Мозалева: на зеленом поле черный конек, а рядом с ним черная подковка величиной почти что с коня.
Тарасовы владели банями, которые существуют и теперь 6. Плата была по классам - 5, 10, 20, 40 копеек и семейные номера за 1 рубль. В дешевых классах (5 и 10 коп.) в раздевальнях скамьи были деревянные крашеные, одежда сдавалась старосте. В дорогих банях (20 и 40 коп.) были мягкие диваны и оттоманки в белых чехлах, верхняя одежда сдавалась на вешалку, а платье и белье не сдавались. В мыльных скамьи были деревянные, некрашеные. В семейных номерах была раздевалка с оттоманкой и мягкими стульями в белых чехлах и мыльная с полком, ванной, душем и большой деревянной скамьей. Банщики ходили в белых рубахах с пояском. Бани были открыты три дня в неделю, а сорокакопеечные и номера всю неделю, кроме воскресенья. Такой распорядок был вызван тем, что была только одна смена банщиков и работали они с 6 часов утра до 12 ночи, остальные дни отдыхали. Бани в свободные дни стояли с открытыми окнами, просушивались. Кочегарка работала тоже три дня, горячая вода для высшего класса и номеров сохранялась в запасных баках. Посетителей здесь было значительно меньше, особенно утром, и банщики могли подменять {54} друг друга и иметь отдых. В двадцатикопеечных банях и выше веники выдавались бесплатно, а в дешевых за веник доплачивалась одна копейка. Нужно отметить особое явление, свидетельствующее о бедноте части населения: приходили женщины с малолетними детьми, покупали билет за пятачок и вели с собой бесплатно малолетних детей, несли узел белья, чтобы постирать. Это снисходительно допускалось. Особенно много народу бывало в банях по субботам. Все считали нужным помыться на воскресенье после трудовой недели. В каждом классе была парная с громадной печью и многоступенным полком, на верхней площадке которого стояло несколько лежаков. Любители попариться поддавали пару горячей водой, а то квасом или пивом, чтобы был особо мягкий и духовитый пар. Надевали на головы войлочные колпаки, смоченные в холодной воде, залезали наверх и, стараясь друг перед другом, хлестали себя вениками до полного умопомрачения, сползая оттуда в изнеможении красные как вареные раки. С трудом добирались до первого крана и обливались холодной водой. Потом садились на нижнюю ступень полка и отдыхали. Тут начинались уже высказывания такого рода: "Пар сегодня силен, дошло до самого нутра, косточки все стали на место, в грудях полегчало, и проклятая ревматизьма, кажись, отпустила".
В дорогих классах для пaрения и мытья нанимали банщиков, которые были специалистами в своем деле: в их руках веник играл, сначала вежливо и нежно касаясь всех частей тела посетителя, постепенно сила удара крепчала до тех пор, пока слышались поощрительные междометия. Здесь со стороны банщика должно быть тонкое чутье, чтобы вовремя остановиться и не обидеть лежащего. Затем банщик переходил к доморощенному массажу: ребрами ладоней как бы рубил тело посетителя, затем растирал с похлопыванием и, наконец, неожиданно сильным и ловким движением приводил посетителя в сидячее положение.
Банщики жалованья не получали, довольствовались чаевыми. Их работа была тяжелая, но в артели банщиков все же стремились попасть, так как доходы были хорошие, а работа чистая. К тому же при бане было общежитие для холостых и одиноких. Кочегары, кассиры и прачки были наемные и получали жалованье. Самое доходное место было у коридорных семейных номеров, там перепадало много чаевых за разные услуги. В семейные бани был отдельный вход через парадное дома в 1-й Роте. {55}
Этот дом, между прочим, некогда служил долговой тюрьмой, так называемой "Тарасовской ямой", в которую сажали должников-банкротов 7. Плату вносил заимодавец, он же был обязан кормить посаженного. Такие лица сидели до тех пор, пока родственники или друзья их не выкупят, уплатив долг. А иногда (к счастью для заключенного) заимодавец отказывался его оплачивать, убедившись, что ничего с него не получишь, тогда его выпускали.
Описывая "банное дело" братьев Тарасовых, нельзя не вспомнить весьма примечательной фигуры - кассира Никиты Максимовича.
Вначале, в молодые годы, он работал коридорным при номерах. Разбитной, очень услужливый, красивый ярославец вскоре обратил на себя внимание своей деловитостью и смышленостью и был выдвинут на должность кассира бань. Шли годы, Никита Максимович толстел и своим благообразным видом стал походить и лицом и фигурой на знаменитого композитора Глазунова. Но впоследствии было обнаружено, что сходство его с этим благородным, безупречным человеком исключительно внешнее. На самом деле он оказался большим "мазуриком": помимо билетов Тарасовых заказал рулоны собственных билетов и начал бойко ими торговать: один билет настоящий - Тарасова, другой - свой. Начала заметно уменьшаться доходность бань, а фигура кассира начала полнеть. Кассир стал одеваться по последней моде, носил булавку в галстуке и запонки с бриллиантами и двубортную золотую цепь, на одном конце ее золотые часы, а на другой золотой секундомер, необходимый ему при игре на бегах. А жалованье имел небольшое, рублей 70, и квартиру при бане с отоплением и освещением. Кроме этой аферы он делал коммерческие махинации при приемке угля и дров для бани и имел доход от поставщиков пива и лимонада. Художества его были вскрыты и доложены хозяину. Тарасов сказал: "Выгнать этого подлеца немедленно". Управляющий доложил: "У него семья, надо дать ему время пристроиться".- "Черт с ним, дайте ему срок две недели, а потом предоставить ему лошадь для вывозки имущества".
Тарасов и его управляющий оказались наивными людьми: Никитка уже арендовал две бани в Петербурге, о чем ни Тарасовы, ни их управляющий ничего не знали. Собрался он в два дня, квартира у него уже была при арендуемых банях, и закатил такое новоселье с шампанским, что приглашенные только ахали. {56}
Имелись сведения, что этот "подлец Никитка" процветал до самой революции, увеличивая свое богатство и благосостояние. Он сделался купцом, хозяином бань!
Во дворе дома в бедных квартирках жили ремесленники, портные и сапожники. Настоящих портных было мало - один-два человека, которые работали на дому на известных портных Петербурга - Манделя, Каддыка и др. Главным же образом жили портные-латалы, которые занимались починкой старых вещей. Это были в большинстве неудавшиеся или спившиеся портные, которые за малую плату перешивали, перелицовывали, отпаривали, чинили одежду скромных людей. Жизнь их была беспросветной: непроходимая нужда, полуголодное существование семьи; единственной радостью для латалы было выпить косушку и забыться.
В деревянном флигеле, которого теперь уже нет, жили сапожники. Жизнь этого люда была тоже незавидная: теснота, духота, угловые жильцы, которые восполняли скромный бюджет бедных квартирохозяев. В одной комнате помещались и мастерская и жилье. У сапожников были свои "Ваньки Жуковы" несчастные мальчишки-ученики. Классическим примером таких сапожников был в Тарасовском доме Тимофей Иванович Куликов, по прозванию Кулик. Это был мелкий хозяйчик-сапожник, снимавший квартирку из двух комнат и кухни. Тщедушный, с козлиной бородкой, великолепный мастер и столь же великолепный пьяница.
В домах по 1-й Роте находились четыре магазина - табачный, аптекарский, молочный и булочная.
Магазин назывался табачным, но продавались в нем кроме папирос, табака и гильз разного рода бумага, тетради, канцелярские книги, альбомы для открыток, сами художественные открытки, письменные принадлежности и т. д. 8
Маленький аптекарский магазин содержал еврей Менекес, скромный, низенький, болезненный человек, очень любезный с покупателями. Приказчиков он не имел, жил с семьей при магазине. Торговал парфюмерной мелочью и всякими аптекарскими товарами. Особая торговля была у него перед праздником православной Пасхи. К нему по поручению своих хозяек приходила прислуга, держа перед собой в обеих руках громадные опарные горшки, в которых находилась закваска для будущих куличей. В эту закваску за рубль Менекес капал одну каплю розового масла. Теперь понятно, что приходилось нести весь горшок,- ведь ни в какой таре такую покупку не унесешь. {57} От одной такой капли от куличей шел замечательный аромат.
Булочная и кондитерская принадлежали немцу Рейнефельду, великолепному мастеру своего дела 9.
В полуподвальном помещении под булочной помещалась пекарня, где рабочие, как грешники в аду, с утра до вечера стояли у раскаленных печей, выпекая всевозможные булки, "венский товар", торты, "баумкухены" и всевозможные печенья. Кондитерская была очень хорошая, товар ее образцовый, она принимала заказы на именинные пироги, торты и т. п. В магазине и пекарне соблюдалась образцовая чистота, все ходили в белых халатах и колпачках. Сам Рейнефельд ходил тоже весь в белом, в колпаке и сам принимал при выполнении особо ответственных заказов деятельное участие, не доверяя мастерам, создавал изумительные "баумкухены", крендели, корзины из сахарного теста, которыми прославился его магазин. Это была кондитерская первого класса, и пирожные стоили там дороже - четыре копейки, а не три, как у остальных.
Кроме мастерских и магазинов в этом же доме помещались 10-я казенная гимназия, частная женская гимназия Хитрово и четыре городских училища.
Переходим к описанию частных квартир и их жильцов, некоторые из них были очень типичны для "последнего" Петербурга. В доме находилось около двухсот квартир самого различного размера и качества - от барских до более чем скромных квартирок для малоимущих семей. Жильцов пускали с разбором, имея в виду их платежеспособность и скромное поведение, для выяснения чего старшие дворники посылались на старое место жительства за сведениями. И действительно, в домах Тарасова ни буянов, ни скандалистов, ни пьяниц, ни воров, ни безысходной нищеты не было. Если и попадали в виде исключения подобные лица, то им давали "выездные" 3-5 рублей и ломовую подводу, только выезжай.
Среди проживающих были люди разного общественного положения и состояния. Жили высшие чиновники, гвардейские офицеры с неприступным видом. Проживал даже товарищ министра финансов. В более скромных квартирах жили учителя, врачи, менее важные чиновники, собственники мелких предприятий. Еще более скромные квартиры занимали ремесленники, квалифицированные рабочие и прочий трудовой люд.
Товарищ министра Садовский был невысокий сухощавый старичок в паричке, скромно одетый, верхнее {58} платье носил штатское, зимой - барашковую шапочку, По внешнему виду никак нельзя было предположить, что это почти министр 10. Ездил он "в должность" на извозчике за 20 копеек, на приветствия дворников снимал шапочку.
Примечателен был чиновник высокого ранга Петр Петрович. Необычайно любезный, со всеми он почтительно раскланивался, говорил каким-то особо сладким голосом: "Здра...ствуй...те!"
Был и такой чиновник, который имел мировоззрение начала XIX века, когда процветали "держиморды". Детишкам, которые играли и шумели под его окнами, этот мелкий чинуша, покраснев как клюква, кричал: "Я вас выселю в 24 часа!" А дети при встрече с ним говорили: "Здравствуйте, 24 часа!"
Жил отставной балетный артист Михайлов, высокий, стройный, с гордой осанкой старик. Ходил он всегда в цилиндре, в пальто старомодного покроя, а летом в крылатке "альмавива", в сырую погоду носил только кожаные галоши резиновые презирал. На его большом носу всегда красовалось золотое пенсне со шнурком. Жил он один, обслуживала его старушка прислуга. Чувствовалось, что чем-то он в жизни обижен. Квартирка у него была маленькая, получал он небольшую пенсию и дотацию от Тарасовых. Говорили, что он был единокровным братом Тарасовых от связи их отца с какой-то "балетной". Иван Михайлович был нелюдим, по-видимому, всю жизнь его угнетало, что он незаконнорожденный и не выбился в крупные артисты.
Проживал в доме мелкий подрядчик малярных работ Николай Николаевич Соколов - красивый, чернобородый. Он долго сам работал маляром, а когда его хозяйчик умер, товарищи его - маляры той же артели - попросили его взять все дело на себя, чтобы они могли продолжать по-прежнему спокойно работать. Все они были связаны между собой каким-то родством. В горячее время Соколов надевал на себя передник и брал в руки малярную кисть. Был он малограмотный, писал ужасные "щета", разобраться в которых никто, кроме него самого, не мог. Писал он плохо, но работал хорошо, никогда никого не обманывал, капитала не нажил. Случилось так, что на каком-то подряде он напоролся на жулика, - и этот добросовестный человек, прогорев в пух и прах, обратился в первоначальное состояние - опять стал простым маляром.
В доме всегда можно было видеть и высокого плотного старика в старой военной фуражке, в поношенной одежде {59} явно с чужого плеча и в сапогах с истертыми голенищами.
Кто он был, откуда появился - никто так никогда и не узнал. Звали его просто Василием. У него, бедняги, ни комнаты, ни угла не было, жил он только на случайные заработки: кому уложит дрова в подвал, кому поднесет что-нибудь - тяжелый чемодан, сходит за водкой, если его пошлют, вообще оказывал разного рода мелкие услуги даже дворникам и прислуге, однако никогда не был их конкурентом в получении чаевых. Если он видел, что хочет заработать дворник, он тактично отходил в сторонку. Говорили, что он не имеет паспорта, что нигде не прописан, ходили слухи про его якобы темное прошлое.
Летом он ночевал на сеновалах или в сарайчике на вениках при бане, зимой же находил себе ночлег либо в кочегарке, либо в дворницких. Человек он был незлобивый, ни с кем не ссорился, все в доме относились к нему снисходительно, полиция его не трогала, вид и возраст не возбуждали подозрения околоточного. Жильцы его подкармливали, давали ему старую одежонку. Так он и жил, как "птица небесная". Исчез он как-то незаметно, неожиданно, никто не мог сказать, куда девался человек, через два-три дня о нем и забыли.
* * *
Как сказано было выше, домовладения Тарасовых не ограничивались описанной группой домов. Тарасовым принадлежала богадельня на Охте. Дед Тарасовых женился на дочери богатого купца, красавице Анастасии, и получил в приданое миллион. Через месяц после свадьбы молодая жена умерла. Тогда ее муж по своей купеческой спеси сделал гордый выпад, который поразил всех толстосумов: возвратил этот миллион отцу покойной жены, заявив, что он не считает возможным воспользоваться этими деньгами, так как был женат всего один месяц. Папаша умершей, такой же "гордый" купец, не принял этого миллиона, сказав, что наследником после умершей жены является Тарасов и что чужих денег не берет. Так они перекидывали этот миллион несколько раз. Наконец вдовец нашел выход, который мог удовлетворить обе стороны, не задевая их самолюбия; он сказал строптивому тестю: "Деньги пойдут ни мне, ни тебе, а богу", построил богадельню на Охте и положил капитал на ее содержание. Эту богадельню он назвал в честь своей любимой безвременно умершей жены Анастасиинской. В богадель-{60}не содержалось 100 человек: 50 стариков и 50 старух, все они были уроженцами Охты 11. Это должно было напоминать о том, что предки Тарасовых, вывезенные из Костромы для постройки кораблей, были поселены Петром I на Охте.
Богадельня занимала громадный участок земли с двухэтажными каменными постройками и церковью хорошей архитектуры. При богадельне был большой сад и огороды с парниками. В то время, о котором мы пишем, богадельней заведовал прогоревший гостинодворский купец Калошин, которого Тарасов устроил смотрителем богадельни. Это был красивый, величественный старик, добродушный, вполне смирившийся со своим положением, сохранивший живость ума и природный юмор. Он умело командовал своей сотней стариков и старух, подчас капризных и глупых, с неуместными претензиями, и мог любую склоку обратить в шутку. Это создавало в богадельне хорошую, спокойную атмосферу. В богадельне была традиция, появившаяся при смотрителе Калошине,- по воскресеньям пеклись пироги с мясом, а в посты - с рыбой и грибами, гречневою кашей. Старики и старухи, спасаясь, как бы не было обмана в порции, доверяли резать пироги только одному Калошину.
Надо признать, что содержание призреваемых было хорошее, купцы старались не ударить лицом в грязь, ведь рядом была богадельня Елисеева. Одним были недовольны жители богадельни - на руки им выдавали только рубль в месяц. Но из этого они находили выход: рядом было кладбище, любители выпить или полакомиться, которым не хватало этого рубля, просили там милостыню.
Сами Тарасовы не считали для себя пристойным управлять всем своим имуществом и входить в повседневные дела. У них был управляющий, доверенное лицо - Андрей Иванович 12. Это была колоритная фигура: громадного роста, мужественного вида, умный и добрый человек, он спокойно и со знанием дела управлял всем хозяйством. Контора его состояла из его самого и конторщика Степана, изуродованного, горбатого парня, которого злые люди прозвали Квазимодо. Не избежал прозвища сам управляющий, его прозвали Гарибальди, и действительно, он напоминал Гарибальди, когда летом ходил в широкополой шляпе и коротком пиджаке. Гарибальди служил у Тарасовых долго, снискал себе уважение начиная от дворников и кончая самим хозяином. Уважали его и жильцы, и все, кто с ним соприкасался {61}
Хозяйство Тарасовых имело несколько патриархальный оттенок. Жизнь требовала уже других форм домохозяйства и управления им, что и вводилось в последние годы в Петербурге.
Строились доходные дома европейского типа, с центральным отоплением, лифтами, ванными комнатами и даже своими телефонными станциями. Дома росли вверх, выгадывался каждый аршин территории, все больше и больше возникало дворов-колодцев. Управляющий Тарасовых предлагал им перейти на более современное домовладение, застроить большие дворы доходными домами, снеся все мелкие постройки, использовать каждый кусочек территории, но богатые престарелые хозяева не нуждались в деньгах, они стремились спокойно дожить свой век и не пошли на это.
ЖИТЕЛИ ДОХОДНОГО ДОМА
На предыдущих страницах читатель познакомился с примером старинного, несколько патриархального домовладения, которое постепенно уже на наших глазах уступало место другому типу хозяйств, более соответствовавшему новому городу, развивавшемуся в сторону торгово-промышленного уклада жизни. Это выразилось в строительстве доходных домов, с неслыханной быстротой выраставших по всем улицам центральной части города. Такие дома были рассчитаны на сдачу внаем квартир и обладателям больших средств, и людям более скромного достатка, и даже служащим с весьма ограниченным бюджетом. В таких домах были квартиры различной стоимости, различного качества. Поэтому это был конгломерат разнохарактерных, не смешивающихся между собой съемщиков, объединенных лишь интересами территориальными и бюджетом. Другой тип доходных домов был рассчитан на жильцов с достатком, требующих квартир со всеми удобствами, имеющих часто выезды или даже автомобили и не заинтересованных в близости к местам служб, а стремящихся к общению с себе равными по имущественному положению. Там квартиры были все одинаково благоустроены, отличались лишь величиной или расположением окон - на запад, на юг, на восток - да по этажам. Такие дома вырастали на Каменноостров-{62}ском, на Больших проспектах Васильевского острова и Петроградской стороны, на Фонтанке, Мойке - словом, по всему городу. Здесь уже подвизались такие крупные архитекторы, как Лидваль, Щуко, Белогруд, задача которых была объединить традиции города - "строгий, стройный вид" с требованиями новой, деловой жизни, что им вполне удалось - новый стиль придал городу европеизированный характер.
Один из авторов, будучи студентом, проживал в первом типе доходных домов и поэтому наблюдал жизнь самых разнообразных семей, разных сословий. Этот дом был построен в 1910 году на месте двух небольших деревянных домиков, снесенных энергичным подрядчиком, на углу Забалканского проспекта и Таирова переулка 1. Двор был настолько тесен, что никаких подсобных помещений не было - ни сараев, ни дровяников, поэтому дрова завозились подводами со складов и тотчас разносились дворниками по квартирам, что создавало в них неуютную атмосферу и мусор. Вот как образовывались дворы-колодцы 2: дом этот имел 7 этажей, соседний тоже был высок, так что квартиры, выходившие на двор, были полутемными 3. В нижних этажах помещались магазины, на вторых - конторы. С третьего до мансарды 4 шли квартиры, чем выше, тем дешевле, на улицу выходили окна только одной стороны дома.
В доме были лифты и телефоны, но только внизу, поэтому верхних жильцов вызывали для разговора в контору. Тот же швейцар поднимал жильцов в лифте, за что каждый платил по 2 рубля в месяц.
Невольно съемщики квартир одного и того же этажа оказывались близки по жизненному укладу. Так, жители мансардного этажа, где было 3 квартиры, были люди средней руки: там жила семья приказчика, семьи военного фельдшера и портного. Всем им было накладно платить 35 рублей в месяц за квартиру, поэтому они сдавали одну из трех комнат студентам Института инженеров путей сообщения, который находился поблизости. Если жил один студент, он платил 16 рублей, если жили двое - 20. На обязанности квартирохозяев лежала уборка комнаты с натиранием пола и кипяток утром и вечером. Все они были, конечно, люди с разными привычками и своими особенностями сообразно профессии. Приказчик придавал большое значение наружности - одевался по моде, был чисто выбрит, надушен, что часто заменяло телесную опрятность. Относился к жене свысока, {63} выдавая ей деньги на день, требуя отчета. Похаживал с другими приказчиками в театр, жене и дочери давал деньги только на кино. С людьми по положению выше стоящими разговаривал угоднически, раскланиваясь и прибавляя - привычка магазина - к словам "с": "Так точно-с", "С добрым утречком-с!"
Военный фельдшер, с утра до вечера принимая больных, лечил от всех болезней главным образом приказчиков Сенного рынка. Был весьма самоуверен и, в душе завидуя врачам с образованием, говорил, что основное в медицине практика, а не теоретические знания, за которые профессора "зря дерут с больных большие деньги". Тем не менее он не запрещал своим пациентам называть себя профессором. Жили они с женой скучно и копили деньги.
Самым многосемейным и приятным в общении был третий жилец, портной. Скромный работящий человек, очень начитанный и по убеждению толстовец. Он шил на дому верхние дамские вещи от магазина-ателье Страубе, помещавшегося на Морской. Ателье было модное, заказчицы состоятельные и капризные. Из магазина ему приносили выкроенные заготовки с рисунками фасонов. Заказы он выполнял точно в срок, и в этом часто ему помогали дети, ученики школ. Рабочий день этого труженика начинался рано - уже в 6 часов он сидел на своем громадном портновском столе и что-то напевал себе под нос. Можно было иногда различить какую-нибудь арию из оперы. Он шутил, слезая в 12 часов ночи со стола: "Да здравствует 18-часовой рабочий день!" Он считал необходимым летом вывозить семью на дачу, сам же оставался в городе и работал. Иногда ходил слушать оперетту в сад "Буфф". Собеседник он был интересный, со своеобразными взглядами,- считал, например, что думать можно только при шитье. Все эти три семьи меж собой почти не общались.
Этажом ниже мещанская семья из пяти человек снимала квартиру за 40 рублей, явно не по средствам: глава семьи, мелкий служащий, получал маленькое жалованье. Приходилось экономить каждую копейку, чтобы дети были одеты "не хуже других". Как "другие", родители хотели отдать детей в гимназию - значит, платить 60 рублей; возникало много неразрешимых вопросов. Приходилось унижаться, где-то выискивать дополнительные заработки, идти на всякие ухищрения, только бы не отстать от каких-нибудь Н. Н., которые сами-то тянулись за более состоятельными. Мать рыскала по городу по дешевым {64} распродажам, переделывала, перелицовывала старое. Для поддержания необходимого знакомства надо было иногда принимать гостей; старались и здесь с угощением не ударить в грязь лицом, выходя при этом из возможностей бюджета. А главное - скрыть свое недостаточное состояние от взоров других. Внушали лицемерие и детям: не брать при гостях лишнее яблочко, при этом делать вид, что сыты и ничего не хотят. Неотступно головы этих людей сверлила мысль скрыть прорехи. Старшей дочери "на выданье" внушалась мысль, что от ее брака зависит возможность исправить материальное положение семьи. Девушка привыкала к этой мысли и сама искала себе "подходящего", т. е. пусть старого и нелюбимого, но побогаче. Так возникали несчастные браки.
Без зависти и лжи протекала жизнь другой семьи, ютившейся в невзрачной квартирке во дворе, состоящей из комнаты и кухни. Отец семьи, слесарь на Варшавском вокзале, зарабатывал примерно столько же, сколько глава только что описанной семьи, но его девиз был: "По одежке протягивай ножки". Добросовестный мастер и серьезный человек. Его дочь, работница на заводе "Треугольник" (отчего от нее попахивало резиной), приучилась в рабочей среде держаться независимо и, несмотря на протест родителей, вышла замуж за полюбившегося ей парикмахера. Отец не благоволил к будущему зятю: с его точки зрения, занятие парикмахера не настоящая работа и вообще это народ ненадежный. Друзья его утешали: "Ничего, дочка твоя в обиду себя не даст, она его еще скрутит".
Их слова оправдались в дальнейшем полностью. Парикмахер вел себя исправно, через некоторое время вошел в пай к своему товарищу по парикмахерской, стал одним из хозяев.
Владельцами средних этажей с большими, благоустроенными квартирами были главным образом купцы.
В Петербурге купечество, куда входили владельцы домов, торговых заведений, фирм, подрядчики, всякого рода поставщики, было большой силой. "Серых" купцов в наше время уже было мало, времена героев Островского миновали. Купцы были теперь в большинстве случаев образованными людьми в своей области, кончали коммерческие училища - Екатерининское, Петровское, а дети их поступали уже в университеты, в институты, учились музыке, языкам. Родители старались выдать замуж своих дочерей за чиновников, офицеров, роднились таким образом с дворянами 5. {65}
Быт в этих семьях был своеобразным - терял постепенно черты прежнего купечества, но и не получил еще внешнего лоска аристократии, к которой тянулись.
Типичным образцом такой семьи была семья подрядчика О., жившего в нашем доме в третьем этаже. (Вскоре он переехал в фешенебельный район - на Сергиевскую, - в свой собственный дом, заняв целый этаж.)
Крупный подрядчик О. вел большие строительные работы и имел несколько домов в Петербурге. Семья большая, но прислуги он держал немного, часть работ по дому выполняли дочери и разные приживалки. Обстановка в квартире была солидная, добротная, уже без всяких модных вывертов и купеческих архаизмов вроде золоченой мебели. В кабинете хозяина в стену был вделан несгораемый шкаф, который говорил о том, что О. воротил крупными делами. Он был большого роста, с бородой, дородный, осанистый, в свое время кончил Екатерининское коммерческое училище и имел звание коммерции советника и почетного гражданина Петербурга. Два старших сына учились в университете на математическом факультете, третий после окончания гимназии пошел в драгунский полк вольноопределяющимся. Обе дочери кончили гимназию. Жизнь в доме шла размеренно, по-деловому. Сам О. был очень занят, ездил по работам, в банки, заключал сделки, проверял рядчиков, десятников, составлял счета, проверял сметы. Дома ему приходилось подолгу сидеть у себя в кабинете и работать. В обычные будние дни в доме было тихо, скучновато, все занимались своими делами. Стол у них был самый простой, без всяких деликатесов. Молодежь в церковь не ходила, самому приходилось, так как он был старостой в одной из близлежащих церквей. Молодежь интересовалась театрами, концертами, ходила на балы, не отставала от обычной столичной молодежи зажиточного слоя. Автору довелось побывать в этом доме. Когда наступали праздники и семейные торжества, собиралось много гостей, хозяева умели их принять богато и радушно. Гости говорили о делах и политике. Люди были солидные, что называется, "с весом" в прямом и переносном смысле. Фраков было мало, большинство сюртуков. "Матроны" купеческого звания, разодетые по случаю праздника, несли на своих дородных шеях тяжелые золотые цепи с громадными кулонами и медальонами с драгоценными каменьями. Золото и дорогие камни выставлялись напоказ, подчеркивая благосостояние семьи. Собиралась молодежь, в большинстве учащиеся - студенты, товарищи сыновей хозяина, ба-{66}рышни - подруги дочек. Курсисток среди них почти не было в этом кругу считалось, что удел девушки - выйти замуж за "хорошего" человека, иметь свой дом и семью. Под словом "хороший" разумелось, что этот человек должен быть в первую очередь состоятелен, деловит, иметь связи в обществе, служебное положение. Среди гостей были и люди с малым достатком, зависимые от хозяина, некоторые даже и незваные, считавшие своим долгом прийти с поздравлением. Хотелось им покушать и выпить. Держали себя эти гости скромно, в разговор сами не вступали, больше поддакивали и соглашались с мнениями "солидных" людей. Когда все гости собрались и попили чайку, начиналась отчаянная игра в карты, игры были только азартные, процветали "железка", польский банчок, "двадцать одно", знаменитая "стукалка" с ее тремя ремизами. За дамскими столами играли в "девятый вал", менее азартную игру.
А что делала в этом доме молодежь? Сначала она пыталась потанцевать, наладить разные игры, успехом пользовались шарады, требовавшие артистизма. В квартире был большой зал, всегда приглашался тапер, казалось бы, молодежь должна по-молодому и развлекаться. Но зараза азартной карточной игры не миновала и их: вскоре они рассаживались по столам и начинали играть в карты. Только небольшая кучка молодежи продолжала искренне веселиться, шутить, вести интересные разговоры, делиться впечатлениями.
В описываемое нами время азартная карточная игра в Петербурге была каким-то поветрием: играли в клубах, в богатых домах, играли в средних и бедных семьях, играли в вагонах дачных поездов, и на окраинах города, и во дворах 6. По-видимому, многие были заражены жаждой легкой наживы.
Часов в 12 подавался первый ужин. Начинался ужин обильными закусками: икрой, семгой, копчеными сигами, всевозможными деликатесами. Привлекала внимание громадная осетрина или лососина на мельхиоровом блюде с разнообразным гарниром, с приколотыми по хребту особыми красивыми шпильками вареными раками. После закуски подавались обычно два горячих блюда рябчики, куропатки, индейки, что-нибудь еще рыбное или мясное.
В заключение десерт - пломбиры, фрукты. Все это обильно заливалось всевозможными водками и винами. Такой стол был приготовлен для солидных, почетных гостей. Для менее почетных и для молодежи стол тоже был {67} хороший, но уже не тот: вина подешевле, дорогих закусок поменьше.
После ужина опять садились за карты. Теперь начиналась самая настоящая крупная игра. После сытного ужина и выпитого вина сдержанность уменьшалась, толстосумы старались показать свое денежное величие. Но даже во время азарта каждое слово взвешивалось этими деловыми людьми, потому что и за карточным столом нужно было проявить себя человеком сдержанным и умным, с которым можно вести дела.
Другие карточные столы тоже "работали вовсю", только игра там шла помельче, а азарта было и побольше. После ужина танцы иногда и возобновлялись, но быстро кончались. Все предпочитали танцам карточную игру. Если две-три пары хотели потанцевать, всегда находился человек из гостей, который умел играть танцы. В это время гостей обносили кофе с ликером, коньяками, угощали чаем с тортами, предлагали шоколадные конфеты. Часам к шести утра собирался второй ужин, в общем повторение первого, но гости, усталые, "поработавшие" здорово за карточными столами, выглядели сонно, не проявляли ко второму ужину того интереса, который был при первом. Разговоры велись другого порядка: какие предстоят деловые встречи, вспоминали промахи за карточным столом, острили и подсмеивались над неудачником, благодарили хозяев и вскоре разъезжались, оставляя усталых хозяев и сбившуюся с ног прислугу.
Подобных домов в Петербурге было немало. Отцы учили своих сыновей "уму-разуму": как "делать деньги", составить состояние, для чего надо уметь хитрить, обманывать, поступаться своей совестью. Но сыновья редко выполняли наставления отцов - одни из них только проживали отцовские денежки, а другие выбирали себе совсем иной путь, становились врачами, адвокатами, инженерами. Девицы выходили замуж. В описываемом доме старшая дочь не засиделась в девках, как говорили, потому что была хороша собой, и даже составила хорошую партию с точки зрения родителей, т. е. вышла за правоведа, войдя таким образом в аристократический дом. Со стороны родителей молодого человека препятствий не было, хотя еще лет 10 назад такой брак, может быть, и считался бы мезальянсом 7.
Обряд венчания происходил в церкви, где отец был, старостой, поэтому все богослужение совершалось особенно торжественно. Певчие старались, хор большой, все паникадила горели. Съезд был большой, приезжали все {68} в каретах. Невеста с фатой, с флёрдоранжем, в белом платье с длинным шлейфом, жених - во фраке, как и его товарищи-правоведы, военные - в полной парадной форме.
После венчания кареты понеслись к дому невесты. Молодожены и гости были встречены оглушительными звуками военного оркестра, никаких слов слышно не было, видны были только радостные лица, открытые рты, пытающиеся перекричать оркестр. Никаких старинных обрядов вроде встречи с хлебом-солью, обсыпания хмелем, подстилания ковриков и наблюдения, кто первый, жених или невеста, вступит на коврик, не было.
Столы были накрыты в зале - для почетных гостей, в столовой и малой гостиной - для остальных. Под звуки оркестра публика начала рассаживаться, занимать свои места по именным карточкам, вложенным в бокалы. Хотя свадьба справлялась дома, торжественный обед и все угощение были заказаны в ресторане, который привез свои столы, всю сервировку, столовое белье. Всем командовал метрдотель, обслуживали официанты, на кухне действовали повара все из того же ресторана. Гости были рассажены с учетом родственных отношений, положения в обществе и главным образом богатства.
Торжественный свадебный обед начался тостом за счастье и здоровье новобрачных. Метрдотель, на обязанности которого лежало на купеческих свадьбах и произнесение тостов, громовым голосом, перекрывая весь шум, поспешил прочесть по записке тост за здоровье родителей невесты. После каждого тоста музыка играла туш, гости кричали "горько", но молодые не целовались, а почтительно, с достоинством кланялись гостям. Торжественный свадебный обед продолжался несколько часов. Обед обильный, изысканный, шампанское и дорогие вина лились рекой, с каждым тостом гости хмелели все больше и больше, а тостов было бесконечное число - они произносились не только за новобрачных и их родных, но и за всех почетных гостей, а таких было немало.
Под конец обеда публика вела себя вольнее, некоторые даже слишком свободно. Аристократы и те потеряли свою особую сдержанность и некоторую напыщенность.
После обеда начались танцы, более солидная публика села за карточные столы. Танцами дирижировали правоведы на чистейшем французском языке 8, оркестр гремел. Вальс сменялся падекатром, танцевали падеспань, паде-{69}патинер, мазурку, краковяк, падезефир, польку. Бал открыли молодожены, они прошли первый вальс, а затем молодой завладели правоведы и никому другому с ней потанцевать не удавалось. Хозяин дома и его молодой зять обходили гостей, оказывали им знаки внимания и следили за тем, чтобы никто не скучал и все угощались.
Часам к 10 вечера гостей пригласили к ужину, молодые были переодеты в дорожные костюмы. Последние прощальные тосты и напутствия - молодые уезжали в свадебное путешествие. Братья невесты и некоторые правоведы, товарищи молодого супруга, поехали в каретах провожать молодых до Варшавского вокзала, откуда они уехали за границу. После проводов и возвращения провожавших опять началось пиршество. Гости еще долго сидели за ужином, потом опять играли в карты, танцевали и веселились. Только мать молодой часто подносила платок к глазам и тяжело вздыхала. Все ее утешали, говоря, что дочка вышла замуж хорошо и будет счастлива. Она верила этому, но все же плакала: любимая дочь навсегда ушла из семьи.
Несмотря на все усилия тянуться за аристократией, купечеству это мало удавалось, думается, потому, что в дворянских семьях уклад определяли древнейшие традиции, осилить которые буржуа еще не могли.
Одному из авторов довелось побывать, правда, не в петербургской квартире, но в имении одной из богатых, очень интеллигентных аристократических семей. Обстановка и уклад там мало отличались от городского. Приведем выдержку с описанием пребывания в этом доме из воспоминаний автора:
"На почве увлечения Толстым, что было распространено среди студентов Петербурга, как и в других городах, я сошелся с молодым человеком, чуть старше меня, сдававшим экзамены при Университете, историко-филологическом факультете, экстерном. Таких было много, и я не задавался вопросом, кто готовил его к сдаче трудных экзаменов (их опрашивали строже нас). По обхождению с нами, поведению и интересам он не отличался от ординарных студентов, разве что манеры были изящнее и начитанность бoльшая, что объяснялось легко профилем его гуманитарного интереса. Как-то при расставании на каникулы он пригласил меня приехать ранней весной к "нам в деревню", как он выразился, заманчиво описав местность с озерами. Я охотно согласился. Договорившись с учениками, которых репетировал, о сроке при-{70}езда в город, я направился по железной дороге до станции Академическая Тверской губернии.
Только когда я вышел на этом полустанке и увидел изящное ландо и в нем моего друга, я понял, что это была за "деревня", и почувствовал себя Базаровым возле молодого Кирсанова. Мой друг и выглядел более щегольским, чем в скромном доме, где мы встречались в Питере. Я как-то смутился и оробел. Что будет? Но это были какие-то минуты,- прелестный ландшафт по сторонам дороги, быстрая езда, аромат полей и каких-то перелесков и, главное, непринужденная, веселая болтовня моего друга развеяли сомнения. Вот уже традиционная березовая аллея, в конце которой чуть видится дом; небольшой круг перед ним с ватагой собак, приветствующей виляньем хвостов,приехали. Мой маленький чемоданчик передан служивому, какие-то распоряжения. "Пойдем в сад до обеда, гонг нас позовет". Некоторая отсрочка появления в доме меня вполне устраивает, бежим. Дом стоит на не очень высоком берегу (вся местность низкая), фасадом смотрит на озеро. Широкая лестница, окаймленная по бокам полосами роз, ведет к пристани, у которой покачивается яхточка. "Потом покатаемся, а теперь - к моим любимцам лошадям". Бежим по аллеям сада-парка, ухоженного умелой, заботливой рукой садовника, который и сейчас копошится в цветах. Сережа с ним приветливо здоровается. Мимо теннисного корта, где лениво перебрасывается пара, больше занятая разговором, чем игрой. Реплика: "Плохо играют!" Дальше через красоту, в которой хочется остановиться, вдохнуть ее полной грудью,- нет, дальше бежим в конюшни, и здесь наконец остановка, и надолго,- это Сережино увлечение. С интересом слушаю разговор с конюхом и любуюсь великолепными животными, не меньше ухоженными, чем розы в саду. Обратно - слышен гонг бежим другим путем, мимо фруктового сада, оранжерей, опять аллеями уже с другими деревьями и другими цветами, чтобы подойти к дому с тыла и попасть сразу в ванную комнату для приведения себя в порядок перед обедом.
С трепетом вхожу в дом. Но что это? Там так уютно, роскошные вещи так приспособлены служению людям, так все стоит на месте, кресла протягивают вам подлокотники, приглашая сесть, шкура белого медведя разостлана, чтобы окунуть в ее шерсть пальцы, к тому же на ней бесцеремонно растянулась собака, все так искусно устроено для удобства, уюта, а не напоказ, что роскоши не замечаешь, она проста. Не блестят на столе серебряные су-{71}харницы, потемневшие от древности (чистить не приказано), не блестит старинное золото на кольцах дам, блестят только белоснежная скатерть да салфетки. Вокруг стола - приветливые лица хозяев и гостей. Мать Сережи, обратившись к сыну по-английски, как обычно, сразу же переходит, видя мое смущение, на русский - я представлен как друг Сережи всем присутствующим. А подойти мне предлагается только к его бабушке, худенькой старушке в черном, с наколкой на темени, протянувшей для поцелуя свою маленькую ручку с такой приветливой улыбкой, что я свободно вздохнул, оглянулся на всех, и вся оторопь вмиг куда-то слетела, осталось ощущение свободы и радостного дыхания от доброго чувства к Сереже и ко всем его близким.
А вечером, лежа в постели и вдыхая аромат ночи через открытое окно, припоминаю весь насыщенный интересным времяпрепровождением день: "Гармония!" - и да, и нет; нет, что-то мешает, но что?! Перебираю в памяти все подробности, ищу... и вдруг... даже вслух назвал то, что лишнее, лишнее, несмотря на кажущуюся нужность,- "лакеи!", да, они, они нарушают гармонию. Не садовник, любовно перебирающий растения, не конюх, ласковой рукой похлопывающий своих любимцев по крупу, и даже не кучер, гордый за свой выезд, а именно лакеи - люди, к которым не обратилось ни одно ласковое слово и даже взгляд, так щедро расточаемый в общем разговоре... И уже мои мысли привычно обращаются к мудрому старцу, оставившему, правда, не такую роскошь, но все же такой жизненный уклад. "Но как же быть с красотой? Разве она не нужна?.." - засыпаю с этим вопросом на губах".
И все же общее впечатление у нас сложилось такое, что грани между аристократией, интеллигенцией и богатыми, но неродовитыми людьми в описываемый период уже не было. Некоторые аристократы, как показывает наш пример, роднились с семьями богатых просвещенных купцов, банкиров, крупных инженеров, ученых из разночинцев или из духовного звания. Аристократы, прожившие свои состояния и имения, смешивались с разночинцами-интеллигентами, как-то: с врачами, адвокатами и пр. Были случаи, когда некоторые вступали в коммерческие предприятия, акционерные общества, куда их охотно принимали даже без капиталов, так как в интересах дела (например, для фирмы) выгодно было привлечь людей с громкими именами какого-нибудь разорившегося князя, барона, графа. {72}
В Петербурге жило много отпрысков родовитой, старинной аристократии, но большинство из них были уже небогаты. Почти все они состояли на государственной службе в разных министерствах, преимущественно в военном, иностранных дел и императорского двора. Далеко не всегда занимали они там высшие должности, довольствовались и скромными, лишь бы была поддержка, родня среди высших чинов этого министерства, была бы перспектива.
Заметно намечалось деление аристократии на две группы: одна - меньшая - была совершенно "верноподданной", с умилением взирала на "обожаемого монарха", считала существующий строй справедливым, не подлежащим никаким изменениям, осмеливалась осуждать, конечно, весьма почтительно, верховную власть только за те уступки, которые ей приходилось делать после 1905 года, например учреждение Государственной думы, что они считали вредной уступкой "левым". Другая, более многочисленная, группа сознательно или бессознательно играла в либерализм, критиковала существующие порядки, учреждения, которые, по ее мнению, отжили свой век, например какой-нибудь департамент Правительствующего Сената, критиковала министров, обряды и порядки православной церкви, но, конечно, эта критика не сопровождалась какими-нибудь действиями, члены этой группы оставались совершенно лояльны. Верноподданническая аристократия тянулась ко двору, кичилась своим положением и происхождением, была заражена снобизмом, сторонилась людей не своего круга. Либеральная часть аристократии постепенно освобождалась от сословных предрассудков, общалась с неродовитой интеллигенцией, уклад жизни тоже мало отличался от типично интеллигентных семей. В обхождении между собой, представителями других классов и даже с прислугой они были просты, деликатны, безыскусственны. Снобизма и зазнайства у них не было. Дети их не стремились обязательно в привилегированные учебные заведения, а поступали в университет, в специальные высшие учебные заведения, особенно в те, окончание которых сулило интересную и доходную деятельность, например в Путейский или Горный институты. Девушки этой группы аристократии стремились получить высшее образование, поступали на Бестужевские курсы или в женский Медицинский институт.
Бывали случаи, когда отдельные представители этой молодежи порывали со своим классом, стремились жить {73} на свои скромные заработки и даже примыкали к революционному движению.
Между представителями этих групп аристократии нередко проявлялся некий антагонизм. Нам стал известен такой эпизод: "молодые" поехали с послесвадебными визитами к своей родне. Он только что окончил Александровский лицей 9, она - Смольный институт 10, оба - представители старинных аристократических фамилий. Он более передового направления, чем она. Приехали к двоюродной тетке, старухе кичливой и старомодной, ранее у которой почти не бывали. Разговор как-то не клеился. Тетка, гордившаяся своим происхождением и тем, что она старшая в роде, откинувшись в кресле, подчеркнуто важно спросила "молодого": "Что-то я запамятовала, какой у вас герб, напомните!" Не замедлил ответ: "Как же можно не помнить, ma tante 11, на зеленом поле овечий хвост!" Ответного визита из этого дома не последовало.
ОБИТАТЕЛИ НОЧЛЕЖЕК
И СИРОТСКИХ ДОМОВ
Петербург был разнообразным сочетанием самых крайних категорий жителей - от знатных, богатых, занимавших одной семьей целые особняки, до ужасающей бедноты, ютившейся в подвалах или даже не имевшей совсем пристанища.
В начале XX века в столице официально числилось 25 тысяч нищих. Была целая категория домов, заселенных людьми, вышибленными из обычной жизненной колеи, опустившимися "на дно". Такими домами была полна так называемая "Вяземская лавра", красочно описанная В. Крестовским в романе "Петербургские трущобы" 1. Лавра эта находилась в начале Забалканского проспекта. Мы застали Вяземскую лавру уже на спаде, вернее, в период ликвидации 2. На этом участке по Забалканскому проспекту шел длинный высокий деревянный забор, выкрашенный темно-бурой краской. У ворот будка с дежурным дворником. За забором целый ряд ветхих деревянных домов, в которых жила беднота в страшно антисанитарных условиях. Среди жителей, действительно несчастных бедняков, было немало хулиганов. Поэтому вечером обыватели опасались проходить мимо лавры. {74}
Когда-то расположенная на окраине города, она в конце XIX века оказалась почти в центре и сделалась совершенно нетерпимой. Решено было ее ликвидировать: все эти ветхие домики сломали. По Забалканскому проспекту выстроили два больших дома 3, площадь внутри участка отдали под склады, а позже, уже в советское время, под рынок. Жители лавры переселились на окраины города, за Обводный канал, большей частью во вновь выстроенные каменные дома с маленькими дешевыми квартирами. Заселены они были, разумеется, без всякой нормы. Здесь было много угловых жильцов: хозяйчик снимал квартирку и сдавал бедноте углы, в одну комнату - несколько семей 4. Большинство таких несчастных были люди, забитые нуждой, скромные, всех и вся боящиеся. И на таком фоне выделялись грубые, самоуверенные фигуры, большей частью пьяницы, которые властно и свысока относились к своему же брату и прямо терроризировали их. Такие люди создавали этим домам недобрую славу. Особо печальной известностью пользовались среди подобных домов "Порт-Артур" и "Маньчжурия" в конце Смоленской улицы, "Холмуши" на Боровой, за Обводным каналом, и "Петушки" за Волковым кладбищем. Около этих домов и в квартирах часто возникали драки, скандалы, всегда были пьяные. Сами названия "Порт-Артур" и "Маньчжурия" показывают, что они возникли в годы русско-японской войны. Если подле трактира или чайной поднимался скандал и дело доходило до драки, прохожие говорили: "Опять портартурцы воюют". Или: "Опять "Маньчжурия" дерется". Эти ходячие выражения оскверняли память русских воинов, погибших в русско-японскую войну, но, к сожалению, они бытовали. Нам пришлось познакомиться с бытом таких домов, так как мы уже студентами участвовали в их обследовании. Бледные дети, истощенные женщины, пьяные мужчины, разухабистые девицы легкого поведения - вот кого можно было видеть в этих домах. Вечером дом шумел: играли на гармониках, пели пьяными голосами, шла картежная игра, ссорились. Воры возвращались с промысла, тут же скупщики краденого - портные тотчас перешивали до неузнаваемости украденное пальто или пиджак. Меховой сак немедленно перешивался на шапки, перешитые вещи продавались на толкучках. Жалко было смотреть на этих людей, отвыкших от трудовой жизни, соблазнившихся на легкую жизнь, проводивших время в попойках, карточной игре, в каком-то угаре. Еще грустнее было смотреть {75} на детей, которые видели всю грязь этого ненормального быта.
В каждом из таких домов были знаменитости-коноводы. В "Петушках" проживал Костя Хромой, известный хулиган, которого все боялись. Это был молодой, здоровый парень, хромавший на одну ногу (говорили, что сломали ее во время драки). Все знали, что он носил за голенищем нож. Он был страшно самоуверен, говорил небрежным тоном, ему старались подражать. Чем он жил, неизвестно. Поговаривали, что он грабил на кладбище запоздалых посетителей.
В "Порт-Артуре" командовал Сенька. Это был мужик лет сорока, с подвязанным подбородком (у него была какая-то незаживающая болячка). Он буквально терроризировал население "Порт-Артура": проходя мимо, он мог ни за что стукнуть кулаком по лицу или дать по шее. Никто не смел дать ему отпора, кулак у него был очень тяжелый. Он мог неожиданно потребовать: "Дай на сороковку!" Отказать ему было опасно. Вокруг себя он группировал таких же негодяев. Жил он всевозможными вымогательствами и обманами, а также занимался скупкой краденого, причем часть денег не отдавал, ограничиваясь поднесением кулака под нос.
Для лиц, не имевших действительно "где голову приклонить", в столице существовали ночлежные дома. Мы познакомились с одним из них. Вот его предыстория: по Забалканскому проспекту сразу за городскими бойнями до Новодевичьего монастыря (с правой, нечетной стороны улицы) была громадная свалка. Сюда вывозили навоз, мелкие отбросы и пр. Она занимала громадную территорию и называлась "горячим полем" 5, потому что отбросы прели, разлагаясь, курились, над полем стоял туман, зловонный и густой. Бездомные, опустившиеся люди, ворье, которому надо было скрываться, строили себе здесь шалашики, точнее, норы, в которых ночевали, подстилая под себя рваные матрасы и разное тряпье. От разложения отбросов там было тепло. Полиция делала обходы "горячего поля", разоряла их норы, арестовывала тех, кто не имел паспорта или был в чем-нибудь замешан. В санитарных целях летом, в сухую погоду, эти свалки зажигались.
Принимаемые меры борьбы с обитателями "горячего поля" не давали результатов, и тогда городская дума решила построить в этом районе ночлежный дом 6. Здесь за 5 копеек предоставлялось место для ночлега на нарах с подстилкой и сенной подушкой. За эти же деньги давался кипяток. К вечеру у ночлежки собиралась очередь без-{76}домных, плохо одетых бедняков. В ночлежке соблюдалась известного рода санитария: помещения выметались, мылись и дезинфицировались. Администрация и прислуга обращались с ночлежниками грубо: окрики, ругательства, толчки были обычным явлением. Нарушителей порядка выталкивали, спускали с лестницы. Некоторые приживались около ночлежек, кололи и носили дрова, убирали помещение, оказывали разные услуги служащим ночлежного дома. Такие люди пользовались некоторыми привилегиями: с них не взыскивали плату, они получали лучшие места, могли оставаться в ночлежке и днем, тогда как всех рано утром выгоняли и пускали только вечером. Ночевать в таком доме было неспокойно: частые посещения полиции, которая бесцеремонно расталкивала спящих, разыскивая какого-нибудь налетчика, вора.
Типичным приживальщиком на Забалканском был Мишка Косоротый: пожилой, тихий, очень болезненный человек, частично разбитый параличом. Он был услужлив, все время извинялся, боясь, что ему могут отказать в последнем пристанище. На служащих ночлежки он смотрел со страхом и умоляюще. Все его третировали, помыкали им, смеялись над ним, его прозвищем Косоротый, издеваясь над его физическим недостатком.
Наряду с таким тихим Мишкой Косоротым постоянным посетителем этого ночлежного дома был отчаянный мужик, нахал, хулиган, вечно пьяный, с громадными волосатыми кулаками, по прозвищу Бомбардир, - должно быть, когда-то служил в артиллерии. Его боялись, приказания его беспрекословно выполнялись, он посылал людей за водкой, за кипятком. Если кто-нибудь ложился на облюбованные им нары, он нагло стаскивал спящего и кричал: "Я здесь лягу!" Служащие дома его тоже опасались, а потому и терпели. Про него шел слух, что он занимался хищением из товарных вагонов. Совершенно было непонятно для посторонних, но этот громила становился послушным и тихим при визгливом окрике маленькой толстой Фроси, уборщицы ночлежки. Что здесь было - застенчивая любовь или, может быть, какая-то тайна связывала этих людей? - но в эти моменты было видно, что не все человеческое в нем потеряно.
В ночлежке было женское отделение, куда попадали совершенно исковерканные, изломанные, несчастные. Здесь картина была еще более удручающая. Для женщины попасть на такую стезю, очутиться в ночлежке - это была полная катастрофа. {77}
Была там знаменитая Верка-Арбуз, получившая свое прозвище за малый рост и большую полноту. Это был настоящий атаман в юбке, она командовала такими же женщинами, совмещая в себе проститутку, воровку и налетчицу. На ее искривленных пьяных, губах висли такие ругательства, что даже аборигены "горячего поля" приходили в восторг и изумление. С администрацией ночлежки она как-то умела ладить, подсовывая им мелкие подарки. С полицией у нее также были добрые отношения, наверное, не только ради ее "прекрасных" глаз. Наряду с этим Верка-Арбуз иногда проявляла столько сердечности к своим подругам, что можно диву даваться, как в этом испепеленном человеке сохранялись еще нежные чувства. Она делилась с подругами всем чем могла, снимая иногда с себя чуть ли не последнюю рубашку. И как бы стыдясь своей слабости, не желая показать присутствующим своих нежных чувств, она неожиданно резко меняла сердечный тон на грубую ругань, на окрик вроде: "Довольно тебе реветь, как корова, такая, рассякая..." И сразу становилась прежней Веркой-Арбузом.
Петербург, громадный город с большим количеством пришлого населения, создавал условия, благоприятствующие легкости нравов: приезд на заработки одиноких мужчин и женщин или отдельно от семьи, развитие пьянства, нужда, толкающая молодых женщин на случайные связи, наличие в столице людей, "прожигающих жизнь" и ищущих различных приключений 7. В результате всех этих обстоятельств рождалось много внебрачных детей, так называемых "незаконнорожденных".
Часто бывали случаи, когда младенцев "подкидывали" - тайком оставляли в подъездах, перед дверьми квартир, в которых проживали бездетные супруги, в вагонах, на вокзалах и пр. Бывали случаи, когда совершенно посторонние люди брали таких младенцев на воспитание, усыновляли их.
Но чаще всего младенцев относили в полицию, а оттуда отправляли в воспитательный дом. Ввиду малого числа кормилиц и распространения инфекционных болезней в воспитательных домах смертность младенцев была ужасающая 8.
Ввиду переполненности воспитательных домов их администрация отдавала младенцев крестьянкам близлежащих деревень за плату 3-4 рубля в месяц. Бедной крестьянской семье это был небольшой доход, но младенцам там жилось в большинстве случаев несладко.
Самое ужасное было в тех случаях, когда подкидыш {78} попадая в руки аферисток, разного жулья, которые посредством этого ребенка выпрашивали деньги.
Почему же матери расставались со своим ребенком, зная, какая страшная участь ждет его в будущем? Надо понимать, что положение женщины, которая родила ребенка вне брака, будучи еще совершенно необеспеченной, становилось крайне тяжелым. Она мучилась от ложного стыда, часто ее выгоняли с работы, лишали крова, изгоняли из семьи. Имея на руках ребенка, она не могла найти себе места.
И вот мать, перенеся все муки и страдания, наконец решалась отнести свое дитя в воспитательный дом или подкинуть, оставив в пеленках свои слезы и записку: "рожден тогда-то, крещен, имя такое-то".
Бывали и случаи, когда мать, доведенная до отчаяния, шла на детоубийство. Совершая это тяжкое преступление, она обрекала себя на муки совести до конца дней, не говоря уже о том, что остаток жизни в большинстве случаев омрачался отсидкой в каторжной тюрьме за детоубийство.
Очень распространены были аборты, которые производились часто разными бабками в ужасающих условиях, тайком, поскольку это преследовалось законом. Нередко такие аборты заканчивались смертью матери или навсегда подрывали ее здоровье. Нельзя не заметить, что Петербург по внебрачному зачатию стоял на первом месте в России 9. (Это по официальным данным, а сколько подобных случаев не попало в статистику!)
Неудивительно поэтому, что в Петербурге было много сиротских домов, учрежденных еще Екатериной II 10. Обычно они находились при сиротских институтах, например при Николаевском сиротском институте. Был дом призрения для детей нижних почтовых служащих и пр. Часто можно было видеть, как по Фонтанке вели бледненьких девочек, шедших чинно за руки парами, в белошвейную мастерскую,- их готовили в белошвейки или кружевницы. Их облик резко отличался от благополучных детей прежде всего тем, что они были коротко стрижены, что не было принято модой. Все одинаково одеты в серые платьица на вырост и с какими-то необычными чепчиками на головах. В окно первого этажа мастерской можно было видеть их склоненные над коклюшками головы, что тогда было модно,- в мещанских домах повсюду на комодах и столиках лежали салфеточки, связанные на коклюшках. Мальчиков мы не встречали, но, наверно, и их обучали какому-нибудь мастерству. {79}
* * *
В Петербурге, конечно, гораздо меньше, чем в провинции, но все же немало было всякого рода приживалок, прихлебателей и прочих тунеядцев в богатых семьях, как купеческих, так и дворянских. Вырабатывался особый тип приживалки - лицемерной, страшной сплетницы, угодливой до приторности, с ласковым голоском и злыми, завистливыми глазами.
Обычно это были бедные, дальние родственники, примазавшиеся знакомые, а также "цветы запоздалые" - кое-кто из разорившихся дворянских семей, а то попросту случайно встретившиеся люди, сумевшие втереться в зажиточную семью. Они не научились за свою жизнь делать что-нибудь полезное. Всех их объединяло одно - лень, нежелание по-настоящему работать. Большинство таких людей были все же женщины в возрасте. Спали они обычно на диване или сундуке в коридоре, носили то, что хозяева подарят, вышедшие из моды, надоевшие хозяйке вещи. Ели вместе с хозяевами или даже на кухне, в зависимости от своего происхождения и былого положения в обществе. От всякой работы они под благовидными предлогами уклонялись: то она больна, то сегодня грех работать, она говеет, то праздник, то она торопится на кладбище помянуть мифическую родственницу. Страшными врагами таких приживалок была домашняя работящая прислуга, которая презирала их за тунеядство, доносы и сплетни, старалась чем-нибудь им досадить: налить спитого чая, дать черствого пирога. Если приживалка была более высокого положения и пользовалась до некоторой степени уважением хозяев, то месть была уже другого порядка, например - спрятать необходимую вещь, "забыть" вычистить ей обувь, прищемить ногу любимой собачонке и пр. Все это было очень мелко, но повторялось часто, а потому было больнее крупной неприятности.
Некоторые из них старались быть необходимыми и полезными в доме, учили в купеческой семье хозяев и их детей "хорошему тону" и другим премудростям высшего света. Они знали немного французский язык, бренчали на рояле, но научить языку или музыке не могли, поскольку знания их были поверхностными. Одевались такие особы с претензией, не в соответствии с обстановкой, надевали такие вещи, которые были приняты только в высшем обществе, но давно вышли из моды, остались у них от былых времен, какую-нибудь заношенную накидку с облезлым горностаем.
Но были и такие, которые довольно гармонично впи-{80}сывались в жизненный уклад семьи, особенно дворянской, где было больше, чем в купеческой, терпимости и снисхождения. Им удавалось не утратить чувства собственного достоинства, удавалось найти контакт, с одной стороны, с прислугой, с другой стороны - с хозяевами. Обычно это с детства попавшие в чужую семью или принятые сиротами из милосердия. Мы знали одну убогую (она хромала), не очень умную, но удивительно тактичную особу, которая знала, когда при гостях ей можно остаться разливать чай в столовой, а когда лучше уступить свое место у самовара и незаметно уйти. Незаменима по своей доброте она была, если кто-нибудь заболевал: никто не умел так удобно поправить подушку больному, подать лекарство. Словом, стала наконец почти необходимым человеком в доме. Затерялась шаль - "надо спросить Ольгу Ивановну", что положить для запаха в кулич - "знает Ольга Ивановна". "Ольга Ивановна, почитайте",- просят дети и потом с интересом наблюдают, как она читает и одновременно со страшной быстротой, не глядя, вяжет на спицах очередной носок, конечно, кому-нибудь в подарок. Такие особы были очень преданы своим благодетелям, и к ним относились с глубокой благодарностью и с уважением, как к своему человеку.
Были и мужчины, выбившиеся из трудовой жизни и находящиеся на положении прихлебателей. Они не жили у "благодетелей", а почти ежедневно приходили к ним пообедать, поужинать под разными предлогами - сообщить новость, передать хозяйке ноты модного вальса или романса, поднести хозяйке первые фиалки. Они были хорошо воспитаны, любезны, поношенное платье сидело на них элегантно - ведь в большинстве случаев это были промотавшиеся дворяне с пошатнувшимся здоровьем, которые тоже не умели или не хотели ничего делать.
Мы знали такого человека, пожилого, болезненного, с тонким, породистым лицом, который знал много языков, но ни одного хорошо, и который очень красиво, с небрежным изяществом умел курить чужие сигары и безошибочно узнавать их марку. Говорили, что он происходил из старинного дворянского рода, окончательно прогоревшего. Он был последним отпрыском этого рода. Жил он в убогой комнатенке у простой хозяйки, бывшей прислуги, которая презирала и третировала его. Носил он весьма поношенное платье и порыжевшую шляпу, но с умением. За глаза этого пожилого человека звали Данилушкой, проявляя в этом и снисходительность, и свое отношение свысока, как к человеку слабому. {81}
Однажды ему подвезло в его незавидной жизни: один состоятельный человек собрался за границу, но языков не знал. Ему указали на Данилушку, который много раз бывал за границей и знал, куда поехать и что интересно и полезно посмотреть для просвещения этого любителя путешествовать. Само собой разумеется, что у Данилушки ни копейки за душой не было. Желавший "просветиться" одел Данилушку на свой счет, купил ему все необходимое для поездки. В течение двух месяцев возил и кормил за границей этого "чичероне" и давал ему деньги на карманные расходы.
Они побывали в Германии, Бельгии, Франции, Италии и Австрии и благополучно вернулись домой - путешественник Н. с громадными впечатлениями, а Данилушка с несколько грустными воспоминаниями о прежней дворянской жизни. На него эта поездка так подействовала, всколыхнула все его прошлое, что он как-то загрустил, стал хиреть и вскоре умер, всеми оставленный. Хоронил его тот же любитель путешествий.
Подобные прихлебатели знали все семейные праздники и памятные дни в тех домах, где они бывали, дни рождений, именин, поминок. Их не звали, но они всегда приходили первыми и приносили свои поздравления или соболезнования.
Особой категорией были "просители". Мужчины и женщины ходили по знакомым, а иной раз и совсем незнакомым домам, обращались с просьбой помочь им деньгами ввиду безвыходного положения, несчастья, постигшего их, или с рассказом, что какая-нибудь бедная дама благородного происхождения воспитывает сиротку, ее нужно отдать в гимназию или в другое учебное заведение, наконец, даже выдать замуж, справить хотя бы скромное приданое. Какой-нибудь мужчина просил помочь осуществить изумительное изобретение, которое может осчастливить многих, или он написал роман с захватывающей фабулой, но нет денег для издания, либо издатели не оценили его творения. В большинстве случаев это был обман, но они были очень настойчивы и обладали способностью убедить, доказать и в конце концов выманить деньги. Это были не простые попрошайки, которые вымаливали на бедность, а люди, которые разыгрывали из себя разных благородных людей, борцов за правду и справедливость. Мы знавали такого "изобретателя", который демонстрировал модель складной кровати и убедительно просил принять участие в этом "выгодном, необходимом для человечества" деле. Его кровать имела два {82} существенных недостатка, заставлявших людей воздерживаться от его предложения. (Модель эту он вытаскивал из кармана, расставлял и давал обстоятельные объяснения.) Стоимость этой кровати получалась очень высокой. Второй недостаток заключался в том, что она была очень сложна настолько, что сам изобретатель не мог иногда ее сложить или разложить. Но он был страшно настойчив, и благоразумные люди, чтобы отделаться от этого "изобретателя", давали ему 5-10 рублей, только чтобы откупиться от него, но и этими деньгами "изобретатель" оставался доволен.
ХРАМЫ И РЕЛИГИОЗНАЯ
ЖИЗНЬ ГОРОЖАН
Картина жизни столицы была бы неполной без разговора о церкви. Всем известно, какое большое влияние имела церковь на жизнь народа. Вековые традиции были сильны и в Петербурге. Это проявилось в укладе жизни города, где была масса церквей разных вероисповеданий (православные, лютеранские, костёл, армянская церковь, синагога, мечеть, буддийский храм), несколько монастырей, где молебствия совершались по самым различным поводам, как мы это уже показали, будь то спуск корабля, закладка дома, открытие железной дороги, даже открытие клуба, начало занятий в школах - словом, при всех начинаниях. Народ молился, чтил праздники, посещал церковь. Истинно верующих было много.
Тем не менее среди просвещенной части населения авторитет церкви заметно рушился. Причин этого было много.
К внешним толчкам, раскачивавшим устои церкви, следует отнести распространение революционных идей, видевших в церкви оплот самодержавия, а также развитие естественных наук, опрокидывающих многие религиозные представления.
Но были причины и внутреннего порядка. Во-первых, насильственное внедрение правоверия с требованием выполнения церковных обрядов: в учебных заведениях, где закон божий как предмет стоял на первом месте и каждый учебный день начинался с молитвы; в некоторых учреждениях, где требовалось, чтобы чиновники соблюдали {83} обряды, то же касалось и военных (здесь дело обстояло просто: "На молитву становись! Шапки долой!"), не говоря уже о том, что браки заключались только в церкви.
Во-вторых, церковь основательно компрометировало привлечение в среду церковнослужителей необразованных людей, не понимавших или примитивно толковавших христианское учение. Как ни прискорбно, следует посетовать и на часто непристойное поведение их в быту: чревоугодничество и даже злоупотребление вином.
Не надо забывать, что церкви и монастыри были богаты, значит, возле них ютились и корыстные люди, нечестные и бесцеремонные. Достаточно упомянуть, что оплата церковных обрядов (крестины, венчание, панихиды) не была установлена, всяк брал столько, сколько вздумается.
Кроме того, многим верующим обряды казались слишком внешним и формальным действом, не соответствующим евангельским канонам. Наблюдался среди них отход от обрядовости. Немалую роль здесь сыграло решительное выступление Толстого, критиковавшего не только церковь, но и основу ее Евангелие, дав ему свое толкование. Кстати сказать, факт отлучения Толстого от церкви во многих сердцах отозвался возмущением против самой же церкви. Стали образовываться толстовские общины, в основном в Москве, но это направление перекинулось в Петербург. Появились многочисленные секты, уклоняющиеся от церковных канонов (евангелисты, баптисты и пр.).
А в среде непросвещенных, вернее, темных стали распространяться всякие "братства", не имевшие отношения к религии, а собиравшие людей, настроенных против церкви. Они использовали народную тягу к верованию, скорее, к суеверию. Процветало "братство", называвшее себя "Охтинская Богородица" или "Иоанн Креститель", братство Чурикова 1. Примером для них в высших кругах был Григорий Распутин, давший толчок к подражанию в темных слоях населения и вызвавший возмущение в среде мыслящих людей 2.
Такие "братцы", под видом "святых", читали проповеди, совершали "чудеса", отвечали на вопросы малопонятными фразами, продавали снадобья от всех болезней, "дурного глаза", запоя, блуда, для "приворожения". Наивные и просто глупые люди попадались на эту удочку, несли деньги, иногда большие, а часто и последние. Выколачивать деньги из своих почитателей эти "святые" {84} были большие мастера. Нередко все кончалось уголовным процессом, когда "святые" становились каторжниками или попадали в арестантские роты. Такого рода мошенничество было настолько распространено, что нашло отклик в драматургии. С большим успехом шла пьеса Протопопова "Черные вoроны", где разоблачались действия подобных "святых" и "ангелов" 3. Они обманывали простых, доверчивых людей, прикрываясь "словом божьим". Было много разных юродивых, кликуш, ясновидящих, прозорливцев, пророчиц.
Конечно, как и везде, решающей была личность священника, его способность сказать проповедь, умение слушать, вести исповедь. Ему следовало быть истинным "пастырем овец православных". Кстати сказать, в прежние времена священники на официальных бумагах перед своим именем ставили первые буквы этого звания, то есть "п. о. п". Отсюда и получилось "поп" 4. Эта аббревиатура сделалась синонимом священника и позднее приобрела определенную негативную окраску. В народе вошли в употребление такие выражения, как "поповские карманы". Имелась в виду их глубина, бездонность.
Все вышесказанное косвенным образом подрывало авторитет церкви. Поэтому неудивительно, что наряду с истинно верующими многие ходили в церковь как бы по инерции и главным образом ради великолепия храмов, торжественности богослужений и пения замечательных хоров. Привлекали людей громовые голоса некоторых дьяконов и протодьяконов. Великолепным было пение в соборах Александро-Невской лавры, в Исаакиевском, Никольском соборах. Там исполнялись литургии Бортнянского, Чайковского, Рахманинова, Гречанинова. В хорах пели многие знаменитости, в том числе Шаляпин. Особенно впечатляющее зрелище представляли службы с участием высшего духовенства - архиереев, митрополита. Толпа в церквах состояла из верующих и любителей духовного пения - неизвестно, кого было больше. Привлекала людей трогательная красота венчания, трагизм в предпасхальных песнопениях, ну и конечно, крестные ходы с ликующими голосами певчих в пасхальную неделю.
Пасха вообще была самым почитаемым праздником и веселым, потому что весна окрашивала общее ликование светом, пробуждением природы 5. Великий пост, накладывавший свой хмурый отпечаток на настроение, кончался в ночь на первый день Пасхи - в заутреню. Ночью оживал город, все тянулись, празднично одетые, со свечами, {85} еще не зажженными, в храмы, уже переполненные заранее самыми истовыми церковницами, в предвкушении радости от прекрасного пения.
Храм часто не мог вместить всех прихожан. Толпа стояла при входе и ждала, самого торжественного момента - крестного хода, когда весь синклит уже в радужных белых ризах выходит в сопровождении несущих хоругви и высокие светильники-свечи, обходит храм и на паперти уже провозглашает: "Христос воскресе!!" - вся толпа уже с горящими свечами отвечает: "Воистину воскресе!" Этим открывается сам праздник. Большинство уже не претендует на вход в храм, чувствуя, что самое главное здесь позади, а впереди, дома,- не менее важное - разговение (хотя говения, может быть, и не было) - обильное пиршество с самыми вкусными яствами, особенно для тех, кто по традиции во время поста ограничивал свой стол. Все расходятся группами по домам, шумно христосуясь, и - что самое интересное для молодежи - все стараются донести свои зажженные свечи домой, чтобы засветить ими лампадки. Здесь часто начинаются уже шалости - кто-то задул свечу у девушки и подставляет свою горящую, чтобы таким образом познакомиться, кто-то смастерил особую ширмочку для защиты пламени от ветра. А в храме продолжается служба и длится почти всю ночь.
Святая неделя знаменуется визитами с поздравлениями, с угощением обязательно пасхой и куличом. Дети развлекаются по-своему - катают яйца (конечно, крашеные) по особому желобку, нацеливаясь на разбросанные по ковру другие яйца,- кто больше выбьет, своего рода бильярд. А воздух гудит от колокольного звона!
Молодежь веселилась на балах. Так же весело, хоть и без балов, веселилась окраина. Вся улица бывала запружена гуляющими, а в садах открывалось катанье на лодках, да и по Неве, о чем уже говорилось выше.
У простого народа дольше сохранялись древние обычаи. В Троицу украшали дом березками, в церковь приходили с цветами, обычно с букетами сирени 6. На Второй Спас - 6 августа по старому стилю - девицы не заплетали косы, пекли хлеба дома, а в булочных тогда продавали жаворонков с изюминками вместо глаз 7. На день Иоанна Предтечи нельзя было есть ничего круглого, якобы напоминавшего об "усекновенной главе Иоанна Крестителя" 8. Конечно, эти обряды соблюдались далеко не всеми, в описываемый нами период это постепенно отходило в прошлое. {86}
РЫНКИ И ТОРГОВЫЕ РЯДЫ
Садовая улица была средоточием торговых рядов и рынков Петербурга 1. Остальные рынки были меньше и не представляли такого интереса.
Петербург того времени нельзя себе представить без Александровского рынка 2. Он занимал неправильный четырехугольник: Садовая - Вознесенский проспект, Фонтанка - Малков переулок. Теперь все здания этого рынка снесены и участок застроен новыми домами. Это был замечательный, единственный в своем роде, торговый конгломерат - сотни разнообразных магазинов, лавчонок, ларьков и открытых площадок.
На Садовую улицу и Вознесенский проспект выходили магазины, торговавшие новыми вещами (причем самыми разнообразными: одеждой и обувью), магазины с офицерскими вещами, с иконами и всякими церковными принадлежностями, наконец, торгующие охотничьими припасами и ружьями, а на углу Фонтанки и Вознесенского находился большой магазин с конной сбруей, дугами, седлами и пр.
По Фонтанке шли лавки с кожевенным товаром, а ближе к Малкову переулку помещался яичный склад, к которому летом подходили крытые барки с яйцами.
Вдоль магазинов по Садовой и Вознесенскому над тротуарами шла крытая железная галерейка на чугунных столбиках, чтобы и в ненастную погоду прохожие могли бы внимательно и не торопясь разглядывать выставленные на витринах товары.
Под магазинами, выходившими на Вознесенский проспект, были подвалы, в которых торговали известные петербургские букинисты. Никаких вывесок, даже окон на улицу не было, у входа в подвал лежала связка старых книг - символ их товара. Покупатель спускался вниз по узкой каменной лесенке и там мог найти редчайшие издания по любым вопросам. Насколько приказчики верхних магазинов были люди веселые и расторопные, настолько букинисты были серьезны, полны достоинства, неторопливы, неразговорчивы. Они не только продавали, но и покупали старые книги. Знатоки своего дела они были необычайные. Подвалы эти не отапливались, торговать зимой им было тяжело, но старики букинисты были людь-{87}ми старой закалки, ими двигала любовь к делу. В темноватых подвалах керосиновые лампы тускло освещали стеллажи с книгами, и как они находили требуемую книгу - трудно себе представить. У них было много постоянных покупателей, и любителей, и коллекционеров книг.
Внутри рынка было три пассажа: тот, что шел от Фонтанки, параллельно Вознесенскому, назывался Татарским, так как большинство лавок принадлежало татарам. Параллельно Садовой, продолжением Татарского пассажа, шел Садовый пассаж; продолжением его, вдоль Малкова переулка, но отступя от него, тянулся Еврейский пассаж, опять выходивший к Фонтанке. Таким образом получалась как бы подкова из пассажей.
Между Татарским и Еврейским пассажами простиралась громадная площадь, которая делилась на три части крытыми галереями, соединяющими эти пассажи 3. На всех этих частях площади производилась особая торговля - толкучка и "вразвал". Посредине средней площадки стояла часовня, здесь-то и был самый центр этой своеобразной торговли. Во всех магазинах, лавках, ларьках, лотках и на площадях приемы торговли были особые, нигде в Петербурге более не повторяемые.
Зимою и летом торговцы стояли у входов в свои заведения и не только зазывали покупателей, громко, расхваливая свой товар, но буквально тащили их за руки, приговаривая: "Хоть не купите, а посмотрите, какой у нас товар". У каждого торговца имелись свои прибаутки, вроде (обращаясь к скромно одетой девушке): "Красавица, заходите, специально для вас держим плюшевые саки с аграмантами" или, обращаясь к проходящему студенту: "Господин студент, для вас только что получены брюки гвардейского сукна, самолучшая диагональ барона Штиглица, брюки модные, со штрипками!" 4. Для рабочего тоже наготове были свои обращения. Многие зазывали ловко рифмовали свои обращения. Торговля шла бойко.
Торговали с безбожным запросом, торговались отчаянно. Опытный покупатель знал, что с него запрашивают втридорога, предлагал свою цену, несколько раз уходил, его возвращали, уступали и в конце концов достигали того, что он уходил с покупкой.
Только в лавках, выходивших на Садовую и Вознесенский, торговали новым товаром, во всех остальных пассажах, лавках и площадях торговали подержанными товарами всякого рода. Чего нельзя было найти ни в одном магазине столицы, можно было наверняка найти в Александровском рынке. В лавках Еврейского пассажа, на-{88}пример, продавались гобелены, ковры, хрусталь, фарфор, картины, старинные монеты, меха. Эти же торговцы занимались и скупкой вещей. Там же и в Татарском пассаже продавали и покупали золотые, серебряные вещи, драгоценные камни.
Часто можно было здесь видеть небольшого роста сухощавого человека со смуглым лицом, внимательно рассматривающего старинные монеты. Это был городской голова Санкт-Петербурга, граф Толстой, любитель-нумизмат 5.
В проходах между пассажами было много ларьков с сайками, горячей колбасой, пирожками, из-под полы торговали водкой. На главной площадке вокруг часовни продавали и покупали все что угодно, с товаром ходили, продавая его с рук, товар лежал на земле, "вразвал", здесь была главная толкучка, торговля шла по принципу: каждый товар найдет своего покупателя.
Характерной фигурой на площадке были "холодные" сапожники. У каждого висела кожаная сумка через плечо, в сумке лежали инструмент и гвозди. На другом плече висел мешок с кожевенным товаром для починки обуви, а также старая обувь, которую он скупал, а мог и продать. Главной эмблемой его профессии была "ведьма" - палка с железной загнутой лапкой, на которую он надевал сапог для починки. Целый день, в мороз и жару, сапожники слонялись по толкучке, дожидаясь клиентов. Расчет их был прост - быстро, кое-как починить и скорее получить деньги с клиента, которого едва ли еще встретишь. Мастера они обычно были хорошие, но спившиеся либо больные, престарелые, выгнанные "хозяйчиком".
Сюда же много приносили всякой залатанной, заштопанной одежды, которую хотели выдать если не за новую, то за почти не ношенную. Носили целые вороха старых брюк и жилеток. Много старых вещей скупали, особенно после праздников, у пропившихся бедных людей - чинили, приводили их в порядок и опять продавали. Находились такие специалисты залатать, заштуковать, что и не найдешь, где починено.
На толкучке среди толпы ходили торговцы сбитнем. Сбитень - это теплая вода на патоке. Они носили на спине медный бак, обвязанный старым ватным одеялом, от бака шла длинная медная трубка с краном. По поясу- деревянная колодка с ячейками для стаканов. Здесь же ходили торговцы пирожками с жаровнями на животе, которые кричали: "С пылу с жару, пятачок за пару!" {89}
На площади, которая была ближе к Садовой, шла бойкая торговля дешевой мануфактурой, а также старыми гардинами, плюшем, содранным с диванов, оттоманок и пр.
Скажем несколько слов о "железном ряде". Он представлял собой проезд с Садовой на Фонтанку. Здесь продавались и покупались старые и новые железные и свинцовые трубы, фитинги 6, уголковое железо, балки, всякий инструмент, слесарный и столярный, машины, котлы, станки по металлу и по дереву и пр. Ближе к Садовой продавались и покупались старые кровати, мебель, старинная и модная. Знатоки приходили сюда подбирать и покупать стильную мебель, главным образом красного дерева. Мебель и кровати здесь же ремонтировались и красились. В "железном ряду" спившийся слесарь продавал свой инструмент. Бродяжки продавали краденые обрезки свинцовых труб. Тут и торговля, нажива, выход из безденежья, тут и развлечения, и возможность сыграть "на счастье".
Среди толкучки много кружков игроков: в трилистники, в наперсток с горошком, в орлянку и т. д. Все эти игры затевались "специалистами", которые рассчитывали завлечь и обыграть вчистую доверчивых, неопытных людей. На рынке среди толпы сновало много всякого жулья. Чтобы обезопасить себя от них, покупатель пускался на всякие уловки; надо примерить пальто или пиджак, цена как будто сходная. Покупатель снимает с себя свою одежду, свертывает ее, кладет на землю и становится на нее, чтобы воры не стянули, пока идет примерка.
К кражам у покупателей торговцы и маклаки относились крайне безучастно. Зато, когда воровали что-нибудь у торговцев, из чувства солидарности в поимке вора принимали участие все ближайшие торговцы, и ему редко удавалось скрыться. Пойманного били до полусмерти, одинокие полицейские смотрели на эти самосуды сквозь пальцы.
Простачков продавцов здесь не было, разве только как редкое исключение. Одному из авторов довелось один раз видеть такого простачка: желая скорее продать старый самовар, он хотел доказать покупателям его добротность и прочность. Для этого положил дощечку сверху на трубу и смело стоял на ней.
Сенная площадь и Сенной рынок - эти два понятия сливались в одно, как "чрево" Петербурга. Мы знавали Сенную площадь с громадными железными застекленными павильонами, в которых было несколько рядов все-{90}возможных лавок со съестными припасами. В каждом из этих павильонов было два сквозных продольных прохода. Обычно размещалось четыре ряда лавок: два примыкали к наружным стенам, а два ряда смыкались своими задними стенками как раз по продольной оси павильона. Лавки все одного размера, на каждой свой номер. Богатые торговцы занимали несколько номеров подряд 7. Снаружи этих павильонов тоже располагались лавчонки, которые торговали всем чем угодно от дешевой мануфактуры до детских игрушек, глиняных банок и земли для цветов. Здесь же сидели слепые в темных очках и торговали щетками собственного изготовления. Они все были обвешаны всевозможными щетками, начиная от щеточек для усов и кончая щетками для лошадей. В руках держали несколько связанных половых щеток. Держали они себя с большим достоинством, не выкрикивали и не зазывали покупателей. Публика относилась к ним почтительно, никогда не торговалась, а подбирала требуемую сумму без сдачи и клала им в шапку.
В корпусе, который располагался вблизи старинной гауптвахты (здесь в описываемое время находилась лаборатория для проверки продуктов), продавались мясные продукты; в корпусе ближе к Демидову переулку торговали рыбой, в корпусе у церкви Успения 8 - мясом, овощами и фруктами. Четвертый корпус, у Таирова переулка, был каменный, в нем находились лавочки со скобяным товаром и щепяными изделиями: корзиночки, кадочки, корыта, скобы, топоры, совки, тушилки для углей, самоварные трубы. Оживление на Сенной площади было очень большое, а перед праздниками здесь трудно было протолкнуться. Стоял шум. Крики ломовиков, подвозивших товары к лавкам, громыханье конок, вопли женщин, которых обсчитали или у которых вытащили кошелек,- все сливалось в общий гул. В павильонах было тише, степеннее.
В мясных лавках на луженых крюках висели туши только что забитых черкасских быков. На прилавках, обитых оцинкованным железом или покрытых мраморными плитами, лежали отдельные куски мяса, вырезки. Посредине лавки громадные коромысловые весы с медными чашками и цепями.
Заготовка полуфабрикатов не практиковалась, нужный кусок приготовляли при покупателе. Мясник с Сенной славился своим мастерством: он ловко, безошибочно отрубал нужный кусок требуемого веса. Работали мясники длинными специальными ножами, топор применялся ред-{91}ко, потому что напоминал древнюю секиру, которой рубили головы на Руси. Когда они оперировали с кусками мяса на тумбе, при каждом ударе ножом покрякивали, особенно если перерубали толстые кости.
У них, как у всех торговцев, выработался свой язык с прибавлением к каждому слову "с": "пожалуйте-с", "прикажите-с", "чего изволите-с?". Этим они хотели показать столичную "шлифовку" и уважение к покупателю. При лавке работали "молодцы" - здоровые парни - и подростки. "Молодцы" выполняли главным образом тяжелые работы - развешивание туш по крюкам, переноску корзин с битой птицей и со льдом и т. п. Одновременно, между делом, они обучались обхождению с покупателем. На обязанности подростков кроме разных "побегушек" лежала разноска купленных товаров на дом. Около Сенной часто можно было наблюдать такую сцену: идет с рынка хозяйка, ничего не несет, сзади идет мальчик с большой корзиной на голове, в корзине купленные хозяйкой продукты. За доставку мальчику давали 5-10 копеек.
Мясники, как и другие продавцы продуктов, были одеты одинаково, как будто по форме: картуз с лакированным козырьком, полупальто, белый передник и клеенчатые манжеты.
Кроме всякого мяса здесь торговали битой птицей - домашней и боровой. Перед Рождеством рынок был завален гусями, индейками, глухарями, рябчиками, тетеревами, куропатками. В мясных рядах висели вниз головами тушки мороженых зайцев, окорока в большом количестве.
В рыбном павильоне зимой продавалась главным образом мороженая рыба, свежей было мало, ею торговали летом. Плоты для причала рыбацких лодок стояли на Фонтанке, откуда тотчас рыба доставлялась на Сенную. Рыба была не только местная, но и привозная - соленая, копченая; продавалась и разная рыбная снедь: икра, балыки и т. д. Необычайно много рыбы продавалось к великому посту, особенно дешевой, "негосподской" - ряпушка, салака, корюшка, соленая треска (в другое время трески достать было нельзя, а свежая треска совсем не продавалась).
Цены были разные в зависимости от времени дня: к вечеру дешевле из боязни, что товар залежится, испортится. Впрочем, вблизи Сенной располагались большие склады оптовиков и ледники по Забалканскому проспекту, ближе к Фонтанке. {92}
Торговля шла, конечно, с запросом, торговались подолгу, с кого (по виду) можно взять подороже, случая не упускали. Цену диктовал рынок в зависимости от спроса, привоза, сезона, времени - перед праздниками или после.
На площади у Обуховского моста был тоже небольшой открытый рынок, как бы филиал Сенного. Товар здесь был хуже, покупатель победнее и обращение с ним попроще: в разговоре к каждому слову уж не прибавлялось услужливо "с", нередко обращались и на "ты". Слышались такие выраженьица: "Не велик барин, чего роешься".
Сенной рынок был главным продуктовым рынком Петербурга.
На Садовую улицу выходило еще два рынка - Апраксин со Щукиным двором и Никольский, а на Невский, Садовую, Банковскую и Перинную линии выходил знаменитый Гостиный двор.
Апраксин рынок представлял, как и теперь, целый ряд магазинов, торговавших материей, готовым платьем, галантереей, мехами и пр., но качество и цена этих товаров были ниже, чем в Гостином, но выше, чем в Александровском рынке. Апраксин рынок тоже выходил на четыре улицы Садовую, Мучной переулок, Фонтанку и Чернышев переулок. Внутри Апраксина рынка находилось много каменных корпусов, в которых помещались склады и мастерские. В четырехэтажном корпусе была фабрика разной галантереи и целлулоидных изделий. На нашей памяти там произошел страшный пожар с человеческими жертвами. Загорелись запасы целлулоида, время было рабочее, огонь мгновенно охватил легковоспламеняющиеся изделия и запасы сырья, рабочих охватила паника, люди выбрасывались из окон третьего и четвертого этажа 9.
Внутри Апраксина рынка, ближе к Фонтанке, находился Щукин двор большая площадь с прилегающими лавками и пассажем. Здесь, оптом и в розницу, торговали фруктами и ягодами. Разгар торговли был во второй половине лета и осенью. Тогда весь Щукин двор был завален ящиками со свежими и вялеными фруктами, мешками с орехами разных сортов. Торговля производилась не только на вес, но и мерками. Принцип "не обманешь - не продашь" господствовал и здесь. Если покупатель брал ящик яблок, то первые ряды были отборные, а дальше много похуже. То же и с ягодами. Рынок шумел, кишел народом. В воздухе висела брань и окрики ломовых извозчиков. Товары выгружались и погружались тут же на {93} площади, поэтому ломовых и легковых извозчиков было множество. Страшная теснота, штабеля ящиков, кулей, мешков. Ни пройти ни проехать. Картина красочная!
Работало много специальных грузчиков. Здесь они назывались "рязанцами", по-видимому, большая часть их приезжала из Рязанской губернии. Они почему-то носили груз не на спине, а на голове; для этого они клали на фуражку мягкое кожаное кольцо. Когда они не работали, кольцо висело у них сбоку на поясе. Часто можно было видеть, как такой "рязанец" с налившимся кровью лицом и натуженной шеей несет на голове большой ящик с фруктами.
Всюду шныряли стайки мальчишек. Пользуясь теснотой и суматохой, они воровали фрукты из раскрытых ящиков, пользовались всяким случаем, чтобы поживиться: вот тут рассыпали груши, а там "восточный" человек, сидя около наваленной на подстилке кучи сушеных винных ягод, заговорился с соседом, таким же продавцом, - ловкие мальчишки тут как тут.
Кроме этих рынков на Садовой был Никольский рынок, расположенный недалеко от церкви Николы Морского, отсюда и получивший свое название. Это были старинные торговые ряды, вытянутые фасадом вдоль Садовой улицы, короткой стороной - вдоль Никольской. В наше время это был малопосещаемый, какой-то скучный рынок. По Садовой размещались продовольственные магазины, а по Никольской - разные склады. В подвальных помещениях торговали скобяными и щепными товарами. Рынок имел и внутренний двор, там торговали оптовики, здесь были их склады. Помещались тут же и некоторые мастерские. Напротив рядов, вдоль ограды Екатерининского канала (тогда бульвара не было), пролегала вытоптанная, пыльная площадка - на ней с весны до поздней осени с утра до вечера толкались разные сезонные рабочие: маляры, плотники, штукатуры, кровельщики и пр. Здесь была их неорганизованная биржа, сюда приходили десятники и нанимали рабочих.
На обширной площади за Крестовоздвиженской церковью, что на Лиговке у Обводного канала близ Каменного моста, торговали лошадьми и другими домашними животными, а также сеном, для чего там стояли вазовые весы. Этот рынок имел свои характерные особенности и давал много интересных картин для наблюдения. Продажа лошадей была самой интересной 10.
Съезжалось много разных барышников, вездесущих цыган, всякого жулья, в том числе "поднатчиков", не-{94}обыкновенных "знатоков лошадей" и прочих личностей, заботой которых было надуть и ободрать покупателя. "Поднатчики" со стороны продавца всячески расхваливали лошадь, указывая на несуществующие замечательные ее качества. Те же "поднатчики" при покупке лошади барышником, наоборот, всячески охаивали коня, старались незаметно ударить его по ноге, чтобы конь захромал, обливали шерсть вареным маслом, чтобы потом говорить: "У лошади парша" - и что-нибудь в этом роде.
Когда же продавалась хорошая лошадь и никакого обмана не требовалось, хозяин знал цену своей лошади, "поднатчикам" делать было нечего - все окружающие вели себя иначе, были серьезны, не ругались и явно любовались красивым животным. Действительно, нет ничего красивее хорошей, ничем не испорченной лошади!
На этой же площадке продавались коровы, свиньи, живая птица. Барышников там было мало, они совсем не интересовались такой торговлей, на ней ничего не заработаешь!
Торговля сеном возами производилась тут же. Пригородные крестьяне привозили много сена, так как спрос на него был большой, поскольку механического транспорта почти не было. Каждый воз с сеном уже на подходе к площади осаждался так называемыми "цапками". Что же это за "цапки"? Это молодые, разбитные, разухабистые женщины, которые подбегали к возу с противоположной стороны от той, с которой шел владелец воза, обычно пригородный крестьянин, и вырывали, "цапали", клочья сена, набивая ими свои мешки. За день "цапки" набивали сеном несколько мешков. Это сено они продавали "по дешевке" одиночкам-извозчикам. Если крестьянин замечал воровство, то стегал "цапку" хлыстом или вожжами, не говоря уже о ругательстве. Как-то пришлось наблюдать такую дикую сцену: возом правил подросток, а отец шел сзади воза с кнутом. Молодая хищница-"цапка" подбежала к возу, вырвала клок сена и тотчас получила страшный удар ременным кнутом по лицу. Реакция была неожиданная: девка, вытирая кровь рукавом, разразилась отборной, площадной руганью, а подлетевшие другие "цапки" набросились на мужика и принялись его избивать. Воспользовавшись этой суматохой, "цапки" растащили воз наполовину, причем больше всех попользовалась сама побитая.
Там, где торговали коровами, ходили бедные женщины с ведерочками и просили разрешения подоить коров. Владельцы соглашались на это, так как несвоевремен-{95}ная дойка вредно отражалась на корове. Все были довольны: и корова, которой стало легче, и хозяин коровы, и бедная женщина, которая для своих ребятишек надоила молочка. Такая "благотворительная" дойка практиковалась очень широко на бойне, но там она носила несколько иной характер. Там сторожа допускали к этому только своих знакомых женщин, за это получали с них гривенники, а женщины надаивали помногу и несли молоко на продажу.
Конная площадь начинала работать рано утром, и часам к двум-трем вся торговля заканчивалась. Барышники, продав с выгодой одних лошадей и скупив, тоже с выгодой, других лошадей, уезжали с площади. Картина была такая: в сани или повозку запрягалось несколько лошадей, иных привязывали за повод к оглобле или к гужу. Сзади повозки, на поводках, следовало тоже несколько лошадей. "Удачливый" покупатель либо пешком вел лошадь за повод, либо ехал верхом на мешке с сеном.
После такой "негоции", конечно, в трактир не шли, потому что мешали лошади, но, когда приходили домой, покупку "вспрыскивали". Заводя лошадь в стойло, внимательно наблюдали, как лошадь войдет в конюшню. Если вошла спокойно и охотно - хороший признак; если заупрямилась, все говорили: "Ну, покупка не ко двору, толку для хозяина не будет".
МАГАЗИНЫ И ЛАВКИ,
РЕСТОРАНЫ И ТРАКТИРЫ
Но не рынком единым, о котором шла речь выше, жив был торговый Петербург. Помимо рынков в столице раскинулась громадная сеть торговых предприятий. Мы видели, что и там, на рынках, не было особо специализированных лавок, специализация товаров началась скорее в магазинах, расположенных в центре города.
Вся торговля в Петербурге находилась в частных руках. Исключением была только продажа водки, которая производилась в казенных лавках (об этом ниже). Во всех торговых предприятиях фиксированных, определенных цен на те же товары того же производства не было. Везде, как и на рынке, цены были "с запросом". В лучших магазинах висели объявления - "цены без запро-{96}сов" или европеизированное prix fixe 1, но и то не всегда это соблюдалось. Опытные приказчики распознавали богатого провинциала и продавали ему "с надбавочкой".
Крупные магазины были, конечно, в центре города, но и скромные магазины с началом века стали подтягиваться, расширяться, переоборудоваться на новый лад. Большое внимание начали обращать на рекламу: повсюду красивые вывески и витрины - подражание магазинам в Гостином дворе, где использовались световые эффекты, различные звезды из электрических лампочек, особенно в окнах ювелирных магазинов. Вообще Гостиный двор, где покупателями была изысканная публика, "задавал тон". Там же появлялись уже специализированные магазины, не только в нашем понимании, но даже и "по специальности" - одежда для кормилиц, кучеров, лакеев, духовных лиц и пр. 2
В крупных магазинах манера вежливого обхождения была основным способом привлечения публики. Здесь приказчики "высшего класса" щеголяли французскими словами, у прилавка слышалось: "merci, madame", "je vous prie", одеты они были по последней моде, прическа а 1a Capul (по имени знаменитого французского артиста), с начесом на лоб, манеры "галантерейные" и т. д. Многие знали своих покупателей, особенно если это были жены титулованных особ, при появлении их тотчас приносили стул и не жалели времени, раскидывая перед такими дамами одну коробку за другой, чтобы продемонстрировать особые образцы брюссельских кружев или только ею излюбленных отделок для платья. Если дама перероет все коробки и уйдет, не найдя нужное, приказчик не смел отразить на своем лице неудовольствие, боясь, что в другой раз она обратится к другому приказчику, что уронит его престиж. И слова дам: "Я покупаю кружева только у Таратина" или "эспри только у Шутова и Кольцова" - заслуга магазина и своего рода реклама для него. Покупку до экипажа такой публики не гнушался донести и сам приказчик. В других случаях это выполнял специальный мальчик, одетый в форму с надписью на фуражке, скажем, "Второв и сыновья".
Итак, реклама и обхождение с покупателями - вот что спасало магазин в конкуренции. Некоторые фирмы этими средствами добивались звания "поставщиков Двора Его Величества", чему содействовали и крупные пожертвования в пользу благотворительных учреждений. Такой поставщик имел право написать свое "придворное" звание на вывеске рядом с царским гербом 3. Разу-{97}меется, звание обязывало стараться сделать магазин образцовым. Устроиться на работу в такой магазин уже было нелегко, нужна была рекомендация.
Большим событием в Петербурге было появление модернизированного типа магазина - универмага Гвардейского экономического общества, разместившегося сначала в Доме армии и флота. Торговля шла там в тесных помещениях, не удовлетворявших расширяющихся запросов магазина. За несколько лет до войны были выстроены громадные здания на Конюшенной улице, туда-то и переместился с широким размахом магазин Гвардейского общества. Ранее Петербург не знал универсального типа магазина, где, не выходя из одного здания, можно было купить все - от продуктов питания до музыкальных инструментов, офицерского обмундирования, снаряжения для лошади, заказать одежду, приобрести предметы роскоши, привезенные из-за границы,- словом, все. Сюда мог прийти всякий и что угодно купить, но членами общества могли быть только гвардейские и флотские офицеры. Цена для них была та же, разница заключалась в том, что при покупках членов общества "на пай" в конце года начислялся доход, который ему и выдавали. Народу в универмаге бывало много, товар первоклассный, цены не выше, чем в других магазинах. Он сразу стал популярен.
Поразил сразу же петербуржцев обилием, разнообразием и качеством товаров появившийся в самом центре гастрономический магазин Елисеева. Некоторые торговые фирмы имели по нескольку магазинов. У конфетной фабрики "Конради" было семь магазинов. Фабрика дешевых конфет "Ландрин", похожих на леденцы, открыла 40 магазинов. Лучшие бакалейные товары можно было купить у Соловьева, Черепенникова, которые имели тоже по нескольку магазинов. Живые цветы во все времена года предлагала фирма Эйлерса. Ей принадлежало 5 магазинов. Объединение прибалтийских хозяйств "Помещик" раскинуло по всему городу 40 магазинов. Известная по всей России обувная фабрика "Скороход" имела в столице 7 магазинов. Такой рост представительств известных фирм наблюдался особенно в 1900-1910 годах. Тянулись за большими магазинами и лавки средней марки, тоже стараясь себя рекламировать вывесками, как выше мы уже писали, на всех возможных местах: на трамваях, на пустых стенах, на пристанях и т. д. Над входом в булочную было принято вывешивать золоченый крендель, в обувном магазине - золотой сапог, громадные часы повисали над часовым магазином и т. д. {98}
Чем дальше от центра столицы, тем больше становилось магазинов помельче - лавок и лавочек. В них часто совсем не было приказчиков, хозяин с семьей жил при магазине. Над входной дверью висел колокольчик, который давал хозяину знать, что зашел покупатель. Хозяин выходил из жилой комнаты в магазин и отпускал требуемое. Особый вид был у так называемых мелочных лавок. Это были своего рода маленькие универсамы. Там можно было купить хлеб, селедку, овощи, крупу, конфеты, мыло, керосин, швабру, конверты, почтовые открытки и марки, дешевую посуду, лампадное, постное, сливочное и топленое масло, пироги с мясом, морковкой, саго, гречневой кашей. При мелочной лавке была и маленькая пекарня. На Рождество и Пасху можно было отдать сюда запечь окорок или телячью ногу. Там же продавались кнуты, рукавицы для извозчиков. Всего не перечесть. Таких лавок было очень много, и это было удобно. В них практиковался кредит. Хозяин выдавал покупателю заборную книжку, куда вписывались все покупки. Расчет производился раз в месяц. Кредитом пользовались постоянные жители, которых знал хозяин. Кредит прикреплял покупателя к лавке. Были и поощрения со стороны хозяина: к празднику исправному плательщику выдавалась премия, скажем, коробка конфет.
Обычно купцу принадлежало несколько лавок, в каждую он ставил доверенного приказчика, который ежемесячно сдавал определенную сумму дохода, а остальное хозяина не интересовало. Такие лавки бывали своего рода клубом, где по вечерам собиралась "дворовая аристократия" - дворники, прислуга, кучера, ремесленники. Забегут на минутку купить десяток папирос или на копейку квасу и за разговорами задержатся. Обсуждались сенсационные новости: измены, драки, кражи. Тут же писались письма, давались юридические советы и даже медицинские консультации.
От каждой порядочной лавки или магазина были двухколесные тележки. В них развозили товары. Этим занимались "молодцы" - здоровые парни, которые в остальное время переносили ящики, кипы, перекатывали бочки. Воз картонных, фанерных или лубяных коробок из магазина модных дамских вещей поражал размерами, из-за него не увидишь, бывало, возчика.
Мясные лавки на тележках развозили по столовым и трактирам мясо. Фирма "Помещик" развозила по квартирам молочные продукты. Гуталин, который появился в {99} наше время и вытеснил ваксу, развозился по магазинам и лавкам тоже в особых тележках.
В столице работало много модных мастерских и портных. Девушки-ученицы, кроме прямых своих занятий, должны были доставлять заказы по домам, разносили громадные картонки. За задержки они получали выговоры и от заказчиц, и от хозяек, а причина опоздания была самая простая: встретился угодный молодой человек, вот и полюбезничала немного.
Продажа водки была царской монополией. Специальные казенные винные лавки - "казенки" - помещались на тихих улицах, вдали от церквей и учебных заведений. Так того требовали полицейские правила. Эти лавки имели вид непритязательный, обычно в первом этаже частного дома. Над дверью небольшая вывеска зеленого цвета с государственным гербом: двуглавым орлом и надписью "Казенная винная лавка". Внутри лавки - перегородка почти до потолка, по грудь деревянная, а выше проволочная сетка и два окошечка. Два сорта водки - с белой и красной головкой. Бутылка водки высшего сорта с "белой головкой", очищенная, стоила 60 копеек, с "красной головкой" - 40. Продавались бутылки емкостью четверть ведра - "четверти", в плетеной щепной корзине. Полбутылки называлась "сороковка", т. е. сороковая часть ведра, сотая часть ведра - "сотка", двухсотая - "мерзавчик". С посудой он стоил шесть копеек: 4 копейки водка и 2 копейки посуда.
В лавках "сидельцами" назначались вдовы мелких чиновников, офицеров. "Сиделец" принимал деньги и продавал почтовые и гербовые марки, гербовую бумагу, игральные карты. Вино подавал в другом окошечке здоровенный "дядька", который мог утихомирить любого буяна. В лавке было тихо, зато рядом на улице царило оживление: стояли подводы, около них извозчики, любители выпить. Купив посудинку с красной головкой - подешевле, они тут же сбивали сургуч с головки, легонько ударяя ею о стену. Вся штукатурка около дверей была в красных кружках. Затем ударом о ладонь вышибалась пробка, выпивали из горлышка, закусывали или принесенным с собой, или покупали здесь же у стоящих баб горячую картошку, огурец. В крепкие морозы оживление у "казенок" было значительно большее. Колоритными фигурами были бабы в толстых юбках, сидящие на чугунах с горячей картошкой, заменяя собою термос и одновременно греясь в трескучий мороз. Полицейские разгоняли эту компанию от винных лавок, но особенного рве-{100}ния не проявляли, так как получали угощение от завсегдатаев "казенки".
...Видимо, именно здесь, в повествовании о петербургской торговле, необходимо рассказать, как столица утоляла голод вне дома. И тут были свои контрасты, разительные отличия.
С одной стороны, фешенебельные рестораны, с другой - чайные, всякого рода закусочные, где торговали дешевой снедью. Каких только ресторанов не было! К фешенебельным относились "Эрнест", "Пивато", "Кюба", два "Донона" (старый и новый), "Контан" 4. Здесь тяжелую дубовую дверь открывал швейцар, который с почтением раскланивался. На его лице было написано, что именно вас он и ожидал увидеть. Это, обыкновенно, бывал видный мужчина в ливрее с расчесанными надвое бакенбардами. Он передавал вас другим услужающим, которые вели вас по мягкому ковру в гардероб. Там занимались вашим разоблачением так ловко и бережно, что вы не замечали, как оказались без пальто - его принял один человек, без шляпы - ее взял другой, третий занялся тростью и галошами (если время было осеннее). Далее вас встречал на пороге зала величественный метрдотель. С видом серьезнейшим он сопровождал вас по залу. "Где вам будет угодно? Поближе к сцене, или вам будет мешать шум?" Наконец место выбрано. Сели. Словно из-под земли явились два официанта. Они не смеют вступать в разговоры, а только ожидают распоряжения метрдотеля, а тот воркующим голосом, употребляя французские названия вин и закусок, выясняет, что вы будете есть и пить. Наконец неслышно для вас он дает распоряжения официантам, которые мгновенно вновь появляются с дополнительной сервировкой и закуской. Метрдотель оставляет вас, чтобы через минуту вновь появиться и проверить, все ли в порядке. Два официанта стоят поодаль, неотступно следят за каждым вашим движением. Вы потянулись за солью, официант уже здесь с солонкой. Вы вынули портсигар, он около с зажженной спичкой. По знаку метрдотеля одни блюда заменяются другими. Нас всегда поражала ловкость официантов и память метрдотеля, который не смел забыть или перепутать, что вы заказали.
Одета прислуга была так: метрдотель в смокинге, официанты во фраках, выбриты, в белых перчатках 5. Такие рестораны заполнялись публикой после театров. Они работали до трех часов ночи. Часов в 8-9 начинал играть оркестр, румынский или венгерский. Программа начина-{101}лась в 11 часов, выступали цыгане, певицы. В некоторых ресторанах были только оркестры. Во многих ресторанах прислуга была из татар, они были исключительно расторопны.
Цены здесь были очень высоки, обед без закуски и вин стоил 2 рубля 50 копеек. Особенно наживались владельцы ресторанов на винах, которые подавались в 4-5 раз дороже магазинных цен, и на фруктах. В конце обеда или ужина метрдотель незаметно клал на кончик стола на подносе счет и исчезал. Было принято оставлять деньги поверх счета с прибавкой не менее десяти процентов официантам и метрдотелю. При уходе все с вами почтительно раскланивались, так же "бережно" одевали, провожали до дверей.
За кулисами этой роскоши - 20 часов ежедневного труда прислуги: поварят, судомоек, кухонных мужиков, которые должны были приходить рано утром и чистить, мыть, резать, убирать посуду. Да и сам шеф-повар не знал отдыха ни днем ни ночью - за все в ответе. Дети-поварята засыпали на ходу, часто их не отпускали домой, и они, приткнувшись на стуле, спали по 3-4 часа,
Ниже рангом были "Медведь", "Аквариум", "Вилла Родэ", рестораны при гостиницах. Там бывали главным образом фабриканты, купцы. Они обязательно требовали варьете с богатой программой. Устраивались кутежи. Прислуга была не так сдержанна.
Далее шли рестораны I разряда: "Вена", "Прага", "Квисисана", "Доминик", рестораны при гостиницах "Знаменской", "Северной", "Англетер". В них цены были ниже. Посещали их в основном люди деловые - чиновники, служащие банка, а также артисты и зажиточная молодежь.
"Вена" на Малой Морской посещалась, прежде всего, артистами, писателями, художниками. Обстановка там была свободная. Заводились споры, обсуждались вернисажи, литературные новинки, посетители обменивались автографами, иногда декламировали, пели. Хозяин ресторана поощрял такие вольности, сам собирал рисунки знаменитостей, вывешивал их как рекламу.
Особый характер приобрел ресторан "Квисисана" на Невском возле Пассажа. Там был механический автомат-буфет. За 10-20 копеек можно было получить салат, за 5 копеек - бутерброд. Его охотно посещали студенты, представители небогатой интеллигенции. Студенты шутили, перефразируя латинскую пословицу: "Менс сана ин Квисисана" 6. {102}
Знаменит был ресторан Федорова на Малой Садовой, он славился "стойкой" 7. Не раздеваясь, там можно было получить рюмку водки и бутерброд с бужениной, и все это за 10 копеек. Посетители сами набирали бутерброды, а затем расплачивались. По вечерам здесь была толпа. В этой толкучке находились и такие, кто платил за один бутерброд, а съедал больше. Один буфетчик не мог за всеми уследить, несмотря на всю расторопность. И так он в обеих руках держал по бутылке водки, наливая одновременно две рюмки. Он же получал деньги, сколько называл посетитель. Говорят, что кое-кто из недоплативших за бутерброды по стесненным обстоятельствам, когда выходил из кризисного положения, досылал на имя Федорова деньги с благодарственным письмом.
Ресторан при "Мариинской" гостинице на Чернышевом переулке 8 был рассчитан на своих постояльцев - гостинодворских купцов, промышленников, коммерсантов, старших приказчиков. Здесь можно было заказать чисто русскую еду, официанты были в белых брюках и рубахах с малиновым пояском, за который затыкался кошель - "лопаточник". У купцов бумажник назывался "лопаточник", поскольку в развернутом виде напоминал лопату, которой загребал деньги. По вечерам здесь играл русский оркестр, музыканты были в вышитых рубахах.
Каждый ресторан имел свою славу. Ресторан при "Балабинской" гостинице на Знаменской площади славился ростбифами, другой - солянкой и т. д. Рестораны торговали до 3 часов ночи.
Рестораны II разряда работали до 1 часа ночи. Они были скромнее: и помещение, и кухня, и обслуживание. Но и цены были ниже. Оркестрик маленький или просто машина, куда закладывали бумажный рулон с выбитыми отверстиями. Она действовала по типу пианолы. Внешне - с выдумкой: она выглядела как буфет, посередине, как правило, тирольский пейзаж. Вертящиеся стеклянные трубочки имитировали водопад, из тоннеля выезжал маленький поезд, переезжал через мостик в скалах, исчезал в горах, затем появлялся снова. В ресторанах II и ниже разрядов водка подавалась не в графинах, а в запечатанной посуде, чтобы посетитель не сомневался. Хорошие рестораны были при вокзалах, особенно при Варшавском и Финляндском. Очень уютный ресторан был при Ново-Деревенском вокзале Приморской линии. {103}
Рестораны низшего разряда назывались трактирами 9. Свое название они уже не оправдывали, поскольку стояли не на проезжих дорогах - трактах, а на городских улицах. В центре города этих заведений не было. Обычно трактиры и чайные имели две половины: одна - для публики попроще, для "чистой" публики другая. Обслуживали здесь половые. Особой чистоты не было, но кормили сытно. Здесь обедал трудовой люд, вечером собирались компании, бывали скандалы и драки, слышались свистки, появлялся городовой, кого-то вели в участок, других вышибали. Играла машина или гармонист. Цены недорогие. Часто сюда заходили только попить чай. Не доверяя чистоте посуды, сами споласкивали ее. При заказе порции чая подавали два белых чайника, один маленький "для заварки", другой побольше, с кипятком, крышки были на цепочках, а носики в оловянной оправе, чтобы не разбивались.
Особо выделялись извозчичьи чайные и трактиры. При них был большой двор с яслями для лошадей. При въезде в город были постоялые дворы для приезжих крестьян, которые могли остановиться на несколько дней, поставить лошадь, получить для нее фураж и самому питаться недорого. Здесь было грязно, неопрятно, стоял специфический запах. Топили здесь здорово, люди спали не раздеваясь, можно было и за столом закусывать не снимая верхнего платья.
Любопытны были названия некоторых трактиров и чайных. На грязных трактирчиках можно было видеть "Париж", "Лондон", "Сан-Франциско" или же с выдумкой хозяина - "Муравей", "Цветочек". У одного трактира было название маленького городка Ярославской губернии - "Любин", откуда приезжало много расторопных ярославцев, которые начинали с половых, постепенно богатея, открывали свои заведения. Кормили в трактирах щами, горохом, кашей, поджаренным вареным мясом с луком, дешевой рыбой - салакой, треской.
Особую категорию представляли собой столовые для бедных служащих, студентов 10. В них не подавали напитков, но за небольшую плату - 15-20 копеек - можно было получить приличный обед. Чисто, аккуратно работали сама хозяйка и ее семья. Славились польские столовые, где вкусно готовили специфические польские блюда - зразы, фляки (потроха) и т. д. Много таких столовых было и близ учебных заведений, например около Технологического института. {104}
ОДЕЖДА И МОДА
Контрасты были повсюду, во всех областях жизни "последнего" Петербурга. Контрасты были и в одежде людей. В Петербурге можно было встретить оборванного работягу в лаптях, который пришел на заработки из деревни, и изысканно, роскошно, по последней парижской моде одетых людей.
Напомним, как были одеты представители различных слоев общества.
Приезжая из деревни в сермяге, в домотканом платье, подчас даже в лаптях, с мешком за плечами, в углу которого зашита луковица для удержания петли-лямки, рабочий как можно скорее старался приодеться по-городскому, приобрести картуз с лакированным козырьком, темного цвета пиджак и брюки, а то и всю тройку и обязательно высокие сапоги. Рабочий люд всегда ходил в высоких сапогах. Большинство галош не носило. Считалось, что брюки навыпуск - это как-то несолидно. Высокие сапоги считались предметом заботы не только потому, что отвечали эстетическим принципам рабочего человека, но и ввиду того, что в них крайне удобно было на работе: не пачкались брюки при работе в грязи, ступни ног были защищены от неизбежных ударов при тяжелой работе, ведь ноги обертывались под сапог толстой портянкой. Когда рабочий уже пообжился, он приобретал еще другие, выходные сапоги из хрома с лакированными голенищами. Они так и назывались - русские сапоги. Считалось особенным шиком, чтобы выходные сапоги были "со скрипом". Отвечая этим пожеланиям, сапожники прибегали к такому ухищрению: между стелькой и подметкой закладывали сухую бересту, и сапоги начинали скрипеть.
Рабочий народ, как правило, носил рубашки-косоворотки разных цветов. Особенно приняты были черные рубашки, как менее маркие. Поверх рубашки носили жилетку без всякого пиджака. Рубашка часто, особенно у пожилых, оставалась навыпуск. Особенное тяготение к жилетке наблюдалось у только что приехавших из деревни. Старую жилетку можно было купить на толкучке копеек за 50-60. Наденет паренек такую жилетку и почувствует себя уже городским.
На холодное время приобретались шерстяные фуфайки, шапки, толстые брюки, ватные пиджаки. Сапоги оста-{105}вались, редко кто носил валенки. Длинные пальто рабочие носили мало, они стесняли их движения. Нагольные полушубки носить стеснялись, черненые были в большем ходу. Надо сказать, что, как общее правило, одежды от завода, фабрики или просто хозяина не полагалось, разве только в специальных цехах. Поэтому рабочему человеку приходилось все вещи покупать на свои деньги: в зависимости от их количества либо старые или подержанные - на толкучке в Александровском рынке, либо новые, подешевле, в лавках, открываемых возле больших предприятий. У больших заводов в дни получек открывался своеобразный базар "на ногах": приходили торговцы с разными товарами, обувью и одеждой на всякую цену. Тут же, на улице, все это и примерялось. Окружающие принимали участие в покупке своими советами: кто хвалил, кто хаял товар, сбивая с толку покупателя и "купца".
Высококвалифицированные рабочие ходили на работу также в высоких сапогах и в простой одежде, а "на выход" носили хорошие тройки, рубашки с галстуком, брюки навыпуск и даже сюртуки. Носили пальто, зимнее на меху, и хорошую меховую шапку. Рабочие попроще носили шапку-ушанку, а после первой революции - чаще папаху. Фуражка с лакированным козырьком уступила место кепке.
Женщины-работницы носили ситцевые платья, на работу обычно темные. На производстве надевали сверху халатик или передник. Выходные платья старались приобрести шерстяные. На улице в холодную и прохладную погоду носили короткие на ватине кофты, позже - более длинные саки. Не обремененные семьей работницы копили деньги на приобретение плюшевого сака с аграмантами 1. Ноги обували в прюнелевые ботинки - самую дешевую женскую обувь 2. В сырую погоду поверх надевали галоши. По праздникам прюнелевые башмаки заменялись кожаными туфлями или полусапожками на пуговках. Для застегивания пуговиц употреблялись специальные крючки.
Предметом особых забот работниц были головные платки, шали, полушалки. Разного цвета, разного качества, часто красивой расцветки, они сразу меняли облик женщины. Черный платок придавал грустный вид, цветистый платок или шаль делали ее нарядной, праздничной. Очень была распространена черная кружевная шаль, которую надевали обычно вместе с саком. Шляпа или шапочка в рабочей среде не прививалась. Сережки, колечки, брошки и браслеты были в большом ходу, чаще серебряные, позолоченные с искусственными камнями. Прическу {106} делали простую, узлом, закалывали обычными железными шпильками, стриженых работниц не было. Девушки носили косы. Косметика почти не применялась, считалось стыдным румяниться и даже пудриться, особенно девушкам. Духов и одеколонов обычно не покупали, ограничивались душистым мылом. Особенно в ходу было земляничное мыло.
Средний слой населения - мещане, мелкие чиновники и служащие старались подражать господам. Со слезами тратили свои последние денежки (особенно женщины) на одежду, чтобы выглядеть прилично. Это требовало от скромных тружеников больших жертв, ухищрений. Мужчина должен быть в крахмальном белье с манжетами, в приличном костюме-тройке, штиблетах, носить шляпу или котелок, иметь зимнее или демисезонное пальто. Курящим полагалось иметь серебряный портсигар, пожилым - трость с серебряной ручкой. Так как такая одежда требовала значительных денег, то торговля шла навстречу и выпускала пристежные крахмальные груди, манжеты и воротнички. Была даже государственная монополия на бумажные воротнички ценою 5 копеек. Доходы от их продажи, а также игральных карт шли на содержание детских приютов. Последнее время появились пристежные целлулоидные воротнички, которые можно было мыть и снова носить. Тройки выпускались модных фасонов, но полушерстяные и даже бумажные. Варшава и Лодзь предлагали за 1 рубль 50 копеек плоские часы вороненой стали с цепочкой, портсигары польского серебра тоже примерно за такую же цену.
Для парадных случаев старались завести сюртук или жакет и шевровые ботинки 3. Зимнее пальто имели обычно на вате, а не на меху. Летом носили парусиновые костюмы, а сверху летнее пальто или плащ, на голове соломенную шляпу.
Особенно страдали в погоне за модой женщины. Прежде всего нужно было иметь приличную шляпу к лицу. Шляп было большое разнообразие, конкурирующие многочисленные магазины и мастерские придумывали бог знает какие фасоны. Серьезные, скромные для девушек, для молодых и пожилых дам - с лентами, цветами, перьями, с кружевами, вуалями. Выбрать шляпу - целая мука: чтобы шла, была недорога, практична, не на один сезон. Приходилось бегать до обморочного состояния по магазинам и мастерским. Продавщицы услужливо предлагали множество шляп, уверяя, что именно эти к лицу и последний крик моды, кроме того, крайне дешевы, и {107} в конце концов часто всучивали залежалый товар. Только придя домой, покупательница разбиралась в модной покупке и часто убеждалась, что купила совсем не то, что нужно. Тут имели место слезы и даже разочарование в жизни.
С дамскими шляпами связаны были и несчастные случаи. Дамы носили длинные волосы и большие прически. Чтобы шляпа держалась на голове, ее прикалывали к волосам длинными булавками длиной тридцать и более сантиметров. Бывали случаи, когда в тесной толпе острые концы этих булавок царапали лица соседей и даже выкалывали глаза. Позже было издано административное распоряжение, чтобы эти булавки продавались только с наконечниками, но они часто терялись, и несчастные случаи повторялись.
Так же трудно было с зимними шапочками. Надо было их подобрать к пальто или шубке, сочетать меха воротника и шапочки, и опять-таки, чтобы это было недорого. В особых случаях, когда делалась особо пышная прическа, которую жалко было помять шляпой или шапочкой, накидывали на голову шелковый или кружевной платочек. При поездке в театр или концерт на голову часто надевался капор из легкого гаруса. Женщины среднего круга одевались довольно скромно, обычно носили длинную юбку клеш и кофточку. Юбки были настолько длинны, что касались пола или панели, и для того, чтобы не обнашивался подол, подшивалась тесьма - бобрик. В сырую погоду, чтобы не запачкать и не замочить подол, женщины подбирали юбку одной рукой. Для этой же цели употреблялся "паж" - резиновый жгут, который застегивался на бедрах, а юбка немного выдергивалась выше жгута.
Для создания стройной фигуры молодые, да и пожилые, женщины, особенно полные, носили корсет под кофточкой. Это французское изобретение причиняло много страданий и вреда их здоровью. Неразумные модницы до того стягивали свою фигуру в "рюмочку", что окружность талии чуть ли не равнялась окружности шеи. Можно себе представить, какие муки переносила кокетка в жестком корсете на китовом усе, когда она пребывала подряд несколько часов в такой кирасе! Был еще один женский секрет для того, чтобы фигура выглядела более рельефной: под юбку сзади, ниже пояса, подшивали маленькую удлиненную подушечку.
Верхняя одежда женщин состояла в теплую погоду из костюма скромных тонов или легкого пальто. Для холод-{108}ной погоды были осенние драповые пальто и зимние шубки, обычно не меховые, так как и тогда меха были дороги. Ограничивались меховым воротником, обшлагами и муфтой из того же меха. Вместо мехового воротника носили иногда боа из перьев или меха. Оно надевалось отдельно от шубки. На боа из меха часто пришивались мордочки или лапки тех зверьков, из которых сшито боа. Муфты делались большого размера, с внутренним карманом, куда можно было положить перчатки, портмоне, носовой платок.
Обувь молодые женщины носили на французском каблуке средней высоты. В дождливую погоду все ходили в галошах.
Чулки обычно носили простые, в теплое время - бумажные, в холодное шерстяные. Юбки были длинные, чулок не было видно, а потому на них не обращалось большого внимания. В парадных случаях для девушек или невест покупались ажурные шелковые чулки. Всякого рода чулки-"паутинки" стали входить в моду только в самое последнее время.
Украшения в виде сережек носили почти все, колечки, браслеты тоже большинство, замужние - обязательно золотые обручальные кольца. Коммерция шла навстречу этим людям со скромными заработками. В Петербурге был на Невском магазин Кепта и Тэта, где в эффектных витринах с вертящимися электрическими лампочками слепили глаза прохожих искусственные бриллианты и другие цветные камни в оправах из фальшивого серебра и золота. Да и неподдельные драгоценности были у этих людей более дешевые: кольца и браслеты дутые, камушки мелкие, вместо бриллиантов - осколочки, так называемые "розочки".
Особая нарядность платья, подчеркивание рельефности фигуры стали выходить из моды к 10-м годам. Ударились в английский скромный стиль с прямыми линиями, многочисленных украшений тоже избегали. Эта мода выродилась позже в стиль модерн с очень узкими юбками и громадными шляпами.
Несколько слов о прическах: короткой стрижки не было, разве только у некоторых курсисток. Старались носить пышные прически. Под волосы не очень густые подкладывали волосяные валики. Волосы укладывались в прическу либо на темени, либо на затылке, смотря по фасону, скреплялись шпильками металлическими, целлулоидными, черепаховыми или под черепаху. Иногда шпильки и гребни украшались фальшивыми бриллиантами или {109} инкрустациями из фальшивого золота. Также для украшения прически употреблялись различные пряжки, нитки из фальшивых драгоценных камней, жемчуга. Девушкам было модно украшать головку венчиком из искусственных мелких цветов. В особых случаях - на балы и свадьбы - волосы посыпались золотой или серебряной пудрой. Всех причесок нам не описать, как невозможно предугадать все фантазии женщин и угодливых русских "жанов" - парикмахеров.
Принято было завивать волосы, но чаще это делалось дома, для чего каждая женщина или девица имела щипцы, которые нагревали примитивным способом, опуская внутрь стекла горящей керосиновой лампы. Папильотками завивались реже, причем смачивали волосы сладким чаем или квасом. Это делали более пожилые женщины. Они же часто носили на голове вместо прически наколки из черного шелка и кружев.
Девушки особых причесок не носили, особенно молоденькие, а ограничивались косой, особенно если волосы были густые и длинные. Поверх косы на затылке обычно большой черный бант, в театр и на балы - белый. В этих же случаях были приняты локоны (свои завитые или накладные).
Несколько слов о "кисейных барышнях" - термине, вошедшем в литературу. Выходное, бальное платье молодым небогатым девицам было принято шить из белой кисеи. Это было недорого, и такое платье на голубом или розовом чехле делало девицу нарядной, если к тому же прическа с большим белым бантом, белые туфельки и чулки. Если платье было пышное, получался воздушный вид. По талии обычно завязывалась широкая белая лента, на спине из этой же ленты делался большой бант с концами. Руки обычно были открыты, делалось маленькое декольте.
В среде интеллигенции, лиц свободных профессий - адвокатов, врачей, артистов, служащих частных банков,- более зажиточных, соприкасавшихся с высшим обществом, бывавших за границей, одежда и моды были несколько иные.
Зимою у мужчин костюм был обычно темных тонов, шерстяной. Желая несколько оживить однотонность костюма, носили жилет из другой материи, более светлого цвета. Было принято разнообразить эти костюмы, надевая брюки более светлого цвета, чем пиджак, обычно в продольную полоску.
Моды на костюмы менялись. На нашей памяти носи-{110}ли длинные пиджаки - "пальмерстоны", позже начали носить более короткие из плотной материи, зимой двубортные, летом из более легкой материи однобортные с закругленными полами. Брюки носили узкие, иногда со штрипками. Последнее время перед войной стали входить в моду брюки клеш, но они не привились. Часы носили в жилетном кармане, обыкновенно открытые из вороненой стали с золотой или, тоже вороненой цепочкой, причем молодые носили в верхнем кармане жилета, а пожилые в нижнем. Наручных часов не носили. Рубашку под тройку носили белую, зимой крахмальную, летом - пикейную. Летом носили пиджак из альпака - легкой шелковой материи обычно синего цвета. В жаркое время носили парусиновые, чаще чесучовые костюмы.
Галстуки употреблялись двух видов: самовязки, что было неудобно при крахмальных воротниках, и чаще - "на машинке" 4. Воротники у рубашек были стоячие с загнутыми отворотиками или двойные отложные.
Более официальными костюмами были сюртук, смокинг и фрак. Сюртук всегда был двубортный, с задними карманами и пуговицами на талии. Шился он из черного сукна, у молодых до колен, у пожилых несколько ниже. На груди для молодых шился более открытым, для пожилых - более глухим.
Жакет - это была переходная форма от сюртука к фраку. Он шился однобортным, фалды закругленные. Вырез более глухой, чем у фрака, такого же типа и жилет. Брюки под жакет было принято носить в полоску, черные с серой полоской. Последнюю нижнюю пуговицу жилета было принято не застегивать. Галстук с сюртуком носился темный.
Молодые, следя за модой, носили разного вида проборы: то сбоку, то посередине, причем и по затылку, почти до самой шеи, что придавало фатоватый вид. Некоторые зачесывали волосы свободной волной назад, другие носили с зачесом на лоб. Более пожилые люди носили:
зачес назад, низкий боковой пробор, с зачесом на образующуюся плешину, или брились наголо. Носили усы и бороды или только баки. Бороды и усы носили разных фасонов. Усы - "в кольцо", "щеточкой", острые, прямые, "а-ля Вильгельм", пушистые, сливающиеся с бородой. Бороды - короткие, длинные, раздвоенные, "лопатой", Henri Quatre 5 и пр. Волосы на голове мужчины не завивали, усы же и бороду иногда подвивали, "нафабривали". Брили все лицо почти исключительно артисты, католические священники и немногие англоманы. Космети-{111}ка у мужчин была редкостью, помада же употреблялась самых различных сортов.
Одежда женщин этого круга мало отличалась от описанного выше наряда среднего сословия. Только материалы были добротнее, платья моднее. Украшения настоящие, не фальшивые. Обувь на заказ, каблук более высокий, лакированные туфельки, замшевые ботинки. Шлейфов не носили, разве только в особо торжественных случаях, на свадьбах, на званых балах. Артистки при выступлениях на концертах часто появлялись на эстраде со шлейфом.
При выезде в вечернем дорогом туалете надевались ротонды 6, чтобы не смять платья. Надевать на себя много драгоценностей считалось плохим тоном.
В противоположность этому в среде купечества, подрядчиков женщины одевались пышно, этим подчеркивалось богатство их мужей. Масса дорогих мехов: палантины 7 из соболя, горностая, шиншиллы, шубы на дорогом меху или целиком все пальто с верхом из ценного меха котика, каракуля. Платья из лионского бархата, английского тонкого сукна, шелковые с брюссельскими или венецианскими кружевами. Обувь особо оригинальных фасонов, нередко ботинки из белой лайки. Для тепла надевали в морозы фетровые светло-серые ботики.
Что касается драгоценностей, то дамы этого круга не знали чувства меры: у иной пальцы едва сгибались от множества колец. На пышной груди покачивался, как на волнах, громадный кулон, который стоил не одну тысячу рублей. Золотая цепь от этого кулона свободно могла бы удержать свирепого цербера. Браслеты были нанизаны от запястья до локтя. Толстые золотые цепи в этом кругу вообще были в моде, на них носили не только часы и лорнеты, но и муфты. На шею надевали жемчужные и бриллиантовые нити, укладывали на голову диадему из драгоценных камней.
Одежда мужчин купеческого круга ничем особенно не отличалась, только материал был добротный, сшито солидно, не в обтяжку, сюртук подлиннее. Шуба на дорогом меху. Купцов в поддевках в наше время почти уже не было, времена и типы Островского отошли в прошлое.
Золото мужчины тоже носили: перстни, часы с толстой золотой цепочкой, запонки и булавки в галстук с драгоценными камнями.
Аристократия старалась не отличаться особой пышностью, броскостью туалетов. На улице, встретив скромно одетую даму или господина, вы можете и не признать {112} в них аристократа. Конечно, у этих людей вы не встретите смешения разных стилей, вся одежда от головного убора до перчаток и ботинок будет строго выдержана. Им не свойственны были слишком яркие цвета одежды, которые бросались бы в глаза. Надо отметить, что люди этого круга не очень спешили следовать за модой, а всегда чуточку как бы отставали от нее, что считалось признаком хорошего тона. Моды, в общем, были те же самые, но сшито безукоризненно, из самых лучших материалов.
Много вещей и материалов было из-за границы. Никогда эти люди не злоупотребляли ношением драгоценностей. Обычно эти драгоценности были фамильные, переходившие из рода в род. Были, конечно, и исключения отдельные богатые аристократки одевались очень нарядно и тратили, на это громадные деньги. Так, графиня Орлова, та самая, которую увековечил В. В. Серов, тратила ежегодно (по словам сына директора императорских театров В. А. Теляковского) около ста тысяч рублей.
Нам приходилось встречать этих людей кроме обычной обстановки в Мариинском и Михайловском театрах и в концертах. В воскресенье вечером в Мариинском театре шел обычно балет, и тогда собиралась особо нарядная публика. Но и там можно было отличить аристократок от представителей "золотого мешка": красивые, изысканные туалеты аристократок выгодно отличались своей выдержанностью и изяществом от пышных, броских туалетов богатеев.
Скажем несколько слов о ридикюлях, сумках, веерах, духах, перчатках. В скромной среде часто шились сумочки из остатков материи к надетому платью. К ним пришивались кольца, через них протягивались шнурки того же цвета. Сумочка украшалась кружевами. Ридикюли носили кожаные, разных цветов, с металлическими замочками и ручками. Были ридикюли из панцирной металлической сетки, серебряные и позолоченные.
Веера в обиходе не употреблялись, разве только летом, в жару. Обыкновенно веер был принадлежностью бального платья. Разнообразие их было большое, от очень дорогих с черепаховой оправой и страусовыми перьями на золотой цепочке до дешевых на целлулоидной или деревянной основе с гармошкой из шелковой материи. На дачах было принято носить китайские веера гармошкой из бумаги. Их продавали разносчики-китайцы.
Духи модны были французские, особенно фирмы Коти. В конце описываемого периода вошли в моду эссенции, и тоже французские, например ландышевая: маленький {113} пузыречек заключен в деревянный футлярчик. К притертой пробке прикреплен стеклянный пестик, с которого капали одну-две капли на волосы или платье. Аромат сохранялся долго, была полная иллюзия натурального ландыша. Стоили они дорого - 10 рублей за флакончик.
Перчатки носили вязаные, из фильдекоса, в более теплое время - из лайки и замши. Среди богатых людей и в высшем кругу не принято было появляться на улице без перчаток. Особенно славились английские перчатки фирмы Дерби из хорошей кожи, с большой прочной кнопкой. Женщины на балах и приемах надевали белые шелковые или лайковые перчатки, длинные, выше локтя. Мужчины - если они в форме - замшевые, в штатском - лайковые.
Несколько слов о парикмахерах и парикмахерских. Последних было очень много, большинство плохих. Лишь несколько выделялись чистотой, первоклассным оборудованием и хорошими мастерами. Помещались они главным образом на центральных улицах. Дамский парикмахер отличался от мужского в основном видом и обхождением, а также "знанием" французского языка, приобретенным самостоятельно. Отдельные термины вошли и в наш обиход, например локон. Некоторые инструменты, приборы имели тоже французские названия, сохранившиеся до сих пор: в частности бигуди. Парикмахеры перенимали французскую речь от своих клиентов. На вывесках можно было прочесть: "Coiffeur Jean", "Coiffeur Michel". Этим они хотели подчеркнуть высокую квалификацию, поднять свой авторитет, цену. В мужских парикмахерских был тоже свой шик. Кресла напоминали зубоврачебные, на чугунных тумбах, с механизмом для подъема. Имелись отдельные запираемые ящички, где хранился персональный или даже собственный инструмент клиента. Мастера были в сюртуках или жакетах. Белых халатов не надевали, не было принято. Мастер считал своим долгом занимать клиента городскими сплетнями, при работе он пританцовывал, жонглировал инструментом, оттопыривал мизинец, манерничал. Богатые люди в парикмахерские не ходили, к ним в определенные дни мастер приходил на дом. Его можно было вызвать, чтобы украсить невесту, причесать всю семью и даже прислугу к какому-нибудь торжеству.
Разумеется, все это касалось лучших ателье. Большинство же парикмахерских были маленькие, на три-четыре места, оборудование простое, обыкновенные стулья с привинченными кожаными подголовниками, дешевые {114} зеркала, не совсем чистое белье, небольшой набор инструментов, резкие, ядовитые одеколоны. У мастеров ни вида, ни обхождения, публика невзыскательная. Но у всех парикмахеров, невзирая на ранг, некоторые общие приемы. Когда стрижет или бреет, обязательно несколько раз осведомится: "Вас не беспокоит-с?" Правит бритву с каким-то остервенением, показывая рвение угодить клиенту. После правки бритвы обязательно попробует острие на ногте большого пальца левой руки или на волосах затылка.
Некоторые прически и инструмент вышли теперь из употребления, например стрижка "бобриком". В этом случае применялась круглая щетка с двумя ручками и необыкновенно жесткой щеткой. Если мастер орудовал такой щеткой, клиент держался за подлокотники, чтобы его не сорвало со стула.
Среди парикмахеров встречались настоящие художники. Они обучались своему делу начиная с мальчиков. Сначала подметали пол, подносили кипяток для бритья, присматривались, потом начинали учиться. Учились главным образом на нищих. Мы неоднократно наблюдали сцены такого рода: скромная парикмахерская, утренний час, посетителей нет. Входит нищий, просит милостыню. Хозяин кричит в заднюю комнату: "Федяйка, сюда!", а нищему говорит: "Мы тебя сейчас подстрижем, садись!" Тот смущен, говорит с опаской, что он не затем пришел, что у него нет денег. Ему объясняют, что денег не надо, а ему дадут копейку. После этого диалога Федяйка - будущий Теодор - начинает обрабатывать нищего по указаниям мастера. Его голову стригут под разные прически, ведь надо учиться всему. Такая машинка в неумелых руках дерет волосы, нищий кряхтит, его успокаивают: "Потерпи". Начинают его брить, подстригать бороду под "Генриха IV". Если порежут, сейчас же прижмут так называемой железной ватой, то есть пропитанной йодом. Усы закручивали, например, под "Ивана Поддубного". Если нищий не узнавал самого себя и пытался выражать протест, его выпроваживали без подаяния.
В парикмахерской была вывешена такса, в зависимости от разряда мастерской. Самая низкая цена: бритье - 5 копеек, стрижка - 10. Дамские парикмахеры с утра до вечера дышали паленым волосом, поскольку завивка в то время выполнялась горячими щипцами. С какой ловкостью действовали они этим инструментом! Щипцы буквально мелькали у них в руках. Быстрота была необходима, чтобы одним нагревом щипцов сделать больше ло-{115}конов. Помимо этих работ мастер должен был уметь делать парики, накладные косы и локоны, откуда и пошло название "парикмахер". Работа весьма кропотливая, требующая большого умения и терпения. Здесь применялся даже веер, чтобы уложить волосы в одном направлении, корешок к корешку, вершинка к вершинке при посадке на клей.
САД "БУФФ"
И НАРОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ
В наши молодые годы среди летних увеселительных заведений этот сад выделялся. Есть у М. Е. Салтыкова-Щедрина примечание, что у Тарасовых на Фонтанке был "воксал" 1, который сдавался под "шустер-клуб". Мы не застали "шустер-клуб" 2, но помним, что до открытия сада "Буфф" был так называемый Измайловский сад. Это старое название теперь восстановлено. На памяти авторов там, где теперь ресторан со стеклянной верандой, был маленький деревянный открытый театр, а на том месте, где теперь театр, была открытая эстрада, на которой подвизались канатоходцы, фокусники, престидижитаторы 3, гимнасты. Кроме того, была раковина для военного оркестра и буфет.
В 1901 году предприимчивый ярославец Тумпаков, некогда бывший половым в чайной, арендовал Измайловский сад у Тарасовых, сломал все постройки, за исключением раковины для оркестра, построил каменный театр с партером под крышей, ресторан с застекленной верандой и кабинетами и другие здания, залил сад электричеством, заново распланировал дорожки, устроил туфовый грот на горушке, установил арку с гирляндами на главной аллее, а при входе разбил громадный цветник из живых и искусственных цветов; вечером в этих цветах зажигались разноцветные лампочки, получалось эффектное зрелище, которое сразу ошеломляло посетителя.
Год открытия "Буффа" Тумпаков увековечил флюгером над верандой с цифрой 1901. Тумпаков пригласил лучших артистов и открыл замечательную оперетту. Арендный договор с Тарасовыми был кабальный, срок всего пять лет, с оплатой 40 тысяч рублей в год, все постройки и улучшения остаются в пользу Тарасовых, преимущество при возобновлении договора остается за Тум-{116}паковым. Он шел на все, рисковал всем, залез в долги по уши, дошел до того, что бегал занимать по 25-50 рублей. Риск его оправдался - в одно лето он покрыл все расходы и расплатился со всеми долгами 4. Публика валом валила в сад посмотреть чудесную оперетту в исполнении великолепных артистов и покутить в фешенебельном ресторане-веранде. Богатая столичная публика и приезжие несли свои денежки этому ловкому предпринимателю. В столицу съезжалось много заводчиков, фабрикантов и разных предпринимателей из провинции и Сибири, денег у них было много, вдали от семьи и прямых деловых забот они искали всякого рода развлечений, знакомств с артистками, а потому кутили они очень широко, оставляя многие сотни Тумпакову. А этот бывший половой, теперь уже "господин Тумпаков", по моде одетый, в блестящем цилиндре, самодовольно похаживал по своему заведению и любезно разговаривал с гостями. Иногда подсаживался к столу, приказывал подать шампанского и втравливал этих гостей в большой кутеж и большие расходы. Вспоминается его внешность: небольшого роста, с округлившейся фигурой, с черными волосами и, бородой, с весьма оживленным лицом, умными хитрыми глазами. Он мог быть очень любезен и даже обаятелен, но сразу мог сделаться резким и даже нахамить. Он знал, как можно угодить избалованной столичной публике, видевшей блестящие оперетты Парижа и Вены, хорошо понимал, чем можно раззадорить провинциальных богатеев и как вытрясти их карманы. До Тумпакова в Петербурге не было настоящей хорошей оперетты с прекрасными артистами, хором и оркестром.
Тумпаков сумел набрать талантливых артистов - Шувалову, Пионтковскую, Зброжек-Пашковскую, Тамару, Кавецкую, Монахова, Брагина, Вавича, Феона, Ростовцева 5 и др. Он не стеснялся переманивать артистов от других антрепренеров, сулил им разные "блага", повышал гонорары и добивался своего. Главным и единственным режиссером был Брянский 6, крупный мужчина с бульдожьим лицом. Он был и администратором, и художественным руководителем, и кем он только не был! С артистами мелкого масштаба он был жесток и даже груб, позволял себе орать на них, хористки и молодые артисточки плакали от его грубости.
Музыкальным руководителем и дирижером был чех Шпачек, великолепный дирижер, спокойный, милый человек, никогда не позволявший себе возвышать голос. Дирижировал он всегда в цилиндре, движения рук его бы-{117}ли изящны. Труппа его очень любила, оркестранты его уважали. Во время репетиций, без всяких окриков, он остановит постукиванием палочки оркестр и певцов и с чешским акцентом пропоет нужную музыкальную фразу, указывая, как ее следует исполнять.
Трудовой день сада "Буфф" начинался рано: выходил сторож Степан и производил легкую приборку сада, чистил панель и набережную Фонтанки, позевывал и смотрел в небо, что будет за погода, в зависимости от нее, много ли будет народа и много ли будет сора и мусора для уборки. Затем приходили повара и судомойки, начинала работать кухня. Подходили со двора подводы с продуктами, вином, пивом.
К 11-12 часам появлялись артисты и оркестранты, костюмеры, декораторы и пр. К полудню приходили официанты, убирали веранду, столы. Начиналась репетиция; забавно было смотреть, как артист в котелке, в модном пальто, с тросточкой изображал маркиза Корневиля или Менелая из "Прекрасной Елены".
Репетиции шли с перерывами, во время которых артисты ходили обедать, прогуливались по саду, отдыхали на скамейках, а некоторые играли в орлянку. Эта игра широко была распространена во всем Петербурге: играли на набережных, на рынках, базарах, во дворах.
Отдохнув, все опять принимались за тяжелую работу: каждая мизансцена прорабатывалась по нескольку раз, Брянский был деспотичен.
Часам к пяти в саду опять появлялся дворник Степан, тщательно подметал все дорожки и поливал их из шланга, чтобы ни одна пылинка не села на изящную туфельку дамы и лакированный ботинок посетителя.
К 6 часам приходил военный оркестр одного из гвардейских полков. Много лет подряд играли гвардейские стрелки в шелковых малиновых рубахах, в барашковых шапочках, невзирая на лето. В 6 часов сад открывался для публики. Входная плата была 40 копеек, места в театр были дорогие. Вначале приходила более скромная публика, послушать духовую музыку и, главное, занять лучшие места у заборчика, окружавшего партер театра, чтобы посмотреть оперетту за те же входные 40 копеек, правда стоя. Контингент этих любителей оперетты состоял из студентов, ремесленников, мелких служащих. Одеты они были скромно, дамы и мужчины в шляпах (мужчин в косоворотках, русских сапогах, в картузах, а женщин в платках в сад не пускали). Эта публика в ресторан не заходила, там цены были очень высокие. Напри-{118}мер, бутылка пива, которая стоила 9-11 копеек, в "Буффе" продавалась за 40 копеек. Бутылка шампанского продавалась за 12 рублей вместо 2-4 рублей, и все в таком же роде.
К 8 часам, к началу оперетты, съезжалась шикарная публика, около входа в сад околоточный регулировал движение экипажей. Дамы в громадных шляпах, со страусовыми перьями, в великолепных манто, мужчины в цилиндрах и котелках с дорогими тростями, блестящие офицеры, звенящие шпорами. Вся эта толпа была настолько раздушена, что забивался запах цветов и зелени. Эта богатая публика, чтобы убить время до начала оперетты, заходила предварительно закусить в ресторан и оставляла за собой столики на ужин. До начала оперетты, во время антрактов играла духовая музыка, и, надо признать, очень хорошо. Исполнялись классические пьесы, попурри из опер и балетов, вальсы Штрауса, марши и пр.
Начиналась оперетта, большей частью классического репертуара: "Корневильские колокола", "Мартин рудокоп", "Маскотта", "Нитуш", "Боккаччо". В моду входили "Граф Люксембург", "Веселая вдова" 7, "В волнах страстей" и др.
Перед началом оперетты портал сцены был закрыт "коммерческим" занавесом, сплошь разрисованным крикливыми рекламами с рисунками корсетов, обуви, велосипедов, разного рода баночек с помадами и знаменитой рекламой "я был лысым". (Изображены были двое мужчин, один лысый и он же с богатой шевелюрой после употребления рекламируемого средства для ращения волос.)
Когда дирижер Шпачек садился за пульт и изящным движением руки открывал увертюру, "коммерческий" занавес поднимался, за ним был бархатный занавес. Кстати сказать, когда Шпачек поднимался за пульт, прежде чем сесть за него, он приподнимал цилиндр, здороваясь с публикой и с оркестром.
Постановка оперетт была красочная и богатая, Тумпаков денег не жалел, хорошо зная, что они вернутся ему с лихвой.
Понравившаяся публике оперетта шла иногда весь сезон изо дня в день, редко случалось, что за лето пройдет 5-6 оперетт.
Труппа была хорошая. Тогда славилась примадонна Вера Михайловна Шувалова, великолепная каскадная исполнительница главных ролей. Про нее говорили, что это {119} не женщина, а "шампанское". И действительно, когда она вылетала на сцену, все оживлялись.
Она с задором, с шиком танцевала канкан или матчиш, не переходя граней приличия, но показывая, как будто ненароком, великолепные кружева своего "десу". Это была талантливая русская женщина с простым, приветливым лицом и обворожительной улыбкой. Надо было удивляться, как этот самородок без консерватории 8 и театрального училища достиг в своем жанре такого высокого мастерства!
Были и другие великолепные артистки, которые создавали прекрасные образы героинь, также хороши были в "каскаде" милая и изящная Зброжек-Пашковская и другие. Из опереточных артистов особенно блистали баритон Рутковский, талантливый самородок Монахов, барственный Вавич, которого природа наградила красивой внешностью, хорошим голосом - бархатным баритоном. Как он был великолепен у качелей в оперетте "Веселая вдова"! Да всего и не перескажешь, всего и не вспомнишь! Монахов, который начал исполнителем частушек под гармонь в Крестовском саду, стал потом непревзойденным простаком в оперетте, особенно удавались ему роли денщиков, вообще простодушных людей. В дальнейшем его талант проявился в драме, об этом знает уже и советский зритель.
Этой плеяде первоклассных артистов и Тумпаков, и поклонники создавали особенные условия для работы и жизни.
Совершенно иным было положение второстепенных артистов и хористов: получали они мало, но современные костюмы должны были иметь свои, как тогда было принято во всех театрах и для всех артистов. А ведь одеваться они должны были нарядно, с известным шиком. Антрепренер при найме спрашивал, какие туалеты имеет артистка или артист, а в случае отсутствия таковых мог быть и отказ. Поэтому приходилось иногда идти на хитрости: занимать нарядные туалеты у подруг или даже брать напрокат. В Петербурге принято было брать напрокат носильные вещи среди артистов и таких лиц, которые хотели "пустить пыль в глаза", а имели одну "монопольку" 9, или по нужде, как в данном случае - у артистов. Предприимчивые люди скупали по дешевке разные носильные вещи и открывали "гардеробы проката".
Для вящей славы "Буффа" и для увеличения доходов Тумпаков после окончания оперетты иногда устраивал {120} концерты, приглашая знаменитостей, например А. Д. Вяльцеву, Варю Панину 10 и др. Особенно валила публика на концерты Вяльцевой, за приставной стул платили по 25 рублей. Петербургская публика отдавала должное этой милой, обаятельной певунье. Ее прекрасный голос звучал как хорошая виолончель в руках настоящего артиста-музыканта. Никто с такой душой не исполнял романсов и русских песен. "Гайда, тройка, снег пушистый...", "Ветерочек", "Я на горку шла..." приводили публику в неописуемый восторг. Выходила она на сцену в стильном, темном, скромном платье. На шее на тонкой цепочке обычно висел ее знаменитый белый слоник, который якобы приносил ей счастье.
Варя Панина, дородная пожилая женщина, пела сидя, очень низким, густым контральто. "Пожар Московский", "Хризантемы", "Жалобно стонет..." - вот что особенно хорошо она исполняла. Некоторые артистки поражали публику не столько голосом и исполнением, сколько туалетами и драгоценностями. Тамара выходила в концерте с бриллиантовой стрелой во всю грудь, в публике раздавался шепот восхищения - говорили, что стрела стоила чуть не сотню тысяч.
В антрактах публика устремлялась к буфету с богатой стойкой подкрепиться, воодушевить себя и согреться в холодную погоду, ведь не надо забывать, что партер театра с боков был совершенно открыт и там гулял ветер. Петербургское лето не баловало теплой погодой. Богатая публика заходила на веранду ресторана, где выпивала и закусывала за столиком, приготавливая себя к следующему действию оперетты.
После окончания театрального представления оркестр играл бравурный "вышибательный" марш и уходил в казармы. Скромная публика, которая простояла всю оперетту у заборчика, оставалась немного отдохнуть на скамеечках, поделиться впечатлениями и вскоре расходилась по домам, напевая понравившиеся мотивы из оперетты.
Денежная публика, заполняла веранду ресторана или отдельные кабинеты, чтобы поужинать и покутить. Главный доход Тумпаков имел от ресторана с его бешеными ценами, а не от театра, который требовал больших расходов и по существу являлся средством заманить богатую публику в ресторан. Тут-то эту доверчивую публику и "накрывали", главную роль в этом играли метрдотели. На веранде работали два метрдотеля, дородные, высокие, одетые в смокинги и с галстуком-бабочкой под за-{121}плывшим подбородком. Метрдотель, видя, что столик заняла "стоющая" публика или большая компания, чтобы покутить, моментально, с необыкновенно приветливой улыбкой спешил к гостям и начинал разговор сладчайшим голосом, рекомендуя лучшие, деликатесные произведения кухни "Буффа", предлагал тонкие вина, редкие фрукты, стараясь ввести посетителей в как можно большие расходы. По мановению руки метрдотеля официанты бросались выполнять заказы гостей.
В кабинеты часто приглашали хор цыган, который всегда был наготове. Кутежи в отдельных кабинетах затягивались до полудня следующего дня, а то и на несколько дней. За деньги все дозволялось, полиция смотрела на это весьма снисходительно, но не бескорыстно.
Тяжелую работу несли официанты, повара, работники кухни и буфета. Официанты с 12 часов дня до 4 часов ночи все время были на ногах, быстро носились от столиков в кухню и буфет, искусно носили подносы, заставленные разными блюдами; они жонглировали тяжелыми подносами, нося их над головой. Кроме выносливости и ловкости надо было иметь хорошую память и исключительное внимание, чтобы во всем угодить гостям, которые часто бывали капризны и не видели в официантах человека. Достаточно гостю было выразить неудовольствие, как официанта выгоняли. Жалованья они не получали, как и метрдотели, жили только на чаевые, из которых вносили в особую кассу на бой посуды; чтобы получить место официанта, надо было дать взятку метрдотелю, он с ними работал, он их и набирал.
Против главного входа на веранде был высокий помост, заставленный экзотическими растениями; на нем играл настоящий румынский оркестр. Оркестранты все были в черных фраках, первая скрипка, он же дирижер, стоял впереди оркестра. Он пританцовывал, выламывался, принимал невообразимые позы, то откидывался назад, закрывая глаза, то наклонялся вперед, прямо висел над ближайшими столиками, пожирал своими черными, маслянистыми глазками близсидевших дам, подмигивал им, многозначительно улыбался. На его подвижном лице ярко отражались все чувства, доступные человеку: страдание, радость, восторг и упоение, светлые надежды и погибшие мечты. Это был действительно "артист", порожденный ресторанным угаром. Однако надо признать, что он был отличным, правда своеобразным, скрипачом. Его скрипка пела, рыдала, хохотала, тосковала. Этот румын {122} был настоящий виртуоз в своем жанре. Под стать первой скрипке были и другие музыканты. Особенно отличался румын, игравший на редком инструменте - свирели фавна (набор разноголосых деревянных дудочек, соединенных вместе). Было страшно смотреть на него, когда, выкатив огромные глазищи, в экзальтации яростно возил он по своим губам свирель, издавая оригинальные, красивые звуки. Эти румыны зарабатывали свой хлеб буквально "в поте лица".
Приблизительно в 1912 году к торцу веранды была пристроена сцена, на которой давался дивертисмент. Веранда была застеклена и устроены наверху ложи и кабинеты (теперь это здание сцены переоборудовано в кухню). Дивертисмент-кабаре - это был своеобразный эстрадный концерт. Здесь выступали французские шантанные певицы, которые по ходу исполняемого номера умело полураздевались. Выступали негры со своей знаменитой чечеткой, тогда только что входившей в моду. Пел цыганский хор, плясала молодая цыганка, тряся плечами. Выступали эксцентрики, фокусники, разыгрывались коротенькие скетчи, но все подавалось "под соусом" эротики. На артисток этой кафешантанной эстрады мужчины смотрели как на совершенно доступный "товар", и обычно достаточно было послать через метрдотеля визитную карточку, чтобы артистка разделила ужин с веселящейся компанией.
В три часа ночи официально "Буфф" закрывался, но некоторая публика еще задерживалась - к кабинетам это правило не относилось. Петербургские белые ночи с ранними зорями, а другой раз и яркое утреннее солнце провожали "усталую" публику с измятыми лицами из "Буффа". Официанты, еле державшиеся на ногах, должны были еще долго прибирать зал, кабинеты и буфеты. В кухне подручные повара, "кухонные мужики" и судомойки долго еще гремели кастрюлями и посудой.
Своеобразно и интересно проходило открытие и закрытие сада. Уже за месяц до официального открытия появлялись рабочие, которые все чистили, чинили и красили, приготовляли разные новшества и сюрпризы: менялся цвет построек, к крыльям музыкальной раковины пристраивались колоннады, по-иному расписывался потолок веранды. За неделю, за две привозились тяжелые инструменты оркестра, начинались репетиции. Возобновлялись декорации, устанавливались экзотические растения. Наконец все было готово к открытию. В назначенный день (обычно в начале мая) к двум часам дня на веранде на-{123}крывался громадный общий стол, за который Петя Тумпаков, чтобы слыть добрым хозяином, приглашал всех артистов, оркестрантов и всех служащих "Буффа". Помимо этого приглашались почетные гости: поставщики, пристав, брандмейстер и другие лица, которые могли быть полезны и от которых что-нибудь зависело. Много ели и пили, много произносилось тостов, музыка беспрерывно играла туш. Особенно отличался тост брандмейстера Требезова 11, великана в пожарном сюртуке, обладавшего трубным голосом. Он говорил каждый год одно и то же: "Мы, все здесь присутствующие, пылаем такой любовью к дорогому хозяину, что даже мои молодцы пожарные не в силах потушить этот огонь чувств! Ура!" К пяти часам торжественный обед кончался. Веранда приводилась в обычный вид, все расходились по своим местам, в 6 часов приходил духовой оркестр, и в сад впускалась публика.
В театре шла одна из любимых оперетт в лучшем составе, артисты играли с особенным подъемом, по окончании спектакля давался еще и хороший концерт. По случаю закрытия сезона опять был особый, прощальный спектакль с лучшими силами. Так же Тумпаков устраивал общий обед. В последующие дни все убиралось, увозилось, закрывалось и заколачивалось, в саду становилось тихо и уныло, голые деревья раскачивались осенним ветром, падали первые снежинки. По саду тихо в задумчивости проходил дворник Степан. На лице его были написаны печаль и скука. Теперь ему придется проводить всю зиму одному, карауля сад и театр, жить в подвальном помещении вместе с голодными крысами и мечтать о лете, когда ему снова перепадет и выпивка, и вкусная закуска, остающиеся от господ. В таком элегическом настроении проходило несколько месяцев до нового открытия сада.
Владельцы сада "Буфф" - братья Тарасовы, у которых Тумпаков арендовал "Буфф", никогда не посещали его. Не то они были избалованы заграничными опереттами, не то считали для себя унизительным пользоваться увеселениями такого рода. Но арендную плату - сорок тысяч в год - получали от Тумпакова аккуратно.
* * *
Мы сознательно решили ограничиться описанием открытого театра, каким являлся "Буфф", закрытых театров касаться не будем - о них написано много и спе-{124}циалистами, и беллетристами, да и многогранность театральной темы требует широчайшего размаха.
Оставаясь в прежних рамках, продолжим повествование об "открытых" зрелищах, на сей раз уличных народных.
Контрастом к вышеописанному являлись скромные развлечения, которыми должны были довольствоваться люди малого достатка, трудовой народ. Это были прежде всего представления, предлагаемые уличному люду шарманщиками, ходившими по окраинам и дворам. Они вертели органчик, из которого не очень стройно лились звуки вальса, полечек, чувствительных песенок, вроде "Мой костер в тумане светит" или "Любила я, страдала я" и других.
Сопровождаемые группой ребятишек, шарманщики носили обычно клетку с попугаем или белой мышью, которые вытаскивали из ящичка билетик "на счастье". В нем можно было прочесть предсказание судьбы. Стоило это три копейки. С наступлением тепла появлялись на окраинах болгары с обезьянами. Они и летом были в полушубках и высоких бараньих шапках. Каждый носил маленькую шарманку, иногда только бубен, и тащил за собой чахлую обезьянку. Обезьянка под звуки шарманки или бубна давала представления. "А ну покажи, как баба воду носит". На плечики обезьянки укладывалась палочка, та обхватывала ее лапками и ходила по кругу, как будто несла коромысло с ведрами. "А теперь покажи, как пьяный мужик валяется". Обезьянка идет пошатываясь, потом валится на бок и делает вид, что засыпает.
Другое, еще более захватывающее развлечение - "Петрушка". Два артиста - один с ящиком и ширмой, другой с гармошкой и барабаном. Первый расставляет ширму в виде замкнутого четырехугольника, залезает туда с ящиком, вынимает из него куклы, все время приговаривая разные шутки и прибаутки. Во рту у него особая свистулька, которая искажает звук человеческого голоса. Другой в это время играет на гармонике и заменяет собой чуть ли не целый оркестр. За спиной у него большой турецкий барабан с медными тарелками наверху, от которых к ноге протянута веревка. За манжету на правой руке заложена колотушка для барабана, так что правой рукой он и играет на гармонике, и бьет в барабан. На голове - медный колпак с колокольчиками. И так, тряся головой, ударяя по барабану, играя на гармонике, стуча тарелкой о тарелку, он создает невероятную какофонию. {125}
Начинается представление. Петрушка - Арлекин в колпаке с бубенчиком изображает героя, который никого и ничего не боится, всех побеждает, выходит из любого положения и остроумно отвечает на вопросы. Сидящий за ширмой разными голосами говорит за нескольких кукол, которые появляются по ходу действия. Разговор кукол зачастую шел на злободневные темы с сатирической, а иногда и с политической окраской. Сценки такого рода: появляется, скажем, кукла-купец, и между ним и Петрушкой происходит диалог. "Что, Петрушка, делаешь?" - "Хочу обмануть купца".- "Тебе не удастся"."Нет, удастся". В конце концов Петрушка захватывает у купца мешок с золотом и исчезает, купец плачет. Или такое: появляются солдат и девушка. Оба Петрушка и солдат - ухаживают за ней, но победа остается за Петрушкой, девушка бросается ему на шею. Солдат хочет зарубить Петрушку саблей, но ему не удается. Неведомая сила тащит его вниз, и он пропадает. Петрушка обращается к публике и говорит, что он никого не боится. Появляется городовой с красной физиономией и необыкновенно длинными усами. Он грозно говорит: "Я тебя заберу, ты всех обижаешь". В руках у Петрушки появляется палочка, он бьет ею городового по носу. Петрушка хохочет, публика тоже. Но под конец гибнет и сам Петрушка. Появляется таинственный "московский баранчик" - взлохмаченная кукла с выпученными глазами. Петрушка, побеждающий всех, при виде "московского баранчика" сразу скисает, опрокидывается вниз в сторону публики, трясет головой, изображая ужас, умоляет пощадить его, но "московский баранчик" беспощаден, он хватает Петрушку зубами, трясет его, и оба исчезают под прощальный крик Петрушки. Публика воспринимала это так, что есть сила выше городового, и от души смеялась.
Вариации представлений были разнообразными. Все зависело от вдохновения, импровизации, настроения артиста и набора кукол. Конечно, примитивное зрелище, но некоторые номера были безусловно удачны, в них проявлялся народный талант. В перерывах и по окончании, представления играла музыка, публика бросала деньги в шапку, лежавшую на земле. Артисты переходили от одного двора к другому, мальчишки бежали за ними и могли насмотреться вдоволь.
Мы уже не застали старинных масленичных гуляний на Марсовом поле. Мы помним такие гулянья на Семеновском плацу до постройки там ипподрома. Плац был {126} огромный, начинался он сразу за казармами Семеновского полка 12 и тянулся до Обводного канала между Звенигородской улицей и Царскосельской железной дорогой. На плацу на масленице выстраивались балаганы, карусели, ларьки с игрушками, сладостями, горячими блинами. Особым успехом пользовались большие карусели, изображающие палубу корабля. Площадка карусели при вращении меняла плоскость движения, создавалось впечатление, что палуба качается и ты находишься на корабле в сильную бурю. Многих действительно укачивало, но, несмотря на это, публика валом валила, особенно мальчишки. Для большего впечатления на перилах были развешаны спасательные круги. Центр был огражден круговой стенкой с иллюминаторами, и вообще на карусели было много бутафорского морского снаряжения, вплоть до большого якоря. При отправлении и остановке раздавались пароходные гудки. Стоимость поездки была три или пять копеек. Карусель вращало вручную несколько здоровенных парней, упирающихся в горизонтальные балки. Эта морская карусель, как и другие, имела призовое кольцо. Когда карусель достигала полной скорости, один из обслуживающих начинал вертеть деревянную грушу, на которой в пружине качалось кольцо. Кто это кольцо сумел вырвать, получал право прокатиться еще раз бесплатно. Гармонь играла вальс.
Эти гулянья на Семеновском плацу посещал простой люд. Аристократы привозили детей посмотреть на веселье, но из экипажей не выходили.
После масленицы шел великий пост, но на шестую Вербную неделю опять начинались развлечения. Была уже весна, вторая половина марта - начало апреля, и вербы покрывались пухом. На Конногвардейском бульваре и Мало-Конюшенной улице устраивались вербные базары. По обе стороны улицы сооружались деревянные ларьки, украшенные кумачом с надписями: "Здесь вафли", "Яр-базар", "Чудеса". Торговля была рассчитана на невзыскательную толпу молодежи, учащихся младших классов, детей, для которых эти базары были заманчивы и интересны. Тут же торговали живыми птичками разных пород, выкрашенные в желтую краску воробьи сходили за канареек. Продавали рыбок для аквариумов, черепах, шла торговля детскими игрушками и особыми "вербными" чудесами: пищалками, "чертями". Предлагались "тещины языки", "иерихонские трубы", "американские жители", надувные свиньи, павлиньи перья. {127}
На этих базарах - под стать карнавалам - допускались некоторые вольности. Идет, например, толпа школьников, у каждого "иерихонская труба", корпус из яркой бумаги с пищиком, и все разом гудят. Встречается девочка, ей до щеки можно дотронуться павлиньим пером или морской травой, выкрашенной в ярко-зеленый цвет. Можно раздуть в лицо незнакомцу "тещин язык", свернутую в спираль бумажную трубку, которая при надувании разлеталась в длинный мешок с перьями на конце. Этот "язык" трепетал, пищал, его совали прямо в лицо. Общий хохот, никто не обижался.
Каждый покупал себе чертика. Искусные кустари мастерили их из проволоки, обшивали бобриком ярких цветов. В руках у чертика были две металлические тарелочки или цветочки. В большой моде был "американский житель": стеклянная пробирка с водой, сверху затянута резиновой пленкой. Внутри маленький стеклянный чертик с рожками, хвостиком, выпученными глазками. Он плавал на поверхности воды. Но если нажать пальцем резиновую пленку, он опускался вниз, крутясь вокруг вертикальной оси, затем снова поднимался. Почему эта игрушка получила такое название - непонятно. По-видимому, кустарь, который ее мастерил, имел такое представление об американцах. Доходили, может быть, слухи, что народ этот энергичный, подвижный, ему приходится вертеться, чтобы заработать, но почему его загнали в воду - тайна.
На этих базарах в обе стороны шла сплошная толпа, стоял невероятный шум. Крики зазывал, звуки пищалок, визг ребятишек, крики мамаш, потерявших своих детей. Вербные базары были настоящим праздником для детворы. В большом количестве продавались вербочки - пучки веточек ивы или вербы с пушистыми почками, первыми признаками весны. Они украшались лентами, яркими бумажными цветами.
После Вербной недели - седьмая Страстная, последняя неделя великого поста. Все развлечения запрещались церковью, как в первую и четвертую недели. А затем наступала веселая Пасхальная неделя: христосование, обмен крашеными яичками, игра, у кого яичко крепче: стукали одно о другое. Подростки 14-16 лет забирались на колокольни и звонили в колокола. В Пасхальную неделю это разрешалось. Город буквально гудел от звона. {128}
ПОЖАРНЫЕ КОМАНДЫ
И ПОЛИЦИЯ
В детстве и юности мы побаивались и одновременно ненавидели полицейских, в то время как пожарным явно симпатизировали. Единственное, что нас поражало,- почему такие доблестные пожарные помещаются вместе со злыми городовыми. А это было именно так. В Петербурге нашей юности имелось 12 полицейско-пожарных частей (Адмиралтейская, Василеостровская, Московская и др.). Каждую такую часть легко было узнать издали по каланче, по верху которой ходили дозорные, наблюдавшие, не вспыхнул ли где пожар. В случае пожара на мачте каланчи вывешивались черные шары, число их указывало, в какой части пожар. Ночью вместо шаров вывешивали фонари. В начале XX века дежурства на вышках в центре города были отменены, так как новые высокие дома, в 6-7 этажей, мешали видеть.
Дежурство на каланчах оставалось на окраинах. В народе бытовало выражение: "Будешь ночевать под шарами". Это означало: заберут в полицейскую часть за появление в пьяном виде или за непристойное поведение на улице, а то и просто за неучтивый ответ городовому.
Хотя наш город был столицей, пожарные, как и в провинции, являлись гордостью городской управы и населения. У пожарных команд были отличные лошади определенной масти для каждой части. Пожарный обоз представлял собой красивую картину: экипажи ярко-красного цвета, сбруя с начищенными медными приборами, пожарные в сияющих касках. Все это поражало обывателя, тянуло его за обозом на место пожара, посмотреть, как будут побеждать огонь эти скромные герои.
Спустя две-три минуты после получения сигнала о пожаре команда уже выезжала. Все было приспособлено к скорейшему выезду: хомуты висели на цепях у дышел, приученные кони сами вдевали головы в хомуты, достаточно было небольшого усилия лошади, и хомут сам снимался с пружинного крючка. Мгновенно закладывались постромки, и обоз был готов к выезду. Пожарные вскакивали в повозки, на строго определенное место, на ходу {129} надевая толстые серые куртки и порты. Обоз мчался в таком порядке: впереди ехал на верховой пожарный-"скачок", который трубил, чтобы давали дорогу обозу. На место пожара он являлся первым, за несколько десятков секунд до обоза, уточнял очаг пожара и давал сигнал, куда заезжать остальным. За "скачком" неслась квадрига - четверка горячих могучих лошадей с развевающимися гривами, запряженная в линейку. Это была длинная повозка с продольными скамьями, на которых спина к спине сидели пожарные. Над скамьями, на особом стеллаже, лежали багры, лестницы, другие приспособления. Впереди, на козлах, сидел кучер-пожарный, рядом с ним стоял трубач, который непрестанно трубил, звонил в колокол. Рядом с ним богатырского роста брандмейстер в зеленом офицерском сюртуке. Зимой он надевал сюртук на меховой жилет. На голове брандмейстера посеребренная каска. Около козел возвышалось древко с развевающимся пожарным знаменем красного цвета с золотой бахромой, кистями и эмблемой части.
Бочки с водой в наше время пожарные команды уже не возили, в городе почти везде были водопровод и пожарные гидранты 1. На окраинах, где водопровода не было, пожарные пользовались специальными водоемами, речками.
Вслед за линейкой неслась пароконная повозка с пожарным инвентарем: катушками со шлангами, ломами, штурмовыми лестницами. За ней, тоже на пароконной подводе,- паровая машина, которая качала воду. Ручных машин с коромыслами для качания в центре города уже не было. Пожарная машина имела блестящий вид: котел, цилиндры и трубы медные, ярко начищенные. Пожарный стоял позади машины, на приступочке, на ходу подкладывал топливо, поднимал пар, из трубы валил густой дым. Пожарная паровая помпа подавала воду под большим давлением сразу в несколько шлангов. За машиной неслась высотная лестница на колесах выше человеческого роста. Складных металлических лестниц еще не было, а этих деревянных хватало до 4-5-го этажа. В конце обоза ехал медицинский фургон с фельдшером.
Зимой обоз переходил на окованные сани. В пожарном сарае были особые устройства на роликах для легкого вывоза и обратной постановки их на место.
За обозом бежали толпы любопытных зевак и мальчишек. Некоторые даже нанимали извозчиков, стараясь не отстать от пожарного обоза. {130}
Пожары бывали часто. Город отапливался в основном печами, пожарная охрана на фабриках, заводах, складах была недостаточная. Много бывало поджогов с целью получения страховых премий или подрыва конкурента. К чести "серых героев", как тогда называли пожарных, надо сказать, что они были на высоте своего положения и беззаветно выполняли свой долг.
Если пожар принимал угрожающие размеры, объявлялся сбор всех частей, приезжал брандмайор Петербурга и сам распоряжался тушением. Его приказания беспрекословно выполняли брандмейстеры каждой части. На пожаре двое пожарных с факелами стояли возле брандмейстера или брандмайора, чтобы он всегда был на виду. К нему подбегали, брали под козырек, получали дальнейшие приказания. Авторы вспоминают пожар одной фабрики зимой, ночью, в лютый мороз. Там было много горючих материалов. Огонь охватил все здание. Пожарные бесстрашно бросались в море огня. Когда они оттуда выходили, одежда на них дымилась, их обливали водой, они мгновенно превращались в ледяные глыбы, с касок свисали сосульки.
Когда случались очень большие пожары, особенно казенных зданий, вызывали войска, которые оцепляли место пожара для охраны имущества погорельцев от разграбления.
С пожара обоз ехал тихо, его окружала толпа. Велись разговоры, кто как отличился, кто пострадал. По пепелищу долго еще бродили погорельцы, ища что-нибудь уцелевшее от огня.
* * *
Полиция в столице составляла целую иерархическую лестницу, во главе которой стоял градоначальник. Далее следовали (в каждой части) полицмейстер, пристав, помощники пристава, околоточные, квартальные и постовые городовые. В обязанности домовладельцев, старших дворников и швейцаров входило содействие полиции в выявлении и пресечении правонарушений. На первый взгляд - стройная система, которая должна была обеспечить порядок в городе. На самом же деле все было не так. Полицейские чины были взяточники 2. За взятку можно было замазать всякое правонарушение и даже преступление. Поэтому полиция не пользовалась в народе уважением, ее не почитали и попросту презирали. Простой люд видел в них грубых насильников. Они могли {131} ни за что посадить в "кутузку", заехать в зубы, наложить штраф, чинить препятствия в самом правом деле. Интеллигентные люди презирали полицию за преследование передовых людей, с брезгливостью относились к полицейским, как нечистоплотным людям.
Большинство полицейского начальства состояло из офицеров, изгнанных из полков за неблаговидные поступки: нарушение правил чести, разврат, пьянство, нечистую карточную игру. Полицейские чины в общество не приглашались. Даже сравнительно невзыскательный круг купцов Сенного рынка или жуликоватые торгаши Александровского рынка не звали в гости ни пристава, ни его помощников, а уж тем более околоточного. Если требовалось ублажить кого-нибудь из них, приглашали в ресторан или трактир, смотря по чину. Нередко за угощением "обделывались" темные дела, вплоть до сокрытия преступления.
По праздникам взятки носили почти узаконенный характер. Считалось обязательным, чтобы домовладельцы, торговцы, предприниматели посылали всем начальствующим в полицейском участке к Новому году и прочим большим праздникам поздравления со "вложением". Околоточным, квартальным и городовым "поздравления" вручались прямо в руки, так как поздравлять они являлись сами. Давать было необходимо, иначе могли замучить домовладельцев штрафами: то песком панель не посыпана, то помойная яма не вычищена, то снег с крыш не убран. Драли, как говорилось, "с живого и мертвого", и на "Антона и на Онуфрия", как сказано у Гоголя. Платили владельцы предприятий, больших и малых, платили деньгами, натурой. Даже "ваньки" и ломовые извозчики должны были платить из своих скудных заработков, "бросать" двугривенный или полтинник. Делалось это так: ломовик или извозчик допустил какое-нибудь малейшее нарушение правил движения 3, например, при следовании "гусем" вместо интервала в три сажени сблизился до двух или обогнал, где не положено, а то и ничего не нарушил, но городовой посмотрел возчику вслед и записал номер, значит, будет штраф, а чтобы его не было, лучше заранее заплатить. И возчик бросал под ноги городовому двадцать, а то и более копеек. Одновременно он кричал: "Берегись!" Городовой понимал условный клич, смотрел-под ноги, а увидев монету, незаметно становился на нее сапогом 4.
Одеты полицейские были в черные суконные шинели, зимой с барашковым воротником. Летом - в фуражке, {132} зимой в круглой бараньей шапке и башлыке. На ногах валенки с "кеньгами" зимой, летом - сапоги. Вместо шинели в теплое время мундир, в жаркое - белый китель. Вооружены они были шашкой на черной портупее, револьвером на оранжевом шнуре. В народе шашку городового называли "селедкой". Офицерские чины полиции носили общепринятую армейскую форму, которая отличалась кантами, петлицами и цветом околыша. Погоны и пуговицы серебряного цвета. Шашка на золотой портупее.
Полицейские участки производили гнетущее впечатление: низкие потолки, грязь, спертый воздух. Скрипучие ободранные двери, обшарпанные столы. В коридоре дверь в "кутузку" с "глазком". Оттуда слышатся крики, ругательства, плач. По коридору, вдоль дверей, расхаживает городовой, часто заглядывает в "глазок", грубо кричит: "Не ори!" А в комнату дежурного ведут нового задержанного для составления протокола и дознания.
Существовала в Петербурге коннополицейская стража, которая помещалась отдельно. В столице было три роты такой стражи. Они носили форму городовых, но одеты были тщательнее. У них были прекрасные одномастные, хорошо обученные лошади. Конная полицейская стража выезжала по особым вызовам: в места большого скопления народа, для предупреждения беспорядков на похоронах известных лиц, на время проезда членов царствующей фамилии, в случае прибытия представителей иностранных государств. Им следовало отделить простой народ от привилегированной его части, участвующей в процессии, встрече. Тогда осуществлялось известное - "Осади назад!" И обученные животные крупами осторожно пятились на толпу, как будто стараясь не отдавить ногу сзади стоящего.
Для "наведения порядка" в столице и пригородах квартировали казачьи сотни. Число их было увеличено в период революционных событий 1905 года. На особом положении была жандармерия - орган политического сыска и борьбы с революционным движением, состоявший при "собственной его величества канцелярии". Корпус жандармов имел тайных агентов и провокаторов во всех слоях общества, особенно среди писателей, передовой интеллигенции, военных.
Во времена нашей юности гнет "голубых мундиров" ощущался в полной мере. {133}
ШКОЛА, ГИМНАЗИЯ,
УНИВЕРСИТЕТ
Начальные школы призваны были дать азы образования. Для многих детей из-за недостаточных средств родителей тем и кончалось. Кто-то потом шел дальше - в четырехклассное училище, в гимназию, реальное и коммерческое училища. Эти учебные заведения бывали казенные, городские и частные. Начальные городские школы были бесплатные, остальные платные. В начальных школах преподавали закон божий, русский язык, арифметику и чистописание. Опишем те учебные заведения, где мы учились.
На углу Фонтанки и Вознесенского проспекта помещалась частная начальная школа Черниковой 1. Маленькая квартирка из трех комнат. В одной жили учительницы, мать и дочь Черниковы. В другой, для старших учеников, стоял длинный стол, стулья и классная доска. В третьей, для младших, четыре удлиненные парты, на 6 человек каждая, столик для учительницы, классная доска. Вот и все оборудование. Мальчики и девочки учились вместе.
В младшем классе преподавала дочь, особа лет сорока, очень нервная. В старшем - сама Черникова, сухая старушка с костлявыми руками. Они преподавали все предметы, даже закон божий.
Приходить надо было к 9 часам. Около 11-ти - перерыв на полчаса, после чего занимались еще часа два. Во время перерыва завтракали, пристроившись кто где - на парте, на подоконнике, за столом. Завтраки приносили с собой в корзиночках, которые продавались специально для этого. После завтрака всех учеников выпроваживали в маленькую переднюю, а классы проветривали. Передняя была темная, без света. Ученики толкались, задирали девочек, те визжали. Учительницы тем временем уходили в свою комнату отдыхать.
Перед началом занятий и по их окончании читали молитву. Учительницы были хорошие педагоги, объясняли понятно, терпеливо. Но мальчишки оставались мальчишками: шумели, разговаривали, пускали бумажные стрелы, дергали девочек за косички. Особенно расшалившихся выгоняли в переднюю под надзор Фени, которая, работая кухаркой, требовала, чтобы провинившийся стоял на {134} пороге кухни. В случае особых поступков прислуга посылалась с письмом отвести шалуна домой.
Отметки выставлялись по четвертям года в дневники, которые продавались за 15 копеек в любой писчебумажной лавке. Один из авторов заметок при получении первого дневника, не понимал значения отметок, с радостью принес его домой. Отец потребовал дневник. Успехи были неважные, особенно поведение. В этой графе стояла единица. Была порка. После этого значение отметок стало ясным.
Большинство учеников было из семей среднего достатка. Родители отдавали детей в платную школу, считая, что там учат лучше, чем в народной бесплатной школе, и легче будет сдать экзамен в гимназию. Кроме того, школа Черниковых зарекомендовала себя с лучшей стороны среди обывателей района. Детей провожали в школу и встречали после занятий либо родители, либо прислуга. Учительницы передавали им свои замечания, давали советы, требовали принять те или другие меры.
После двух лет такого обучения, если у родителей были возможности, дети держали приемные экзамены в приготовительный или первый класс гимназии или другого среднего учебного заведения. Был известный конкурс, желающих оказывалось больше, чем мест. Экзамены по закону божьему, русскому языку и арифметике. Сколько было тревог у родителей! Поступающим на счастье надевали на шею ладанку, крестили перед входом в класс, плакали, когда получал тройку - с ней было не попасть.
Мы оба учились в казенных гимназиях. Гимназия, о которой пойдет речь, официально называлась "Санкт-Петербургская 10-я гимназия". Помещалась она в доме № 3/5 по 1-й Роте Измайловского полка, во флигеле домовладения упоминавшихся нами братьев Тарасовых. Это было не специальное учебное здание, а переделанное из жилых квартир и приспособленное под гимназию. На первом этаже - гимнастический зал, шинельная, комнаты для сторожей, библиотека. На втором этаже - квартира директора 2, канцелярия, учительская, приемная, физический кабинет, квартиры делопроизводителя и казначея. На третьем этаже - зал, комната учебных пособий и пять классов, с четвертого по восьмой включительно. На четвертом, последнем, этаже квартира инспектора, зал, комната учебных пособий и классы: приготовительный, первый, второй и третий. Все классы имели выход в залы или примыкающие к ним коридоры. Помещения были неважные: потолки низкие, классы тесные, отопление печ-{135}ное, освещение до 1906 года керосиновое. Вся обстановка бедная, парты простые, сосновые. Оборудование физического кабинета и комнат с учебными пособиями весьма скромное.
В гимназии, вместе с приготовительным классом, училось не более 260 человек. В старших классах после отсева оставалось человек около 20-ти. 10-я гимназия относилась к захудалым, у высшего начальства была на последнем счету. Сюда педагоги, говорят, нередко переводились за проступки из других гимназий в виде наказания. Это налагало известный отпечаток на весь педагогический состав. Учителя находились в некоторой оппозиции к высшему начальству и старались доказать, что они настоящие педагоги. Поэтому по пустякам они не были строги, но зато были весьма требовательны, когда дело касалось знаний. Преподавание держалось на высоте, никаких послаблений не допускалось. Педагоги были люди пожилые, ходили в форменных сюртуках с отличиями чинов на петлицах. На золотых пуговицах изображение пеликана, кормящего птенцов. Это был символ - олицетворение полной, беззаветной отдачи знаний и сил ученикам. Ведь пеликан, по преданию, чтобы накормить птенцов, разрывал свою грудь.
Состав учащихся был разнообразен, но сыновей аристократов и богатых людей не было. Учились дети скромных служащих, небольших чиновников, средней интеллигенции. Не были исключением и сыновья мелких служащих, рабочих. Был, например, у нас в классе сын почтальона, мальчик из семьи рабочего Путиловского завода, сын солдата музыкальной команды Измайловского полка. Плата за учение - 60 рублей в год. Как же бедные люди могли учить сыновей в гимназии? Во-первых, были стипендии, во-вторых - пожертвования, в-третьих, два-три раза в год в гимназии устраивались благотворительные балы, сбор от которых шел в пользу недостаточных, то есть малоимущих, учеников. Чтобы получить освобождение от платы, надо было хорошо учиться и иметь пятерку по поведению.
Гимназисты носили форменную одежду: синюю фуражку с белым кантом и посеребренным гербом из скрещенных листьев лавра, а между ними номер гимназии. Шинель серого сукна со светлыми пуговицами и синими петлицами. Черная тужурка, лакированный ремень, на котором светлая пряжка с номером гимназии. Брюки черные. В торжественных случаях - мундир из синего сукна, однобортный, с серебряными галунами по ворот-{136}нику. В нашей гимназии мундир имели только единицы, многие семьи были малосостоятельные. Бедным гимназистам иногда выдавались от Общества вспомоществования недостаточным ученикам деньги на покупку форменной одежды.
Требовалось, чтобы гимназисты были подстрижены, а в старших классах со скромными прическами. Если гимназист приходил без ремня или с космами, его отправляли домой.
Занятия начинались в 9 часов. Урок продолжался 50 минут. Между уроками перемены: первая - 5 минут, вторая - 10, третья - 30, четвертая - 5 минут. Начиная с пятого класса каждый день было 5 уроков. К девяти начинали сходиться учащиеся - младшеклассники с ранцами за спиной, гимназисты постарше носили ранцы под мышкой, так как ремни были уже оборваны, а ранец истрепан. Обычно он служил не только для ношения книг, но и для катания на нем по паркету, на нем съезжали в шинельную по крутым ступенькам. В старших классах ходили и с портфелями. Каждый класс имел свое отделение в шинельной, для каждого ученика был свой крючок и место для фуражки и галош. По мере прихода шум в шинельной увеличивался. Здесь командовал сторож Иван, небольшого роста, коренастый человек, подстриженный "ежиком", с закрученными усами, в черном форменном сюртуке. Он был сердитый человек, и младшие гимназисты его боялись, так как иногда получали от него подзатыльники, но жаловаться не смели, сами были виноваты, а ябедничество и фискальство противоречило традиции. Некоторых малышей приводили мамы, но это вызывало насмешки. Минут за 10 до начала занятий в шинельной появлялся один из молодых педагогов, гимназисты младших классов ставились в пары и отправлялись по классам. Старшеклассники в парах не ходили.
Ровно в 9 раздавался звонок, к этому времени все гимназисты были уже в классах. В классы шли учителя с журналами. Все вставали. Перед первым уроком дежурный читал молитву. Через 50 минут раздавался звонок на первую перемену. Все выходили в залы, в классе дежурный открывал окно. Во вторую перемену младшие классы спускались в гимнастический зал, где были приготовлены столы, а на них кружки с горячим сладким чаем. Чай могли пить только те, кто вносил полтора рубля за полугодие. Сюда же приходил булочник с булками и пирожками. Но обыкновенно завтраки брали из дому. {137} В 12 часов, в большую перемену, чай пили старшие классы.
Во время чаепития ходили сторожа с медными чайниками и подливали чай. После четвертого урока была последняя перемена в 5 минут. В большую перемену некоторые выбегали во дворик поиграть в мяч или снежки. Близко живущие бегали завтракать домой. Наконец кончались занятия, по классам читались молитвы. Младшие классы в парах под надзором педагога спускались в шинельную. Но на последнем, крутом марше лестницы пары расстраивались, все неслись вниз, кто побойчее, сидя на ранцах, съезжали по ступенькам. "Маменькиных сынков" встречали мамы. Сторож Иван, чуя, что здесь можно получить чаевые, проявлял внимание, помогал одеваться, завязывал башлык, говоря: "Вы не беспокойтесь, я присмотрю, не дам в обиду вашего мальчика". Все остальные одевались мгновенно, шинель натягивали уже во дворе, торопились "на волю". Через пять минут в шинельной никого не оставалось кроме мамаш, которые еще закутывали своего мальчика. Старшеклассники такой торопливости себе не позволяли. Франты старались покрасивее надеть фуражку, эффектно закинуть концы башлыка, не завязывая их в узел, небрежным движением взять портфель и тщательно осмотреться в зеркале.
Звонки к началу и концу занятий давались ручным колоколом. Этим делом заведовал у нас сторож Сильвестр, как две капли воды похожий на Сократа, с той разницей, что от него всегда попахивало водкой и луком. Ручной колокол он носил в заднем кармане сюртука, так как были случаи, когда гимназисты прятали колокол.
Сторож Сильвестр был хороший и даже остроумный, шутил с гимназистами, знал много латинских слов и выражений. Ему не удавалось слово "директор", он произносил "дилектор". К педагогам он относился с большим уважением и каждому давал очень верную характеристику. Вообще оставил о себе хорошую память. До сих пор стоит перед глазами процесс тушения им керосиновых ламп. В класс он входил с особым устройством: длинная железная трубка с загнутым концом, к которому припаян колпачок. Его он наставлял на конец стекла лампы и дул в трубку. Лампа гасла, испуская страшный смрад, а таких ламп в классе 4-5. Это развлекало гимназистов, в адрес Сильвестра неслись поощрительные возгласы: "Поднатужься! Дуй здоровей!"
В гимназии бывали торжественные дни. 20 августа - начало занятий; акт, когда раздавали награды; особые {138} события - панихиды по высокопоставленным лицам и пр. В эти дни все собирались на молитву в залу перед образом Иоанна Богослова. Пел гимназический хор, играл свой духовой оркестр. В хор учитель пения набирал тех, кто имел слух и голос. Проба голосов была во втором классе. Учитель пения Четвертаков 3, гимназисты же его звали "пятиалтынный", напоминал Собакевича. Один из авторов этих заметок на пробе очень волновался и взял не в тон. Учитель пения расценил это как озорство, сразу выгнал из зала и пожаловался классному наставнику. Тот оставил "певца" на два часа после уроков с занесением наказания в дневник, за что ему попало и дома. Так печально закончилось его вокальное образование. Но приверженность к искусству у него осталась. В четвертом классе он начал играть на турецком барабане, потом на альте в гимназическом оркестре. Другой автор увлекся скрипкой.
Если говорить о самом учении, надо признаться, что гимназисты были загружены. Кроме занятий в гимназии в течение 4-5 часов задавалось много на дом. Чтобы хорошо успевать, надо было учить уроки. На это уходило около трех часов, а то и больше. На воскресенье и другие праздники тоже задавались уроки. В средних и старших классах были переходные экзамены, и весной следовало повторить весь курс. С первого класса начинали изучать немецкий язык, со второго - французский, с третьего - латынь.
В восьмом классе был даже разговорный латинский час. Ученикам раздавались картинки из жизни Древнего Рима, и они должны были рассказать по-латыни содержание доставшейся картинки. В экзаменах на аттестат зрелости предусматривалась письменная работа по латинскому языку.
С пятого класса желающие могли изучать еще греческий. С четвертого класса в системе русского языка целый год изучался церковнославянский. Кроме предметов, обычных в средней школе, в старших изучали гигиену, логику, психологию, законоведение, космографию. Из одного перечисления предметов видно, что среднее образование давалось в широком объеме.
Закон божий считался второстепенным предметом, его уроки были два раза в неделю в течение всех восьми лет, требования к нему были сниженные.
Светлую память о себе оставил инспектор статский советник Иван Алексеевич Суровцев, педагог в лучшем смысле слова. В младших классах он преподавал русский {139} язык, а в старших - латынь, историю и литературу. Он был очень справедлив, глубоко понимал внутренний мир гимназиста, нетерпимо относился ко лжи. Преподавал он замечательно, и какой бы предмет он ни вел, всегда умел вызвать интерес к нему. Даже латынь, этот сухой и мертвый предмет, он превращал в увлекательный экскурс в мир Древнего Рима. Гимназисты старших классов ждали его уроков. Он вдохновенно передавал любовь к Овидию, Вергилию, Горацию. Произведения Цицерона Тита Ливия в его объяснениях оживляли реалии древнего мира. Отметки он ставил строго, но своеобразно. Скажем, гимназист читает латинский текст из Тита Ливия, чтобы потом перевести. Суровцев сажает его и ставит два, не допуская к переводу, за невыразительное чтение - ученик не понимает, что читает. И наоборот, гимназист читает Вергилия с большим выражением, Суровцев, не требуя перевода, ставит ему пять. Предмет сделался любимым, нетрудным.
Очень веселый человек был преподаватель математики в младших классах Н. Я. Неймарк. Полноватый добродушный мужчина заявлял ученикам: "Самый легкий предмет - математика. Она требует только одного - внимания". И действительно, математика в его преподавании казалась легкой. Достигал этого он простыми, ясными объяснениями, используя последовательность и логичность математических знаний. Он применял такой прием: "Каверкин, иди к доске. Докажи им, что сумма внутренних углов треугольника равняется двум прямым".- "Я не знаю, мы ведь этого не проходили".- "Ничего трудного здесь нет". Привлекая предыдущие знания ученика, он умело наводил гимназистов на доказательство, и отвечающий действительно доказывал. "Вот видите, а вы говорили, что не знаете". Математику все знали хорошо, учиться было легко. Когда начинался учебный год, Неймарк, поглаживая бороду, говорил: "Материала у нас много-с, много-с, а времени мало-с, мало-с, мало-с, но это нам нипочем!" Гимназисты, имитируя движения его рук, как бы поглаживая усы и бороду, хором повторяли: "Много-с, много-с, но нам это нипочем". Он заразительно хохотал и говорил: "У вас это выходит лучше, чем у меня!"
Колоритными фигурами были отец и сын Некрасовы 4. Отец, священник, преподавал закон божий, сын, в старших классах, - математику и космографию.
Отец Виссарион, окончивший духовную академию, хорошо знал языки, был человеком очень просвещенным. К {140} своему предмету, закону божьему, относился не особенно серьезно; шепотом про него говорили, что он атеист. Этого мы утверждать не беремся, но то, что он был либерал и передовой человек, несомненно.
Старший его сын был инженер путей сообщения, член Государственной думы. По "колокольной" линии никто из сыновей не пошел, они были врачи, педагоги. Любопытно было видеть, как "батюшка" шел с французом и говорил с ним на прекрасном французском языке, с преподавателем немецкого языка говорил на немецком, хорошо знал древние языки - латинский, греческий и древнееврейский. Преподавал он так: после объяснения скажет, что к следующему уроку нужно приготовить то-то и будет спрашивать таких-то учеников, перечислял их фамилии. Спрашивал легко, говорил главным образом сам, гимназисту надо было вовремя поддакивать. Ставил он обычно пять, а кто совсем ничего не знал - тому четыре.
Когда старшие ученики задавали ему вопрос, в котором вероучение расходилось с действительностью, он, называя ученика по имени, говорил: "Садись, Митя, не в меру ты догадлив! Вырастешь - поймешь!" По церковной линии его затирали, несмотря на его преклонный возраст, не давали звания митрофорного протоиерея 5. На уроках у него было шумно, педагог он был никудышный.
Младший его сын, Александр Виссарионович, был высокий, худощавый, стройный и молчаливый молодой педагог. Он никогда не улыбался и не шутил. Его боялись, даже в старших классах на его уроках было тихо. У него был такой прием: входил в класс и стоял молча до тех пор, пока не наступала гробовая тишина. Тогда он наклонял голову и шел на кафедру, после чего ученики могли сесть. В отличие от Неймарка он считал математику трудным предметом и внушал это ученикам, отчего не мог возбудить интерес к предмету. Уроки проходили скучно, бесцветно, в классе ощущалась напряженность. Даже такой интересный предмет, как космография, он засушивал. Материал все же знали, но интереса к нему не было.
Замечательным преподавателем русского языка в старших классах был Л. А. Степанов. Это был превосходный оратор, заслушаться было можно, как интересно и красиво он объяснял. Устных ответов в старших классах он не практиковал, каждую неделю надо было представлять домашнее сочинение, а раз или два в месяц бы-{141}ли классные сочинения. На его уроках ученики чувствовали себя свободно, легко, слушали с большим интересом. Очень содержательным был его разбор ученических сочинений. Здесь много шутил, но ничего оскорбительного не допускал. Говорил, например: "Написали бы вы такое письмо своей барышне,- это было бы ваше последнее к ней письмо. Пора уметь отвечать за свои слова". И на примерах показывал, как надо отшлифовывать каждую фразу и выражение.
В младших классах историю Древнего Рима и Греции преподавал Н. П. Обнорский 6, один из составителей энциклопедического словаря "Брокгауз Ефрон". Добрейший человек и знаток истории, он знакомил нас, мальчишек четвертого класса, с античным миром. Мы великолепно знали Акрополь, Капитолий, планы древних Афин и Рима, храм Афины Паллады, Коринф, Сиракузы, ходили по римскому Форуму, купались в термах Каракаллы, сражались вместе с гладиаторами, участвовали в ристалищах, получали лавровые венки победителей. Обнорский читал нам "Илиаду" и "Одиссею", приобщил к чудесным источникам классической поэзии. Человек он был мягкий: если ставил двойку какому-нибудь лентяю, то потом страдал больше, чем гимназист, который уже забыл о плохой отметке. Его гордостью была библиотека. Получив один шкаф с истрепанными книжками, он через несколько лет создал прекрасную библиотеку с замечательным набором книг, библиотека уже занимала две большие комнаты с десятками шкафов, тысячами книг по самым разнообразным вопросам. Деньги на это он получал частично от пожертвований, частью от благотворительных вечеров, но основное было пожертвование бывших воспитанников гимназии и их родителей. Работали в библиотеке гимназисты по его выбору из числа самых аккуратных и исполнительных.
Наряду с такими педагогами были люди и иного склада. Скажем, преподаватель немецкого языка И. Ф. Веерт, какой-то полусумасшедший человек, настроение которого менялось мгновенно. То он позволял гимназистам делать в классе неведомо что - шуметь, бегать, сам хохотал над их проделками, то сразу переменится и выгонит полкласса вон. Он кричал: "Петров, Каверкин, Белковский, Генинг и прочие тому подобные личности, вон из класса!" Такая формулировка давала возможность любому выйти за дверь, особенно тем, кто не выучил урока. Тогда он орал, хлопая журналом по кафедре: "Куда вы?" Гимназисты с нагло-наивным видом отвеча-{142}ли: "Мы прочие и тому подобные личности и потому должны уходить". Тогда он кричал: "Все уходите, кто хочет!" В классе оставалась, дай бог, половина. За пять десять минут до звонка выгнанные и примкнувшие к ним "прочие подобные личности", боясь быть замеченными директором или инспектором, которые делали перед звонком обход, широко распахивали обе половинки дверей в класс, торжественно входили, останавливались перед кафедрой, поднимали правые руки вверх и скандировали: "Ave, magister, morituri te salutant" 7, перефразируя приветствие гладиаторов. Настроение Веерта мгновенно менялось, он хохотал во все горло и кричала "Садитесь, мерзавцы!" Иногда входили в класс так: одного из гимназистов другие несли на плечах и пели: "Со святыми упокой". Впереди идущий останавливался перед кафедрой и говорил: "Он не перенес изгнания и умер во цвете лет!" Опять всеобщий хохот и прощение. Он сразу прощал, если выдумка была остроумна, а остроумие гимназистов было бесконечно. При таком учителе успехи в немецком языке были плохие.
Интересной фигурой был преподаватель физики и химии Э. Э. Форш 8. Он был замечательный ученый, перегруженный всякими знаниями, но передавать эти знания гимназистам не мог. Объяснения его были какие-то сумбурные, говорил он невнятно, мысли перескакивали с одной на другую. Он находился постоянно в какой-то прострации или близко к ней. Но человек он был добрый, застенчивый, даже наивный, всем и всему верил. Гимназисты на его уроках делали что угодно, ставил он не ниже четырех. Вызовет ученика, тот, как говорится, ни в зуб ногой, класс кричит, что ему нужно поставить пять, Форш разводит руками: "Как же пять, когда он ничего не сказал?" Класс ревет: "Он стесняется, а потому и не говорит". Один из гимназистов вскакивает и говорит: "Спросите меня, он вчера мне помогал". Начинается шум, подсказывания, в результате учитель ставит ему четыре. Если же был показ опытов в физическом кабинете, то гимназисты шли еще дальше. Все опыты они называли фокусами и требовали, чтобы Форш засучил рукава, иначе не поверят. Говорил он тихим голосом, задумчиво. Независимо от такого преподавания, физику в общем знали, предметом этим интересовались, некоторые делали опыты дома. Форш оставил о себе добрую память.
Исключительным педагогом был преподаватель французского языка Луи Мартен. Он был соавтором класси-{143}ческого учебника "Morceaux choisis" 9. За все время он не сказал ни одного слова по-русски, и мы должны были говорить только по-французски, как бы у нас ни получалось. Он так объяснял, что даже мы, имея вначале небольшой запас французских слов, все же понимали его. Он был строгий, сидели при нем в классе тихо. Вспоминаем и видим перед собой его высокую фигуру, чисто галльский профиль, приятный низкий баритон. Знали французский язык хорошо, в седьмом-восьмом классе свободно читали и переводили без словаря, неплохо говорили по-французски, конечно, выговор у некоторых оставался "нижегородским", этого Мартен преодолеть не мог.
Особняком стояли преподаватели гимнастики и военного строя. В гимназии преподавалась "сокольская" гимнастика 10. Приходил из гимнастического общества "польский сокол" Ян Беганский. В торжественных случаях он появлялся в кунтуше, конфедератке с белым пером. Гимнастику он поставил образцово, при нем приобрели хорошие снаряды. Учил он и фехтованию на рапирах, и бою на саблях. Красиво ставил вольные движения, пирамиды, упражнения с булавами. В обращении был грубоват, иногда мог дать и кулаком в бок, но на него не обижались. На гимназических балах он появлялся во фраке и танцевал лучше всех.
Военный строй преподавал штабс-капитан Измайловского полка, начальник учебной команды. В гимназию доставили старые берданки без замков. В тесных помещениях развернуться строевыми занятиями было неудобно. Этот умный офицер, которого мы встретили сухо, постепенно заинтересовал нас не самими упражнениями с ружьем, а объяснениями, почему применяется тот или иной строй, как избежать больших потерь в бою, какая польза знать ружейные приемы, какое значение имеет снаряжение, т. е. объяснял он нам не парадную, а боевую и строевую часть дела для похода и боя. Объяснял, как вырабатывалась военная форма, касался истории изменения форм и оружия. Военному строю мы не научились, но он открыл нам новый мир.
Хорошим педагогом был историк в старших классах А. О. Круглый. Внешность его соответствовала фамилии: круглая лысая голова, сама фигура тоже круглая. Это был строгий и даже сердитый учитель, беспощадно пресекавший всякие вольности,- сразу записывал замечания в журнал. Требовательность у него была высокая, учиться было трудно. Он практиковал письменные ра-{144}боты, вызывая к устному ответу, давал ученику какой-нибудь век, например XVIII, приказывал выписать на доске все значительные даты в России, Англии, Франции, Италии и т. д. и требовал рассказать о событиях, происшедших в эти годы.
Теперь, когда прошло много лет, можно спокойно и объективно оценить своих учителей. За редким исключением, это были знающие, добрые, честные и преданные своему делу люди. Какое надо было иметь терпение и выдержку, чтобы преподавать в классах, где было много шалунов, упрямых и неразвитых мальчишек! Они свято исполняли долг, передавая нам свои знания.
Говоря о становлении юноши, его внутреннего мира и характера, необходимо помнить, что воспитывают не только учителя, но и среда соучеников. Надо сказать, что большинство из них усвоили прививаемые в гимназии положительные основные человеческие качества: как правило, мальчики, а потом и юноши были честны, справедливы, не трусливы, хорошие товарищи. Но, как говорится, в семье не без урода. Были среди гимназистов и подхалимы, и фискалы, и вруны. Но вся масса учащихся в нашем, например, классе относилась к таким типам нетерпимо. Это выражалось нередко и в определенных реакциях. Особенно активно боролись с фискальством. Так, если ученик фискалил, выдавал товарища, ему устраивали "темную". Такие меры применялись в младших и средних классах, в старших выдерживался бойкот в отношении таких типов: им не подавали руки, с ними не разговаривали, не принимали в компанию, пока провинившийся не попросит извинения и не покажет своим поведением, что стал настоящим товарищем. Нетерпимо относились и к жадности, зазнайству, нежеланию помочь товарищу в учебе.
Строго отрицательно относились к фискальству и учителя гимназий, а также других мужских учебных заведений, особенно закрытых. Один лицеист рассказывал, что его товарища не допустили к дальнейшим вступительным экзаменам, так как он пожаловался на соседа, который якобы толкнул его, из-за чего он опрокинул чернильницу на сочинение.
В средних классах многие чрезмерно увлекались детективной литературой. Продавались по пятачку книжечки о знаменитых сыщиках: Нате Пинкертоне, Шерлоке Холмсе, Нике Картере 11. Зачитывались приключенческой повестью "Пещера Лейхтвейса" 12. Эта бульварная литература была настолько распространена, что педагогам и {145} родителям приходилось принимать меры, так как мальчики начинали плохо учиться, не спали по ночам, воображая себя неуловимыми преступниками. В эти годы случались даже побеги из дома. Многие увлекались кинематографом, с чем бороться было трудно - густая сеть синема раскинулась по всему городу.
Старшеклассники вели себя солиднее - начинали подтягиваться в учебе, мечтать о будущем, в перемены обсуждали вопросы учебного порядка, пересматривали свое отношение к педагогам, думали о предстоящих экзаменах и дальнейшей учебе. Выпускному классу была выделена для отдыха особая комната. Была такая традиция: классный руководитель или педагог, желая войти в эту комнату, предварительно постучит и спросит, можно ли войти. Ученики почтительно вставали, вошедший делал вид, что не замечает, что накурено. Сделав нужное объявление, он тотчас уходил. Почтительное отношение со стороны учителя обязывало и учеников к подобному же поведению.
Кроме учения гимназия занимала учеников хоровым пением, игрой в великорусском и духовом оркестрах, за отдельную плату можно было обучаться танцам и игре на рояле или скрипке. Прогимназический хор кроме духовного пения разучивал произведения светского характера: торжественные кантаты, русские песни. В великорусском оркестре играли больше тихие, послушные мальчики, а в духовом оркестре было много озорников. "Духовики" презирали балалаечников, с их точки зрения, те занимались пустяковыми делами. Великорусским оркестром руководил большой любитель и знаток этого дела, бывший ученик той же гимназии, Михайлов. А духовой оркестр образовался так: соседний Измайловский полк менял инструменты оркестра и продал старые 10-й гимназии по дешевой цене - все трубы и барабаны за 300 рублей.
Играть на трубах учил унтер типа Пришибеева. Строгий, с хриплым голосом, допускавший солдатские приемы: то стукнет дирижерской палочкой по голове, то ударит по раструбу трубы и этот удар передастся через мундштук в зубы играющему. Учил он усердно, и через полгода оркестр уже играл гимны, два марша - "Тоска по родине" и "Старые друзья", два вальса - "На сопках Маньчжурии" и "Осенний сон", какую-то польку и несколько русских песен.
Директор любил духовой оркестр, а инспектор - струнный. Объяснялось это просто: репетиции духового {146} оркестра происходили на четвертом этаже рядом с квартирой инспектора, а струнный репетировал близ квартиры директора. Вскоре унтер ушел, руководителем оркестра стал некто Лабинский. Он кончил консерваторию, был человек пожилой, со слабым характером и большой плешью. Гимназисты звали его "фон дер Плешь", за глаза, конечно. Вначале он преподавал рояль и скрипку, потом взялся руководить духовым оркестром. Медные инструменты знал плохо, толком объяснить ничего не мог. Гимназисты поняли, что дирижер у них слабый, перестали его уважать, дерзили ему, играть стали плохо, оркестр развалился. Оказалось, что "унтер" был лучшим дирижером, чем выпускник консерватории.
Танцы, за пять рублей в год, преподавал балетный артист, который приходил со своей тапершей раз в неделю часа на два. Держался он очень гордо, а оказалось, что в Мариинском театре он на самых последних ролях. В одном из балетов мы его узнали в роли рака; таких раков на сцене было много - на руках у него были надеты красные клешни, а сам он был темно-зеленого цвета. Это заметно снизило его авторитет. Занятия танцами начинались с изучения разных позиций, потом переходили к приседаниям, плие и т. п. Через полгода стали учить вальс, польку, мазурку. Одни гимназисты были за кавалеров, другие за дам. Наука танцев усваивалась туго, изящество прививалось слабо, что весьма сердило "балетмейстера", который иногда срывался и, показывая сам, говорил: "Ведь это просто, какие вы тупоголовые".
Замечательными событиями в жизни гимназии были акты, балы и концерты. В сентябре проводился традиционный торжественный акт. На него приглашали родителей, гостей из других гимназий, педагогов и гимназистов. Верхний зал гимназии украшался, выставлялся длинный стол, покрытый зеленым сукном, несколько рядов стульев для родителей, за ними стояли гимназисты. Против стульев для родителей - хор и духовой оркестр. Директор объявлял торжественный акт открытым. На кафедру всходил учитель Степанов, лучший оратор. Он докладывал годовой отчет. Это ему очень удавалось: в полной парадной форме, при шпаге, манеры красивые, интонации голоса богатые. Он склонял свою красивую голову то направо, то налево. Начинал он так: "Милостивые государыни и милостивые государи! В отчетном году..." Отчет занимал много времени. Гимназисты, уже отстоявшие молебен, нетерпеливо переминались с ноги {147} на ногу, перешептывались. По окончании доклада хор пел кантату, далее начиналось самое главное: торжественная раздача золотых и серебряных медалей окончившим гимназию. Вызываемые подходили к столу, директор стоя вручал им медали и жал руку. Все аплодировали, оркестр играл туш. После этого выдавались похвальные листы и наградные книги перешедшим в следующий класс с хорошими отметками. Опять аплодисменты, туш. Потом хор пел кантату, прославляющую учителей. Директор объявлял акт законченным, гимназисты играли марш, трубы оркестра гремели, оглушая уходящих гостей. На этот акт все приходили приодевшись - родители, учителя, ученики. Некоторые гимназисты были в мундирах.
Балы и концерты устраивались два-три раза в год, зимой, как мы упоминали, с благотворительной целью - в пользу бедных учеников. Скромное помещение гимназии преображалось, в верхнем зале ставилась сцена. Лучшие рисовальщики украшали стены рисунками из античной жизни, рыцарской эпохи, русских былин. На сцене развешивали гирлянды электрических лампочек, елочные ветки, перевитые кумачом, перетаскивали мебель из квартир директора и инспектора для устройства уютных гостиных. Знатоки в области садового искусства устраивали в одном из классов зимний сад. Пол здесь красили желтой охрой, чтобы создать иллюзию песка. Расставлялись скамейки. Всей организацией заведовали выпускники-восьмиклассники, поэтому бал и назывался - выпускной. В день бала устраивался буфет - чай, лимонад, морс, пирожные, бутерброды, конфеты. Закупались конфетти, серпантин, "почта". Приглашался оркестр Измайловского полка, вернее, пол-оркестра, потому что целиком он был очень велик. Звали и тапера, под рояль танцевали в другом зале. В устройстве бала принимали участие матери гимназистов. Для них устанавливали павильончики или беседки, где они организовывали беспроигрышную лотерею. Бал состоял из двух отделений. В первом - на сцене гимназисты разыгрывали какой-нибудь водевиль или сценки из Чехова, Островского. Иногда вместо спектакля готовился концерт силами гимназистов. В конце выступали и родители учащихся. Второе отделение - танцы до трех часов ночи. Одни "дамы" пользовались успехом, их приглашали танцевать наперебой, другие барышни оставались без всякого внимания со стороны кавалеров, у них сжималось сердечко, они с завистью смотрели на танцующих, нерв-{148}но теребя платочек. Но больше страдали сидящие. рядом мамаши. Правда, гимназисты-распорядители были бдительны - не давали девушкам долго засиживаться, приглашали их сами или посылали кого-нибудь из товарищей.
К трем часам ночи и танцоры, и музыканты уставали. Наконец объявляли последний вальс, после него "вышибательный" марш, который играли сами гимназисты. Такова была традиция. Вешалки для публики устраивались во втором этаже. Все спускались, гимназисты провожали своих дам. Оставались только немногие, те, которые сдавали вырученные деньги от буфета, от продажи конфетти и прочего казначею Анфиму. Составлялся акт о вырученных деньгах, последним покидал свой пост Анфим со своей денежной шкатулкой. Через несколько дней комиссия, подсчитав чистую прибыль, писала денежный отчет, на основании которого деньги распределялись среди недостаточных учеников. Эта сумма обычно составляла 300-400 рублей, за год от таких вечеров собиралось около тысячи рублей, сумма по тому времени значительная.
Вспоминается особый концерт. В классе с одним из авторов этих записок учился Сережа Лабутин, его отец был чиновником в управлении императорских театров. При его-то содействии в целях большего сбора в пользу недостаточных учеников и был устроен очень хороший концерт: помещение было снято в гимназии "Петришуле" 13. Там был зал, который мог вместить много публики. Лабутин-отец пригласил участвовать в концерте многих знаменитых артистов, с которыми он был связан по работе. В частности, были приглашены Стрельская, Мичурина-Самойлова, Юрьев, Лерский, оперные солисты Серебряков, Касторский, Петренко 14. Артистов привозили в наемных каретах, за ними ездили гимназисты-распорядители.
При описании гимназической жизни нам пришла на память битва с ремесленниками. Ремесленное училище 15 (ныне Механический институт) и гимназию разделял кирпичный забор высотой до второго этажа. К этому забору со стороны ремесленного училища близко располагались кузница и вагранка, около которых всегда толпилось много учеников. Они рубили железо, разбивали чугун, носили каменный уголь, работали у горнов и у вагранки. Дым и запах страшные, все это несло в классы гимназии. Гимназисты были этим недовольны, иногда даже из-за сильного дыма не открывали окна для про-{149}ветривания классов. В одну из больших перемен зимой старшеклассники начали перебранку с ремесленниками. В результате взаимных оскорблений гимназисты начали швырять в ремесленников куски мела, свинцовые чернильницы, поленья. В ответ ремесленники, которые имели под руками более серьезные снаряды - куски угля, гайки, болты, обрубки железа,- расшибли все стекла гимназии в четвертом и третьем этажах. Занятия были прекращены, гимназисты выпущены по черному ходу, так как главные лестницы были под обстрелом. Все это произошло быстро, и начальство как с той, так и с другой стороны не успело своевременно прекратить разгром.
На следующее утро, когда пришли гимназисты, все стекла были вставлены, и занятия пошли своим чередом. Начальство доискивалось, кто главный виновник, но фискалу грозила "темная". Антагонизм между гимназистами и ремесленниками продолжался, во время перемен переругивались через открытые окна, но драк больше не было.
Дети становились юношами, переходили из класса в класс, становились выпускниками, то есть учились в последнем, восьмом, классе. Была традиция: гимназисты заказывали себе выпускные значки, на которых указывались номер и год выпуска, фамилия выпускника. Были ювелиры, которые выполняли эти заказы по выбранным рисункам. Значки носились весь год до получения аттестата зрелости. Была и такая традиция: любимым, уважаемым учителям подносился этот значок с соответствующей речью. Дело происходило в классе, после окончания урока, гимназисты окружали педагога, один из учеников произносил речь и передавал значок. Педагог в ответной речи выражал надежду, что весь год на его уроках гимназисты будут вести себя хорошо и усердно заниматься. Такой значок педагоги носили на цепочке часов в виде брелока.
Наступали последние дни перед экзаменами на аттестат зрелости. Традицией было прощаться с педагогами. На последнем уроке гимназисты произносили речи, благодарили за хорошее отношение, говорили по-латыни, по-немецки, по-французски. Педагоги делали последние наставления: как готовиться к экзаменам, что повторить, на что обратить особое внимание. У всех было смешанное чувство: с одной стороны, скорее хотелось кончить гимназию, стать взрослым, с другой - жалко было расставаться со школой, учителями, сторожами, с которыми сжились, провели вместе много лет. {150}
Расписание выпускных экзаменов составлялось так, что промежутки были в два-три дня. В эти дни гимназисты много занимались, иногда не спали ночами. Готовились обыкновенно маленькими группами, у кого-нибудь на дому, потому что даже во время передышки разговоры вертелись около того предмета, к которому готовились.
Настроение было приподнятое, все понимали ответственность, экзамены были строгие, подсказка и списывание совершенно исключались. Сначала шли письменные экзамены по математике, русскому, латыни; задания присылались из округа в запечатанных конвертах, которые вскрывались экзаменационной комиссией перед самым экзаменом.
Наступал первый день выпускных экзаменов, и уже чувствовалось, когда мы приходили к девяти часам утра, что гимназия для нас как-то уже чужая и мы для нее чужие. У кого были мундиры, те приходили в них, потому что выпускные экзамены обставлялись торжественно. Верхние помещения и зал верхнего этажа были свободны, так как занимавшиеся там младшие классы еще ранее закончили свои занятия и были отпущены на летние каникулы. У дверей зала стоял сторож, который пропускал только тех, кто имел отношение к экзаменам. В зале выпускников поражала необычная обстановка: у торцовой стены длинный стол под зеленым сукном, а по всему залу расставлены парты, для каждого отдельная, между партами - дистанция (около четырех аршин), которая исключала всякую возможность подсказать или переписать, не говоря уж о том, что во время письменных экзаменов между партами все время прохаживались учителя, которые наблюдали за порядком.
Каждому под расписку выдавалось два листа с печатью и номером - для черновика и беловика. Первый письменный экзамен был по русскому языку. Были даны две темы: одна по пройденному курсу, другая на отвлеченную (вольную) тему.
Гимназист сам выбирал тему из двух предложенных. На сочинение давалось пять часов. Каждый гимназист сдавал свою работу тотчас же по ее окончании, черновик и беловик. Комиссия отмечала в ведомости время, когда сдана работа. Велся подробный протокол всего экзамена. В два часа давался звонок - конец экзамена, у всех неокончивших листы отбирались.
Следующий письменный экзамен был по математике. Давалась комбинированная задача, куда входили алгеб-{151}ра, геометрия и тригонометрия. Также раздавались листы. Для обеспечения самостоятельности соседям по партам давались разные задачи. На экзамен отводилось четыре часа.
В остальном экзамены проходили так же, как по русскому языку. Мы учились во времена министра Кассо 16, которым был введен письменный экзамен по латыни - перевод с латинского на русский. На экзамене были розданы каждому напечатанные на гектографе тексты из истории Пунических войн Тита Ливия.
Никакого словаря иметь не позволялось, а текст был трудный. Класс учился по латыни хорошо, справился с этой работой отлично, что вызвало совершенно неожиданные последствия для гимназического начальства и гимназистов, о которых мы расскажем несколько позднее.
Через несколько дней начинались устные экзамены. Отметки по письменным испытаниям объявляли накануне устного.
На устные экзамены обычно приезжали попечитель учебного округа, его помощники или окружные инспектора.
Устные экзамены были по тем же предметам, что и письменные, и, кроме того, по закону божию, физике, немецкому и французскому языкам. По математике было два экзамена - по алгебре и геометрии с тригонометрией. На экзаменах по математике ставились в зале четыре классные доски, каждому экзаменующемуся предоставлялась отдельная доска. На экзаменах по языкам на столе лежали книги с произведениями разных авторов на данном языке, гимназисту давали одну из книг, указывали страницу, которую он должен был перевести. После перевода задавали вопросы по грамматике. Экзамены проходили спокойно, обычно получали примерно те же отметки, что имели в году.
Устный экзамен по латыни был особенный. Только что начался экзамен, как вбежал в зал испуганный Анфим, что-то шепнул директору на ухо, и тотчас всю экзаменационную комиссию как ветром сдуло. Все они быстро ушли вниз, в учительскую. Гимназисты в испуге притихли. Через несколько минут вошли в зал министр Кассо, попечитель округа Прутченко и окружной инспектор по древним языкам. Все они сели за стол, а наше гимназическое начальство примостилось сбоку.
Прутченко мы видели и ранее, он приезжал изредка на уроки, но появление высокого, статного, средних лет красавца, министра Кассо, который слыл грозой, и вме-{152}сте с ним окружного инспектора привело наше начальство в испуг и недоумение, а гимназистов - в оцепенение.
Кассо потребовал список экзаменующихся, ему подали, он о чем-то пошептался с Прутченко и инспектором и барственным баритоном вызвал: "Чепелкин Александр!" И гимназическое начальство и гимназисты почувствовали, что для них померк солнечный свет и что они безвозвратно погибли. Санька Чепелкин был лентяй, учился плохо и с натяжкой был допущен к экзаменам. Что чувствовал в эти минуты сам Чепелкин, передать мы не беремся. А мы ожидали, что сейчас начнется полный разгром. Кассо взял своей холеной рукой томик Тита Ливия, развернул его на середине и передал бледному Чепелкину. "Прочтите и переведите",- сказал министр. Санька был шепелявый, волнение усилило его косноязычие. Он прочел невнятно текст и стал переводить. К всеобщему удивлению, министр начал его подбадривать, и в общем Санька вместе с министром перевели текст. Затем Кассо стал задавать Саньке самые простые вопросы по грамматике, на которые Санька отвечал бойко. Не надо забывать, что при замечательном учителе Суровцеве мы знали латынь хорошо, и те вопросы, которые задавал министр, казались нам пустячными.
Министр предложил прочесть Саньке что-нибудь наизусть из Овидия. Санька, приободрившись, начал шепеляво скандировать. Министр обратился к сидящим за столом: "Есть ли у кого вопросы?" Конечно, вопросов ни у кого не могло быть. Чепелкину министр сказал: "Достаточно, вы знаете хорошо (это Санька-то хорошо!), садитесь". Таким порядком министр проэкзаменовал человек восемь. У гимназистов смущение и страх прошли, они отвечали хорошо. Всем он говорил: "Хорошие, великолепные знания". Затем министр встал, встали и все. Подошел к Суровцеву, пожал ему руку, поблагодарил за хорошую подготовку гимназистов и ушел. Его провожала вся экзаменационная комиссия. Через час Суровцев объявил отметки, которые поставил министр,- только пять и четыре, четверок было мало. Нам объяснили, почему приезжал министр. Оказывается, наша гимназия вышла на первое место по письменному латинскому экзамену, и министр сам захотел убедиться в хороших знаниях, не было ли помощи со стороны педагогов при письменном экзамене.
Экзамен был продолжен, все шло так же хорошо, но таких высоких отметок уже не было. {153}
Вместе с гимназистами держали экзамены на аттестат зрелости экстерны, обычно два-три человека. Это бывали или сыновья богатых людей, которые проходили весь курс гимназии дома, или пожилые люди, которые не могли своевременно получить среднего образования, или выгнанные из гимназии.
После окончания последнего экзамена мы решили собраться вечером и поехать в ресторан Зоологического сада 17. Во-первых, там было варьете, во-вторых, там был недорогой ресторан, в-третьих, это было вроде как за городом. К девяти часам все собрались, трудно было узнать друг друга без формы: одни были в шляпах и пиджаках, даже с тросточками, другие - в студенческой фуражке и в гимназической тужурке без кушака, третьи - в импровизированной одежде, например, поношенное соломенное канотье, старый офицерский китель без погон, гимназические брюки, а на ногах сандалии. Но это никого не смущало, все были веселы, оживлены.
Та часть сада, где находились звери, была уже закрыта, публика проходила в ту часть, где был небольшой театр открытого типа и ресторан в деревянном помещении.
Все для нас было ново, необычно, и мы не знали, как подступиться,стоя посмотрели оперетту, несколько раз обошли сад, заглянули в ресторан, но сесть за столики не решались, цен не знали, не знали, сколько у кого денег. Сели в укромном уголке сада и стали совещаться и выяснять, какие у кого капиталы. Выяснили, что на товарищеский ужин можно потратить два рубля с человека. Пошли в ресторан. К нам подошел солидный господин - метрдотель в смокинге и с бантиком под толстым подбородком. Он спросил: "Что вам угодно, молодые люди?" Перебивая друг друга, мы несвязно объяснили, что хотим отметить окончание гимназии, что мы впервые в ресторане и не знаем, с чего нам начать. Метрдотель любезно ответил: "Все устроим, только скажите, сколько вас человек и сколько вы ассигновали на это празднество". Мы ответили. Метрдотель сказал: "За эти деньги я вам устрою великолепный ужин. Пойдите погуляйте по саду минут двадцать". Когда метрдотель через полчаса подвел нас к длинному столу, мы немного испугались - очень уж много было наставлено на столе разных бутылок, закусок, фужеров. Думали, что ошибся он и потребует еще денег. Но оказалось, что все предусмотрено в пределах наших капиталов. Рябиновка в красивых бутылках, дешевые портвейны, суррогат шам-{154}панского, другие дешевые вина - все в красивых бутылках с красивыми этикетками. Закускн тоже были не из дорогих, но поданы красиво. С точки зрения гимназистов, все было очень шикарно. За время ужина несколько раз подходил метрдотель, спрашивал, всем ли мы довольны. Мы отвечали, что всем очень довольны. Подали десерт - пломбир. Некоторые для форсу закурили, посоловелыми глазами стали смотреть на эстраду, где шел дивертисмент. Очень конфузились, когда выступала полуголая шансонетка, которая высоко поднимала ноги. Конфузились, но все же смотрели. Сидели за столом долго и встали в третьем часу ночи. Опять подошел метрдотель, сказал, чтобы не забывали Зоологический сад и впредь заходили. Была чудная петербургская белая ночь, вернее, чудное утро. Мы шли домой пешком, останавливаясь на мостах, любуясь Невой, садились на парапеты набережных, говорили о будущем, клялись в вечной дружбе, давали обещание встретиться через десять лет. И все шли и шли до района Технологического института, где большинство из нас жило. Сколько было времени, мы не смотрели, но помнили одно - что на Обуховской площади торговцы расставляли свои товары.
Через три дня мы пришли в гимназию получать аттестат зрелости. При раздаче аттестатов присутствовали инспектор Суровцев и некоторые учителя. Мы расписались в получении аттестатов, присутствующие нас поздравили, дали последние наставления. Мы разошлись, и двери гимназии, ставшей нам вдруг очень дорогой, навсегда закрылись для нас как для учащихся.
На следующий год началась русско-германская война, большинство окончивших были призваны и направлены в школы прапорщиков и военные училища. Многие наши выпускники сложили свои головы, защищая родину.
...Знакомясь с выпускниками других гимназий, мы поняли, что наша 10-я гимназия была обыкновенной, типичной казенной гимназией, какие были рассеяны по всей России. Причем провинциальные гимназии в наше время нисколько не уступали в постановке преподавания, в подборе педагогов, а может быть, и имели некоторые преимущества вдалеке от столичной бюрократии. В этом смог убедиться один из авторов, который по семейным обстоятельствам вынужден был два последних класса заканчивать в казанской гимназии.
Оглядываясь назад, на давно минувшие детские и юношеские годы, учебу, мы убеждаемся, что решающим {155} в успехе школьного образования является не постановка преподавания и не программа, даже не дисциплина, а сам педагог, его человеческие и профессиональные качества. И так, нам кажется, было всегда и во всех учебных заведениях и будет всегда.
Кстати сказать, в Петербурге были и другие средние учебные заведения: частные гимназии, реальные училища, коммерческие. В последних двух курс был короче - 7 классов, так как не проходились древние языки, в остальном программа отличалась мало.
Не беремся мы говорить о быте в закрытых учебных заведениях типа Императорского лицея, Училища правоведения, Кадетского корпуса и в женских институтах. Там быт был своеобразен и недоступен для стороннего глаза. Но, встречаясь с выпускниками этих учреждений, мы каждый раз убеждались, что образование они получили отличное.
* * *
После окончания гимназии один из авторов этих записок поступил в Санкт-Петербургский императорский университет 18.
Бывшее здание петровских Коллегий со знаменитым коридором, колонным залом с хорами, кстати, весьма невзрачными аудиториями, с конференц-залом, помещениями ректората, конечно, производило большое впечатление на студента, впервые переступившего порог храма науки. Жаль, что старинное здание постоянно подвергается переделкам - часть знаменитого коридора отошла под деканат, противоположная его сторона - под библиотеку. В наше время коридор был заставлен всякими шкафами, стены завешаны объявлениями, расписаниями лекций. По коридору даже во время лекций ходила густая толпа студентов, которые страшно шумели. Новичка все это поражало, ведь в гимназии была строгая дисциплина, а здесь никакой. На лекцию хочешь - иди, не хочешь - не ходи. Захотел - пошел слушать лекцию другого факультета или другого курса. Никто за порядком не наблюдал, никто ничего не требовал. Было непонятно, почему тому же человеку, который теперь называется студентом и носит другую форму, сразу предоставлена такая свобода.
Подобные перемены на многих действовали отрицательно. Вчерашние прилежные гимназисты начинали небрежно относиться к учению. Происходил большой отсев, {156} был тип "вечного студента". Такой студент, проучившись год-два и не сдав установленного минимума, переходил на другой факультет и так перебирал весь университет. В бороде у него появилась проседь, он был уже дедушка, а все еще продолжал носить студенческую фуражку, прикрывая плешь и седые космы. Значит, у него были средства платить за учение или он давал уроки, может быть, имел богатого родственника-мецената.
Были "вечные студенты" и другого рода. Они кончали по два, по три факультета. Смотришь, идет студент, а у него два университетских значка об окончании. Такие люди только брали от науки, обществу же ничего не давали, не служили.
Надо сказать, что и профессура не блистала дисциплиной. Как правило, осенью некоторые преподаватели начинали читать с большим запозданием. Да и на лекции приходили минут на 15 позже, а то и вовсе пропускали свои занятия. Бывало такое: первокурсник, еще несмышленыш, стоит у запертой двери аудитории, дожидается, когда отопрут. Проходит сторож, студентик спрашивает, почему закрыта дверь. Сторож осведомляется: "Кто должен читать?" - "По расписанию - профессор Н. Н. Бывалый". Сторож отвечает: "Н. Н. раньше декабря лекций не начинает". В полное смущение приходит студентик-новичок, видя в расписании: "Лекцию читает ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ профессор Н. Н.". Молодой человек вообще-то никакого профессора еще в глаза не видел. К тому же против знаменитых имен значилось просто - профессор. Что же такое тогда "экстраординарный"? Как у него держать экзамен? Холод пробегал по спине, и сердце сжималось от страха. А означало это слово внештатный, иной раз действительно известный.
По нижней галерее в виде открытой аркады, которая шла под знаменитым университетским коридором, были размещены квартиры обслуживающего персонала и разные служебные помещения. Удивляли старинные вывески: "Экзекутор", "Регистратор", "Квартирмейстер". По-видимому, они оставались чуть ли не с самого основания университета.
Вся студенческая жизнь была сосредоточена в коридоре. До прихода профессора студенты в аудиторию не заходили, а толпились около дверей. Вели разговоры. Завидя профессора, заходили в аудиторию и садились на скамьи с узкими пюпитрами. Для профессора стояла кафедра. Профессор бывал обычно в штатском сюртуке, с бородой, почтенного возраста. Некоторые читали очень {157} скучно, и народу на их лекции ходило мало. Другие читали очень интересно, и на их лекции ходили студенты с других факультетов. Третьи злоупотребляли ученой терминологией, начинающие студенты плохо их понимали. О профессоре Петражицком 19, читавшем историю права, говаривали такое. Студенты просили его меньше употреблять научных терминов и иностранных слов. На это он ответил: "Вы студенты второго курса юридического факультета Санкт-Петербургского императорского университета. В этой фразе только одно слово русское, а вы хотите, чтобы я говорил по-другому".
Студентов привлекали лекции Ковалевского, Туган-Барановского, Ивановского 20 и других профессоров, которые интересно ставили изучавшиеся проблемы, связывая их с переживаемым временем. Молодежь их всегда провожала аплодисментами.
Экзамены происходили в тех же аудиториях, где читались лекции. По каждому предмету продавалась подробная программа за десять копеек. Как именно студент изучал этот предмет, никого не интересовало, требовалось одно - чтобы он его знал в объеме программы. Студент подходил к экзаменатору, выкладывал свой матрикул, который одновременно служил и пропуском в университет, и зачетной книжкой. Профессор предлагал взять билет. После подготовки студент отвечал, всегда сидя. Кроме билета профессор предлагал и другие вопросы. Требования были серьезные. Ответ длился минут сорок. Оценки были две: удовлетворительная и весьма удовлетворительная. Если студент проваливался, экзаменатор заявлял: "Коллега, вам придется прийти в следующий раз" - или еще более деликатно, но с оттенком ехидства: "Коллега, вы знаете на "удовлетворительно", но мне хотелось бы поставить вам в следующий раз "весьма", возьмите ваш матрикул". Споры между экзаменатором и студентом были редки и ни к чему не вели. Раскрасневшийся и смущенный студент кланялся и уходил. В году обычно было три экзаменационных сессии: рождественская, осенняя и весенняя. Никаких пометок о несданном экзамене в матрикуле не делалось, можно было экзаменоваться несколько раз.
Государственные экзамены проходили в более торжественной обстановке. Тем, кто оканчивал с отличием, по первому разряду, присваивали звание кандидата наук. Под руководством профессора писали сочинение на выбранную тему. За сочинение, внесшее нечто новое в науку, советом университета присуждалась золотая медаль с {158} надписью "преуспевшему". Кстати, за окончание гимназии с отличными отметками по всем предметам выдавалась золотая медаль меньшего размера с надписью "преуспевающему". (В ювелирном магазине ее можно было продать за 40-50 рублей.)
Толпа студентов была разношерстной, от богатых щеголей, приезжавших в университет в собственных экипажах (таких, правда, было мало), и до бедняков, живших впроголодь. Основная же масса студентов состояла из скромных, трудолюбивых молодых людей весьма ограниченных средств. Значительная часть их подрабатывала репетиторством, считала обязательным хотя бы частично содержать себя самим, а не сидеть на шее у родителей. Иногородние студенты жили в общежитиях или снимали вдвоем комнату за 12-15 рублей. Бюджет такого студента не превышал 25-30 рублей в месяц. На эти деньги надо было и кормиться, и одеться, и купить необходимые книги. В шинельной университета сторожа, обслуживающие вешалки, были своего рода комиссионерами. У каждого имелась стопка учебников, пособий, конспектов, которые они продавали по поручению бывших студентов, конечно с большой скидкой. Они же продавали тужурки и шинели окончивших.
В университете легально действовали организации экономического порядка: землячества, кассы взаимопомощи, которые существовали на добровольные взносы. Были спортивные объединения: яхт-клуб, атлетическое общество.
Большинство студентов ходило в форменных тужурках, сюртук имели далеко не все. Тужурка была черного цвета с синим кантом и петлицами, золотыми пуговицами с орлом. Шинель черная, двубортная. Фуражка с синим околышем и темно-зеленой тульей. Форма была не обязательна, но большинство ходило в форме по двум причинам: во-первых, сразу видно, что студент, а это уже обеспечивало известное положение в обществе, во-вторых, так было дешевле. Поношенную студенческую форму можно было носить, а старую штатскую тройку считалось носить неприличным. Существовал какой-то университетский мундир с золотым шитьем, треуголкой и шпагой, но мы на студентах такого не встречали. Шпагу кое-кто носил при сюртуке. Некоторые носили шпагу и сюртук на белой подкладке, откуда и пошло - "белоподкладочники". Эти молодые люди, как правило, из зажиточных семей, держались обособленно, называли себя "академистами", желая подчеркнуть, что они пришли в {159} университет учиться, а не заниматься политикой. На самом деле это была реакционная группировка, которая твердо проводила свою политику.
В противоположность этим щеголям, "академистам" и другим франтам, которые очень следили за костюмом и прической, были студенты, умышленно небрежно одетые, отпустившие волосы до плеч, нечесаную кудлатую бороду и усы. Они носили большие очки с синими стеклами, всем своим видом показывали, что для них существует только наука и они в ближайшее время открытиями и изобретениями облагодетельствуют человечество. Разговаривали они только о науке, делая лицо таинственное и как бы чего-то недосказывая. Забавно было их видеть в кабинете естественного отделения физико-математического факультета, где изучали кости человеческого скелета. Небольшой, плохо освещенный кабинет, все кости, чтобы их не растащили, прикреплены на длинных цепях. И вот сидят эти "ученые мужи", в руках у каждого большая кость, гремят цепями и шепотом переговариваются: "Коллега, у вас освободилась малая берцовая кость?" - "Нет, коллега, вот ребра мне не нужны, возьмите их". И опять звон цепей и бормотание под нос латинских терминов. Другой разглядывает кость и не может найти какого-то отростка. Напрасный труд, костям этим чуть ли не сто лет, они перебывали в тысячах рук, все бугорки истерлись. Тогда они начинают прощупывать собственное тело и искать этот отросток на своем костяке, что часто удавалось благодаря худобе, обычной для бедных студентов.
Питались студенты по-разному, как по-разному и жили. В общежитии всегда был кипяток, приходил булочник, по пути с занятий покупали полфунта дешевой колбасы. Кто жил у хозяек, кипятком тоже был обеспечен. Иногда хозяйки брали студентов на полный пансион, давая им завтрак и обед, вечером чай с закуской. Цены были разнообразные, полный пансион вместе с комнатой дешевле 20 рублей было не найти.
Университетская столовая, где обедало множество студентов, помещалась за северными воротами, где и теперь "столовка". Обстановка столовой была скромная: длинные столы, покрытые клеенкой, на них большие корзины с черным и серым хлебом, которого можно было есть сколько угодно. Было самообслуживание, цены очень дешевые: обед без мяса 8 копеек, с мясом - 12. Стакан чаю - копейка, бутылка пива - 9 копеек. Конечно, были обеды и подороже. В дешевом буфете прода-{160}вались кисели, простокваша. Столовая с самого утра была переполнена. Шум стоял необыкновенный. Молодые люди спорили, смеялись. Студенток не было, они появились позднее. Некоторые любители проводили в столовой больше времени, чем на лекциях, их интересовало дешевое пиво. Кое-кто из студентов, выбившись из бюджета, ограничивался чаем и бесплатным хлебом, несколько кусков которого еще положит в карман. На это никто не обращал внимания, наоборот, относились даже сочувственно. Иной студент, совершенно незнакомый, скажет: "Коллега, я вам куплю обед, у меня денег хватит на двоих". Администрация столовой иногда предлагала бесплатно тарелку щей без мяса. Такая столовая очень выручала бедных студентов. В пользу недостаточных студентов устраивались балы, концерты.
Большинство студентов живо реагировало на все события в жизни России, они посещали научные доклады, ходили на выступления лидеров разных партий, на заседания Государственной думы, где можно было находиться на хорах, посещали театры и концерты, участвовали в политических сходках. Некоторые уже участвовали в подпольной работе.
Заканчивая этот короткий рассказ о студенческой жизни, нельзя не сказать, что женщин в то время не допускали почти во все высшие учебные заведения России. Для них были свои высшие курсы в Петербурге21 и Москве, в больших губернских университетских городах: Киеве, Харькове, Казани, и то по узкому кругу специальностей.
О ВОЕННЫХ
Глубокий отпечаток на внешний облик города, его жизнь и быт накладывало то обстоятельство, что в Петербурге стояла гвардия, другие военные части, было много военных учреждений и военных учебных заведений. Гвардия считалась опорой престола, красой и гордостью империи. В наше время, после 1905 года, эта опора стала призрачной. Меркла и в наших глазах краса армии, которой любовались, но и верили в ее боевую готовность. Еще в 1904 году мы были вовлечены в общий, всех захлестнувший патриотический подъем в связи с начавшейся в январе войной с Япони-{161}ей. Поддавшись общему легкомысленному настроению, мы не сомневались в успешном разгроме маленькой, казавшейся беспомощной Японии: "Шапками закидаем!" Все вдруг обернулось трагически: гибель "Варяга" и "Корейца" в самом начале войны; уже в марте подрыв на мине броненосца "Петропавловск" со всеми уважаемым адмиралом Макаровым; неудачные выступления нового генерала Куропаткина: "Терпение, господа, терпение!" - и последующая сдача Порт-Артура; разгром в мае эскадры под командованием Рожественского, затем проигранное сражение под Мукденом в феврале 1905 года и, наконец, поспешный, невыгодный для нас, Портсмутский мир. Все это повергло нас в смятение, и возник вопрос: соответствует ли блестящий вид армии задачам военной подготовки?
Начать с того, что форма, блестящая в строю, казалась людям нелепой, как только военный смешивался с толпой в обыденной ситуации. Вблизи она выглядела грубо, вызывающе. Как всегда, народ сразу замечал смешное и нелепое. Часто слышались насмешки над бедными солдатами. Вот идет кирасир, и тотчас ему вдогонку: "Ты вроде медного самовара!", потому что кираса не прилажена, в пояснице отстает. При виде солдат кавалерийских полков, у которых кивер на этишкете, кричали в толпе: "Эй, голова на веревке, смотри не потеряй". На офицерах была форма, прекрасно сшитая, носить они ее умели, и то вспоминается такая картина: хоронили какого-то генерала, гроб провожали военные в полной парадной форме. Два офицера лейб-гвардии драгунского полка вышли из процессии закурить и пошли по панели в общей толпе. Их нарядные кивера с высоким султаном и свисающими кистями настолько не вязались с котелками, шляпами, картузами толпы, что они сразу почувствовали себя неловко, бросили папиросы и поспешили вернуться в процессию. Там они были на месте, вся процессия выглядела очень эффектно.
Нелепо было и то, что в гвардейских стрелковых полках зимой и летом носили барашковую шапочку; рубахи были малиновые с пояском из трехцветных жгутов с кистями, поверх рубахи безрукавка, обшитая золотым галуном. Но главное - сапоги. Офицер, скажем, заказывал себе сапоги с голенищами, доходившими до самого верха ноги. Когда он спускал голенища, как полагалось, ниже колена, на сапоге собиралась большая гармошка. Сапоги гармошкой считались особым шиком и должны были придавать якобы истинно русский стиль. Солдаты {162} также носили сапоги гармошкой, но выглядели они как-то грубо, а начищались зато до умопомрачительного блеска.
Но обратимся к приему новобранцев.
Их распределение по полкам происходило в Михайловском манеже. От каждого полка приходила делегация для отбора новобранцев. Она выглядела торжественно - взвод солдат в полной парадной форме с оркестром во главе, с офицером или даже с командиром полка. Начинался отбор: высокие шатены с правильными носами - в Преображенский; блондины - в Измайловский (народ называл их "хлебопеки"); рыжие - в Московский полк (им народ дал прозвище "жареные раки"); высоких брюнетов со стройной фигурой - в кирасирские полки; с усами - в гусарские или другие кавалерийские; с бородой - в "вензельные" роты 1 пехотных полков гвардии; высоких с широкой грудью - в гвардейский флотский экипаж. И это без опроса, без всякой беседы.
Интересным зрелищем был развод новобранцев по полкам. Например, по Невскому проспекту ехал на прекрасных черных конях оркестр и взвод конногвардейского полка, в медных касках с двуглавыми орлами, в начищенных кирасах, полых колетах, при длинных палашах. Оркестр играет бравурный кавалерийский марш. А сзади идет разношерстная группа парней, многие в лаптях, с узелками, котомками, сундучками. Новобранцы как-то испуганно озираются по сторонам, ошеломленные всем происходящим. Идут не в ногу, спотыкаются. А следом - гвардейские моряки, с тесаками на белых портупеях, с ленточками на бескозырках, ведут за собой будущих матросов под звуки великолепного оркестра гвардейского экипажа. За ними - преображенцы в высоких киверах, выправка их необыкновенно хороша, они чеканят шаг, ведя за собой будущих товарищей. Публика останавливается, смотря на это интересное зрелище. Простой же народ реагирует по-своему: некоторые подбегают к новобранцам, суют им в руки папиросы, деньги. Женщины даже причитают со слезами, жалея солдатиков. А мужчины, особенно те, которые отбыли солдатчину, отпускают разные шутки: "Что ты, парень, рваные лапти в Питер привез?", "Забрили тебе лоб, так попробуй шилом патоки". На эти замечания и насмешки новобранцы смущенно улыбаются, а те, что побойчее, находчиво отвечают тоже шуткой.
Затем начиналось для молодых солдат тяжелое время учения. Ведь нужно было из деревенского парня, хо-{163}дившего неуклюже, вразвалку, в 2-3 месяца сделать "справного" гвардейца, который мог бы держать "фрунт", "есть глазами начальство", отдавать честь, "печатать" шаг и пр. Пока же молодые солдаты не усвоили всей премудрости, они не допускались к присяге. А до этого они не получали даже полного обмундирования, например, матросы носили бескозырки без ленточек, а десантные сапоги им не разрешалось чернить ваксой. В кавалерии молодые солдаты первое время не могли садиться и даже ели стоя - результат учебной езды без седла. У некоторых солдат руки были в рубцах от ударов хлыста, если новобранец неправильно держал поводья.
Когда первоначальная выучка заканчивалась, молодые солдаты принимали присягу и только тогда могли получить первое увольнение из казармы на 3-4 часа. Первые шаги на улице были для них очень трудны, необходимо было проявлять величайшее внимание, чтобы не опоздать отдать честь офицеру строго по всей форме, иначе можно было угодить на гауптвахту. А перед генералом встать за три шага во фронт, на лице отразить "рвение", иначе кроме гауптвахты можно было получить и более тяжелое наказание. Особенно неловко чувствовали себя солдаты на улицах в царские дни и в большие праздники, когда надевали парадную форму; кивер или каска давили голову, высокий жесткий воротник подпирал и натирал шею. Гуляющих офицеров в эти дни было больше и приходилось проявлять особую бдительность.
В праздники солдат строем водили в церковь, там они стояли шеренгами. У каждого гвардейского полка была своя церковь. Там делалось все по команде: "на колени", "встать". Ремни и сапоги скрипели. Если молились кавалеристы или артиллеристы, примешивалось бряцание сабель и шашек. К причастию солдаты подходили без оружия, которое складывалось в каком-нибудь углу храма. Все это моление строем и по команде не производило впечатления действительно моления, а скорее, отбытия наряда. После церковной службы командир полка (в гвардии обязательно генерал) принимал короткий парад; солдаты по выходе из церкви проходили под музыку мимо командира, который с ними здоровался. Такие картины мы наблюдали в Троицком соборе 2, где молился Измайловский полк.
Этот собор был одновременно музеем войны с турками 1877-1878 гг. На стенах собора были развешаны турецкие знамена, под ними на медных листах было выгра-{164}вировано, в каких сражениях они взяты. В особых витринах помещались мундиры князей, генералов, погибших в эту войну. В других витринах хранились ларцы с пулями, извлеченными из ран воинов. Солдаты, рассматривая сплющенные свинцовые пули, говорили: "Вот она - смерть-то солдатская". Перед собором стоял памятник славы - высокая колонна, сложенная из турецких пушек 3. На цоколе колонны были громадные бронзовые доски с выпуклыми буквами - история всей турецкой войны. Вокруг колонны стояло несколько полевых пушек на колесах. По углам церковной ограды вместо столбов были врыты большие орудийные стволы, на некоторых можно было разглядеть два клейма - завода Круппа и Оттоманской империи (вот кто снабжал оружием турецкую армию).
Вывесок, запрещавших вход в общественные сады "солдатам и с собаками", в наше время уже не было. Общественные сады и скверы в праздничные дни были заполнены солдатами. Сад при Никольском соборе был забит гвардейскими матросами, сквер у Царскосельского вокзала - семеновцами, Александровский сад у Адмиралтейства был местом прогулок писарей Главного штаба, в парке Народного дома было полным-полно "нижних чинов". Там был отдельный павильон для танцев, вход 10 копеек (через турникет). На этой "танцульке" главенствовали писари Главного штаба - кавалеры высшего сорта 4. По форме их можно было принять за офицеров - шинель более светлая, чем солдатская, фуражка с белыми кантами, мундир двубортный тоже с белыми кантами, синие брюки навыпуск, со штрипками. Обхождение с дамами "самое галантерейное". А главное - они были непревзойденными танцорами. Никто так лихо не мог пристукивать каблуками во время венгерки или краковяка, как они, а во время падекатра особо находчивые кавалеры бросались вприсядку, а при завершении фигуры вскакивали, как упругие пружины. Разным "штафиркам" (штатским) конкурировать с ними было трудно. Все это был народ видный, всегда чисто выбритый, с умело закрученными усами, они вовремя могли поднести своей даме пучок красных гвоздик - ну какое же женское сердце могло устоять против такого кавалера!
Интересным явлением были кантонисты (с самого рождения принадлежавшие военному ведомству) при Измайловском полку 5. Набирались они в 5-6-летнем возрасте из сирот или незаконнорожденных, а иногда и от бедных родителей. Они поступали на казенное содер-{165}жание, их одевали в форму того полка, в котором они воспитывались. При Измайловском полку кантонисты проживали в верхнем этаже здания Офицерского собрания на углу Измайловского проспекта и 1-й Роты 6. Для их строевых занятий и прогулок был дворик, обсаженный желтыми акациями. Их обучали грамоте в пределах городской начальной школы, игре на духовых инструментах и пению. По окончании учения они отбывали военную службу в этом же полку, большинство вне строя - писарями, музыкантами. Харчи у кантонистов были общесолдатские. Содержали их очень строго, главными воспитателями и наставниками их были сверхсрочные военнослужащие, фельдфебели и унтеры под наблюдением офицеров. Провинившихся пороли, ведь это были дети "черной кости". Кантонисты имели выход только в музыкантскую команду и в Троицкий собор, где они пели в хоре. Тогда они надевали поверх мундира "парад-халат" с золотыми позументами. В такие же "парад-халаты" были одеты и взрослые певчие. Пел хор замечательно, регент был суровый старик, всегда в черном сюртуке, с камертоном в руке.
По большим праздникам родственникам кантонистов разрешалось их навещать. Смотришь, во дворике на скамейке сидит женщина рядом с маленьким солдатиком, оба вздыхают, иногда плачут. Женщина вынимает из узелка гостинец. Свидание скоро прекращается, окрик унтера заставляет их вздрогнуть и поспешно разойтись. Слезы на глазах у обоих. Кантонисты были наследием режима Николая I, который хотел всю Россию сделать казармой. В наше время это учреждение казалось пережитком, и оно сохранилось далеко не во всех полках.
Нередко можно было видеть на улицах Петербурга мальчиков и юношей в военной форме различного образца. Это были воспитанники кадетских и морского корпусов и военных училищ разных родов войск. Забавно было видеть, как кадетик 10-11 лет отчетливо и лихо отдавал честь офицерам, изображая из себя маленького солдатика. Бывали случаи, когда весь кадетский корпус шел строем по улице. Впереди шагал духовой оркестр, тоже из кадет. Играли они неважно. Потом несли знамя, а за ним - кадеты повзводно с офицерами-воспитателями. Впереди шли взрослые, высокие кадеты, а в хвосте колонны почти бежали маленькие кадетики, еле успевавшие за взрослыми. Иногда офицер брал отстающего кадетика за воротник и бегом вместе с ним догонял колонну. {166}
Красиво выглядели кадеты Николаевского корпуса: синие брюки, двуцветный суконный пояс - красный с черным, в шашку. Готовил этот корпус будущих кавалеристов, после окончания его кадеты шли обычно в кавалерийские училища.
Пажеский корпус был привилегированным учебным заведением 7. Это было соединение кадетского корпуса с военным училищем. Отсюда выходили офицерами в гвардейские полки. Форма у них была оригинальная: черная двубортная шинель, белая портупея и каска германского образца с золоченым шишаком и орлом спереди. На белой портупее пажи носили либо гвардейский тесак, либо шашку, смотря по тому, в каком классе они были - в кавалерийском или пехотном. Кроме того, у пажей была особая придворная форма - мундир с поперечными галунами, белые брюки, шпага и на каске белый султан.
Также проходили по улицам юнкера военно-учебных заведений в полном составе, с оркестром и знаменами. Особенно отличались своей выправкой "павлены" - юнкера пехотного Павловского училища, а своим форсом - юнкера Николаевского кавалерийского училища 8. У них была очень красивая форма, особенно парадная: большой кивер с султаном, желтый этишкет, ловко сидящий мундир с галунами, блестящие сапожки со шпорами "малинового" звона, белые перчатки и начищенная шашка. Деревянная рукоятка эфеса шашки, об этом надо сказать несколько слов, была обязательно некрашеного твердого дерева, без лака, что должно было свидетельствовать о том, что юнкер так много "рубил", что в результате лак и стерся. На хороших лошадях, тоже дисциплинированных,- такие молодцы возбуждали к себе интерес девиц и молодых дам... На балах они пользовались их особой благосклонностью, да и трудно было найти лучших кавалеров и танцоров.
У юнкеров - артиллеристов 9 и инженерного училища 10 был совсем иной тон. Держали они себя скромно, серьезно: форма у них не отличалась особым блеском. В эти училища поступали по конкурсу с серьезной подготовкой. В первый год обучения юнкера-артиллеристы не имели права носить шпор, но так сильны были традиции и желание блеснуть, что юнкера, уволенные в отпуск, в субботу, заворачивали с Забалканского на пустынную набережную Фонтанки, вытаскивали шпоры и надевали их. Возвращаясь вечером в училище, они делали то же самое, только в обратном порядке. {167}
Гардемарины Морского корпуса 11 отличались не только отличной морской формой, но и особым поведением на улицах: хоть плохо, но говорили по-английски, подчеркивая тем самым, что они "соленые" моряки, плававшие во всех широтах земного шара, были изысканно вежливы, как полагается морякам. Ходили они особой морской походкой, показывая, что на суше им ходить тяжелее, чем на качающейся палубе. Курили трубочку с "кепстеном".
Так, в общем привлекательно, выглядели юнкера на улице. Но в их обиходе было много ненормального и даже постыдного. Так, между ними процветало пренебрежение и даже какая-то непонятная ненависть к юнкерам другого рода оружия: пехотинцы терпеть не могли кавалеристов, а те артиллеристов за то, что они не так ловко сидели в седле. Гардемарины считали, что всякая другая военная служба ерунда по сравнению с морской. Юнкера Николаевского кавалерийского училища с презрением относились к юнкерам казачьей сотни, которые обучались в том же училище,- посылали им завернутую в бумагу нагайку с соответствующим письмом, намекая на то, что казаки часто разгоняли нагайками демонстрации рабочих и студентов. Это взаимное неуважение и пренебрежение передавалось потом им и тогда, когда они становились офицерами, а от них и солдатам. Так, гвардейцы, обращаясь к армейцам, с презрением говорили: "Эй, ты, крупа, посторонись", иронизируя над их небольшим ростом. Кавалеристам пехотинцы говорили: "Вам только хвосты кобылам подвязывать!"
Между юнкерами одного и того же училища процветало "цуканье" - старший юнкер отдавал младшему самое нелепое приказание, а младший должен был беспрекословно его выполнить. Например, на четвереньках пройти по всем коридорам училища или спичкой измерить длину манежа и доложить. Младший юнкер должен был обращаться к старшему: "Господин корнет...", хотя тот офицером еще не был, а этот самозваный корнет, вскинув монокль, требовал раз пять повторить к нему обращение, подходя по всей форме. Такие уродливые отношения дожили почти до самой революции.
Но те же юнкера-кавалеристы были способны и на совсем иные дела. Как и вся Россия, готовясь отметить в 1914 году столетие со дня рождения М. Ю. Лермонтова, воспитанники этого училища решили поставить ему достойный памятник в сквере своего училища на Ново-Петергофском проспекте. Чтобы собрать средства на соору-{168}жение памятника, юнкера училища (эскадрона и казачьей сотни), с разрешения начальства, три дня подряд устраивали в Михайловском манеже конноспортивные праздники. Билеты продавались от 50 копеек и выше, некоторые, зная, куда пойдут эти деньги, платили за билет 10-15 рублей.
На этих праздниках юнкера показывали свое искусство в вольтижировке, джигитовке и других упражнениях на конях и гимнастических снарядах. Многие номера выполнялись настолько красиво и легко, что превосходили трюки цирковых артистов. Были показаны лихая рубка, стрельба на полном скаку в цель, всякие упражнения с пиками, живые пирамиды на конях. Было показано "живое солнце", когда юнкер вертелся на пике, которую держали два юнкера, скачущие на лошадях. Были разные игры - "Белой и Алой розы", в "лисичку", когда юнкера разделялись на группы и якобы вели войну. Некоторые молодцы превосходили сами себя и удивляли зрителей своей ловкостью. Были показаны конные карусели 12, а под конец - парадный выезд в исторических формах кавалерии. Народ ломился на эти праздники, публика не только сидела, но и стояла в проходах. Гремели оркестры, аплодисменты, крики - браво, брависсимо, бис.
Весной, когда гвардия уходила в лагеря в Красное Село, и осенью, когда возвращалась в Петербург, можно было видеть прохождение войск целыми полками, бригадами. Войска шли с оркестром, с барабанщиками, со знаменем.
Красиво проезжала и кавалерия - впереди оркестр на конях, также со знаменем-штандартом. Зрелище было особенно красивое, если войска шли в парадной форме.
Мальчишки бежали впереди, шагали рядом, движение на улицах приостанавливалось, прохожие стояли на тротуарах и любовались.
В дни больших парадов на Марсовом поле кавалерийские полки, стоявшие в пригородах, стягивались в столицу накануне. Например, уланский полк из Петергофа останавливался на ночлег в Константиновском артиллерийском училище. Мы наблюдали, как утром весь полк выстраивался по Фонтанке в полной парадной форме, кивера с султанами, на пиках флюгарки 13, офицеры с лядунками 14 на красивой перевязи. Зрелище это собирало много народу, вездесущие мальчишки лезли под ноги лошадей, солдаты перешучивались с проходящими {169} молодыми женщинами. Наконец из ворот выезжал командир, раздавалась команда, и все замирало. Потом полк по команде перестраивался "по три" и отправлялся под музыку к Марсову полю, оставив после себя массу навоза, к неудовольствию хозкоманды училища и дворников близлежащих домов.
Переходя к описанию некоторых черт офицерской среды, надо откровенно сказать, что большая часть офицерства не имела живой, дружеской связи с солдатами. Суворовские традиции были давно утрачены. Обучение и воспитание солдат и матросов было в основном передоверено фельдфебелям, унтерам, вахмистрам, боцманам. В массе своей это были карьеристы, народ грубый, окончивший при частях только учебную команду, дававшую знание немногих воинских премудростей, преимущественно чисто внешних. Они допускали рукоприкладство, и офицеры с этим не боролись или боролись недостаточно. Сами офицеры воздерживались от рукоприкладства, особенно после 1905 года.
Гвардейское офицерство, особенно аристократических полков (кавалергарды, конногвардейцы, стрелки императорской фамилии), держало себя не в своей среде отчужденно. В общественных (невоенных) местах они появлялись редко. Если они гуляли, то только на набережных Невы, по Морской. В большинстве же случаев их можно было увидеть в экипажах. Вращались они только в своей среде, но иногда не гнушались и богатым, просвещенным купечеством, заводчиками, фабрикантами. Иногда даже роднились с ними (с разрешения начальства), чтобы путем брака подправить свои финансы и иметь возможность продолжать службу в гвардии. Ведь чтобы служить в гвардии, особенно в кавалерии, и поддерживать "честь мундира", нужны были немалые средства. Блестящая, дорогостоящая многообразная форма: летняя и зимняя, парадная, полная парадная форма, бальная форма, шинель обыкновенная, шинель николаевская, лошадь кровная, обычно две или три,- все это стоило громадных денег, не говоря уже о том, что в обществе надо было держать соответствующий образ жизни. Расходы по Офицерскому собранию (в гвардейских полках), балы, приемы, подношения, парадные обеды требовали больших расходов. Часто офицер только расписывался в получении жалованья, все оно уходило на вычеты. В некоторых полках существовала традиция - при вступлении в брак передать в собрание серебряный столовый прибор. Все офицеры из армейских полков должны были перед {170} свадьбой внести "реверс" - несколько тысяч рублей в обеспечение будущей семейной жизни.
У гвардейцев главное внимание обращалось на внешность, на великосветский лоск, на смешение русской речи с французской. В обществе, на балах офицеры были желанными кавалерами. По-особому в обществе относились к морским офицерам, как правило, интересным собеседникам, служба которых была связана с дальними путешествиями, экзотикой, опасностью, штормами... Выделялись офицеры Генерального штаба 15, Военно-инженерной академии 16 особой формой, серьезностью, образованностью.
Несмотря на внешнюю воспитанность и лоск, французскую речь в обществе, тот же офицер, придя в казармы или на корабль, мог разразиться такой нецензурной руганью, которая приводила в восторг бывалых боцманов, фельдфебелей и вахмистров - этих виртуозов в ругани - и изумляла солдат, наивно полагавших, что так ругаться умеет только простой народ.
Каждый род оружия, строевая и походная жизнь, бытовые особенности, традиции налагали особый отпечаток на военных каждого рода войск. В среде большинства военных эти особенности и традиции считались важными, в невоенной же среде к ним относились несколько даже иронически, недаром сложилась поговорка: "Щеголь в пехоте, пустой в кавалерии, пьяница во флоте, умный в артиллерии".
Так же как и среди юнкеров, существовал антагонизм между офицерами разного рода войск, а особенно гвардии и армии. Гвардейцы с некоторым презрением относились к своему брату армейцу, внешне же соблюдали лицемерное особое к ним почтение, первыми отдавали им честь (разумеется, в одном чине), подчеркивая этим свое уважение к армии в целом, поскольку гвардия составляла только одну (правда, привилегированную) часть армии.
В распоряжении каждого офицера был денщик, а у высших чинов и два (во флоте они назывались вестовыми). Выбирались они из солдат, мало способных к строевой службе, но уважительных и хозяйственных. Положение их обычно было тяжелое. Они выполняли всю грязную работу в семье офицера: чистили платье, обувь, снимали с офицера сапоги, нянчили детей, если уходила няня, бегали на посылках. Неизвестно, когда спали эти люди: поднимался денщик рано утром, а ночью дожидался, когда "его благородие" придет из гостей или Офи-{171}церского собрания. Много они терпели от капризов "барынь", жен офицеров, которые помыкали ими как хотели. Всякая их неловкость и "непонятливость" расценивались как нежелание выполнить приказание. Жены жаловались мужьям, а те часто, не разобрав дела, отсылали их в часть для наложения наказания.
КРОНШТАДТ
Хотя Кронштадт находится за пределами города, его судьба тесно связана с Петербургом. Связан он был со столицей и кое-каким транспортом. Мы не можем не рассказать о нем, тем более что быт и поведение его жителей во многом отличались от уклада жизни петербуржцев, хотя бы потому, что он на острове.
Приезжая в Кронштадт, вы прежде всего поражены порядком, чистотой, тишиной и подтянутостью во всем. Город - крепость и военный порт, вот что сразу дает себя почувствовать, как только вы вступаете с парохода на пристань. Поэтому - масса моряков и крепостных артиллеристов.
Многие моряки бывали в заграничных плаваниях, видели иностранные города и порядки в них, и естественно, что они старались перенести в Кронштадт то, что им приглянулось.
Во многом порядок выгодно отличался в наше время от петербургского. В то время как в столице ни в садах, ни на улицах не было урн для мусора, в Кронштадте вы могли видеть на улицах мусорные ящики. Мы уже рассказывали, что в столице сады и бульвары были в запущенном состоянии, цветов почти не было, в Кронштадте сады, парки и скверы содержались в идеальном состоянии масса цветов, цветущих кустарников - сирени, жасмина. Если кирпичные стены и заборы придают унылый вид в столице, то здесь все пустые стены украшены диким виноградом или хмелем. Пьяных можно было встретить крайне редко, скандалов почти совсем не наблюдалось, потому что полиция, военные патрули и дворники немедленно прекращали всякое нарушение порядка. Даже бродячих собак не было,- на обязанности пожарных команд лежало вылавливание всяких беспризорных животных. {172}
Ни в одном городе мира не было таких мостовых, как в Кронштадте, правда не на всех улицах. Читатель с трудом поверит, что некоторые улицы были вымощены чугунными пустотелыми торцами, засыпанными щебнем и песком, что применялось в Лондоне и Петербурге в виде опыта, не получившего распространения. Такими же чугунными торцами были замощены заводские дворы и подъезды к складам и мастерским 1.
В этом небольшом городке-крепости поражало множество храмов различных культов. Прежде всего знаменитый Андреевский собор 2 известного архитектора Захарова (не сохранился), Морской собор, изумительное сооружение по проекту академика Косякова, напоминающее храм Святой Софии в Константинополе 3, не говоря о многочисленных других церквах, каменных и деревянных. Была даже отдельная деревянная церковь Общества трезвости с открытой звонницей. По утрам эти небольшие деревянные церквушки весело звонили. Был костел прекрасной архитектуры 4, кирхи с высочайшими шпилями 5, даже была мечеть деревянная постройка с забавным минаретом на крыше. Религиозные чувства поощрялись как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения. Около Морского собора был врыт в землю гранитный столб с бронзовой доской, на которой было написано, что на этом месте при закладке собора стояла царская фамилия.
Знаменитостью на всю Россию был настоятель Андреевского собора протоиерей Иоанн Сергиев, попросту, как называл народ, Иоанн Кронштадтский 6. В чем заключались его сила и влияние на верующих, мы не знаем, так как авторы далеко стояли от церкви и религии, но из наблюдений и полученных сведений можем сказать, что много народу верило, что он способен творить чудеса, что молитва его доходчива и т. д. Приверженцы его составили какую-то отдельную секту иоаннитов 7. Когда он служил, народ ломился, слушая его проповеди. Приглашали его отслужить молебен в разные дома, народ запруживал всю улицу близ этого дома. Популярность его возросла после того, как он создал дом призрения для престарелых и неимущих. Наряду с истинно верующими вокруг него группировались, как это часто бывает при чрезмерном распространении культа, много фанатиков, доходивших в своем преклонении перед ним до неистовства. Ходило много легенд об излечении больных после молебствия с его участием. Возможно, какая-то сила в нем была, рассказов было много, и широко рас-{173}пространялись образки, освященные им, и книжечки о нем.
Другой популярной личностью Кронштадта был вице-адмирал Вирен, главный командир портов и генерал-губернатор 8. Это был отличный моряк, герой Порт-Артура, получивший орден Георгия, вывезший на миноносце из блокированного Порт-Артура все знамена, прорвав японское кольцо. Став главным командиром, он сделался грозой офицеров и матросов, требуя строжайшего выполнения устава и соблюдения всяких правил, формы одежды и пр. В случае нарушения наказание было неотвратимо, невзирая на чин, звание и служебное положение. Приведем несколько случаев: матрос бежит, чтобы получить увольнение в Петербург за отличную службу на корабле. Несвоевременно встал во фронт перед проезжавшим в коляске Виреном. Увольнение пропало, наказание обеспечено. Прогуливаясь по парку, адмирал заметил перешитые брюки на матросе. Опять "губа" и дисциплинарное взыскание офицеру, в ведении которого находится этот матрос.
Матросы носили ленточки на бескозырке с названием корабля или части. Можно было поэтому всегда узнать, какой корабль пришел в Кронштадт или другой порт. Это было удобно для взыскательного начальства, можно было всегда разыскать нарушителя, если он попытается убежать при задержании, но вряд ли это оправдывало себя, особенно в военное время. Между матросами и солдатами существовал нездоровый антагонизм, и даже в строгом Кронштадте, правда редко, бывали драки между ними, которые быстро и беспощадно прекращались, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В Петровском парке стоит памятник Петру I. Петр изображен с обнаженной шпагой, наступившим одной ногой на повергнутое шведское знамя. На гранитном постаменте памятника золотыми буквами начертаны слова царя Петра: "Место сие хранить до последнего живота" 9.
Матросская служба на флоте до 1905 года длилась семь лет, после пять, в общем, длительная по сравнению с другими родами войск. Старые матросы в шутку говорили молодым: "Служить тебе еще долго, пока царь Петр другой ножкой ,,вступит"", имея в виду этот памятник.
Был в Кронштадте трактир под названием "Мыс Доброй Надежды". Тайком заходили туда выпить и матросики. Бывали случаи, что и подерутся там, получат синяк под глазом. На вопрос, где его так разделали, на-{174}ходчивый моряк отвечал: "Потерпел аварию под "Мысом Доброй Надежды"". Название этого трактира длинное, поэтому военные и обыватели называли этот трактир попросту "Мыска".
Главная улица в Кронштадте - Николаевская, ранее называлась Господская. Старое название отвечало характеру улицы: на ней стояли хорошие дома, жили господа, тогда как рабочие жили, на какой-нибудь Галкиной (в шутку называемой Галкин-стрит), Песчаной, Гусевой, на Осокиной площади и т. д. На Николаевской улице были лучшие магазины, и в хорошую погоду господа прогуливались по солнечной, или так называемой "бархатной", стороне 10.
По этой стороне нижние чины воздерживались ходить, так как там надо было все время быть начеку и отдавать честь офицерам.
Второй по значимости улицей была Екатерининская, расположенная вдоль канала. На ней были офицерские флигеля и береговая кают-компания, или Морское собрание. Во флигелях проживали семейные моряки. Дом, который занимало Морское собрание, ранее был дворцом какого-то великого князя 11. Архитектура и внутренняя отделка дома подтверждали это. В нижнем этаже помещалась военно-морская библиотека с замечательным собранием книг, среди которых было много уникальных 12. Из вестибюля на верхний этаж вела великолепная деревянная, действительно дворцовой отделки, лестница, на площадке которой стояли старинные бронзовые пушки с какого-то корвета или клипера. В верхнем этаже находились большой зал со сценой, буфетные комнаты, бильярдные и гостиная. В аванзале, посредине, стояла бронзовая скульптура Жанны д'Арк на коне - подарок от французской эскадры. По стенам аванзала и по стенам прохода в зрительный зал висели картины кисти Айвазовского, отмечавшие славные эпизоды из истории русского флота. Гостиные были в разных стилях - китайская, индийская и т. д. Многие моряки дарили из своих коллекций разные предметы, вывезенные из заграничных плаваний. Так постепенно обставлялись эти гостиные.
В этом собрании шли спектакли силами артистов петербургских театров, устраивались балы, вечера и разного рода приемы заморских гостей.
Вирен ввел хороший порядок: чтобы не стеснять моряков и их семей и себя не связывать с разного рода визитами, например на Новый год и другие праздники, он {175} собирал всех свободных от службы офицеров, поздравлял их, и этим все заканчивалось, без особых формальностей.
Вход в собрание для офицеров и их семей был свободным, а для других по приглашению. В буфете столовались холостые офицеры и жившие в Кронштадте офицеры без семей из частей береговой службы, а вечером собирались поболтать, поужинать, послушать лекцию, доклад, посидеть за рюмкой доброго вина, встретиться с товарищами по кораблям. В ходу был так называемый "собранский" квас, хорошо приготовленный хлебный квас с изюмом, подававшийся в больших. стеклянных кувшинах. Стоил он дешево, а стаканами можно было чокаться на праздниках, не тратя деньги на дорогое вино. В описываемое время состав офицеров был уже иной, чем во времена Нахимова, большинство их жило только на жалованье.
Около западного вала крепости находилось Артиллерийское собрание, а на Николаевской улице - Благородное и Купеческое собрания, где собиралась остальная кронштадтская публика.
Мы много говорили о моряках, это и понятно - они были самые главные лица в городе, они делали погоду, сам город существовал ради флота и крепости. Второй значимой частью населения были рабочие и служащие пароходного завода, доков, разных мастерских и складов. Большинство рабочих были великолепные мастера, военное дело требовало высокого качества работы. Эти постоянные рабочие были народ серьезный, положительный, знавший себе цену и умевший постоять за свои права. Начальство завода и мастерских понимало, что таких отличных мастеров по военно-морскому делу сразу найти и заменить нельзя. Умный адмирал С. О. Макаров 13, отправляясь в Порт-Артур на войну, забрал с собой из Кронштадта около 500 человек рабочих, говоря, что он везет золото и что без них воевать нельзя.
Кадровые кронштадтские рабочие зарабатывали хорошо, некоторые жили в своих домиках на отдаленных улицах. Под словом "кадровые" мы имели в виду постоянных рабочих, но были и сезонные, положение которых было совсем иное. Они приезжали на строительный сезон, т. е. на лето, но были и такие сезонные рабочие, которые приезжали на зиму, когда флот становился на зимовку и на ремонт. Естественно, что тогда резко увеличивалась потребность в котельщиках, корпусниках и всяких рабочих по металлу. Положение этих рабочих было {176} незавидное - заработки у них были ниже, жили они в общежитиях, в тесных квартирах, да и вели себя эти рабочие по-другому. Оторванные от семей, некоторые из них пьянствовали, сидели по трактирам и пивным, иногда затевали драки. Начальство их не ценило, зная, что заменить их можно легко. В случае нарушений и невыполнения требований их немедленно увольняли. Это возмущало рабочих, но всякое неудовольствие с их стороны погашалось немедленно властью генерал-губернатора.
Остальную массу населения Кронштадта составляли торговцы, ремесленники, служащие гражданских учреждений, купечество и духовенство.
Въезд в город был свободный, но мало кто стремился сюда, разве только поклонники Иоанна Кронштадтского в определенные дни его службы. Наоборот, все стремились побывать в столице, навестить родных, знакомых, побывать в театрах. Ведь в Кронштадте развлечений было мало.
Кроме собраний и клубов, о которых мы уже сказали, были кино, два-три ресторана, трактиры. Был загородный ресторан на западной "стенке" с громким названием "Тиволи", который работал главным образом летом. Был Летний сад 14, а рядом с ним летняя дача морского собрания. Город был небольшой, все знали друг друга, развернуться было нельзя, поэтому при первой возможности и моряки, и обыватели отправлялись в Петербург. Веселые лица были у пассажиров и совсем другие, мрачные, при возвращении: деньги пропиты и прожиты, на ближайшее время предстоит жизнь в скучном и строгом городе. Кронштадтский пароход с запоздавшими гуляками последним рейсом возвращается в бурную темную осеннюю ночь. Ветер свищет, пассажиров, находящихся на палубе, обдает холодными брызгами, настроение плохое, побаливает голова, пусто в кармане; наконец и Кронштадт с мокрой пристанью. У кого остались деньги, бегут к извозчикам. Такса была единственная - 20 копеек, куда бы ни поехал. Некоторых выводят с парохода под руки, они добавляли в пароходном буфете. Бывали и другие настроения: когда приезжаешь в Кронштадт, тебя сразу обдает свежим морским воздухом, бьет волна, кричат чайки, пахнет смолой, встречаются настоящие "соленые" моряки, "марсофлоты", все как-то бодрит человека, и он рад, что покинул суетный Петербург.
Заканчивая описание Кронштадта, для полноты картины хотим рассказать о почте. Весной и осенью быва-{177}ет такое время, когда и пароходы не могут ходить из-за подвижки льда, подводы и извозчики тоже не могут ездить. Тогда почта и "срочные" пассажиры перевозились в Ораниенбаум на так называемых каюках. Каюк - это широкая лодка, достаточно объемистая, на легких полозьях. Отчаянные кронштадтские "пасачи" брались перевозить на каюках почту и спешащих пассажиров, рискуя иногда жизнью.
Человека четыре "пасачей", с пешнями в руках, с веревочными лямками от каюка, бегут по льду, где он еще держит. Вот встретилась майна, они с ходу спускают каюк в воду, сами бросаются в него и переплывают чистую воду. Иногда ввалятся в нее по горло, но это их не смущает, в Ораниенбауме они выпьют водки, обсушатся и двинутся обратно.
По хорошему льду ходили буера любителей, которые брали иногда торопящихся пассажиров.
Описывая кронштадтскую жизнь, нельзя не упомянуть о наличии в этом городе Военно-морского инженерного училища, которое выпускало корабельных инженеров и инженеров-механиков. Конкурс при поступлении в это училище был труден, и поэтому в нем оказывались умные, серьезные юноши, в будущем хорошие инженеры с солидным материальным обеспечением.
Все это заставляло мамаш, имеющих дочерей "на выданье", расценивать этих гардемаринов как завидных женихов, поэтому их охотно приглашали в семейные дома запросто, а также на вечера и балы. Когда бал или иное торжество было в самом этом училище, туда стремились попасть мамаши со своими дочерьми.
Это училище, с обывательской точки зрения, считалось немаловажным фактором в обыденной жизни Кронштадта.
Говоря о развлечениях в Кронштадте, мы забыли упомянуть о катке на Итальянском пруду. Лед на пруду расчищался, в нужных случаях поливался из помпы, по периметру обставлялся елками, развешивались фонари, на берегу устраивался павильон с двумя отделениями (женским и мужским) для переодевания и обогрева. Этот каток по вечерам собирал много народу, по воскресеньям на катке играла музыка - военный оркестр. Было оживленно и весело, если не дул свирепый норд-вест. Здесь любила кататься на коньках жена адмирала С. О. Макарова, который до японской войны был главным командиром портов Балтийского моря. Она была по кронштадтскому масштабу высокой персоной, но эта ве-{178}селая адмиральша не лишала себя удовольствия покататься на коньках среди кронштадтцев и не гнуть "глупый форс".
Также следует коснуться некоторого своеобразия торговли в Кронштадте. Были магазины, был "гостиный ряд" 15, попросту "козяк", но вот свежую рыбу летом продавали прямо с судов и лодок, которые причаливали к рыбному ряду 16, расположенному между Итальянским прудом и Купеческой гаванью. Таким же манером, с судов и лодок, продавались овощи и грибы, доставляемые из прибрежных селений: Ковашо, Систо-Палкино, Пейпие, Курголовского Мыса. Судов приходило много, так что приходилось становиться в пять-шесть рядов, и хозяйки прыгали с одной лайбы на другую, отыскивая товар подешевле.
Торговля этими продуктами производилась и в других местах, но здесь было главное сосредоточение. Заходили лайбы из Финляндии и из Эстляндской и Лифляндской губерний, особенно осенью с картофелем.
Зимой мороженую рыбу, результат подледного лова, возили в Кронштадт прямо на розвальнях, отдавали в магазины, продавали на рынке; было принято также разъезжать по дворам и предлагать мороженую рыбу. Чтобы как-то поскорее сбыть рыбу, применялся следующий способ: какой-нибудь рыбак из-под Ковашо высыпал на порог дома сетку корюшки, которая стоила копейки, а вечером, уезжая домой, собирал деньги по домам, где он оставлял рыбу. Знали друг друга из года в год, доверяли, недоразумений обычно не было; иной раз слышались такие разговоры. "На кой черт опять ты меня завалил рыбой!", а тот успокаивает: "Ничего, хозяюшка, замаринуешь", или: "Теперь морозы крепкие, полежит", а то и так: "Это последняя рыба, лед-то совсем плохой стал, теперь только весной уж дождешься!"
Также зимой привозили боровую мороженую дичь - рябчиков, тетеревов, куропаток, глухарей, набитых в лесах южного побережья. Но этот товар подороже, чем рыба, и покупателей его было меньше, да и самих предложений меньше. Торговля этим товаром приурочивалась к празднику Рождества 17 и Новому году. Особенно много предлагали рябчиков, продававшихся парами - от 30 до 50 копеек. Перо и пух обыватели употребляли для подушек и перин, поэтому свежие перины пахли дичью.{179}
ОКРЕСТНОСТИ ПЕТЕРБУРГА
И ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ
Наши записи о жизни и быте Петербурга тех времен имели бы существенный пробел, не познакомь мы читателя с пригородами и дачными местами. Ведь в пригородах жили люди, которые работали в столице, а в дачных местах летом отдыхало много петербуржцев.
Ох, лето красное, любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи,
так жаловался Пушкин. А мы были свидетелями того, как родители, ссылаясь на эти авторитетные строки, уговаривали своего сынка ехать с ними на дачу. И к этим пушкинским словам еще добавлялось: "А воздух-то в городе какой ужасный!" (Жили они возле Измайловского сада.) А мы предлагаем, дорогой читатель, заняться вопросом: уж так ли "ужасен" был воздух в Петербурге в начале нашего века. Чтобы создать себе представление, следует мысленно уменьшить территорию города в 5 раз 1; примерно во столько же раз уменьшить число фабрик и заводов с их трубами 2; убрать с улиц весь грузовой автотранспорт и, конечно, автобусы с их выхлопами; в несколько сот раз уменьшить число легковых машин; учесть, что город был с трех сторон окружен громадным массивом лесов и вода в Неве с ее рукавами была чиста (в нее не разрешалось сбрасывать снег). И тогда вам, наверно, покажется жалоба на "ужасный" воздух малообоснованной. Остаются, однако, сетования Пушкина на "пыль, да комары, да мухи". Вот мух, видимо, и через 100 лет после Пушкина было достаточно, санитария была не на высоте, хотя канализация и водопровод широко распространялись и на улицах и дворах (в центре!) поддерживалась чистота.
Словом, тянуло на просторы природы, как во все времена человечества. А традиция! "Все едут, как же мы не поедем!"
Поедем же и мы на дачу в Сиверскую по Варшавской железной дороге. Первая станция - Александровка. Место незатейливое, много зимогоров, рабочих и мелких служащих Петербурга устраивала близость города. Сюда выезжала беднота. Интерес представлял лишь Баболовский парк 3, расположенный в версте от селенья. {180}
Следующая остановка - Гатчина (промежуточных станций не было). Поезд стоял здесь 10 минут ради буфета: каждый считал своим долгом обязательно выскочить и съесть знаменитый гатчинский пирожок.
Затем поезд останавливался в Суйде 4, где все деревни заселялись скромными дачниками. В ту пору по речке Суйде, петляющей по полям, дачники умудрялись кататься на лодках. Возле живописной деревни Мельница речка была запружена, при плотине была действительно мельница с наливным деревянным колесом, удивительно поэтичное место, которое потеряло свое очарование, когда мельник построил каменную мельницу, спрятав весь механизм в корпус здания.
И уже следующая станция была Сиверская 5,- ни Прибыткова, ни Карташевки не было, шли сплошные леса вдоль полотна дороги. (Платформа Прибытково появилась лишь в 1910 году.)
Сиверская была дачным местом, которое могло удовлетворить требованиям и скромных тружеников, и богатых съемщиков, и художников, поэтов, аристократов - словом, на все вкусы. По обо стороны станции был лес, от которого низкой оградой отделялась роскошная дача министра двора Фредерикса 6. К ней шла от станции аллея. Слева от аллеи, вдоль железной дороги, были служебные постройки: контора, конюшни, коровники, сараи и пр.
По реке Оредеж начали строиться на громадных участках дачи богатейших людей: издателя Маркса 7, в обширном парке - дача Дернова, несколько десятин имела дача Елисеева 8. А с правой стороны от станции дачи строили крестьяне. Все они лепились по берегу реки и сдавались по дешевой цене.
Живописная местность с рекой, девственными лесами. полями издавна привлекала владетельных людей. В радиусе 5-7 верст расположились поместья Витгенштейна 9 и Фредерикса, который имел, кроме того, участки на противоположном берегу, недалеко от мельницы (ныне плотина). Там стояли его дачи, сдаваемые богатым людям. Часть из них сохранилась, теперь там дом отдыха ВЦСПС.
Наем дач был своеобразный процесс. Обычно он приурочивался к масленице, когда погода помягче и время праздничное. На станции дачников ожидало много крестьян-извозчиков на лошаденках в узких саночках. По пути пассажиры расспрашивают возчика о дачах, ценах, возчик расхваливает ту, куда везет: "Не сумлевай-{181}тесь, все будет в аккурате!" Обычно на окошках дач наклеены бумажки о сдаче внаем, но у возчика свой адрес, и, если дачник просит остановиться у дачки, приглянувшейся ему, извозчик говорит: "Здесь плохо: хозяйка сварлива и клопов много". И везет к себе или к куму, от которого получит магарыч. Наконец подъехали к даче. Начинается осмотр. Хозяева приводят такие положительные стороны своих угодий, которых просто не бывает, но съемщик относится скептически и старается сбить цену, а иной раз уезжает к другой даче, где разговоры те же. Наконец дача оказывается подходящей, цена тоже. Дается расписка, что дан задаток, а хозяин, бывало, ставит три креста вместо подписи. После этого идут в избу хозяина, развертывают закуску, а хозяйка подает на стол самовар, молоко, душистый хлеб. Съемщик угощает водочкой. За закуской каждая сторона как можно лучше себя представляет - словом, знакомятся. Угощают и извозчика, который ждет отвезти дачника обратно на станцию. Перед прощанием договариваются о сроке приезда, о встрече с тележкой для вещей. На станции извозчик просит на чаёк, поскольку он очень старался и дачу сняли "самлучшую".
В зале ожидания, в буфете (поезда ходили редко, было время посидеть за перекусом) и в поезде дачники знакомятся между собой и говорят, что дачи ныне стали дороги, мужики дерут. После Гатчины разговоры затихают, и усталых от воздуха людей одолевает дремота.
Съезжаться дачники начинали в мае. Помимо багажа, который приходил этим же поездом, у всех на руках было много разных пакетов, коробок, корзинок, кошек, собак, сеток с мячиком и даже клетки с птицами. По приезде вся толпа дачников опять устремлялась к извозчикам. Куда бы ни ехали, приходилось переезжать реку, подниматься в гору, лошадь идет, нагруженная, медленно. И вот при подъеме на мост на задок вашего экипажа прицепляется незнакомый субъект, который представляется: "Я булочник, дайте ваш адресок, буду доставлять вам булки свежие". Устный договор заключен. Булочник соскакивает и дожидается другого дачника. Дело в том, что эту местность обслуживали три-четыре булочника, и все они сидели на этом пригорке - у въезда на берег с моста - и по очереди подбегали к проезжающим мимо дачникам.
Хозяева уже извещены письмом, ждут дачников. На столе крынка молока и черный хлеб. Хозяйка, перегибаясь в низком поклоне, сладким голосом говорит: "По-{182}жалуйте, пожалуйте, с приездом!" Ведутся хозяйственные разговоры: сколько давать молока, нужны ли яйца и пр. При выходе из вагона вы передали багажную квитанцию хозяину, и вот уже он сам подъезжает с багажом. Вытаскиваются перины, у которых "каждая пушина по три аршина", или пустые сенники, набиваемые сеном, если дачники не привозят с собой матрацы. И то, и другое вы будете уминать собственными боками. Воз разгружается, наскоро ужинают по-походному и пораньше ложатся спать. Опьяненные свежим воздухом, вы должны были бы быстро заснуть, но не всем это удается: комары - эти кровопийцы в буквальном смысле слова - победоносно трубят у вас над головой и нещадно жалят свеженького петербуржца.
С утра начинается дачная жизнь. Приносят молоко, свежие булки, до самого вечера вам приносят и привозят все необходимое. Еще до обеда приезжает мясник, предлагает мясо, кур, зелень. Обычно мальчишка правит лошадью, а сам мясник рубит мясо, вешает, получает деньги. Торговля идет со специальной телеги с низким большим ящиком, обитым изнутри луженой жестью. Поперек ящика лежит большая доска, на ней мясник рубит мясо, здесь же стоят весы и ящик с гирями. Ступицы колес обернуты бумагой, чтобы дачники не вымазались колесной мазью.
Так же до обеда идет торговля с разносчиком рыбы. У него кадушка на голове, там во льду лежит разная рыба. Сгибаясь под тяжестью своей ноши, он оповещает: "Окуни, сиги, лососина, судаки!", стараясь рифмовать.
За ним на телеге с большим ящиком на колесах купец торгует гастрономией - сыром, маслом, колбасой, консервами. Фамилия его была Долгасов, но для рекламы и рифмы он кричал: "Сыр, колбас - Иван Долгас!"
А вот издали слышится голос: "Пивник приехал!" Если вы закажете ему полдюжины пива, он норовит всучить целый ящик.
После обеда приезжал мороженщик со своей двуколкой, на ней синий ящик. К нему выбегали с тарелкой, он навертывал специальной ложкой, да так ловко, что внутри шарика была пустота. Продавал он мороженое и "на марше", клал шарик на бумажку и втыкал в него деревянную ложечку, используемую в дальнейшем девочками в игре в куклы. Мороженое у него было четырех сортов.
К пяти часам, когда дачники пили чай, появлялся разносчик с корзиной на голове и возглашал в отличие {183} от других "коллег" мрачным басом: "Выбoргские крендели!", делая почему-то ударение на "о". Вкусные же, были эти крендели, и почему их теперь не выпекают? Стоили они 15-20 копеек, в зависимости от размера. Разнося в лотках на голове, торговали всякими сластями - конфетами, шоколадом. Когда появлялись ягоды и фрукты, их продавали тоже вразнос. Были и коробейники с галантереей - мылом, гребенками, ленточками. Местные крестьянские девушки приносили в чистых кадушечках сметану и творог, а к осени - лесные ягоды и грибы.
На местные продукты цены были, естественно, дешевле (бутылка молока 5-6 копеек, фунт лесной земляники тоже 5 копеек), на привозные продукты цены были дороже, чем в городе.
Во всех деревнях и селах Сиверской были лавочки, где торговали всем, начиная с хлеба, соли, керосина и кончая хомутами и колесной мазью. Запах в них был соответственный - не продохнуть. В некоторых продавались ружья, порох, дробь и фейерверки, что любила покупать дачная молодежь.
"Солидным" дачникам продавали лавочники в кредит. Бывало и так, что кто-то, не рассчитав свои силенки, ранней осенью тайком съезжал с дачи, оставшись должником, и торговцы слали ему вдогонку запоздалые проклятия.
Помимо торговцев одолевали дачников цыгане, которые останавливались около деревень целыми таборами. Цыгане-мужчины промышляли лошадьми, покупая, продавая и меняя коняг у крестьян, а цыганки целыми днями шлялись по дачам, предлагая погадать и выпрашивая старые вещи. Частенько случались и кражи. Считалось, что, если цыгане табором стоят поблизости, надо "ухо держать востро".
Некоторые дачники, любители дешевой экзотики, ходили в табор посмотреть, как живут цыгане, просили их спеть, станцевать. Те просили деньги вперед - "позолоти ручку". Случалось, что пение и пляски были отменные, и табор был всегда с деньгами.
Много ходило по дачам и шарманщиков, обычно пожилых, болезненных людей. Среди них были и шарлатаны, не желавшие работать. Все они носили незатейливый органчик, который играл пять-шесть пьесок тягучим, гнусавым голосом. Нес шарманщик его на ремне за плечами, а во время игры ставил на ножку, вертел ручку, а для смены пьес переставлял рычажок, и дутье в {184} трубках и мотив изменялись. Иногда с ним ходила девочка, которая пела несложные песенки.
Был в ходу и Петрушка в разных вариантах, общей сценкой во всех было избиение городовых и гибель Петрушки от какого-то мифического существа. Ходила по Сиверской и целая семья уличных артистов: отец играл на скрипке, дочь - на маленькой арфе, толстая мама - на кларнете, а малыш - на губной гармошке.
Появлялись и музыканты, играющие на духовых инструментах, как правило, труба, баритон и бас. Это были здоровые молодые парни, выдававшие себя за колонистов 10 или эстонцев. Если остальные уличные музыканты были скромны, стояли по своему положению близко к нищим, то духовые музыканты вели себя вольно, иногда нахально. Они обычно играли "Мой милый Августин" или незатейливые вальсики. На отмахивания дачников они не обращали никакого внимания, бесцеремонно требуя денег.
С выездом горожан на дачи туда же переезжали и нищие. В большинстве случаев они перестраивались на сельский лад: все оказывались погорельцами, причем очень картинно рассказывали об истребительном пожаре. Жалостливые дачники давали им денег, старую одежду, кормили. Тот же народ - и артисты, и нищие, и цыгане - появлялся и в вагонах дачных поездов.
День дачников среднего достатка проходил примерно так. Матери целый день хлопотали, чтобы накормить, обстирать, заштопать одежду своих детей. Забота, как свести концы с концами, их на даче не покидала. И вот она с прислугой вертится как белка в колесе, присмотр за детьми сложнее, чем в городе: близость реки, леса и вообще приволье местности тревожили родителей. Если дети взрослые - другие заботы: чтобы дочь была одета не хуже других, чтобы компания была подходящая - веселая, но и не слишком разудалая. Огорчение и иногда отчаяние обеспечивали родителям сынки с переэкзаменовками. Их надо было буквально за волосы тащить к столу, чтобы они занимались, из скромных средств надо было выделить деньги на репетитора, обычно студента-дачника. Найти такого было нетрудно - все столбы были заклеены объявлениями: "Репетирую по всем предметам, готовлю к экзаменам". Реклама не всегда совпадала с действительностью: всех предметов, конечно, студент знать не мог и, не желая ронять своего студенческого достоинства, краснея и потея, но с "умным" лицом часто "плавал" за переводом латинского текста или реше-{185}нием трудных задач. А иметь свои деньжонки всякому студенту хотелось. Обыкновенно сам студент ходил к репетируемому ученику, невзирая на погоду и расстояние. Редко у кого из студентов был велосипед, чтобы ездить по урокам. Велосипеды стоили дорого, 100-150 рублей. Смотришь - хлюпает такой студентик по грязи в клеенчатом плаще версты две. А иной раз выслушивает замечание от родителей ученика: "Вы не требовательны, позволяете шалить во время занятий". Были случаи, что репетитора меняли среди лета, это был страшный позор для студента.
Средняя дача из трех комнат стоила 50-60 рублей за лето. За сто можно было снять прекрасную двухэтажную дачу на берегу реки. В уютной деревне Ново-Сиверская, где довелось жить одному из авторов этих записок, жило много дачников малого и среднего достатка. И удивительно - там же проводил всегда лето президент Академии наук Карпинский со своей семьей 11. Занимал он скромную дачу, по цене не выше 75 рублей. С крестьянами этот крупный ученый подолгу разговаривал, был знаком со многими дачниками, на приветствия низко склонял свою седую, с длинными волосами голову.
Излюбленной игрой подростковой молодежи были рюхи. Этим занимались в основном гимназисты и ученики средней школы. Были среди них даже чемпионы, которые с одного удара могли "вынести весь забор". Более старшие составляли, что входило в моду, футбольную команду. Это мало было похоже на современный футбол: не было определенной формы, не у всех были и бутсы, правила были плохо разработаны, мало соблюдались. Хорошим игроком считался тот, кто бил здорово по мячу и давал "свечку". Ему аплодировали. И все же существовала ново-сиверская футбольная команда, которая играла с приезжими командами из округа, даже из Луги.
У старшей молодежи были свои развлечения. По субботам в пользу добровольной пожарной команды устраивались любительские спектакли и танцы, сбор от которых шел на приобретение пожарного инвентаря и постройку депо. Снимали у крестьянина большую ригу с овином. В риге был зрительный зал, а в овине - сцена. Четыре керосиновые лампы с рефлекторами заменяли освещение рампы. Декорация была самодельной: на картоне местные художники изображали зеленый сад (иной краски не было), и это была единственная бессменная декорация для всех пьес. Зрительный зал и портал укра-{186}шали еловыми гирляндами. На ригелях висели две керосиновые лампы, освещая зрительный зал. В риге был настлан пол из досок, чтобы удобнее было танцевать после спектакля, его натирали стеариновыми свечками. Танцевали до утра под звуки пианино, которое брали напрокат за 15 рублей на все лето. Ставили короткие водевили, играли плохо: доморощенные артисты стеснялись, заикались, забывали роли. Спектакли удавались лучше, когда одно лето режиссировал и играл проживавший в нашей деревне артист Народного дома.
После водевиля было концертное отделение. В моде тогда была мелодекламация: "Заводь спит", "Яблоки", "Фея" и др. При этом почему-то было принято ноты держать в руках (иначе куда руки деть?), закатывать глаза и читать неестественным голосом. Одаренные стихоплетством студенты сочиняли обозрение в стихах, в которых высмеивалась жизнь на даче, отдельные события и лица.
Бессменный дирижер танцев Макс, студент Лесного института, во всех танцах придумывал забавные фигуры, было принято его слушаться. За лучшее исполнение танца давали призы. Их обычно "срывал" ученик тогда театрального училища, в будущем знаменитый балетный артист Андрей Лопухов 12, в ту пору скромный курносый мальчик, носивший серую форменную одежду. На приз танцевали мазурку, краковяк с фигурами и входившее в моду танго. В награду победителям давали альбом для открыток или просто букет цветов.
Сборы за эти вечера в течение нескольких лет составили значительную сумму, что дало возможность в 1913 году построить на Сиверской деревянное пожарное депо, приобрести два пожарных "хода" с помпами и оборудование: каски, багры и пр.
Молодые люди, дачники, тоже вступали на лето в пожарную дружину, обучались этому делу и принимали, помнится, живейшее участие в тушении пожаров, а их было немало. Председателем пожарного общества был постоянный житель Ново-Сиверской, помощником - крестьянин Лешка, юркий, хитрый мужичонка, пьяница, по прозвищу Копченый, но закоптел он не на пожаре, а в кузнице, которую держал с братьями.
Летом 1913 года состоялось торжественное открытие депо в присутствии председателя Всероссийского добровольного пожарного общества князя Львова 13. Перед этим торжественным открытием Лешка Копченый по вечерам собирал пожарную дружину и муштровал ее к параду. Дружинники, дачники и крестьяне, приходили на {187} эти учения в полной форме и со снаряжением. Главная забота Лешки, была в том, чтобы дружинники правильно ответили на приветствие князя.
Для парада были выделены самые лучшие крестьянские лошади. Готовились и к парадному проезду, учились быстро запрягать, садиться и быстро проноситься мимо того же Копченого, имитировавшего князя Львова. И так же орали: "Здравия желаем, ваше сиятельство!" Возможно, это были самые счастливые минуты в жизни Лешки - он сиял, как и его начищенная бузиной каска.
В день парада начали съезжаться и другие команды из ближайших деревень. Наконец прибыл сам князь Львов с сопровождающими лицами, все в полной парадной пожарной форме с символическими "ювелирными" топориками при левом бедре, в золоченых касках. Сперва был молебен с водосвятием, священник окропил "святой" водой не только дружинников, но и помещение депо, все снаряжение и даже лошадей. Затем князь обратился с речью. Смысл ее был в том, что мужики сильно пьянствуют, отчего случаются пожары. Самое главное - не тушить пожары, а не допускать их возникновения. Говорил он тихо, что соответствовало его маленькой фигуре, после этого была дана команда: "Готовься к проезду!" Дан был сигнал трубой, и все дружины поскакали мимо князя и обратно. Затем был дан сигнал "к церемониальному маршу", и все дружины пешим строем "под сухую" (музыки не было) продефилировали мимо князя, дружно, а то и не очень дружно отвечая на его приветствия.
По окончании парада для дружины в депо были приготовлены столы с пирогами, мясом и водкой. Весь остаток дня и всю ночь ново-сиверские дружинники ходили по деревне в касках и орали песни. Можно было заметить, что в крапиве и в канавах блестели каски - там отдыхали уставшие от праздника дружинники, конечно не дачники.
На каждой избе была прибита жестянка, на которой были нарисованы топор, ведро и лестница, то, что по набату должен был принести на пожар хозяин данного дома. Были назначены дежурства в депо, которые к концу лета стали менее аккуратными.
* * *
Попробуем восстановить характерные особенности и других дачных пригородов, одновременно отмечая их общие черты. {188}
Первой остановкой по Балтийской железной дороге было Лигово 14. В то время ближе к Петербургу никаких других остановок дачного поезда не было. На всем участке колея шла по узкой просеке в лесу. Только к концу описываемого периода лес начали вырубать, проложили дороги, место стало заселяться главным образом "зимогорами". Лигово был довольно большой поселок, летом туда приезжало много дачников.
Некто Сегаль 15 скупал по дешевке вокруг Петербурга земельные участки, дробил их на мелкие, продавал в кредит, также в кредит строил дома и дачи, облагая должников большими процентами. Почти во всех дачных местах и пригородах были "проспекты Сегаля". То же самое и в Лигове. Главная улица от станции до шоссе - называлась "проспект Сегаля". Мелкие чиновники и служащие, кустари, рабочие - вот кто составлял главную массу населения этого поселка зимой и летом. Недалекое расстояние от Петербурга, оживленное движение поездов, дешевизна квартир и дач привлекали сюда обывателя; поселок быстро рос. Были дачники из малоимущих людей, для которых платить за квартиру и за дачу было тяжело. Поэтому они бросали городскую квартиру, уезжали весной со всем скарбом на дачу, а осенью, возвращаясь, нанимали новую квартиру. Это было довольно распространенным явлением.
Вещи на дачу перевозили на ломовых извозчиках, которые рано утром грузили скарб, прислуга с домашними животными устраивалась сверху, а дачники с ручным багажом ехали по железной дороге. Переезд на подводах практиковался в радиусе до 40 верст, с расчетом, чтобы подвода к вечеру могла добраться до дачи. Бывало, что дачники приедут, а подводы нет, спать не на чем. Наконец приезжают поздно ночью, извозчик объясняет задержку тем, что расковалась лошадь, а от самого разит водкой. Если дачное место было дальше, то и вещи доставляли по железной дороге, а от станции до дачного поселка их везли местные крестьяне, обычно хозяева дачи.
Лигово привлекало хорошим Полежаевским парком. Речка Лиговка была запружена, образовывала среди парка большой пруд, близ берега был островок, а на нем туфовый грот. Помимо принятых прогулок, катания на лодках, купания, рыбной ловли по воскресеньям в парк привлекала хорошая музыка. Выступления симфонического оркестра графа Шереметева 16 происходили на особом плоту. Он отчаливал с музыкантами от берега, ста-{189}новился посреди пруда, и начинался концерт. Вокруг плота катались на лодках, много народу слушало музыку, сидя на скамеечках вокруг пруда или гуляя по прибрежным аллеям. На эти концерты приезжала публика из Красного Села. Там стояли лагеря гвардейских полков. Офицеры были верхами, их дамы - в колясках и ландо.
Вокруг Лигова росли леса, недалеко находилось взморье с прибрежными камышами, где была хорошая охота. Вдоль речки Лиговки тянулись луга, было где погулять, отдохнуть, а местным жителям накосить сено для своих коров. Нет коровы - нет и молока для дачников, и коров имели очень многие. Для развлечения дачников местное добровольное пожарное общество устраивало по субботам танцы и любительские спектакли. Все доходы шли на усиление пожарной команды, благоустройство дорог, освещение улиц.
Лигово полностью было обеспечено торговлей продовольствием и мелкими потребительскими товарами. Стоило отстроиться нескольким домам, тут же появлялись лавчонка, ларек, булочная. С утра по всем улицам поселка ходили торговцы, которые на разные голоса предлагали зелень, мясо, рыбу, молочные продукты, сласти, мороженое, ягоды, фрукты и даже мелкую галантерею. Летом в дачных местах появлялось много китайцев с косичками. Они продавали чесучу, ленты, бумажные веера. Ходили точильщики, паяльщики, лудильщики, прочие "холодные" ремесленники. Летом жизнь в поселке кипела, несколько замирая зимой.
Поедем дальше по Ораниенбаумской ветви Балтийской железной дороги. Следующая станция - Сергиевская Пустынь 17 (ныне Володарская). Поселок скромный, от взморья далеко. В версте от станции мужской монастырь, так называемая Сергиевская пустынь. От станции до монастыря ходила конка, которая доставляла в монастырь богомольцев. Монастырь богатый, с большими угодьями, расположенными вдоль Петергофского шоссе и спускающимися к взморью. Достопримечательностью монастыря был собор хорошей архитектуры.
Между Лиговом и Сергиевской Пустынью находилась Новознаменка 18, земли которой были расположены между железной дорогой и взморьем. Когда-то это было поместье Мятлевых, из рода которых вышел поэт Мятлев, живший во времена Пушкина, Грибоедова и прославившийся юмористическими произведениями. В описываемое время поместье было приобретено городом, и там была большая больница. Одному из авторов приходилось {190} в ней часто бывать, потому что он был знаком с семьей местного врача. При больнице был большой парк и лес с прудами и каскадом. Много было сирени, цветов, большой огород, фруктовый сад. Во всем большой порядок.
Следующим поселком по Ораниенбаумской линии и Петергофскому шоссе была Стрельна, большое, оживленное дачное место. Там красовались богатые дачи именитых людей, которые располагались по шоссе, и Константиновский дворец 19 с парком, где находилась дача балерины Кшесинской 20. Там же была дача князя Львова, известного организатора добровольных пожарных обществ. В поселке Стрельна он построил пожарную часть с высокой каланчой, которая обслуживалась добровольцами. Главная масса дачников, равно как и местных жителей, обосновалась по другую сторону железной дороги, в направлении Ропши 21. Там были дешевые дачи, которые стояли вдоль речки Стрелки.
Это был веселый дачный поселок, и молодежь с удовольствием туда ездила. У них было много развлечений: катание на лодках по речушке, курзал, где проходили любительские спектакли и танцы, циклодром, по которому носились велосипедисты, катание на яхтах, благо яхт-клуб помещался в устье реки Стрелки, прогулки по Константиновскому и Михайловскому паркам 22 и походы в Ропшу. Но главным развлечением было гулянье по платформе станции со стороны отбытия в Петербург. Здесь часами слонялась молодежь, знакомилась между собой; договаривались о прогулках, свиданиях. Там же завязывались романы, разыгрывались сцены ревности, если барышня пройдется с другим молодым человеком.
В направлении Нового Петергофа по шоссе еще было много хороших дач, а ближе к Петергофу - уютная деревенька с видом на море под названием Поэзия. Избушки этой деревеньки были среди дачников нарасхват. Внизу, под горой, тянулся большой Михайловский парк - от Стрельны до самой Александрии 23. Новый Петергоф дачной местностью назвать было нельзя. В этом русском "Версале" были собственные роскошные дачи, виллы великосветских людей, придворных. Наемных дач почти не было. Чувствовалось, что здесь резиденция царя: везде охрана, конвой, который в кавказской форме беспрестанно гарцевал вдоль ограды 24, много полиции, три гвардейских кавалерийских полка, драгунский конно-гренадерский и уланский, а за железной дорогой квартировал пехотный армейский полк. {191}
Летом в Нижнем саду ежедневно играла музыка. Около царской купальни была устроена раковина для оркестра, имелись места для публики. Вход в парк и к эстраде бесплатный. Ежедневно играли оркестры, придворный симфонический либо духовой, тоже придворный. У оркестрантов была придворная форма: барашковая круглая шапочка, поддевка алого сукна до колен, синего цвета шаровары и лакированные сапоги. В этой форме оркестранты походили на солдат или казаков. Форма эта еще как-то шла к духовому оркестру, глаз привык видеть солдат с медными трубами. Но оркестранты симфонического ансамбля выглядели несуразно: странно видеть человека в алой поддевке, играющего на виолончели. На музыку собиралось много народу, богатые приезжали в ландо, по главной аллее допускалась езда в экипажах.
Как и теперь, публика устремлялась к дворцам и фонтанам. Из Петербурга сюда можно было приехать только по железной дороге. Пароходного сообщения не было. Поезда ходили часто. Гавань в устье канала от главного каскада для публики была закрыта. Дворцы можно было осматривать бесплатно. Экскурсоводов не было. Показывал сторож, давал объяснения, кто хотел, давал ему на чай. Пускали даже осматривать Собственную дачу императорского величества, которая находилась в Старом Петергофе 25 на границе с парком Лейхтенбергского 26, в тихом, малопосещаемом месте. Сторож, который водил нас по этой даче, объяснял, что Александр III 27 провел в ней свой медовый месяц, с той поры в ней никто не жил.
Хороший парк находился по левую сторону железной дороги. Там были царская мельница, руины, розовый павильон, Никольский домик и Бабигонский дворец 28. Около дворца на склоне горы была масса сирени, на постаментах стояли два клодтовских коня, как на Аничковом мосту, две другие скульптуры этого автора стояли в Стрельне на даче князя Львова. За гривенник можно было получить от сторожа большой букет сирени, а дать двугривенный - и он проведет по дворцу и на верхнем этаже, где колоннада, даст полюбоваться в подзорную трубу на залив, Кронштадт и Петербург. Этот парк посещался очень мало.
На той же стороне от железной дороги находилось местечко "Заячий ремиз". Здесь были собственные шикарные дачи. В парках никаких развлечений, кроме музыки. Ни буфетов, ни ларьков, ни ресторанов. Состав гуляющей публики был самый разнообразный, приходили {192} любоваться на фонтаны и дворцы самые скромные служащие, рабочие, крестьяне. Все вели себя очень чинно. Песен не пели, не кричали. За порядком следили сторожа в особой форме. В самом городке жило много военных с семьями, дворцовые служащие, торговцы, ремесленники. Промышленности не было, единственное производство гранильная фабрика29.
Старый Петергоф, по существу, был менее парадной частью Нового Петергофа. Английский дворец и Английский парк были очень скромные 30. В описываемое время летом во дворце помещалась певческая капелла. Мальчики и юноши в серых брюках и тужурках играли на площадках около дворца в рюхи, лапту. Во дворце часто звучало пение, разучивали новые вещи. Часто "капелланы" группами ходили гулять в парки.
Сам дворец был величествен, но простой архитектуры. Вокруг него не было цветников, статуй, ваз. Английский парк представлял собой лес с немногочисленными дорожками, только около пруда в сторону "Заячьего ремиза" парк был разделан: аккуратные дорожки и аллеи, мостики, несколько "шале" из неокоренной березы, могучие дубы, вокруг них скамейки. Публики в Английском парке гуляло мало.
На окраине Старого Петергофа был целый дачный поселок - Отрадное. Здесь жили скромные люди. В поселке был круг, где по вечерам молодежь танцевала под граммофон.
Главная же гуща дачников жила между Старым Петергофом и Ораниенбаумом, в поселках Лейхтенбергский, Мордвиново, Мартышкино и Ольгино. На коротком расстоянии от Старого Петергофа до Ораниенбаума - около 6 верст - было четыре платформы. Поезд с полным составом не мог останавливаться на каждой версте. Правление железной дороги нашло хороший выход. Публика, которой нужно было в эти поселки, высаживалась в Старом Петергофе, поезд уходил в Ораниенбаум, и сразу после его ухода подавалась "кукушка" - маленький паровозик с большим двухэтажным вагоном 31. Эта "кукушка" и развозила дачников, останавливаясь у каждой платформы. "Кукушка" была сезонным мероприятием, правление железной дороги считало ее нештатной единицей, билеты продавали студенты, которые желали летом подработать, живя на даче, они одновременно служили. На паровозике - машинист и кочегар, тоже нештатные. Допускались вольности: между полуостановками помашет кто-нибудь зонтиком или платочком, машинист оста-{193}новит. Машинист забавлял публику тем, что сделал большой мочальный кнут. Получая отправление, он высовывался из будки, хлестал кнутом по котлу паровозика и кричал: "Но-о, поехали!" - и свистел "ку-ку!".
Не будем останавливаться на каждом поселке, а скажем о самом большом и оживленном - Мартышкине. Главная его часть располагалась от железной дороги к морю по улицам Лесной, Нагорной, Кривой. Дачные участки были невелики, дачи лепились друг к другу и были доступны небогатым людям. На самом берегу занимала большой участок дача царского повара Максимова. Она была каменная, трехэтажная, при ней фруктовый сад, небольшой сосновый парк. В море выступал железобетонный причал. Дача выделялась в скромном поселке. Незастроенный берег пляжем не служил, тогда не было принято валяться на песке в купальных костюмах. Берег был частично застроен хибарками рыбаков, завешан сетями, снастями. На пляже лежали вытащенные лодки.
Дачники пользовались морем так: в некоторых местах далеко от берега были вынесены большие купальни, к ним вели длинные мостики. Купальня представляла собою длинную платформу на сваях. С платформы шли лестницы в воду. Купальни были устроены на хорошем песчаном дне, глубина - по пояс. В купальне дежурил сам хозяин, или кто из семьи, или работник. Купальни были платные. Семья дачников покупала у владельца сезонный билет, рубля за три. Существовало расписание женских и мужских часов. Конечно же, вездесущие мальчишки купались когда угодно и где угодно.
Было много лодок и маленьких яхт. Большинство лодок и парусных яхт принадлежало дачникам, которые из года в год снимали дачи у крестьян или имели свои скромные домишки. Некоторые купались прямо с лодок. У кого лодок не было, можно было взять у рыбака. Часто искали компанию покататься вместе, ведь могла подняться волна, грести или управлять парусом трудно. Мальчишки без спроса отвяжут лодку, покатаются и поставят обратно. Никто не возражал. Любителей моря было много. Вечером или ночью берег с моря выглядел красиво, весь в огоньках, а на лодках звучат песни под гитару. Кроме катания многие занимались рыбной ловлей, уезжали на ночь, а утром привозили хороших лещей, окуней. Судак попадался реже. Рыбная ловля была к тому же прямым подспорьем для семьи.
В Мартышкине жило на дачах много немцев: ремесленников, служащих, очень организованных людей. Они {194} арендовали у крестьян небольшой участок земли на задах Нагорной улицы, расчистили его, построили большой деревянный павильон и открыли в нем гимнастическое общество. Кроме немцев туда могли за невысокую плату ходить кто хочет из юношей и детей. Дачники с удовольствием записывали своих детей в это общество. Три раза в неделю там по два часа обучали вольным движениям, упражнениям на снарядах. Во главе общества стоял немец Мейер, помощником его был Ланге. Чтобы иметь средства, общество устраивало в этом помещении по субботам и воскресеньям платные танцы. Отчетные выступления детей перед родителями происходили два раза в лето. Устраивались прогулки с играми. На длительные прогулки собирали по 20 копеек, бутерброды несли в бельевых корзинах. Где-нибудь давали детям молоко. Шли под барабан, толстый немец колотит палками по небольшому барабану. За отличие в гимнастических упражнениях давали значки общества, на которых были начальные буквы фразы "В здоровом теле здоровый дух".
Местные крестьяне, кроме дохода от дач, зарабатывали на молоке, ягодах, грибах и даже воде. С водой в Мартышкине было плохо, колодцев при дачах мало, вот и развозили воду в бочках. Водовоз ежедневно привозил условленное количество ведер.
В двух верстах от Мартышкина в густом лесу был маленький монастырь святого Арефия. Монахи накупили самоваров и под большими елками поставили столы и лавки. Дачники приходили с бутербродами, заказывали самовар, за 10 копеек малый, за 20 - большой. Сидят, пьют чай, воображают, что они в обители. Маленькая церквушка тоже имела доход от посетителей. Каждый считал нужным поставить свечку святому Арефию, который якобы помогал от каких-то болезней.
Дачники в Мартышкине назывались "мартышками". Они весело проводили время: кругом были чудесные леса, парки - Лейхтенбергский и Ораниенбаумский. Много было ягод и грибов. Рядом - Петергоф с его фонтанами, можно было из Ораниенбаума проехать в Кронштадт и Лисий Нос. Собирались компании; студенты, девушки, гимназисты старших классов, брали с собой бутерброды, лимонад, предприимчивый лесник устроил под елками столики и скамейки, торговал молоком и варенцом в горшках. Брали гитары, спиртного не брали, пить было не принято, особенно в присутствии девушек. И без вина было очень весело: пели, играли в горелки. Дачники были народ скромный, и мораль у них была строгая. {195}
В то время начал появляться футбол, была команда "мартышек", которая ездила играть в Стрельну, в Петергоф, приезжали и к "мартышкам". Но этот вид спорта прививался медленно. Играли в крокет, серсо, бильбоке, а в дождливую погоду - в домино, в "бой цветов", "игру камней". Отцы семейств приезжали на воскресенье усталые, загруженные покупками. Они отдыхали в гамаках, ходили купаться, осенью - по грибы. Гимназисты старших классов и студенты развешивали на столбах объявления, что готовят к переэкзаменовке по всем предметам. Приглашений было много, а оплата - 7-10 рублей в месяц. Но эти небольшие деньги устраивали молодых людей, они могли что-то купить, поднести девушке цветы, приобрести билет на танцы, съездить с "дамой сердца" в Ораниенбаумский курзал, где бывали спектакли 32.
За Мартышкином следовал Ораниенбаум. На окраине города были хорошие дачи с большими участками, много дороже, чем в Мартышкине. Малоимущая публика селилась в деревнях вокруг Ораниенбаума. Это были Вёшки, Кронштадтская колония. Жизнь там была дешевая: и сами дачи, и молоко, и яйца. Манил к себе чудесный Ораниенбаумский парк 33, переходящий в большой лес. И сам парк был густой, с большими прудами. Только около дворцов Петра III, Меншикова, Китайского и павильона Катальная горка 34 парк был разбит по правилам паркового искусства. Публика удивлялась рассказам сторожей, что канал к морю был вырыт по капризу Екатерины II за одну ночь.
Дети пугались и плакали, глядя на группу "Лаокоон", бабушки и няньки тоже побаивались смотреть на эту скульптуру. Во дворцы пускали. В Ораниенбауме железная дорога кончалась, непосредственно к станциям прилегал городок, который народ называл Рамбов 35. Это был пыльный, грязный городишко, на каждом шагу трактиры, винные лавки, пивные. Пьяных и в будни, и в праздничные дни было очень много. В Рамбов приезжало много крестьян из округи продать на рынке товары, купить необходимое, заявлялись погулять из Кронштадта рабочие мастерских и доков, матросы. Здесь же стоял пехотный армейский полк. В Ораниенбауме был хороший рынок, много дешевой свежей рыбы, ягод, грибов. За Ораниенбаумом тогда были непроходимые леса, а в Рамбове жили рыбаки. Дальше Ораниенбаума тоже были дачные места, но к ним трудно было добираться, а потому там жили единицы. От Рамбова туда шла крепостная {196} железная дорога, которая обслуживала форты и батареи 36. Частные лица тоже могли ездить, разумеется, за плату. Колея была нормальная, но паровозик и вагончики маленькие.
Очень хорошее место - Лебяжье. На самом берегу залива, лес подходил к морю, чудный пляж. Местные крестьяне сдавали избы дачникам, строили и дачки, можно было устроиться в лоцманском селении. Житье было дешевое, но скучное. В своем клубе лоцманы устраивали вечера с танцами.
Черники, малины, брусники было сколько угодно, охота на боровую и водоплавающую дичь, на зайцев, лисиц и других зверей. Про рыбу и говорить не стоит, ее или сами ловили, или вам просто давали без денег.
Вот мы и описали коротко жизнь и быт пригородов и дачных мест по Ораниенбаумской ветке. От узловой Лиговской станции шла другая ветка той же Балтийской железной дороги. По ней тоже были пригороды и дачные места. Первая остановка после Лигова была Горелово. Бедные домики, куда летом приезжали малоимущие дачники. Хороший лес был далеко, речушка Лиговка делала зигзаги. По платформе ходили озабоченные люди.
Дальше шла платформа Скачки 37. Это было не дачное место - лагерь гвардейской кавалерии. Коновязи, ржание лошадей, палатки, кавалерийские сигналы, звон шпор. По глинистым берегам Лиговки - водопои коней. Всевозможные кавалерийские учения солдат, "фасон" кавалерийских офицеров, которые могли забыть надеть фуражку, но стек всегда был с ними.
За Скачками - Красное Село 38, расположенное на живописной горе. Дачников мало, военные и их семьи, которые снимали или имели свои дачи. Вокзал с хорошим буфетом. В полуверсте от станции, по другую сторону железной дороги, расположены лагеря пехотных гвардейских полков. Солдаты, как полагается, жили в палатках, а офицеры - в хороших деревянных благоустроенных домах, выкрашенных в цвет, присвоенный полку. Дачи Егерского и Финляндского полков первой и второй гвардейских дивизий выкрашены в зеленый цвет, а Преображенского и Московского - в красный, Измайловского и Гренадерского - в белый, Семеновского и Павловского - в синий цвет.
В самом Красном Селе жили семьи офицеров, был хороший театр 39, летом очень людно, гуляла нарядная публика, щеголяли офицеры, был прекрасный ресторан. Солдаты появлялись в Красном Селе редко, занятий в лагер-{197}ное время у них было много. Местность вокруг лагерей вытоптана, с раннего утра слышались команды строевых учений, выкрики унтер-офицеров: "Вперед коли, назад прикладом бей!", "От кавалерии накройсь!" Вообще тяжелая солдатчина, а рядом каждодневный праздник офицеров, разодетые компании в ландо, отправляющиеся в Петергоф на музыку.
За Красным Селом, не доезжая Дудергофа, была военная платформа, всегда забитая юнкерами. Недалеко, за озером, стояли лагерями все военные училища. А следующая остановка - Дудергоф - настоящая дачная местность. Там царство дачников. Их привлекала сюда близость Петербурга, дешевизна дач, хорошее озеро, живописный лес с Вороньей горой, покрытой вековыми соснами 40. Станция была веселенькая, дачная, деревянная с резьбой, выкрашенная желтой краской. Вокруг станции вращалась вся дачная жизнь. К вечеру здесь собиралась молодежь: барышни с кружевными зонтиками, кавалеры. Вечером, после занятий, с этого берега озера приезжали, приходили, прибегали юнкера во всем своем военном блеске. Стучали каблучки, звякали шпоры. Мамаши высматривали дочкам женихов, достойных приглашали в дом пить чай, угощая ватрушками и вареньем. В день именин дочек запускали фейерверк, в саду развешивали разноцветные бумажные фонарики, жгли бенгальские огни. Ходили на танцы в курзал, катались на лодках, сидели на Вороньей горе, играли на гитаре, пели романсы, считали падающие звезды.
За Дудергофом следуют Тайцы 41, Пудость 42, Мариенбург 43. Летом они тоже заселялись дачниками. В Тайцах, где были знаменитые ключи, была туберкулезная лечебница.
Пудость отличалась тем, что там в речке Ижоре водилась форель. Вокруг были леса, было очень много грибов. Мариенбург, под самой Гатчиной,- уютное местечко, весь поселок утопал в лесу, напротив был знаменитый Зверинец для царской охоты, он тянулся от Пудости до Гатчинского парка. Зверинец был окружен деревянной изгородью из трехсаженных шестов, поставленных в два ряда, с небольшим наклоном одного ряда навстречу другому. Шесты были вбиты так часто, чтобы не проскочила ни одна зверушка. Нередко можно было видеть, как к ограде подходили лоси, косули. Детишки просовывали им кусочки хлеба.
А дальше - Гатчина, чистенький городок с двумя парками. Летом он утопал в сирени. Этот городок избра-{198}ли для проживания отставные военные. Это придавало известный характер быту города. Кроме того, там стояли гвардейский Кирасирский полк (синие кирасиры) и артиллерийская бригада. Летом приезжали дачники, это оживляло тихий городок. Дачники гуляли по паркам, окружающим лесам, катались на лодках по прудам. Когда там открылась первая в России военная авиационная школа 44, Гатчина оживилась, кирасиры отошли на задний план, первыми сделались авиаторы. Целый день ревели авиационные моторы, русские люди завоевывали воздух, но это давалось не даром, и на местном кладбище появлялись кресты из деревянных пропеллеров. По другую сторону железной дороги вырос поселок, где ютились мелкие служащие и рабочие. Они ежедневно ездили на работу в Петербург, так как в Гатчине предприятий не было.
Далее за Гатчиной по Балтийской линии было Елизаветино. Не считая окружающих деревень - Дылицы 45, Вероланцы,- к станции прилегали два дачных поселка: Николаевка и Алексеевка. При нас они только застраивались. Дачки там возводили из-за дешевизны земли люди небогатые, сдавались дачки тоже не по дорогой цене. Места лесистые, но скучные - ни озера, ни речки. Матери, выезжавшие с малолетними детьми, могли быть спокойны: утонуть ребенку негде. В лесах масса ягод и грибов, на припеках много лесной земляники.
В двух верстах от станции - имение Охотниковых, уже в то время оно находилось в совершенном упадке. Старый помещичий дом - с четырьмя колоннами, облупленной штукатуркой. Невдалеке церковь, под горой парк с двумя прудами. Летом в доме кто-то жил, но по парку гулять запрета не было. Парк небольшой, со старыми липами. Рядом с парком - маленькая деревенька Дылицы, где тоже жили дачники. Немножко выше, в гору, деревня Вероланцы, где летом много дачников. Самое замечательное в Вероланцах - стоянка царских гончих собак. Малонаселенное место - леса, вырубки, поля - давало возможность вывозить туда летом псовую царскую охоту, натаскивать гончих собак. В избах и амбарах проживали 8 конных егерей, содержалось около 200 собак. Собачьи дворы были отгорожены жердями, на которых целыми днями сидели мальчишки, дачники, и смотрели на собак. Егеря иногда позволяли мальчишкам прокатиться на лошади.
Интересная картина была при выезде в поле. Впереди седой старший егерь на лошади с большим медным {199} рогом. За ним, образуя каре, остальные егеря, тоже с рогами и арапниками. В центре каре гончие, некоторые на сворках по пяти. Когда все выстраивались, старший егерь снимал шапку, крестился и говорил: "С богом!" Кавалькада отъезжала на натаскивание собак. Если какой-нибудь неразумный гончак от нетерпения преждевременно выскочит, ближний егерь, перегнувшись с седла, так его ожжет арапником, что тот навсегда забудет, как нарушать порядок. Но с какой радостью собаки бросались в гон, когда их спускали и раскрывали каре!
Вокруг Елизаветина было много ветряных мельниц, где крестьяне мололи зерно, водяных мельниц вблизи не было. Сооружение это ушло в безвозвратное прошлое, в нем проявлялась сметка русского человека: с помощью только топора делались все механизмы - валы, цевки, зубчатые колеса. Любимой, но опасной забавой мальчишек было катанье на крыльях ветрянки. На ходу надо было вцепиться в решетку крыла, ногами и руками, держаться изо всех сил. Громадное крыло делало с этим озорником полный круговой оборот, а то и два. Тот, обалдевший от полета, соскакивал на землю и частенько попадал прямо в лапы мельника, который надает ему шлепков и пожалуется родителям. Тогда порка неизбежна.
* * *
Много известных дачных мест было по Царскосельской, теперь Витебской, железной дороге. Мы еще застали старое здание этого вокзала. Оно было весьма неказистое, обветшалое. Когда в 1904 году построили ныне существующий вокзал 46, многих наивных удивляло, что поезда находятся на втором этаже. Многие не верили, пока не убеждались сами. Поднявшись на второй этаж, они видели там паровозы и вагоны, а их багаж поднимался лифтами к поезду.
Сразу за городом была платформа Воздухоплавательная. На открытом поле стоял большой эллинг, в нем хранились воздушные шары и первый русский дирижабль. Это военное воздухоплавание возглавлял генерал Кованько 47, про которого ходило много шуток, сатирические журналы рисовали на него карикатуры, так как первые шаги воздухоплавания были не вполне удачны.
До Царского Села пассажирские поезда не останавливались. Описывать Царское Село мы не станем, оно отражено во многих трудах, коснемся лишь его бытовой стороны. Царское Село было зимней резиденцией послед-{200}него царя, это накладывало известный отпечаток. На вокзале поражала тишина, все вели себя чинно, не было суматохи. Прохаживались рослые жандармы, которые устраняли всякое нарушение тишины и порядка, хотя царская ветка и вокзал находились в другом месте, недалеко от Александровского дворца. В самом городе тоже сохранялись чинность, тишина и порядок. Было много полиции, повсюду встречались военные, там стояли Гусарский полк, желтые кирасиры, стрелки императорской фамилии. Было много свитских военных, конвоя, специальной дворцовой полиции и шпиков. В связи с отсутствием фабрик и заводов рабочего люда почти не было. На улицах кроме военных были видны дворцовые служащие, домовладельцы, пенсионеры, чиновники, "благонадежные" ремесленники, прочий проверенный люд. Все вертелось вокруг резиденции царя, было связано с дворцом 48. На улицах, в парках, в проезжавших экипажах можно было видеть министров, шикарных дам, блестящих военных или же степенных купцов, сдержанных чиновников и их семьи. Во время пребывания царской фамилии в Александровский парк публику не пускали, в остальные же парки - Екатерининский и Баболовский - вход для всех был свободен. Петербуржцы приезжали погулять в парках, катались по озеру, осматривали достопримечательности. Город был скучный, оживления не было даже в парках. Летом, в "царские дни", на военном поле устраивали гулянья - балаганы, лотереи, развлечения, подобные тем, которые мы описали, говоря о Петергофе. Дачников было мало.
Иной характер носил Павловск, там летом жизнь била ключом 49. Кроме постоянных жителей сюда на лето съезжалось много дачников и в собственные виллы, и в скромные наемные дачки по разным Солдатским и Матросским улицам, в деревни Глазово и Тярлево. Кроме дачников и постоянных жителей по вечерам приезжало много петербуржцев "на музыку". Главной притягательной силой Павловска были вокзал с концертным залом 50 и великолепный парк, разбитый в долине речки Славянки. К вечеру поезда ходили часто. Поезд подъезжал к платформе, в нескольких шагах от которой за стеклянными дверьми был концертный зал.
Здание музыкального вокзала представляло собою огромное, хорошей архитектуры деревянное строение с двумя крыльями. В левом помещался ресторан, в правом - кафе и читальный зал. Концерты давались внутри здания, в теплые вечера оркестр выходил на наружную эст-{201}раду, публика сидела на скамейках, расставленных на площадке перед эстрадой. Симфонический оркестр был хорош, так же как дирижеры и солисты. Программа концертов составлялась из классических произведений. Вход был бесплатный. На концерты пускали всех, даже с детьми. В глубине площадки стояла раковина для духового оркестра, в которой оркестр гвардейских стрелков под управлением бессменного капельмейстера Саботелли в антрактах исполнял легкую музыку.
Близ этой площадки находились теннисные корты и гимнастический уголок. И симфонический оркестр, и весь этот комплекс содержало все правление Царскосельской железной дороги. Оно получало доходы от платы за проезд многочисленной публики. Стоимость билета была немного повышенной 51. Приносили также доходы ресторан и кафе, теннисные корты. Приезжало немало знатоков симфонической музыки, но большинство публики составляли люди, которые считали, что вечером нужно быть в Павловском вокзале, встретиться со знакомыми, себя показать, людей посмотреть, поинтересоваться модами, завести новые знакомства. Такие люди часто делали вид, что они внимательно слушают серьезную музыку, а сами с нетерпением ждали антракта, чтобы поболтать со знакомыми. Несколько раз в лето устраивались платные балы, вход стоил рубль. Балы приносили доход железной дороге. Середина курзала освобождалась от стульев, военный оркестр играл танцы, которыми дирижировал балетный артист Берестовский. Публики бывало много. Все старались прифрантиться. Выдавались призы за красоту, за лучшее исполнение танцев. Открывались буфеты с прохладительными напитками. Устраивались костюмированные балы.
В противоположность Царскому Селу, пребывание в своем дворце и парке великого князя с семьей на жизни города никак не отражалось и публику не стесняло. Этого великого князя можно было встретить в аптеке, в магазине, на музыке, в парке. Перед его дворцом стояла высокая мачта парусного корабля с реями, вантами, прочей оснасткой.
Излюбленным местом прогулок жителей Павловска и дачников был парк. С утра до поздней ночи по его аллеям прогуливалась принаряженная публика, катались в экипажах. В парке было очень много велосипедистов. Они носились целыми стайками. Велосипеды были самых различных марок и даже заказные. Некоторые заказные велосипеды имели сплошь никелированную раму, необык-{202}новенно низко изогнутый руль и высоко поднятое седло. Велосипедист на нем принимал неимоверно изогнутую форму, чем приводил в восхищение девиц. По парку гарцевали артиллерийские и казачьи офицеры казачий полк и артиллерийская бригада стояли в Павловске.
На окраине парка, в деревне Глазово, была ферма - в русском стиле домик с верандой. На ферме можно было позавтракать, выпить молока, сливок, кофе. Обслуживали публику девушки, разодетые в нарядные русские костюмы с кокошниками. Посетителей, особенно молодых людей, бывало много, они приходили полюбоваться на красавиц и за пятачок выпить большой стакан молока с ломтем черного хлеба. На поле около Глазова делал свои первые шаги футбол. На полях вокруг выращивалась знаменитая павловская земляника.
Рядом с курзалом был деревянный театр, в котором играли петербургские артисты. Перед самой империалистической войной недалеко от вокзала помещался "скетинг-ринк", новинка того времени. Праздная публика вечерами каталась там на роликовых коньках, нельзя было отставать от моды.
Промежуточные станции от Павловска до Вырицы не представляли интереса. Дачи там были недорогие, кругом заболоченные леса. Вырица в описываемое время только начала развиваться, проводили дороги, дачи строили главным образом по правому берегу реки Оредеж 52. Повсюду стучали топоры, работал лесопильный завод. Прелесть Вырицы, как и Сиверской, была в прекрасных лесах, местами совершенно нетронутых, и в живописной долине реки Оредеж, а в ней водилась рыба, было множество раков. Леса привлекали охотников. После Петрова дня в лесу тут и там можно встретить человека в болотных сапогах с двустволкой, с легашом или пойнтером. Грибов и ягод в лесах было видимо-невидимо, но "уважающие себя" дачники считали ходить за ними ниже своего достоинства и предпочитали покупать ягоды и грибы у крестьян. Ловить же рыбу и раков не считалось зазорным, тем более заниматься охотой.
Вечером в воскресенье платформы и станции заполнялись отъезжающими и провожающими. Дачники считали обязательным и встречать, и провожать пап всем семейством. Папы должны были казаться отдохнувшими, счастливыми, что они повидали жену и домочадцев. На станции им давались наставления, делались последние упреки. Наконец свисток подходящего паровоза, последние поцелуи, и папа бросался на штурм вагона. Потом {203} папы успокаивались, находили общий язык, говорили о стоимости дач, связанных с ними расходах и мучениях.
Хотя о дачных гостях написано много, обойти эту тему мы не в силах. Особенно вредный гость был тот, который "счел долгом" со всем семейством, без предупреждения и приглашения, но исключительно ради внимания и почтения, навестить знакомых на даче и прожить у них несколько дней. Такие гости были бедствием. Запасы истреблялись, все расчеты рушились. Хозяева спали где придется, на чем попало. Но все это ерунда по сравнению с теми неимоверными усилиями игры в радость по случаю приезда непрошеных гостей. При отъезде принято было выражать сожаление, что мало погостили, и приглашать, чтобы приезжали еще.
По Северной железной дороге дачными местами были Пелла 53 и Мга, которые только начинали застраиваться. Были дачники и в Усть-Ижоре 54, на Понтонной и Саперной, в Ивановском на Неве, при впадении Тосны. Все это были весьма скромные места, с дешевыми дачками и небогатыми дачниками. Начиная с Ивановского шли хорошие леса. В Пелле и Мге рубили просеки, прокладывались дороги. По Неве главной дачной местностью были Островки и Мойка.
Вообще дачников по Неве жило немного, сообщение было пароходами, которые ходили довольно редко, но места были отличные.
Красавица Нева, с ее знаменитой невской лососиной, вообще богата рыбной ловлей. Великолепные леса с прекрасной охотой. Сюда приезжали те, кто искал тишины на лоне природы, любил охоту, рыбную ловлю и водный спорт. Было много гребных лодок, парусных яхт. По берегам Невы встречались большие собственные дачи с усадьбами. Скученных поселков не было, поэтому дачники жили отчужденно, общественных развлечений не было. Купаться надо было с оглядкой: глубокая, широкая река, быстрое течение, холодная вода. Ладожское озеро давало себя знать, оттуда дули холодные ветры.
Выше Мойки берега Невы были заселены еще меньше, дачи встречались редко. Грузовое движение по Неве было большое, буксирные пароходы тянули громадные плоты, главным образом с реки Оять, волокли баржи с хлебом с Волги или дровами с той же Ояти, Волхова, Шелони, с Тихвинки и Сома. Тянули песок, бутовую плиту с Путилова на Волхове, кирпич с берегов Невы. Все это заставляло быть очень внимательным того, кто катался {204} или рыбачил с лодки. Часто были слышны тревожные гудки буксирных пароходов.
С Финляндского вокзала шла лишь одна линия - на Выборг. Здесь было много дачных населенных мест: Ланская, Удельная, Озерки. Да, Ланская была дачной местностью, как и Лесное. Семья одного из авторов два года жила на даче в Лесном, недалеко от парка Лесного института. В Лесное можно было приехать на паровичке. Удельная, Озерки, Шувалово были веселые дачные места, с театрами, танцами, катанием на лодках по озерам 55. Лесное было более тихим дачным местом, хотя театр там тоже имелся. На Шуваловском озере был яхт-клуб. За лето здесь устраивалось несколько парусных гонок. Дачники гуляли в Удельнинском парке и ближайших лесах - Сосновке, Пискаревском лесу.
При входе в Шуваловский парк была горушка под названием Парнас. Дворец Шувалова был запущен, никто там не жил, парк походил на лес.
Следующей станцией было Парголово с поселком на горе и маленьким озером. Дачи были недорогие. Остальные дачные места до Финляндской границы ничем не выделялись. Разве только что при станции Левашово был хороший парк с озером, который теперь носит искаженное название "Осиновая роща", хотя осин там нет. На самом деле парк назывался "Осиная роща", потому что было много ос. До Токсова железной дороги не было. Местные жители и немногочисленные дачники добирались в этот чудесный уголок на подводах, по дороге через Лесное на Гражданку 56 либо по дороге через "Осиную рощу" на Юкки. Граница с Финляндией была за Белоостровом, по реке Сестре. За Белоостровом шли дачные места по берегу Финского залива: Оллила (Солнечное), Куоккала (Репино), Териоки (Зеленогорск), Тюрисяви. Здесь стояли виллы с огромными участками. В последнее десятилетие прошлого века эти места сделались модными. Постройки были настолько богаты, что дачи Репина "Пенаты", писателя Леонида Андреева выглядели скромно. (Теперь в оставшихся дачах разместились дома отдыха.)
Владельцы дач на береговых участках имели моторные и парусные яхты, а в Териоках был яхт-клуб. Здешние дачники иногда ездили на концерты в Сестрорецк 57. Переезд границы не замечался, проверки паспортов и таможенного досмотра не было. Если становилось известно, что в Финляндию везут в большом количестве водку, {205} осматривали более тщательно, но, как правило, ничего не находили.
Вся Финляндская железная дорога обслуживалась финнами в голубых кепи и в форменных тужурках. В Белоострове еще были русские жандармы, а в Териоках на станции стоял финский полицейский в черной каске, мундире со светлыми пуговицами и тесаком с белой металлической отделкой. Деньги ходили общероссийские и финские марки из расчета 37 копеек. Бывали курьезы, когда финн-извозчик не хотел везти дачника за 50 копеек, а за марку с удовольствием соглашался. По обеим сторонам железной дороги был сплошной лес, который теперь очень поредел. Поведение финнов нередко вызывало недоумение. Скажем, в лесу, далеко от жилья, на лесной дороге на суку висит большой кувшин с молоком. Российский дачник детально все осмотрит, пальцем даже попробует содержимое, а дома у хозяина-финна спрашивает, что все это значит. Тот объясняет, что в версте от дороги есть хутор, откуда и выставляется молоко для почтальона, который каждый день проезжает мимо и оставляет пустой кувшин. Или же один из авторов на Сайменском канале 58 наблюдал такое: вечером пароходик шел среди леса. У маленькой пристани, где не было ни одного человека, с парохода сгрузили несколько тюков. Пароходик свистнул и пошел дальше. У матроса спросили: как же, мол, сбросили тюки, а сами уехали? Финн, посасывая трубку, объяснил, что в 12 километрах от пристани есть большое селение. Утром из селения приедут и мануфактуру заберут. Если придешь в лавку, за тобой никто не следит, а ты, взяв что нужно, платишь деньги, тебя не проверяют. Отдых на финских дачах был хорош: кругом леса, озера, море, много черники, брусники, грибов, но страшная скука, малолюдно. Только в Териоках был летний театр, до и он как-то не процветал.
Поедем, любезный читатель, по Сестрорецкой железной дороге. Это была отдельная железная дорога. Деревянный маленький вокзальчик с хорошим буфетом и садиком находился в Новой Деревне между "Виллой Родэ" и рестораном "Славянка" 59. "Вилла Родэ" - фешенебельный ресторан с эстрадой, великолепными оркестрами и первоклассной кухней. "Славянка" находилась на самом берегу Невки, с пристанью, куда подходили пароходы, а зимой подкатывали тройки с озябшими гуляками, чтобы выпить горячего глинтвейна. Эта дорога имела две линии: одна на Скачки и дачное селение Коломяги 60, другая - вдоль Финского залива до Сестрорецкого курорта {206} и Дюн. Колея этой ветки была обычная, имперская, вагончики и паровичок, зашитый в железную коробку, маленький, выкрашены в ярко-желтый цвет. Против вокзала на Невке была пристань, к которой подходили пассажирские пароходы и баржи с грузом. К пристани был проложен железнодорожный путь, грузились товарные вагончики. Эта частная железная дорога летом была очень оживленной. Много публики ездило на ипподром на станцию Скачки. Много дачников путешествовало в Коломяги.
На скачках работал тотализатор, возбуждая азартнейшую игру. Через подставных лиц играли и сами жокеи. Картина скачек была эффектна: лошади несутся на полном галопе, жокеи в цветных колетах, шапочках, ботфортах с желтыми отворотами, помогая лошади, буквально нависают над ее головой 61.
Коломяги было уютное дачное место; дачи недорогие, дачники общались между собой, ставили любительские спектакли, танцевали. Близость Озерков, Удельнинского и Шуваловского парков, окрестных полей и перелесков создавала хорошие условия для отдыха. Близость города была удобна для местных жителей, служащих в столице.
По другой линии этой же дороги на Сестрорецк первой станцией была Лахта, следом - Ольгино. Летом здесь было много дачников, которых привлекали соседство Финского залива, близость города, недорогие цены на дачи. В прибрежных камышах водились утки, дачники на челноках уходили в залив ловить рыбу. В описываемое время купались с лодок, а на пляже располагались в одном месте женщины, в другом мужчины. Такой порядок соблюдался строго.
Следующей станцией была Раздельная, ныне Лисий Нос. Тогда это было небольшое, неинтересное имение, связанное с ужасами казней через повешение политических, осужденных после первой русской революции. От Раздельной шла ветка длиной около 3 километров на самый мыс, названный как и вся местность, вдающаяся в залив, Лисьим Носом. На оконечности мыса была деревянная пристань, куда заходили пассажирские пароходы из Кронштадта, а паровозик с двумя-тремя вагончиками по согласованному расписанию доставлял пассажиров до Раздельной. Из Кронштадта приезжали дачники, селившиеся на станциях Сестрорецкой ветки, или те, кто на Сестрорецком курорте хотел провести хотя бы несколько часов вне скучной и строгой морской крепости. Пристань и ветка Лисьего Носа обслуживали военно-морское ве-{207}домство, имевшее здесь разного рода постройки и сооружения.
Далее вдоль ветки был поселок Разлив - одно из любимых дачных мест петербуржцев. Сам разлив с обширной акваторией, получившись в результате запруды реки Сестры, служил местом купания, рыбной ловли, охоты, парусного спорта. На берегу стоял большой деревянный театр, где любители ставили спектакли, после которых обязательно устраивались танцы. За Разливом находился городок Сестрорецк с чистенькими улицами и веселыми домами. Главным в Сестрорецке был знаменитый старинный ружейный завод, где тогда делались русские трехлинейные винтовки. Завод был небольшой, но имел прекрасных специалистов, рабочих и инженеров, которые пользовались в городе уважением. При заводе был полигон, где пристреливались готовые винтовки. Целыми днями оттуда слышалась стрельба, что несколько утомляло. Дачников приезжало много. Хорошие пляжи, "Дубки" - роща, посаженная еще при Петре I, сосновый лес, живописный разлив, близость курорта привлекали петербургского обывателя.
Сам Сестрорецкий курорт состоял из небольшой лечебницы, окруженной сосновым парком, дорогого ресторана и большого концертного зала деревянной постройки интересной конструкции. В этом курзале летом давали концерты в исполнении постоянного симфонического оркестра, устраивали балы. На этом курорте главным занятием был флирт, а не лечение. Против парка шла длинная дамба с пристанью, к которой подходила железнодорожная ветка. Эта ветка добиралась сюда по самому пляжу, между двумя невысокими заборчиками. Вдоль этой ветки, параллельно берегу, пролегала длинная застекленная галерея, где в ветреные и ненастные дни прогуливалась курортная публика.
Когда поезд приходил на станцию Курорт, состав отцеплялся, а паровозик с двумя вагончиками шел дальше в Дюны, где был полустанок Школьная. Такое название полустанок получил потому, что там было учебное заведение для больных мальчиков, которые жили там на полном пансионе и учились. Вокруг школьных помещений на дюнах шумели сосны.
* * *
Пригороды Петербурга, как и окраины его, непрестанно застраивались новыми, более благоустроенными дома-{208}ми, деревянными и каменными. К сожалению, и то и другое строительство сопровождалось вырубкой леса, что сразу меняло вид местности. Однако в наше время даже появление каменных домов не выглядело урбанизацией - сельский характер поселков сохранялся. В связи со строительством мы расскажем, как происходила закладка домов.
Закладка дома относится к обычаям, навсегда ушедшим из нашей жизни. Надо различать закладку дома с технической точки зрения, когда укладываются первые камни фундамента, и закладку дома как религиозный обряд и семейный праздник. Обычай этот еще сохранился на окраинах города и в пригородах до наших дней.
Когда каменное здание выведено из цоколя, а деревянное имеет уже два венца, хозяин назначал день праздника - закладки. К этому времени на лесах ставился деревянный крест, высоко возвышающийся над постройкой. Кроме того, в каменной кладке оставлялось место для небольшой свинцовой коробочки, а в деревянном венце вырубалось гнездо для такой же коробочки. Место вырубки выбиралось в восточном углу будущего дома.
Обычно в воскресенье после обедни собирались у постройки семья хозяина, священнослужители и приглашенные родные и друзья хозяина, а также рабочие и десятники, занятые на этой стройке. На грубо сколоченном столе ставилась икона и миска с водой. Начинался молебен с водосвятием. Священник при пении молитв погружал крест в миску с водой, вода становилась "святой". Молились о "ниспослании благодати и благоденствия дому сему", дьякон зычным голосом провозглашал "многолетие" хозяину и его потомству. Затем все подходили целовать крест, при этом священник кропил каждого "святой" водой. Десятник вставлял в гнездо свинцовую коробочку и наливал в нее вареного постного (обычно так называемого деревянного) масла. Потом все подходили к гнезду: сначала священник, который кропил "святой" водой эту коробочку, затем хозяин, его близкие и гости, причем каждый клал в коробочку монету чеканки того года, в который производилась закладка. Затем края коробочки загибались наглухо и сразу же над коробочкой укладывалось два-три ряда кирпичей, а в деревянных домах гнездо с коробочкой забивалось деревянной пробкой. Тотчас вслед за этим укладывался заранее заготовленный следующий венец.
Далее с песнопениями молитв обходили всю постройку, причем священник все время кропил, а дьякон кадил. {209} По окончании этого ритуала хозяин приглашал всех "откушать хлеба-соли". Если была хорошая погода и тепло, то угощение устраивалось тут же, на наскоро сколоченных столах и скамейках. Если погода была плохая, то приглашали домой или в кухмистерскую. За угощением соблюдалась полная демократия: садились за один стол все, не соблюдая главенства и чина,- рабочие, гости, хозяева. Произносились тосты, разные пожелания хозяину дома и его семье. Рабочие благодарили за угощение и говорили: "Постараемся, будьте покойны, не сумлевайтесь, все будет в аккурате". Если угощение устраивалось на открытом воздухе, закуска, выпивка и посуда приносились в корзинках. Праздник при этом принимал более непринужденный характер. Помогали каждый кто чем мог: мужчины откупоривали бутылки, рабочие топорами вскрывали банки с консервами, топорами же рубили керченские селедки тут же на столе. Получалось что-то вроде пикника, было весело, забавно, поскольку люди выходили из обычной колеи. Священнослужители тоже обязательно приглашались к столу, причем дьякон снова провозглашал громовым голосом "многолетие".
Часа через два-три все расходились по домам, многие под сильным хмельком.
Деревянный крест оставался до тех пор, пока дом не был подведен под крышу. Тогда он снимался и отдавался какому-нибудь бедняку, у которого случался к этому времени покойник.
Закладка надолго оставалась в памяти и служила предметом разных пересудов и примет. Говорили: "Дому этому долго не стоять! Поскупились, мало денег положили в коробочку, сам хозяин и тот пожалел денег, всего полтинничек положил!" Или: "Крест-то во время молебна покосился, не бывать добру".
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы завершаем наше повествование временем, когда Петербург перестал существовать,- началом русско-германской войны.
На памяти у нас большие манифестации разносословной толпы еще до объявления войны. Петербуржцы, как и вся Россия, были единодушно возмущены наглым ультиматумом Австрии к Сербии. События разворачивались страшно {210} быстро. Ультиматум следовал за ультиматумом, и наконец: Германия объявляет войну России.
Теперь манифестации приняли в Петербурге грандиозные размеры, вызванные патриотическими чувствами народа. Большинство понимало, насколько положение серьезное,- враг силен и нагл, авторитет правительства подточен до предела, предстоит много испытаний.
Правящие круги и церковь старались подменить лозунги патриотов "За родину!" воззванием "За веру, царя и отечество!". Это вызывало протест в народе, многие не присоединялись к демонстрациям, которые несли портреты царя и иконы. Слышались реплики: "Как же царь будет воевать, когда жена его немка и окружена немцами?!"
Народные демонстрации наконец завершились разгромом германского посольства на Исаакиевской площади. Громили здание посольства дня три, сломали двери, выламывали решетки окон, выбрасывали мебель, целиком шкафы с бумагами, и наконец было скинуто с аттика здания бронзовое олицетворение воинствующей Германии - два тевтона, держащие коней. Этот разгром посольства привлек громадные толпы людей. Сквер перед Исаакием был вытоптан, на мостовой валялись обломки мебели, куски железных решеток, книги, бумаги. Толпа выкрикивала ругательства и проклятия в адрес кайзеровской Германии и самого кайзера. Полиции там мы не видели полицейские понимали, что соваться под руку возмущенной толпы - дело опасное.
Война и мобилизация перевернули всю жизнь столицы: в два-три дня ушла вся гвардия. Толпы родных и знакомых провожали полки на вокзалы и станции. Была масса добровольцев. Уходившим солдатам незнакомые им люди совали в руки папиросы, продукты, носильные вещи. Многие провожавшие женщины плакали. Все относились к грядущим опасностям трезво и в переносном смысле, и в прямом - продажа водки и крепких напитков была запрещена. Погрузка полков в вагоны производилась очень быстро, надо сказать, в полном порядке. Чувствовался подъем - народ был готов защищать родину. Отъезжали полки, уходили на войну запасные, население Петербурга оставалось в тревоге за родину и за близких.
Канула в безвозвратное прошлое и жизнь "последнего" Петербурга с его плохими и хорошими сторонами. Настала недолговечная пора Петрограда.
Сиверская. 1976 г.
{211}
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Авторы этой книги были представителями последнего поколения петербуржцев в полном смысле этого слова: их вкусы, манеры, взгляды, привычки - все то, что объединяется понятием личности, - в значительной мере сложилось еще до превращения Петербурга в Петроград. Знакомясь с их воспоминаниями, мы соприкасаемся с ныне исчезающей культурой среднего слоя петербургской интеллигенции. Именно благодаря этому классу людей - хорошо образованному, хорошо обеспеченному своим трудом и вместе с тем довольно многочисленному - столичная культура, создававшаяся художественной, научной, инженерно-технической и просто светской элитой, шла вширь и становилась явлением массовым, общегородским. Широта интересов, яркость наблюдений, непредвзятость суждений и оценок, живая речь, юмор и, несмотря на все пережитое после 1914 года, оптимистическое жизнеощущение - это не только достоинства авторов этой книги, это родовые черты истребленной и вымершей породы последних петербуржцев.
Дмитрий Андреевич Засосов (1894-1977) родился в Петербурге в семье управляющего одним из крупнейших домовладений города. Закончив классическую гимназию, поступил на юридический факультет Петербургского университета. По окончании университета работал в адвокатуре в Кронштадте, затем в Петрограде - Ленинграде до выхода на пенсию в 1958 году.
Владимир Иосифович Пызин (1892-1983) родился в Казани в семье почтового чиновника. Начальные классы гимназии прошел в Петербурге, кончил гимназию в Казани, после чего поступил в Петербургский институт инженеров путей сообщения. Еще студентом с увлечением участвовал в изыскательских партиях на трассах железных и шоссейных дорог. Изыскания стали его специальностью. После революции работал в "Гипролестрансе" и в НИИ "Промтранспроект", одновременно преподавал в ЛИИЖТе. Автор ряда научных публикаций. В 1942 году был мобилизован, тяжело контужен на фронте. Будучи инвалидом Великой Отечественной войны, продолжал работать до 1958 года, когда вышел на пенсию, чтобы, по его словам, "заняться другим" воспоминаниями. Стремление поделиться ими с младшим поколением и объединило авторов этой книги, склонных к гуманитарным занятиям. Привитое в молодые годы не пропало даром. {212}
ПРИМЕЧАНИЯ
Петербург рубежа столетий является главным героем предлагаемых вниманию читателя "Записок очевидцев". Можно сказать, что каждое поколение оставляло свои страницы в биографии города. Одни создавали "историю в лицах", описывая императорский двор, жизнь вельмож, дипломатические приемы и светских красавиц. Других привлекала топография столицы - ее площади, сады, выдающиеся здания и монументы. Представителем иной историко-культурной традиции стал М. И. Пыляев. Для своих книг "Старый Петербург", "Замечательные чудаки и оригиналы", "Забытое прошлое окрестностей Петербурга" он пользовался всеми доступными источниками и включал в ткань повествования как документы, так и исторические анекдоты, светскую хронику, газетные публикации. В 1970 году были опубликованы "Записки старого петербуржца" Л. В. Успенского, породившие новую волну мемуарной литературы о городе.
Д. А. Засосов и В. И. Пызин пошли собственным путем: они максимально точно воспроизводят виденные ими картины городского быта, вписывая в эту канву ритмы собственной жизни настолько естественно, что они почти неразличимы. Благодаря этому глубоко личностное повествование о житье-бытье двух молодых петербуржцев стало очерком истории города в трагический и величественный момент его судьбы.
Воспоминания Д. А. Засосова и В. И. Пызина охватывают почти двадцатилетний период жизни Петербурга. Для современного читателя, особенно того, кто не занимается специально историей, этот период сжат в некий момент прошлого. Ему кажется, что Петербург середины 1890-х и Петербург 1910-х годов - один и тот же город, и это впечатление тем более верно, что война и революция были катастрофой, концом Петербурга. Город переменил имя и стал совершенно другим. Вспоминая 1914 год, Анна Ахматова писала: "В начале мая петербургский сезон начинал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города" [1, с. 20]*.
По сравнению со столь глубоким переломом те изменения, которые происходили в последнее двадцатилетие Петербурга, действительно могут показаться несущественными. Но в памяти петербуржцев эти изменения все-таки запечатлелись ярко. Иначе и быть не могло: ведь именно в эти годы свершилось формирование великого города. Как раз с середины 90-х годов прошлого столетия начался небывало быстрый рост Петербурга. Причинами были удешевление железнодорожного тарифа, облегчившее приток рабочей силы из отдаленных губерний для поисков заработка, оживление торговли и промышленности и открытие ряда высших учебных заведений, привлекавших массу учащейся молодежи. Строительная деятельность, дремавшая до сих пор, необычайно оживилась. Город, разраставшийся преимущественно {213} на левом берегу Невы, на рубеже веков опять стал тяготеть к правому. Улицы Петербургской стороны, которые до той поры были похожи на улочки второстепенного губернского города, теперь застраивались каменными громадами. В августе 1903 года писатель С. Р. Минцлов записывает в своем дневнике: "Строительная горячка, несколько лет охватившая... Петербург, продолжает свирепствовать. Везде леса и леса; два-три года тому назад Пески представляли собой богоспасаемую тихую окраину, еще полную деревянных домиков и таких же заборов. Теперь это столица. Домики почти исчезли, на их местах, как грибы, в одно, много в два лета, повыросли громадные домины; особенно быстро похорошела третья Рождественская.


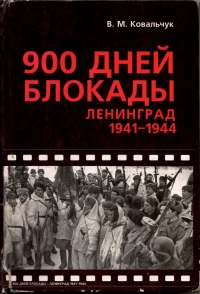
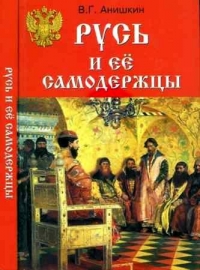
Комментарии к книге «Из жизни Петербурга 1890-1910-х годов», Дмитрий Андреевич Засосов
Всего 0 комментариев