Борис Акунин Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
РЕЦЕНЗЕНТЫ:
В.В. Лапин,
профессор факультета истории ЕУСПб, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН
Е.C. Кормчина,
старший научный сотрудник НИУ ВШЭ
Оформление переплета – А.В. Ферез
Карты – М.А. Романова
Художник – И.А. Сакуров
В оформлении использованы иллюстрации, предоставленные агентством Diomedia и свободными источниками
© B. Akunin, 2020
© eBook Applications LLC, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
* * *
Предисловие
Этот том посвящен событиям первой половины XIX века, эпохе правления сыновей императора Павла – Александра и Николая. Два эти политических режима, очень разные по идеологии и стилю, задали России новый ритм дыхания, продолжающийся и поныне: за периодом реформ наступает полоса контрреформ, после короткого вдоха либерализации следует длинный выдох консервации, и снова, и снова.
Еще одна важная новация состояла в том, что Россия впервые достигла статуса сверхдержавы и стала претендовать на мировое (тогда это означало всеевропейское) лидерство. Название книги – «Первая сверхдержава» – напоминает читателю о том, что в двадцатом веке, после 1945 года, будет и второй опыт сверхдержавности, с точно таким же результатом. Ценой огромных жертв страна достигнет лидирующей позиции, продержится на ней те же сорок лет, а потом утратит ее.
Для того чтобы лучше понимать причины стремительного взлета и последующего ослабления Российской империи, полезно вкратце вспомнить, через какие этапы развития прошло наше государство.
По мнению автора, к описываемому историческому моменту оно существовало уже в четвертой по счету модификации.
Первой можно очень условно считать домонгольскую Русь. «Очень условно» – потому что раннее объединение русославян прямого отношения к будущей России не имеет. Это пред-Россия, как, впрочем, и пред-Украина, пред-Белоруссия и даже пред-Литва, если иметь в виду последующее Великое княжество Литовское.
Рождение государства, которое сегодня называется Российской Федерацией, относится ко второй половине XV века. Эту «Россию-2» основал замечательно деятельный и дальновидный правитель Иван III (1462–1505), взяв за образец «ордынскую» модель Чингисхана, которая зиждилась на четырех главных опорах: тотальная централизация власти; сакральность государственной идеи; вытекающая отсюда сакральность фигуры государя; ситуативное управление страной (то есть управление не по единым для всех законам, а по воле государя, в зависимости от ситуации). Для своего времени, когда большинство европейских стран были разобщены и раздроблены, это была весьма эффективная конструкция, и Московское государство быстро расширялось. Однако уже в следующем столетии обнаружились и дефекты подобного устройства, чересчур завязанного на личные качества правителя. Чингисханы и Иваны Третьи среди них попадаются нечасто. При малоспособном государе «вертикаль» работает плохо, а утрата ею сакральности (например, пресечение династии) становится губительным.
В результате Смуты, тотального кризиса русской государственности, возникла модифицированная «Россия-3», в которой новая, еще слабая династия Романовых была вынуждена поделиться властными полномочиями с церковью, боярской аристократией и даже частично «средним» сословием, которое периодически созывалось на Земские соборы. Этот способ государственного существования не обладал прочностью «ордынской» административной пирамиды, но в то же время не использовал и возможностей естественной человеческой предприимчивости, на которую в семнадцатом веке делали ставку раннебуржуазные европейские страны.
В результате вскоре понадобилось новое переформатирование. Его в конце семнадцатого – начале восемнадцатого столетий осуществил феноменально деятельный правитель Петр Первый, создав «Россию-4», военно-бюрократическую империю. Первый российский император, который почему-то имеет репутацию европеизатора, на самом деле сделал нечто совершенно противоположное: вернул страну обратно к классической «ордынской» модели, реставрировав ее и существенно укрепив. Сильные мобилизационные механизмы строго-вертикального управления в сочетании с заимствованными у Запада технологиями дали свой эффект: тратя до трех четвертей бюджета на армию и флот, в XVIII столетии Россия вошла в число великих военных держав.
Но после Петра Великого вновь сказался главный недостаток деспотического принципа управления. Фактически единственным двигателем развития здесь является высшая власть, и если самодержец слаб, развитие замедляется или вовсе останавливается. К тому же в восемнадцатом веке, с усложнением экономической, политической, социальной ситуации все явственней начал сказываться архаизм «ручного управления», гиперцентрализованности. Поэтому следующая великая правительница, Екатерина II, произвела некоторую корректировку системы и достроила евразийскую империю, заложенную Петром, на свой лад. К концу столетия Россия преобразовалась в самодержавно-дворянское государство, где высшее сословие получило ряд неотъемлемых прав, то есть, выражаясь языком современным, из «наемной рабочей силы» превратилось в «акционеров-миноритариев», соучаствующих в управлении «корпорацией». Самодержавие обрело мотивированных сотрудников, работающих не за страх, а за совесть. Только теперь военно-бюрократическую империю можно было считать окончательно сформировавшейся.
На первых порах проявились позитивные последствия этой внутренней реорганизации. В начале девятнадцатого века окрепшая Россия в одиночку выдержит натиск всей Европы и добьется политического первенства на континенте. Мы посмотрим, как евразийская империя достигает пика своего могущества, и увидим, что внешнее величие вовсе не обязательно сопровождается внутренним расцветом. Разберемся мы и в причинах, по которым сверхдержава Романовых не удержала этот свой возвышенный статус.
В новом столетии обнаружатся и опасные последствия екатерининской «перестройки». Во-первых, усиление политической роли дворянства надолго задержит отмену крепостного права – высшая власть будет мечтать об освобождении крестьян, но не решится это сделать из-за страха перед помещиками. Второй «побочный эффект» окажется для самодержавия еще тревожнее. Когда Екатерина II предоставила части подданных «вольность», то есть возможность не служить, да еще даровала этим людям некий набор личных прав, поколебались два коренных принципа «ордынской» системы. Впервые со времен Ивана III в стране возникла численно небольшая, но влиятельная прослойка, которая могла не считать себя слугами государства и к тому же от рождения обладала некими неотъемлемыми правами. Это сулило абсолютизму большие проблемы. Первые раскаты грома прозвучат в момент декабристского заговора, а затем противостояние между престолом и привилегированным классом будет становиться все глубже и шире. В русской политической жизни появляется новый фактор – Общество, и оно будет идеологически враждебно основополагающим принципам «ордынской» государственности.
Начиная с описываемой эпохи, в России формируются два противоборствующих лагеря. Их можно условно назвать «либералами» и «государственниками» – в том смысле, что одни делали ставку на частную инициативу, а другие на сильное государство. В исторической перспективе правы были вторые, лучше понимавшие архитектуру отечественной государственности и предчувствовавшие, что всякое расшатывание несущих опор может повлечь за собой разрушение всего здания. Но эта система взглядов всё больше устаревала. В условиях промышленной революции, мотором которой являлось свободное предпринимательство, ограничение свобод становилось тормозом для развития. Империя начинает проигрывать в экономической конкуренции другим державам, что в середине столетия приведет и к военному поражению.
Всё время находясь между этими Сциллой и Харибдой, Россия попадает в роковой цикл. Стагнация и экономическое отставание требуют либеральных реформ; реформы расшатывают государство и его «ордынскую» конструкцию; власть восстанавливает стабильность посредством жестких контрреформ; это приводит к коллапсу и осознанию, что «так больше жить нельзя». И все повторяется сызнова.
При этом реформы всегда запаздывают, что делает их поспешными и плохо продуманными, а контрреформы вследствие испуга постоянно имеют несколько истерический вид. Всякий раз, рванувшись, страна словно забегает дальше, чем намеревалась, а потом, запаниковав, пятится обратно. За новацией следует не консервация, а реакция.
Книга поделена на две части не только из-за двух царствований, но еще и потому, что александровское и николаевское время позволяют изучить оба типа управления – либеральное и государственническое.
Здесь интересно, что и у Александра I, кумира отечественных либералов, и у Николая I, кумира отечественных государственников, несколько подмоченная репутация. С точки зрения вольнолюбивых авторов, Александр хорошо начал, но плохо закончил – не довел реформы до конца, упустил исторический шанс сделать Россию «нормальной страной». С точки зрения державников, Николай был всем хорош, но в финале всё испортил, проиграв Крымскую войну. Поэтому заслуги Александра, «взявшего Париж», признаются в том числе и авторами-государственниками; за этим царем традиционно закрепилось официозное прозвание «Благословенный». Николай же для последующих поколений либеральной общественности – фигура одиозная. Все быстро забыли, что он «Незабвенный» (был торжественно наречен так после смерти), и потом гораздо чаще называли его обидным именем «Николай Палкин».
«Тридцать лет это страшилище в огромных ботфортах, с оловянными пулями вместо глаз, безумствовало на троне, сдерживая рвущуюся из-под кандалов жизнь, тормозя всякое движение, безжалостно расправляясь с любым проблеском свободной жизни, подавляя инициативу, срубая каждую голову, осмеливающуюся подняться выше уровня, начертанного рукой венценосного деспота», – напишет после похорон царя политэмигрант Иван Савицкий, и эта цитата со временем станет хрестоматийной.
Однако мы увидим, что Николай вовсе не «безумствовал», а искренне хотел «как лучше». Следует сказать, что вообще все российские самодержцы девятнадцатого века были усердными тружениками. Никто из них не сибаритствовал, не предавался роскошествам; никто не был жесток; все мечтали о справедливости и жаждали облагодетельствовать народ. Нет, Романовых никак нельзя назвать скверными царями. Они, что называется, очень старались. Но никто из них не мог выбраться за пределы роковой антиномии между необходимостью модернизации и сохранением стабильности. Все они, будто мотыльки, бьющиеся о стекло, пытались вырваться из этой системы координат, но «ордынская» структура государства подобного не допускала.
Александровско-николаевская эпоха заслуживает вдумчивого изучения еще и потому, что уроки из нее не извлечены. Неизбывная российская «манипуляция с гайками», которые то закручиваются, то откручиваются, все длится и длится. За оттепелью следуют заморозки, за пряником – кнут, милостивая власть сменяется «твердой рукой» – и оба способа управления работают неважно.
Поэтому у двух частей тома печальные названия: «Разбитые мечты» и «Утраченное величие». Но потомкам есть чем утешиться. По крайней мере, было что разбивать и было что утрачивать.
Часть первая Александр Благословенный: Разбитые мечты
Александр Павлович Романов в жизни
Этот монарх казался современникам загадкой. Отношение к нему, в особенности на родине, несколько раз резко менялось. Обожание превращалось в пренебрежение, восхищение – в презрение и даже ненависть, а в последующие времена те же самые люди вспоминали Александра с ностальгией по утраченному «золотому веку». Человеку моего поколения это напоминает метаморфозы в восприятии российской интеллигенцией Михаила Горбачева: от аплодисментов периода Перестройки к разочарованию начала девяностых и умилению двухтысячных.
У Александра Павловича много эффектных прозвищ. В Европе его называли Северным Сфинксом. Наполеон жаловался, что это Северный Тальма (то есть лицедей). Самому императору нравилось, когда его именовали Блестящим Метеором Севера, – но не Коронованным Гамлетом, поскольку здесь содержался неприятный намек на насильственную смерть отца. В домашнем, ближнем кругу говорили «наш Ангел».
Очень по-разному оценивают эту личность и историки. По их сочинениям составить о ней определенное представление довольно трудно. Александр получается то ли прекраснодушным – то ли двоедушным, то ли милостивым – то ли мстительным, то ли наивным – то ли коварным, то ли циником – то ли мистиком, то ли героем – то ли гаером.
Но все согласны в одном: личные особенности императора колоссально повлияли на историю России и существенно сказались на истории Европы. Поэтому имеет смысл подробно разобраться в характере, взглядах и эволюции этого человека.
Ранние годы
Первенец цесаревича Павла родился 12 декабря 1777 г. от второго брака великого князя Павла – с вюртембергской принцессой Марией Федоровной. Имя мальчику выбрали не родители, а бабушка-императрица, и оно для русской монархической традиции было необычным. Говорилось, что ребенок наречен в честь святого Александра Невского, но не скрывалось, что в виду имеется и другой Александр – Македонский, великий покоритель Азии. У Екатерины Великой после второй турецкой войны и Ясского договора возникли грандиозные планы. Следующему внуку она даст имя Константин – в предвкушении того, что это будущий властитель Константинополя. «Он через тридцать лет из Севастополя поедет в Царьград», – писала царица про второго внука. Но первому, конечно, уготовлялась судьба еще более блистательная.
Питомица Века Просвещения, Екатерина справедливо считала главной наукой педагогику и лично контролировала воспитание будущего самодержца.
В. Ключевский пишет: «Я не разделяю довольно распространенного мнения, будто Александр благодаря хлопотам бабушки получил хорошее воспитание, он был воспитан хлопотливо, но не хорошо, и не хорошо именно потому, что слишком хлопотливо». Однако великий историк несправедлив. Ребенка, росшего в столь аномальном положении, когда он с ранних лет находился в центре всеобщего внимания, трудно было бы воспитать более осмысленным образом.
Часто пишут, что на Александре плохо сказалось то, что он с младенчества был оторван от отца и матери – Екатерина не доверила им попечительство над сыном. Однако не стоит забывать, что Павел Петрович был человеком мягко говоря странным, его неумная супруга тоже славилась вздорностью, а при маленьком дворе великокняжеской четы царила нездоровая атмосфера мелочности, подозрительности и солдатчины. Бабушкино воспитание было явно предпочтительней.
О том, как оно выглядело, мы знаем в точности благодаря подробнейшей инструкции, лично составленной Екатериной для нянек малютки Александра и озаглавленной «Бабушкина азбука великому князю Александру Павловичу». Большинство этих рекомендаций выглядят вполне здраво и сегодня, а в России конца восемнадцатого века они казались просто откровением. Будучи издана в виде книги, «Азбука» продавалась огромными тиражами и произвела своего рода революцию в воспитании дворянских детей.
Стиль наставлений был таков:
«Об одежде
Да будет одежда их высочеств летом и зимою не слишком теплая, не тяжелая, не перевязанная, не гнетущая наипаче грудь. Чтобы платье их было как возможно простее и легче.
О пище
…Пища и питие да будут простые, и просто заготовленные, без пряных зелий, или таких корений кои кровь горячат, и без многой соли… Чтобы не кушали, когда сыты, и не пили, не имея жажды; и чтоб когда сыты, их не потчивали пищею или питием; чтоб не пили холодного, вспотевши, или когда разгорячены, и вспотевши не пили инако, как скушав наперед кусок хлеба.
О воздухе
Чтоб в покоях их высочеств зимою по крайней мере дважды в день переменен был воздух открытием окон воздушных. Чтоб как возможно их высочества летом и зимою чаще были на вольном воздухе, когда сие не может вредить их здоровью… Чтоб летом играли на свежем воздухе, на солнце, на ветру. На огар [загар] лица и рук от солнца не смотреть.
О постеле и сне
Чтоб их высочества спали… отнюдь не на перинах, и чтоб одеяла их были легкие, летом простые ситцевые, подшитые простынею, зимою стеганые. Спать им, чтоб ночью голова не была покрыта или закутана, колико хотят: понеже сон детям здоров, но как вставать рано здорово же, и для того поваживать их высочеств ложиться рано.
О детских забавах и веселости нрава
Веселость нрава их высочеств ни унимать, ни уменьшать не должно; напротиву того поощрять их нужно ко всякому движению и игре, летам и полу их сходственным; ибо движение дает телу и уму силы и здоровье. Не оставлять их высочеств никогда в праздности. Буде не играют и не учатся, тогда начать с ними какой ни есть разговор, сходственный их летам и понятию, чрез который получили бы умножение знания.
Что запрещать и до чего не допускать
Запрещать и не допускать до того, чтоб их высочества учинили вред себе или жизнь имеющему, следовательно бить или бранить при них не надлежит и их не допускать, чтоб били, щипали и бранили человека, или тварь, или какой вред, или боль причиняли.
В чем главные достоинства наставления состоят
Главное достоинство наставления детей состоять должно в любви к ближнему (не делай другому чего не хочешь, чтоб тебе сделано было), в общем благоволении к роду человеческому, в доброжелательстве ко всем людям. Чтоб ни в каком случае питомцы с умыслу не обижали никого, не показывали никому презрения и неучтивости; чтоб искали приобретать благоволение людей к себе ласковым и ловким обхождением».
Главный принцип обучения в точности совпадал с предписаниями современной педагогики: «Не столько учить детей, колико им нужно дать охоту, желание и любовь к знанию, дабы сами искали умножить свое знание».
Одним словом, бабушка Екатерина плохому не учила.
На седьмом году Александра передали в ведение мужчин. Императрица составила целый штат воспитателей и учителей, проявив недюжинное знание психологии. Возглавил коллектив генерал-аншеф Николай Салтыков, большой вельможа, главным достоинством которого, кажется, являлась ловкость. Он добился невозможного – сумел понравиться обоим враждующим дворам, государыни и наследника. Екатерина оценила такое дарование, совершенно необходимое монарху. У Салтыкова подросток, видимо, и научился психологическим приемам, которые в будущем создадут ему репутацию искусного притворщика. В юности же умение приспосабливаться позволяло великому князю лавировать между бабкой и отцом.
Екатерина воспитывает внуков. Ф.-Ж. Сидо
Помощником при главном воспитателе состоял генерал Протасов, человек совсем иного склада – добрый, сентиментальный и простодушный до такой степени, что Адам Чарторыйский (разговор о котором впереди) даже называет его «полнейшим тупицей». Задачей Протасова, очевидно, было пробуждать в Александре и Константине «сердце», то есть чувствительность.
«Предметники», развивавшие ум мальчика, все были превосходны. Географию и природоведение преподавал знаменитый путешественник и естествоиспытатель академик Паллас, физику – академик Крафт, математику – француз Массон, в последующем автор «Секретных записок о России». Единственный русский, Михаил Муравьев, отец знаменитых декабристов, а в ту пору молодой еще человек, вел отечественную историю и словесность. Прекрасно образованный и литературно одаренный, он научил своего воспитанника хорошо изъясняться и писать на родном языке, что в те галломанские времена для высшего общества было скорее исключением.
Но самое большое влияние на юного Александра имел молодой швейцарец Фредерик-Сезар Лагарп, порекомендованный царице ее знаменитым корреспондентом бароном Гриммом. Сначала Лагарп учил ребенка только французскому, но в 1784 году подал государыне записку о том, как следует взращивать монарха соответственно высоким идеалам Просвещения. Этот меморандум так понравился Екатерине, что она сделала швейцарца кем-то вроде «преподавателя обществоведения». Он состоял при мальчике, подростке, юноше целых одиннадцать лет и сформировал всё его мировоззрение. Поскольку Лагарп был не только убежденным сторонником Просвещения, но и пылким республиканцем, проникся этими экзотическими для будущего самодержца идеями и Александр. Его ментор, кажется, не отличался глубоким умом (впоследствии молодой царь в этом убедится). Ключевский называет Лагарпа «ходячей и очень говорливой либеральной книжкой», но на подростков такие учителя – увлеченные, эмоциональные, яркие – больше всего обычно и воздействуют. Потом Александр будет говорить, что всем хорошим в себе обязан Лагарпу. Столь же многим обязана прекраснодушному швейцарцу и Россия: все светлые начинания александровского царствования, изменившие облик страны, были следствием лагарповского воспитания.
Из подробных письменных отчетов учителя мы знаем, что мальчиком Александр был любознателен, но неусидчив – не мог сосредоточить внимание на чем-либо долее трех минут; что его «добрые задатки» парализовались «сильной наклонностью к беспечности»; что боязнь умственного труда мешала ему самостоятельно доходить до выводов. Причиной тому был слишком живой темперамент: «ни одной минуты покойной, всегда в движении; не замечая, куда идет и где ставит ногу, он непременно выпрыгнул бы из окошка, если бы за ним не следили». Чарторыйский пишет, что в юности великий князь не прочел до конца ни одной серьезной книги. Зато он очень интересовался вещами практическими: требовал у слуг, чтобы они учили его рубить дрова, ухаживать за лошадьми, красить стены, кухарить и так далее.
Выйдя из периода детской гиперактивности, Александр несомненно стал бы проявлять больше интереса к серьезным занятиям, но на восемнадцатом году жизни его образование закончилось. К этому времени Екатерина окончательно решила, что передаст престол не сумасбродному сыну, а любимому внуку. Для этого Александра поспешно женили и оторвали от учения, Лагарпа же отставили и вскоре выслали на родину.
Наследник престола
Во взрослую жизнь – мужа и будущего государя – юноша вошел, исполненный благородных и возвышенных, но довольно смутных идей. Биограф Корнилов пишет: «С отъездом Лагарпа можно считать законченным образование великого князя Александра; таким образом, Александр лишился главного своего руководителя и в то же время вступил в положение, которое явно не соответствовало его возрасту». По выражению огорченного Протасова, «забавы отвлекли его высочество от всякого прочного умствования».
Планы бабушки приводили юного республиканца в ужас. Он не стремился к власти, не желал надевать корону. «Мы с женой спасемся в Америку, будем там свободны и счастливы, и про нас больше не услышат», – восклицал великий князь в интимном кругу. За полгода до смерти Екатерины юноша пишет другу: «Мой план состоит в том, чтобы по отречении от этого трудного поприща (я не могу еще положительно назначить срок сего отречения) поселиться с женою на берегах Рейна, где буду жить спокойно частным человеком, полагая мое счастье в обществе друзей и в изучении природы».
Однако салтыковское воспитание побуждало его утаивать свои истинные чувства от императрицы. «Я надеюсь, что Ваше Величество, судя по усердию моему заслужить неоцененное благоволение Ваше, убедитесь, что я вполне чувствую все значение оказанной милости», – писал Александр царице по поводу престолонаследия и одновременно с этим уверял Павла в сыновней преданности. Оба – и Екатерина, и Павел – были убеждены, что молодой человек полностью на их стороне.
Александр Павлович в юности. Иоганн Баптист Лампи Старший
К этому времени Александр и в самом деле сильно сблизился с отцом. Вероятно, отчасти это объяснялось обычным подростковым духом противоречия. Великий князь устал от бабкиной опеки и начал стремиться к чему-то иному, казавшемуся новым. Но кроме того юноше очень нравились военные игры, которым усердно предавался в своей Гатчине скучающий Павел Петрович. И Александр, и Константин увлеклись мундирами, парадами, фрунтом. В Петербурге был знакомый, надоевший «женский мир», а в Гатчине – интересный, «мужской». Свидетель событий Чарторыйский рассказывает: «Строгое однообразие, установленное при дворе их бабки, где они не имели никаких серьезных занятий, слишком часто казалось им скучным. Их капральские обязанности, физическое утомление, необходимость таиться от бабушки и избегать ее, когда они возвращались с учения, измученные, в своем смешном наряде, от которого надо было поскорее освободиться [у «гатчинцев» были собственные мундиры прусского образца], всё это, кончая причудами отца, которого они страшно боялись, делало для них привлекательной эту карьеру, не имевшую отношения к той, которую намечали для них и петербургское общество, и виды Екатерины».
Великая императрица умерла скоропостижно, не успев официально объявить внука наследником. Поскольку Александр не предпринял попыток занять освободившийся престол, а Павел, наоборот, повел себя решительно, широкое общество даже и не узнало, что воля Екатерины нарушается. Судя по распространенной и весьма правдоподобной версии событий, ближайший соратник покойной граф Безбородко кулуарно передал Павлу Петровичу неопубликованный манифест о смене наследника, бумага отправилась в огонь, и царем стал Павел Первый.
Если положение при дворе Екатерины казалось юноше скучным, то при Павле оно стало нервным и тягостным. С одной стороны, теперь он официально считался наследником престола, и великокняжеская чета стала получать огромное содержание – 650 тысяч рублей в год. Кроме того Александр, ранее всего лишь командир одного из гатчинских потешных батальонов, теперь был назначен столичным генерал-губернатором и командиром гвардейского корпуса. Но находиться все время близ непредсказуемого, взрывного, вздорного Павла было настоящей мукой. Долгие годы подвергавшийся унижениям, параноидально мнительный к малейшим признакам чьей-либо независимости, новый царь превратил жизнь сыновей в ад. «Оба великих князя смертельно боялись своего отца, и когда он смотрел сколько-нибудь сердито, они бледнели и дрожали как осиновый лист», – рассказывает в своих записках конногвардеец Саблуков. В доверительном письме дорогому Лагарпу цесаревич жаловался: «Я сам, обязанный подчиняться всем мелочам военной службы, теряю все свое время на выполнение обязанностей унтер-офицера, решительно не имея никакой возможности отдаться своим научным занятиям, составлявшим мое любимое времяпрепровождение… Я сделался теперь самым несчастным человеком…».
У августейшего самодура никто не мог долго удержаться в милости, всех любимцев рано или поздно постигала опала. Угроза царского гнева в конце концов нависла и над членами семьи. В канун переворота поползли слухи, что император собирается сослать жену в монастырь, а наследника заточить в Петропавловскую крепость. Рассказывают, что однажды, рассердившись, Павел прислал сыну книгу о смерти царевича Алексея, отметив там место, где говорилось, что узник подвергался пыткам.
Но перемена, произошедшая в Александре, объяснялась не только страхом и накопившимися обидами. Оказавшись в гуще государственных дел, он увидел, как скверно управляется страна, сколько в ней творится зла, несправедливостей. Великий князь писал Лагарпу: «Чтобы сказать одним словом, благосостояние государства не играет никакой роли в управлении делами. Существует только неограниченная власть, которая всё творит шиворот-навыворот. Невозможно передать все те безрассудства, которые совершались здесь. Прибавьте к этому строгость, лишенную малейшей справедливости, немалую долю пристрастия и полнейшую неопытность в делах. Выбор исполнителей основан на фаворитизме; заслуги здесь ни при чем, одним словом, мое несчастное отечество находится в положении, не поддающемся описанию. Хлебопашец обижен, торговля стеснена, свобода и личное благосостояние уничтожены. Вот картина современной России, и судите по ней, насколько должно страдать мое сердце».
Вместо уехавшего учителя близ Александра собирается кружок молодых друзей: Адам Чарторыйский, Павел Строганов, Николай Новосильцев, Виктор Кочубей. Мы познакомимся с ними ближе в следующей главе, пока же довольно сказать, что всё это были люди передовые, умные и непустяшные – дети нового, серьезного времени. И разговоры в этой компании велись нешуточные: о судьбах страны и Европы, о справедливом мироустройстве, о народном благе.
Мечтания об отъезде в Америку или на Рейн у Александра заканчиваются. Он уже хочет получить власть в свои руки и «сделать всё правильно».
Опасения за собственную участь и опасения за Россию – вот факторы, побудившие наследника стремиться к короне.
Попробуем разобраться, каких взглядов придерживался двадцатитрехлетний Александр к моменту восшествия на престол.
Вспоминая их первую встречу, Чарторыйский пишет: «Он признался мне, что ненавидит деспотизм везде, в какой бы форме он ни проявлялся, что любит свободу, которая, по его мнению, равно должна принадлежать всем людям; что он чрезвычайно интересовался Французской революцией; что не одобряя этих ужасных заблуждений, он всё же желает успеха республике и радуется ему». И далее: «По своим воззрениям он являлся выучеником 1789 года; он всюду хотел бы видеть республики и считал эту форму правления единственной, отвечающей желаниям и правам человечества». Но раз уж республика невозможна, Александр в качестве государя мечтал «утвердить благо России на основании непоколебимых законов» и создать некую «свободную конституцию». Слишком суровый к молодому прожектеру Ключевский несомненно прав, когда говорит, что тот «вступил на престол с запасом возвышенных и доброжелательных стремлений, которые должны были водворять свободу и благоденствие в управляемом народе, но не давал отчета, как это сделать».
Будущий император поразительно напоминает молодую Екатерину, которой в начале царствования тоже не терпелось поскорее осчастливить Россию и казалось, что задача эта вполне осуществима, но только Александр был еще идеалистичнее, юнее и не прошел через опыт государственного переворота с цареубийством.
Впрочем, избежать этого страшного опыта ему не удалось.
Отнюдь не сфинкс
Для понимания эволюции Александра I нужно помнить, что в разные периоды это не был один и тот же человек. Тяжелые потрясения могут сильно изменить личность, а в жизни Александра Павловича таких роковых встрясок было три: гибель отца, ужасное поражение при Аустерлице и всеевропейское нашествие 1812 года.
Но самой болезненной, пожизненной травмой все же было отвратительное убийство Павла.
Екатерина в борьбе за трон переступила через труп мужа, но, обладая более счастливым складом характера, по-видимому, не слишком терзалась угрызениями. Ее чувствительный, рефлексирующий внук был устроен иначе.
Роль Александра в этой истории весьма некрасива. Он и участвовал, и не участвовал в заговоре. Его уговаривали сначала граф Панин, потом Пален – цесаревич отвечал уклончиво. Однако уже то, что, зная о затеваемом деле, сын не предупредил отца об опасности, являлось государственной изменой, за которую при разоблачении Александр дорого бы заплатил.
На этом и сыграл хитрый Пален, которому во что бы то ни стало требовалось хотя бы молчаливое согласие будущего императора. В конце концов наследник всё-таки внес свой вклад в переворот. Первоначально намечалось нанести удар в ночь на 10 марта 1801 года, но, узнав об этом, Александр посоветовал перенести дело на сутки, когда в карауле будут стоять преданные ему семеновцы. Пален советом воспользовался, и царь был захвачен без сопротивления, а сразу вслед за тем убит.
Убийство Павла I. Гравюра начала XIX века
Что бы потом ни писали главари заговора, но Палену как человеку умному, конечно, было ясно: свергнутого царя в живых оставлять нельзя. Однако Александру сказали, что Павла лишь заставят отречься от престола, и наследник по своему прекраснодушию в это поверил. У нас нет оснований сомневаться в искренности этого заблуждения. Все свидетели сообщают, что известие о смерти отца привело великого князя в ступор. Он упал в обморок, потом заплакал, потом кинулся в возок и уехал прочь. Генерал Беннигсен, непосредственный предводитель цареубийц, сухо прокомментировал это поведение следующим образом: «Император Александр предавался в своих покоях отчаянию, довольно натуральному, но неуместному». Конфидент Александра князь Чарторыйский рассказывает о переживаниях своего царственного друга подробнее: «У него бывали минуты такого страшного уныния, что боялись за его рассудок. Пользуясь в то время его доверием больше, чем кто-либо из его близких, я имел разрешение входить к нему в кабинет в то время, когда он затворялся там один… грызущий его червь не оставлял его в покое».
После 11 марта Александр уже не наивный мечтатель, а человек с червоточиной, хорошо усвоивший урок: для достижения высокой цели иногда приходится совершать ужасные вещи. Однако высокая цель для него пока остается прежней.
Вторая психологическая травма, случившаяся в 1805 году на поле Аустерлица, стала для молодого царя настоящей личной катастрофой. Мало того, что он подвергся опасности и натерпелся страха – был нанесен чудовищный удар по его самолюбию. Александр считал себя выше и лучше предшественников, но никто из них на протяжении целого столетия не подвергался такому унизительному разгрому, не бежал с позором от неприятеля. Над русским царем потешались в Европе, на родине роптали. Мемуарист Лев Энгельгардт пишет: «Аустерлицкая баталия сделала великое влияние над характером Александра, и ее можно назвать эпохою в его правлении. До этого он был кроток, доверчив, ласков, а тогда сделался подозрителен, строг до безмерности, неприступен и не терпел уже, чтобы кто говорил ему правду». По выражению историка С. Соловьева, Александр возвратился после Аустерлица более побежденный, чем его армия.
Произошел кардинальный поворот и во взглядах императора. Ему пришлось произвести изрядную переоценку ценностей. Оказалось, что иметь сильную армию и сильное государство важнее, чем поощрять свободы и просвещенность! Более того – без военной мощи не будет и России. Именно с этого времени Александр разочаровывается в «идеалистах» и начинает опираться на «практиков». Он и сам становится прагматичным.
Но предстояло пережить еще одно потрясение, самое монументальное в российской истории за последние двести лет – «нашествие двунадесяти языков». Это испытание и страна, и ее правитель выдержали с честью, однако свершившееся великое чудо – когда от сожженной Москвы русские войска победоносно переместились в Париж – произвело в душе Александра новую перемену. Он превращается в истово верующего человека, глубокого мистика и таковым остается до конца своих дней. На этой метаморфозе мы еще остановимся, но вот три реперные точки, по которым следует измерять и оценивать поступки и решения Александра I в разные периоды его правления. Ничего загадочного, сфинксовского в этой эволюции нет.
Сильные и слабые стороны характера
Природные качества, воспитание и потрясения сформировали ту личность, которую мы знаем по деяниям и рассказам современников. В целом портрет складывается довольно привлекательный.
Начну с черт безусловно или преимущественно положительных.
Очень располагает всегдашнее стремление Александра Павловича к благу и добру. Представления царя о том, что хорошо и полезно для страны, неоднократно менялись под воздействием упомянутых выше потрясений, но это всегда было искреннее побуждение. Главной драмой жизни Александра, по-видимому, стало разочарование: высокие идеалы юности не выдержали столкновения с реальностью, и найти утешение можно было только в Вере.
Кроме того, император был добр и просто по-человечески: жалостлив, чувствителен, в хорошие минуты великодушен, легок на сострадательные слезы (впрочем, в те сентиментальные времена все охотно плакали). Самое важное здесь, однако, вот в чем. Подобно великой бабушке и в противоположность невеликому отцу Александр старался никого не унизить и не оскорбить. В обществе, где по причине извечного всеобщего бесправия было очень ослаблено представление о личном достоинстве, уважительность, даже просто вежливость царя в отношениях с подданными имела огромное, без преувеличения историческое значение. Она подавала пример, задавала стиль. «Сколько добродетели необходимо, чтобы ни разу не употребить во зло абсолютную власть в стране, где сами подданные изумляются умеренности столь редкостной!» – пишет об Александре госпожа де Сталь.
«Так как император поставил себе законом уважать чужие мнения, разрешать всем открыто высказываться и никого не преследовать, то не требовалось большой храбрости, чтобы порицать его и говорить ему правду, – рассказывает Чарторыйский. – Потому на это решались все, а в особенности салоны обеих столиц. Там происходила беспрерывная критика всех действий правительства. Эта критика, подобно волнам бушующего моря, то шумно вздымалась, то опадала на время с тем, чтобы снова подняться при малейшем дуновении ветра». Князь пишет о «салонах», то есть высшем свете, однако со временем привычка не только иметь, но и отстаивать собственное мнение распространится шире. Мы еще поговорим об этом в главе, посвященной русскому обществу.
Мягкость манер не мешала Александру быть поразительно твердым в час тяжелых испытаний. Мы увидим, как в 1812 году он чуть ли не в одиночку, вопреки советам и настояниям ближнего круга, будет сохранять несгибаемую волю к сопротивлению и продолжит верить в победу; как в 1813 году, когда все, включая самого Кутузова, будут уговаривать его не испытывать судьбу, не гоняться по Европе за все еще грозным Бонапартом, Александр настоит на своем – и не остановится, пока не добьется полной победы. Правы историки, писавшие, что в момент великих событий царь проявил величие.
При самодержавной системе личные привычки и пристрастия правителя обретают гипертрофированное значение, поскольку все начинают под них подстраиваться, подражать им. Если использовать терминологию другой эпохи, Александр Павлович был «очень скромен в быту». Как мы помним, в детстве ему нравилось бывать на «людской половине» и работать руками. Эту склонность он сохранил и впоследствии.
Историк придворного быта С. Шубинский описывает обычное утро государя:
«Император Александр, живя весною и летом в Царском Селе, которое очень любил, вел там следующий образ жизни: проснувшись в 7-м часу утра, он пил чай, всегда зеленый с густыми сливками и с поджаренными гренками, из белого хлеба. Затем, одевшись, выходил в сад в свою любимую аллею, из которой постоянно направлялся к плотине большего озера, где обыкновенно ожидали его: главный садовник Лямин и все птичье общество, обитавшее на птичьем дворе, близ этой плотины. К приходу государя птичники обыкновенно приготовляли в корзинах корм для птиц. Почуяв издали приближение государя, все птицы приветствовали его на разных своих голосах. Подойдя к корзинам, император надевал особенно приготовленную для него перчатку и начинал сам раздавать корм. После того делал различные распоряжения относящиеся до сада и парка и отправлялся в дальнейшую прогулку. В 10 часов он возвращался во дворец и иногда кушал фрукты, особенно землянику, которую предпочитал всем прочим ягодам. К этому времени Лямин обыкновенно приносил большие корзины с различными фруктами из обширных царскосельских оранжерей. Фрукты эти, по указанию государя, рассылались разным придворным особам и семействам генерал-адъютантов, которые занимали домики китайской деревни».
Все умилялись экономности властителя великой империи. Он не носил драгоценностей, выделял себе сумму на личные расходы и никогда не выходил за ее пределы, спал в маленькой, очень просто обставленной комнате. Трудно сказать, сколько в этих обыкновениях было истинной скромности, а сколько рисовки, да это и не столь важно. Важно, что подчеркнутая неприязнь царя к пышности и роскоши передавалась всему дворянскому обществу, которое хоть полностью и не освободилось от расточительности предыдущего столетия, но стала считать ее дурным тоном.
Его величество помогает страждущему. К. фон Хампельн
Любовь к строгой простоте сочеталась у Александра с почти маниакальной страстью к аккуратности, мелочной дотошностью. Это пристрастие, унаследованное от Павла, уже нельзя считать безусловным достоинством, скорее палкой о двух концах. В этом ощущалась даже некоторая ненормальность. Шубинский пишет: «Письменные столы его содержались в необыкновенной опрятности; на них никогда не было видно ни пылинки, ни лишнего лоскутка бумаги. Всему было свое определенное место; сам государь вытирал тщательно каждую вещь и клал туда, где раз навсегда она была положена. На всяком из стоявших в кабинете столов и бюро лежали свернутые платки для сметания пыли с бумаг и десяток вновь очиненных перьев, которые употреблялись только однажды, а потом заменялись другими, хотя бы то было единственно для подписи имени». Император приходил в сильное раздражение, если видел малейшее нарушение симметрии – например, если листок бумаги оказывался не вполне ровным (их тогда нарезали вручную). К сожалению, подобным образом Александр относился не только к письменным столам и писчебумажной продукции. Снисходительный и терпеливый по отношению к «штатскому» обществу, он был истинным сыном своего отца во всем, что касалось военного дела. Должно быть, в его внутреннем мире жизнь делилась на сферы, где хаос допустим – и где он совершенно непростителен. «Мелочные формальности военной службы и привычка приписывать им чрезвычайно большое значение извратили ум великого князя Александра, – пишет Чарторыйский. – У него выработалось пристрастие к мелочам, от которого он не мог избавиться и в последующее время, когда ему уже стала понятна абсурдность этой системы».
Боевой генерал Сергей Тучков, попавший в столицу и оказавшийся свидетелем царской фрунтомании, описывает ее следующим образом: «Ординарцы, посыльные, ефрейторы, одетые для образца разных войск солдаты, с которыми он проводил по нескольку часов, делая заметки мелом рукою на мундирах и исподних платьях, наполняли его кабинет вместе с образцовыми щетками для усов и сапог, дощечками для чищения пуговиц и других подобных мелочей…» Александр целыми часами в это время мог проводить в манеже, наблюдая за маршировкой: «Он качался беспрестанно с ноги на ногу, как маятник у часов, и повторял беспрестанно слова: «раз-раз» – во все время, как солдаты маршировали».
Следует учесть, что происходит это в 1805 году, в разгар подготовки к войне с лучшей армией Европы – войне, которую Россия проиграет. Русские воины нарядно выглядели, идеально маршировали, но их боевая выучка оставляла желать лучшего, и виноват в этом был августейший фельдфебель. Александр вместе с Аракчеевым были убежденными сторонниками прусской военной школы, которая делала ставку не на инициативность солдата, а на тотальную, микроскопическую управляемость. Описанный ниже эксперимент с «военными поселениями», где регламентация жизни нижних чинов доводилась уже до полного гротеска, тоже в известной степени был следствием психологической обсессии императора.
Преувеличенная любовь к порядку, вероятно, имела и свои плюсы, но Александр обладал рядом черт, которые были уже беспримесно отрицательными.
К их числу относятся огромное тщеславие, жажда нравиться, внушать восхищение и обожание. Для правителя это очень серьезный дефект, поскольку им ловко пользуются льстецы и манипуляторы. Император был очень неглуп, но случалось, что и попадался в эту ловушку. То же качество заставляло его долго помнить обиды. При всем мягкосердечии он мог быть мстителен, если задевалось его самолюбие. (По мнению некоторых историков, чуть ли не главной причиной опалы Сперанского стала недостаточная почтительность реформатора к его величеству.)
Шубинский пересказывает эпизод, который, в понимании автора, свидетельствует о великодушии императора, но скорее демонстрирует несимпатичное сочетание мстительности с ханжеством. «Милосердие императора Александра было беспредельно в случаях оскорбления его особы дерзкими словами; в делах такого рода не было иной резолюции, кроме: «простить». Только по делу казенного крестьянина Пермской губернии, Мичкова, уличенного в произнесении богохульных и дерзких против высочайшей особы слов, последовала, на заключение государственного совета, по которому подсудимый был приговорен к наказанию плетьми сорока ударами и ссылке в Сибирь, высочайшая резолюция: – «Быть по сему, единственно в наказание за богохульные слова, прощая его совершенно в словах, произнесенных на мой счет».
Интересно, что сам Александр превосходно понимал этот свой недостаток и страдал от него. Еще тринадцатилетним он пишет: «Полный самолюбия и лишенный соревнования, я чрезвычайно нечувствителен ко всему, что не задевает прямо самолюбия. Эгоист, лишь бы мне ни в чем не было недостатка, мне мало дела до других. Тщеславен, мне бы хотелось выказываться и блестеть на счет ближнего, потому что я не чувствую в себе нужных сил для приобретения истинного достоинства». Поразительно трезвая и безжалостная самооценка для подростка. Но натура оказывалась сильнее рефлексии.
В то же время упрек, чаще всего предъявлявшийся Александру – в лицемерии и двоедушии – пожалуй, выглядит странно. Правителю невозможно быть откровенным и открытым. Ему приходится иметь дело с весьма неоткровенными обстоятельствами и весьма непростыми людьми. Простодушен и прям был царь Павел. Мы знаем, чем это закончилось. А то, что Наполеон обзывал русского царя «Северным Тальма», означает лишь, что в дипломатических маневрах Александр иногда переигрывал даже корсиканского хитреца.
Личная жизнь
Восемнадцатое столетие было эпохой фаворитов и фавориток. Тот или та, кого полюбит монарх, обычно делался сверхвлиятельной политической фигурой. Поэтому в предыдущем томе нам важно было знать, как складывалась интимная жизнь Анны, Елизаветы, Екатерины. При Павле большим «аппаратным весом» обладала даже невластолюбивая Нелидова, платоническая подруга государя.
Любовные привязанности царя Александра, отдадим ему должное, никак не отражались на ходе государственной жизни. Возможно, дело в том, что при всей своей чувствительности царь не отличался особенной чувственностью. При его жизни по этому поводу даже ходили разные нелестные для его мужской природы слухи, но они были безосновательны. Из записок дотошного и добросовестного генерала Протасова, приставленного попечительствовать над мальчиком, мы знаем, что физически он был абсолютно стандартен: «имея от рождения двенадцать лет, при всех естественных знаках мужества начал иметь сонные грезы», а в четырнадцать лет «замечаются в Александре Павловиче сильные физические желания, как в разговорах, так и по сонным грезам, которые умножаются по мере частых бесед с хорошими женщинами». Довольно скоро после этого великого князя женили.
Царица Елизавета Алексеевна (Луиза-Мария-Августа Баденская) никакого влияния на политику не оказывала. Это была милая, добрая и, кажется, неглупая женщина, но из-за слишком раннего брака молодые скоро охладели друг к другу, у каждого были увлечения на стороне, и вновь супруги сблизились уже в самый последний период жизни – на почве религиозности. В эту пору Александр стал относиться к своей немолодой, часто хворающей жене с чрезвычайной нежностью. Роковое путешествие на юг, сведшее Александра в могилу, было затеяно для того, чтобы увезти императрицу подальше от сырой петербургской осени. Елизавета Алексеевна очень тяжело переживала кончину «Ангела» и полгода спустя тоже сошла в могилу. Фабула их длинных, сложных отношений очень интересна и по-своему красива, но к истории Российского государства касательства не имеет, поэтому отвлекаться мы не станем. Для истории существенно лишь то, что потомства этот союз не оставил.
Елизавета Алексеевна. Неизвестный художник
Влиять на политику пыталась младшая сестра царя Екатерина Павловна, круг которой представлял собой род консервативного клуба, но заметного воздействия на ход дел эта дама все же не оказывала.
Связи у Александра, конечно, происходили – он не был монахом, но обычно царь ограничивался галантным ухаживанием. Об этих рыцарственных маневрах Чарторыйский иронически пишет: «Редко, чтобы женской добродетели действительно угрожала опасность». Царь рассказывал ему, «что на ночь он запирает дверь на два замка, из боязни, чтобы его не застали врасплох и не подвергли бы слишком опасному искушению, которого он желал избежать». Вероятно, Александру больше нравилось внушать любовь, нежели пользоваться ее плодами, – то есть речь идет опять-таки о тщеславии.
Единственный долгий и, кажется, серьезный роман связывал царя с Марией Нарышкиной, но эта женщина не отличалась честолюбием, ни во что не вмешивалась и, кажется, не слишком ценила отношения с императором – во всяком случае, в конце концов променяла его на другого возлюбленного.
Одним словом, Александр Павлович не был счастлив в любви, и это стало счастьем для страны. Более того, дурная традиция, по которой в «коридоры власти» можно было попасть через будуар, с этого времени в России заканчивается. Преемникам Александра будет казаться уже неприличным смешивать интимное с государственным.
Из женщин, близких к царю, лишь одна оставила некоторый след в отечественной истории. Роман был пылким – но исключительно в духовном смысле. Это увлечение произошло, когда Александр после Наполеоновских войн переосмысливал взгляды на жизнь и погрузился в напряженные мистические искания.
Мистические искания
Без этой важной страницы в биографии императора его психологический портрет получился бы неполным, а поворот всей государственной политики в последнее десятилетие выглядел бы необъяснимым. Изменение курса объяснялось не только политическими, но и личными резонами.
Екатерина Великая, как подобает усердной читательнице Вольтера и Дидро, религией не увлекалась и не хотела, чтобы ее внук был подвержен «суевериям». Поэтому в качестве духовного наставника она приставила к Александру весьма необычного клирика – протоиерея Андрея Сомборского, много лет прожившего в Англии, женатого на англичанке и до такой степени обангличанившегося, что он брил лицо (на то священнику требовалось специальное разрешение). Кроме Закона Божьего этот пастырь заодно уж преподавал великим князьям и английский язык. Неудивительно, что в юности Александр был далек от религии.
Однако в 1812 году, когда судьба страны и самого императора висели на волоске, а победоносные полки Наполеона неостановимо двигались вглубь России, в душе Александра произошла перемена. Он уповал только на чудо, искал утешения в чтении Святого Писания и молитве, сблизился с такими же, как он, молитвенниками. Источником упомянутой выше непреклонной твердости государя стал не Разум, на который он всегда полагался, а Вера. И она Александра не подвела. Разгром вражеских полчищ царь воспринял прежде всего как Божье чудо, знак свыше.
Историк-эмигрант С. Мельгунов в биографии Александра приводит такие его слова: «Пожар Москвы просветил мою душу, а суд Господень на снеговых полях наполнил мое сердце такой жаркой верой, какой я до сих пор никогда не испытывал… Теперь я познал Бога… Я понял и понимаю Его волю и Его законы. Во мне созрело и окрепло решение посвятить себя и свое царствование прославлению Его. С тех пор я стал другим человеком». И это провозглашалось царем не только в частных беседах. В Манифесте по случаю окончательной победы над неприятелем говорилось: «Самая великость дел сих показывает, что не мы то сделали. Бог для совершения сего нашими руками дал слабости нашей Свою силу, простоте нашей Свою мудрость, слепоте нашей Свое всевидящее око».
После 1812 года Александр будто переродился. Воспитанник Лагарпа окружил себя всякого рода пророками и пророчицами, начетниками, юродивыми. Одного из последних, некоего Никитушку, даже удостоил статского чина, скандализовав общество. Император не расставался с конвертом, где лежали листки с заветными молитвами, выискивал тайные послания в «Апокалипсисе», лично покровительствовал Библейскому обществу, учредил как единое ведомство Министерство духовных дел и народного просвещения (весьма сомнительный эксперимент, который долго не продержался). Метаморфоза, приключившаяся с бывшим вольнодумцем, так поразила современников, что впоследствии возникнет легенда о сибирском отшельнике «старце Федоре Кузьмиче»: будто бы в 1825 году Александр не умер, а сокрылся от мира. От этого человека можно было ожидать всякого.
Духовные поиски императора не прекращались и во время заграничного похода русской армии. Царь повсюду встречался с «божьими людьми» разных конфессий, с проповедниками, с сектантами. В Силезии государь умилялся благости братьев-гернгутеров, общавшихся с Господом напрямую, без священников. В Бадене теософ Иоганн Штиллинг, веривший, что он – земное воплощение Христа, толковал Александру о скором Апокалипсисе. Во время посещения Англии царь сблизился с квакерами. Повсюду он искал озарения, ждал неких мистических сигналов.
И однажды такой знак явился. Летом 1815 года на немецком постоялом дворе царь по своей привычке перед сном читал «Откровение Иоанна Богослова», дошел до места, где говорится «И знамение велие явися на небеси: жена, облеченна в солнце, и луна под ногами ея, и на главе ея венец» – в этот миг ему доложили, что явилась и просит аудиенции баронесса Криденер, известная европейская прорицательница. Потрясенный Александр принял ее как посланницу Господа.
Барбара-Юлия Криденер не всегда была пророчицей. В молодости она вела вполне легкомысленный образ жизни, писала сентиментальные романы, но в зрелом возрасте обратилась к мистике. Экзальтированная баронесса толковала Евангелие на собственный манер, излучала святость, изрекала вдохновенные пророчества – одним словом, произвела на царя огромное впечатление. Другой мистик, архимандрит Фотий, под влияние которого Александр попадет в самый последний период жизни, называл баронессу Криденер «женкой в разгоряченности ума и сердца, от беса вдыхаемой». Эта пятидесятилетняя дама по-видимому обладала незаурядным обаянием и даром внушения. На некоторое время император стал с ней неразлучен. Находясь в Париже, он поселил ее по соседству и доверял ей свои сокровенные мысли.
Продолжалось это интеллектуальное увлечение не очень долго. В конце концов назойливость баронессы царя утомила. Но я уделяю этой женщине столько внимания, потому что по случайному стечению обстоятельств она сыграла важную роль в европейской истории. Криденер, что называется, оказалась в нужном месте и в нужное время.
В 1815 году в Париже решались судьбы континента, закладывались принципы новой межгосударственной политической системы. О Священном Союзе будет рассказано в своем месте, но сама идея зародилась и оформилась под влиянием баронессы, убеждавшей царя, что он избран Богом для спасения Европы от тлетворной революционной заразы. Впоследствии Александр будет говорить, что Криденер не имела к этому проекту никакого отношения, но современники и очевидцы утверждали обратное.
Такова внутренняя эволюция Александра Павловича, человека, который за свою не столь долгую жизнь (он умер, немного не дожив до сорока восьми лет) неоднократно менялся, но остался неизменен в одном: в стремлении к благу. И когда не сумел достичь цели в реальной жизни, то разочаровался в земном разуме и стал уповать на Высший. В сущности это очень грустная человеческая история.
Баронесса Криденер. Ф.-Ф. Майер Старший
Главные деятели Александровской эпохи
Царствование Александра можно разделить на три периода: «романтический», «прагматический» и «мистический» (последний еще называют «консервативным» или даже «реакционным»). На каждом из этих этапов император опирался на доверенных лиц, разделявших его взгляды. В пользу царя и его помощников говорит то, что никто из них, кажется, не кривил душой и не подделывался под конъюнктуру; все они руководствовались искренним убеждением. Поэтому, когда мировоззрение государя делало очередной зигзаг, менялись и соратники. Оставался только Аракчеев, убеждения которого сводились к личной преданности государю.
Сначала это были участники приятельской компании, сложившейся вокруг наследника еще в девяностые годы, а потом вошедшие в Негласный Комитет, своего рода «правительство молодых реформаторов»: А. Чарторыйский, П. Строганов, Н. Новосильцев, В. Кочубей.
После Аустерлицкого шока на первое место выходят люди более приземленные и очень серьезные: по гражданским делам – Сперанский, по военным – Аракчеев.
На завершающем этапе император по-прежнему и даже еще шире, чем прежде, опирается в «земных» делах на Аракчеева, а в «небесных» – на своего старинного товарища А.Н. Голицына, который проделал в жизни примерно такую же причудливую траекторию, как сам Александр.
Все они (за исключением разве что Голицына) были люди яркие. Каждый заслуживает отдельного рассказа.
Адам Чарторыйский
Польский князь Адам Чарторыйский, с которым восемнадцатилетний Александр сблизился в 1795 году, был на семь лет старше. Чарторыйский успел повидать мир, пройти через нешуточные испытания. В ранней юности путешествовал по Европе, пожил в Англии, повоевал с русскими во время второго раздела своей несчастной родины, а перед третьим разделом был арестован.
Огромные владения Чарторыйских попали под конфискацию. Императрица Екатерина согласилась сменить гнев на милость, только если Адам и его брат поступят на царскую военную службу. Молодые люди прибыли в Петербург не по своей воле, ненавидя Россию и всё русское, но (читаем в мемуарах князя) «мало-помалу мы пришли к убеждению, что эти русские, которых мы научились инстинктивно ненавидеть, которых мы причисляли, всех без исключения, к числу существ зловредных и кровожадных, с которыми мы готовились избегать всякого общения, с которыми не могли даже встретиться без отвращения, – что все эти русские более или менее такие же люди, как и все прочие». А великий князь Александр Павлович, к которому Адам через некоторое время попал в адъютанты, надолго стал его лучшим другом.
Князь Адам Чарторыйский. Йозеф Печка
Польский аристократ произвел на юношу огромное впечатление своим умом, образованностью, чувством собственного достоинства, возвышенностью мыслей. Как большинство образованных людей той эпохи, Чарторыйский, разумеется, был сторонником прогресса и свобод, так что молодым людям было о чем поговорить. Князь Адам был взрослее, трезвее, сдержаннее Александра.
«Он попросил меня составить ему проект манифеста, которым он желал бы объявить свою волю в тот момент, когда верховная власть перейдет к нему, – рассказывает Чарторыйский эпизод из 1797 года, когда Александр уже официально считался наследником престола. – Напрасно я отказывался от этого, он не оставил меня в покое до тех пор, пока я не согласился изложить на бумаге мысли, беспрестанно его занимавшие. Чтобы успокоить его, надо было исполнить его желание, которое все больше волновало его и которое он высказывал все настойчивее. Итак, я, хотя и наскоро, но как только мог лучше составил этот проект манифеста. Это был ряд рассуждений, в которых я излагал неудобства государственного порядка, существовавшего до сих пор в России, и все преимущества того устройства, которое хотел дать ей Александр; я разъяснял блага свободы и справедливости, которыми она будет наслаждаться после того, как будут удалены преграды, мешавшие ее благоденствию, затем провозглашалось решение Александра, по выполнении этой великой задачи, сложить с себя власть для того, чтобы явилась возможность призвать к делу укрепления и усовершенствования предпринятого великого начинания того, кто будет признан более достойным пользоваться властью. Нет надобности говорить, как мало эти прекрасные рассуждения и фразы, которые я старался связать как можно лучше, были применимы к действительному положению вещей».
Чарторыйский возвращал Александра на землю, когда тот слишком далеко заносился в своих мечтаниях. И понемногу вселил в великого князя идею, которая произвела важный переворот в настроениях юноши: стремление к спокойной и приятной уединенной жизни для наследника престола – слабость и эгоизм. Если желаешь «создать счастье для своего отечества», от власти уходить нельзя.
К своему младшему (по возрасту) другу Чарторыйский всегда относился хоть и с искренней любовью, но критически, и это было Александру на пользу. Другой симпатичной чертой князя Адама было бескорыстие. Он не стремился к чинам и не нуждался в богатствах (как и остальные «реформаторы»); его честолюбие было иного, исторического свойства – в том смысле, что Чарторыйский желал занять место в истории. Был у этого человека, однако, и серьезный для российского государственного деятеля недостаток. Чарторыйский всегда оставался прежде всего поляком, и интересы Польши для него стояли на первом месте. Впрочем, князь никогда этого и не скрывал.
Влияние молодого поляка на цесаревича было столь заметно, что император Павел в конце концов затревожился и в 1798 году услал Чарторыйского подальше, посланником в Сардинию. Александр очень тосковал по своему другу и, получив корону, сразу же призвал его в Петербург.
Павел Строганов
Граф Павел Александрович Строганов был знаком Александру с детства, хотя в России этот вельможа бывал лишь наездами. Отпрыск богатейшей фамилии, которой кроме уральских рудников и заводов принадлежали 120 тысяч крепостных и полтора миллиона десятин земли, Павел Строганов родился и вырос во Франции. Его отец, известный меценат и филантроп, был галломаном и воспитал сына французом. Русский язык мальчику пришлось учить позднее, когда он впервые попал на родину предков. При этом Строганов единственный из «реформаторов» хоть сколько-то знал жизнь провинции. Отец устроил подростку познавательную экскурсию по стране, провезя его по всей европейской части государства, от Белого до Черного моря. Но тринадцатилетним Павел опять уехал в Европу. Сопровождал его воспитатель-француз Ромм, очень похожий на Лагарпа, но еще более отъявленный республиканец. Они объехали весь континент. Юный граф повсюду учился разным наукам: химии, физике, минералогии. Но главные университеты ему предстояло пройти в революционном Париже. Там его учитель вступил в Якобинский клуб и привел туда же своего ученика. Этот эпизод в биографии Павла Строганова поразителен. Подданный деспотической империи, владелец несметного количества рабов надел красный колпак, назвался «гражданином Полем Очером» и завел роман со скандальной «амазонкой революции» Теруань де Мерикур.
В конце концов по приказу императрицы заблудшего юношу вернули в Россию. (Его учитель Ромм остался, был избран в Конвент, голосовал за смерть короля, а впоследствии сам угодил под колеса революционного террора и закололся кинжалом, чтобы не попасть на эшафот.) Отбыв ссылку в провинции, Строганов оказался при дворе, где возобновил детское знакомство с Александром. Разумеется, они сразу же сошлись.
Павел Строганов. Джордж Доу
«Граф Павел Александрович Строганов был одним из тех объевропеившихся русских аристократов, которые умели как-то связывать в своем уме теоретические принципы равенства и свободы со стремлением к политическому преобладанию высшего дворянства», – замечает Чарторыйский, кажется, относившийся к приятелю с некоторой иронией и писавший: «он из нас самый пылкий» – то есть еще более пылкий, чем Александр.
Но при этом Строганов из всей компании был самым решительным сторонником широких реформ. Он тоже любил Александра, но считал его слабохарактерным и всячески старался придать своему царственному другу твердости. О душевных качествах Павла Строганова все мемуаристы отзываются в самых превосходных степенях.
Николай Новосильцев
Третий участник дружеского кружка, Николай Николаевич Новосильцев, был кузеном Павла Строганова. По возрасту старше остальных, к середине девяностых годов он успел поучаствовать в шведской и польской войнах, дослужиться до полковника и вышел в отставку, чтобы уехать в Лондон и учиться там естественным наукам.
«Всех старее летами и, конечно, всех выше умом был Николай Николаевич Новосильцев», – пишет про него известный мемуарист Ф. Вигель.
Именно этого солидного и по тогдашним понятиям немолодого (тридцатилетнего) человека отрядили в Париж, чтобы вернуть в Россию родственника-якобинца. В сложившейся вокруг наследника компании Николай Николаевич был за старшего – и не только по возрасту. «Новосильцев был умен, проницателен, обладал большой способностью к работе, парализовавшейся только чрезвычайной любовью к чувственным удовольствиям и наслаждениям, что не мешало ему много читать, успешно изучать состояние промышленности и приобрести основательные знания в области законоведения и политической экономии. Наряду с изучением этих наук, он предавался поверхностному философствованию о многих вещах, стремясь быть свободным от всяких предрассудков, что, однако, нисколько не вредило благородству его характера», – пишет Чарторыйский.
Новосильцевская «чрезвычайная любовь к чувственным удовольствиям и наслаждениям» тоже была не лишней для юного наследника, которого, должно быть, иногда утомляли ученые, возвышенные беседы. Александр очень привязался к этому остроумному, бывалому, ловкому человеку. «Молодой царь видел в нем умного, способного и сведущего сотрудника, веселого и приятного собеседника, преданного и откровенного друга, паче всех других полюбил его и поместил у себя во дворце», – сообщает Вигель.
Николай Новосильцев. С.С. Щукин
Виктор Кочубей
Четвертый член того же кружка, сыгравший важную роль в начале царствования, был Виктор Павлович Кочубей. Как и остальные, он принадлежал к самому высшему свету. Отпрыск старинного украинского рода, Кочубей был любимым племянником и воспитанником бездетного графа Безбородко, который ведал всей внешней политикой империи. Поэтому молодой вельможа тоже пошел по дипломатической части, обнаружив редкие способности.
Виктор Кочубей. Франсуа Жерар
Он служил в Швеции и Англии, побывал в революционном Париже, всего в 24 года занял очень важную тогда должность посланника в Константинополе, а по возвращении был произведен в тайные советники и назначен вице-канцлером. Это был самый высокопоставленный участник маленького либерального клуба, сложившегося вокруг наследника. И – вероятно в силу чиновничьего опыта – самый умеренный и реалистичный по взглядам на государство, что проявится в период реформ.
Чарторыйский оценивает своего товарища следующим образом: «Он выглядел европейцем и отличался прекрасными манерами и потому легко завоевал расположение и уважение… Он имел навык в делах, но ему не доставало широких и действительных знаний. Ум у него был точный, но неглубокий; он отличался мягкостью характера, добротой, искренностью, которые редко можно встретить в России».
При мягкости характера Виктор Павлович, однако, не был человеком малодушным. Когда император Павел вздумал пристроить свою любовницу Анну Лопухину и предложил молодому вице-канцлеру на ней жениться, Кочубей почтительно, но твердо уклонился от такой «чести». При гневливости царя, не терпевшего малейшего неповиновения, это был весьма рискованный поступок. Кочубей поплатился за него карьерой – был сослан в деревню, а потом от греха уехал за границу. Весной 1801 года Александр немедленно попросит Виктора Павловича, как и Чарторыйского, поскорее вернуться – и для Кочубея настанет его звездный час.
Такова была «квадрига», которая попытается вытянуть огромную, тяжелую, неповоротливую колесницу российской государственности из восемнадцатого века в девятнадцатый. Высокие мечты и великие планы не выдержат столкновения с реальностью, и дальнейшая судьба блестящей плеяды будет печальной, у каждого на свой лад.
С самым светлым членом четверки, Павлом Строгановым, рок обошелся особенно жестоко. Отстранение от власти графа, кажется, не слишком опечалило. Спустившись с государственных высот, он отправился волонтером в армию и участвовал во всех Наполеоновских войнах. Командовал полком, дивизией, корпусом, дошел до Парижа. Но в одном из самых последних боев был убит единственный сын Павла Александровича – восемнадцатилетнему мальчику ядром оторвало голову. Строганов два дня проискал тело на покрытом трупами поле, а потом, как тогда говорили, «впал в черную меланхолию», из которой уже не вышел. Умер сорокапятилетним.
Жизненный путь Новосильцева и Кочубея внешне выглядит вполне успешным, но производит еще более горькое впечатление. Оба со временем, когда задули иные политические ветры, отказались от прежних идеалов и стали делать то, что им приказывали. А поскольку времена наступили мрачные, соответственно проявляли себя и государственные люди.
Виктор Кочубей, вернувшись во власть еще в мистико-консервативную пору Александра, особенно высоко взлетит при откровенно реакционном Николае, когда станет председателем Комитета министров и Государственного Совета, получит чин канцлера и княжеский титул. Но на тот свет бывшего преобразователя сопроводит пренебрежительная эпитафия Пушкина: «Казалось, смерть такого ничтожного человека не должна была сделать никакого переворота в течении дел. Но такова бедность России в государственных людях, что и Кочубея некем заменить!»
Новосильцев поведет себя совсем уж неприглядно. Сделавшись царским представителем в Польше, начнет искоренять то самое просвещение, в которое когда-то свято верил: преследовать вольнодумство, громить студенческие кружки, сурово подавлять «польский дух», что станет одной из причин восстания 1830 года. Зато император Николай оценит усердие Новосильцева по заслугам, возведет его на высшие должности и наградит графским титулом. Но уважением ни у царя, ни у общества старый вельможа пользоваться не будет, оставив по себе память пьяницы и распутника.
Всех пережил Чарторыйский, умерший на девяносто втором году и заставший освобождение крепостных – то, о чем пылко мечтали члены чудесного сообщества. Возможно, правда, что старика это известие не слишком тронуло. К тому времени он давно уже потерял интерес к России, все его помыслы принадлежали Польше. Адам Чарторыйский участвовал в польском освободительном восстании 1830 года, потом эмигрировал во Францию и сделался непримиримым врагом Российского государства, которому когда-то желал процветания. Польской свободы он не дождался.
Увы, в России судьба реформаторов не бывает счастливой. Финал обычно или некрасивый, или трагический.
Михаил Сперанский
После первой, неудачной войны с французами Александр обратился к людям совсем иного склада – не высоких мечтаний, а практических деяний. Планы реформ становятся скромнее и конкретнее. Таковы же и новые помощники: неблестящей наружности, неэффектных манер, неродовитые, чуждые высшему свету, всем обязанные службе. Не романтики, а педанты. Не античные герои, а труженики.
Несколько лет у руля государственного управления находился человек экзотического для сословной империи происхождения – сын деревенского попа Михаил Михайлович Сперанский. Звучную фамилию, от латинского spero («надеюсь») он получил в семинарии, где подавал большие надежды.
Дарований Сперанский действительно был просто исключительных. Он попал в ведущее духовное учебное заведение того времени, Главную семинарию, и по ее окончании остался там преподавателем естественных наук, философии и красноречия. Потом стал личным секретарем князя Александра Куракина, которому благоволил цесаревич Павел. Взойдя на престол, новый царь сделал Куракина генерал-прокурором, и князь привел на государственную службу своего 23-летнего секретаря. Работоспособность и ум Сперанского на всяком месте делали его незаменимым.
Михаил Сперанский. П.А. Иванов
Карьера поповского отпрыска была метеорообразна. За три года он поднялся по чиновничьей лестнице на четыре ранга и так превосходно себя зарекомендовал, что после опалы своего патрона (близ Павла никто долго не удерживался) просто сменил должность.
Еще выше толковый бюрократ поднялся в новые времена, когда его таланты оказались особенно востребованы. Сперанский попадает в «команду реформаторов» – поначалу в качестве технического сотрудника. Его считают человеком министра внутренних дел Виктора Кочубея. Вскоре Сперанский, едва тридцатилетний, уже статс-секретарь. Ему поручают составление программных записок – о законотворчестве, о государственном управлении, о судебной реформе и даже о материях абстрактных, идеологических: «О постепенности усовершения общественного», «О силе общественного мнения», «Ещё нечто о свободе и рабстве».
Звездный час для Михаила Михайловича наступил в 1806 году, в период, когда Александр всерьез засомневался в правильности своего курса и стал разочаровываться в помощниках. Однажды, когда министр был болен, Сперанский попал вместо него на личный доклад к царю и произвел огромное впечатление деловитостью, ясностью и конкретностью предлагаемых им мер. С тех пор император его от себя не отпускал.
Два года спустя, во время эрфуртской встречи Александра с Наполеоном французский император, пообщавшись со Сперанским, воскликнул: «Не угодно ли вам, государь, уступить мне этого человека в обмен на какое-нибудь королевство?» Другой анекдот, относящийся к тому же моменту, демонстрирует, каким находчивым демагогом при необходимости бывал Михаил Михайлович. Это была его первая заграничная поездка, и Александр спросил, нравится ли ему в Европе. Сперанский ответил: «У нас люди лучше, а здесь лучше установления», то есть, с одной стороны, проявил патриотизм и сказал его величеству приятное, а с другой намекнул, что и нам-де неплохо бы улучшить свои «установления».
Но умением производить впечатление и словесной ловкостью достоинства Сперанского, конечно, не исчерпывались. «Сперанский принес в русскую неопрятную канцелярию XVIII века необычайно выправленный ум, способность бесконечно работать и отличное умение говорить и писать», – пишет Ключевский. К этой сухой оценке следует прибавить, что Михаил Михайлович спал не более пяти часов в сутки, а всё остальное время трудился; что он умел подвергать анализу любую сложную проблему и находить для нее решение; наконец, этот человек сочетал в себе два редко сочетаемых дара – не только разрабатывать планы, но и проводить их в жизнь.
Мы увидим, что с этим одним соратником Александр достигнет большего, чем с предыдущими четырьмя.
Алексей Аракчеев
Эта фигура, появившаяся близ императора не сразу, свежей отнюдь не являлась. Когда граф Алексей Андреевич, павловский фаворит, вдруг воскрес из небытия, на современников поначалу, должно быть, дохнуло нафталином (которого, впрочем, тогда еще не изобрели). Но те, кто полагал, что Аракчеев при новых веяниях долго не продержится, жестоко ошиблись. Аракчеев пришел, чтобы остаться, и пересидит всех прочих царских приближенных. При этом генерал не блистал умом, не обладал светской ловкостью, не маневрировал. Он всегда был один и тот же. Историки много писали о загадке аракчеевской непотопляемости, но скорее всего она объяснялась просто: Аракчеев был ясен и предсказуем, а стало быть надежен.
Александр оценил эти качества еще в ранней юности, когда молодой гатчинский служака спасал его от отцовского бешеного нрава.
История бедного дворянина Аракчеева по-своему не менее удивительна, чем восхождение поповича Сперанского. На гатчинские задворки скромный артиллерийский офицер попал, потому что у него не было шансов на карьеру в «нормальной» армии. Там он полюбился Павлу Петровичу своей истовой любовью к фрунту и дисциплине. Потом, когда опальный великий князь вдруг сделался императором, Аракчеев резко пошел вверх, стал инспектором артиллерии, бароном, затем графом. В конце концов, как другие павловские любимцы, угодил в немилость и был сослан в свою новгородскую деревню, где, казалось, и будет прозябать до скончания века. Но когда Александр понял, что русская армия находится в неважном состоянии, он вызвал старого знакомца в Петербург, и Аракчеев принялся наводить в военном ведомстве порядок.
Примечательно, что в александровскую эпоху, обильную войнами, выдвинулась целая плеяда выдающихся полководцев, но влияние на государственные дела имели не они, а администратор в эполетах, кажется, не участвовавший ни в одном сражении.
У Алексея Андреевича ужасная историческая репутация. Его ненавидели при жизни и много бранили после смерти. Однако в одной из следующих глав мы увидим, что со своей основной задачей – подготовить русскую армию к решающему столкновению с Наполеоном – Аракчеев вполне справился, его заслуги тут несомненны. Твердый характер, организованность, фантастическое трудолюбие, нетерпение ко всякому разгильдяйству – вот сильные стороны главного царского помощника.
Аракчеев был груб и необразован, но он обладал практической хваткой и чрезвычайной работоспособностью, а кроме того был совершенно равнодушен к тому, какова его общественная репутация. «Без него я ничего бы не достиг», – говорил император. Вопрос, конечно, заключается в том, следует ли считать достижением ту политику, которую проводил Александр в «аракчеевский» период, но во всяком случае граф Алексей Андреевич несомненно был человеком непустяшным и презрительного к себе отношения в духе пушкинского «полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести» явно не заслуживает.
Алексей Аракчеев. Джордж Доу
При жизни Аракчеева часто обвиняли в стяжательстве и корысти, но вот деталь к его портрету: после смерти граф завещал все свое состояние государству, за исключением 300 тысяч рублей, предназначенных для нуждающихся учеников кадетского корпуса, и 50 тысяч рублей на издание истории Александра I через сто лет после кончины императора, то есть в 1925 году. Алексей Андреевич с его позитивистским мышлением и твердой верой в Порядок слишком оптимистично смотрел в будущее.
Александр Голицын
В последний, очень странный период александровского царствования важной государственной персоной становится не менее странный персонаж – Александр Николаевич Голицын. Он, как Строганов с Новосильцевым и Кочубеем, тоже из числа очень ранних знакомцев великого князя, чуть ли не с младенчества. Участник сначала невинных детских игр, позднее – неневинных юношеских развлечений.
В молодости это был совершенный шалопай по прозвищу «Маленький Голицын», никто всерьез к нему не относился. «Его беседа была очень забавна, – пишет Чарторыйский. – Зная все городские сплетни, он удивительно копировал всех, изображая физиономию, манеру говорить и обороты речи каждого. Между прочим, когда мы бывали одни, без великого князя, он изображал императора Павла так, что все начинали дрожать перед ним. Маленький Голицын в то время, когда мы с ним познакомились, был убежденным эпикурейцем, позволявшим себе с расчетом и обдуманно всевозможные наслаждения, даже с весьма необычайными вариациями». (Последнее – намек на гомосексуальные пристрастия Голицына, которые ему упорно приписывала молва.)
Александр этого своего ветреного приятеля очень любил, но к умным беседам не допускал и в число членов Негласного Комитета, конечно, не включил. Однако, желая всюду поставить преданных людей, нашел применение и «Маленькому Голицыну» – весьма неожиданное: поручил ведать Священным Синодом, что показывает, как легкомысленно в ту пору царь относился к вопросам церкви и религии. Рассказывают, что, получив столь диковинное назначение, князь Голицын воскликнул: «Какой я обер-прокурор Синода? Вы знаете, что я не имею веры!» «Ну полно, шалун, образумишься», – ответствовал царь. И как в воду глядел.
Поневоле войдя в круг религиозной жизни, Голицын стал меняться. У него завелись друзья из числа как людей глубоко верующих, так и всякого рода лицемеров, даже кликуш. Исследователь александровской эпохи великий князь Николай Михайлович описывает приключившуюся с бывшим гедонистом перемену так: «Этого «младенца» в деле веры постоянно морочили разные ханжи и изуверы; он искал «излияния Св. Духа» и откровений, вечно гонялся за пророками и пророчицами, за знамениями и чудесами: то «слушал пророческое слово» у хлыстовки Татариновой, то жаждал возложения руки нового Златоуста – Фотия, то исцелял бесноватых, то удостаивался в мистическом экстазе испытать подобие страданий Спасителя от игл тернового листа».
Александр Голицын. К.П. Брюллов
В 1812 году, в момент тяжелого экзистенциального кризиса, рядом с императором все время был близкий друг Голицын, призывавший уповать единственно на Бога, – и оказалось, что устами младенца глаголет истина. Разум был посрамлен, восторжествовала Вера, а вместе с нею и князь Александр Николаевич, который на целое десятилетие становится чем-то вроде главного государственного идеолога. Тот же Чарторыйский с недоумением сетует: «Вспоминая Маленького Голицына таким, каким я его знал, я не могу себе представить его министром, заведующим народным просвещением в империи; я не знал за ним другого таланта, кроме умения забавлять и вызывать смех». Но в это время над Голицыным уже никто не потешается; обществу становится не до смеха.
Если исходить из принципа «скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты», Александр 1801 года и Александр голицынской поры тем более предстают совершенно разными, если не контрастно противоположными людьми.
Начало правления и первые реформы
На мягких лапах
Именно так, по-кошачьи вкрадчиво, делал молодой царь свои первые шаги.
Весной 1801 года положение его было нелегким. Потрясенный убийством отца, неопытный, разлученный с друзьями, он чувствовал себя крайне неуверенно и в политическом смысле, несмотря на обретенный статус, был очень слаб. Елизавета и Екатерина тоже захватили власть нелигитимно, но они сами руководили переворотами, Александр же находился от заговора где-то сбоку. Хозяевами положения в столице, а значит, и в империи, стали те, кто устроил мартовский путч: Петр Пален и братья Зубовы. К юному царю они относились пренебрежительно. Александр, собственно, так себя и вел: рыдал, падал в обморок, пытался спрятаться. Пален даже позволил себе в раздражении воскликнуть: «Полноте ребячиться, государь!» – неслыханная дерзость по отношению к самодержцу.
Граф Петр Алексеевич сверг с престола прежнего царя не для того, чтобы передать власть новому. Пален рассчитывал управлять государством сам, а это был человек волевой и целеустремленный. «Среди смятения и волнений, царивших в первые дни после катастрофы, кавалерийский генерал граф Пален намеревался захватить освободившиеся бразды правления… Он притязал на то, чтобы ничто не делалось без его разрешения и помимо него. Он принял вид покровителя молодого императора и делал ему сцены, когда тот не сразу соглашался на то, чего он желал, или, вернее, к чему хотел принудить государя», – рассказывает Чарторыйский.
Зная о конституционных мечтаниях Александра, Пален и Зубовы охотно поддержали этот проект, который позволил бы им взять власть в свои руки на законном основании.
Действовал Пален нахраписто. В течение весны 1801 года к должности столичного военного губернатора он присоединил еще и гражданское управление Петербургом, ввел себя в Государственный Совет, в Иностранную коллегию и заодно уж взял под свою руку управление остзейскими губерниями. У Александра были все шансы превратиться в фигуру сугубо декоративную, и если этого не произошло, то исключительно благодаря незаурядной закулисной ловкости. Молодой интриган переиграл старого. Палена погубила излишняя самоуверенность: он недооценил Александра, которому тут весьма пригодились навыки лукавого салтыковского воспитания.
В то время у свежеиспеченного самодержца был только один рычаг – поддержка дворянского общества. Оно, в особенности в столице, невероятно обрадовалось не столько воцарению Александра, сколько избавлению от Павла. «В домах, на улицах люди плакали от радости, обнимая друг друга, как в день Светлого Воскресения», – читаем мы у Карамзина.
Однако Александр позаботился о том, чтобы к облегчению присоединилось обожание, направленное уже лично на нового императора. По контрасту с суровым, чопорным Павлом молодой государь был со всеми приветлив, прост и обаятелен. Пешком, без свиты, разгуливал по улицам, со всеми раскланивался. Это было невиданно и неслыханно. Петербуржцы лили слезы умиления.
Сразу же последовали и милости, заставившие ликовать уже всю страну. Первым своим волеизъявлением, манифестом от 12 марта, Александр провозгласил, что будет царствовать «по законам и сердцу» Екатерины. Именно это и желали услышать русские дворяне, которым при Павле жилось несравненно тяжелее, чем при великой императрице.
Затем, как из рога изобилия, посыпались высочайшие указы, один приятнее другого. Они выходили чуть не каждый день. В общем и целом это была классическая «оттепель», не первая и не последняя в отечественной истории. Основные признаки тут всегда одни и те же: демонтаж репрессивной системы, реабилитация осужденных, отмена абсурдных запретов периода «заморозков», предоставление или возвращение некоторых свобод.
Своей волей император закрыл павловское страшилище – Тайную экспедицию; вернул многих осужденных и отпустил подследственных; велел убрать с площадей виселицы, установленные Павлом для острастки (на них, впрочем, ни одного человека не повесили); запретил полиции выходить «из границ должности своей», то есть превышать полномочия; навсегда отменил пытки и резко сократил телесные наказания, вовсе освободив от них дворян, духовенство, «именитых граждан» и купечество старших гильдий. Двенадцать тысяч уволенных чиновников и офицеров получили возможность вернуться на службу.
Русские и иностранцы обрели право свободно пересекать границу. Типографии могли свободно печатать книги и журналы (при Павле из-за множества запретов не издавали почти ничего, а ввоз любой печатной продукции из-за рубежа был строжайше воспрещен).
Но больше всего царь облагодетельствовал дворянство, восстановив все его вольности и права. Эксперимент Павла по возврату государства к доекатерининской модели унитарного самодержавия отменялся, Россия вновь становилась самодержавно-дворянской. Высшее сословие могло опять чувствовать себя не рабами монархии, а ее заинтересованными и добровольными помощниками.
Указ Александра I о возвращении ссыльных (в том числе А. Радищева)
Одновременно с подобными мерами, обеспечивавшими широкую общественную поддержку, Александр вел осторожную аппаратную интригу, которая должна была решить вопрос о реальной власти. Все-таки поразительно, как причудливо в этой натуре соединялись самая розовая маниловщина и трезвая расчетливость.
Едва взойдя на престол, он, конечно же, сразу вызвал из-за границы своих единомышленников, разогнанных подозрительным Павлом (из них в России оставался только Строганов), но в борьбе с Паленом молодые друзья царю помочь не смогли бы. Здесь требовались союзники посолидней, и Александр скоро ими обзавелся. Ко всеобщему удовольствию он выгнал самых одиозных деятелей прежнего царствования, в том числе генерал-прокурора Обольянинова, и поставил на эту ключевую должность Беклешова, человека абсолютно нереформаторских взглядов, но исправного служаку. Из старых, еще екатерининских кадров, пригласил графа Александра Воронцова и П. Завадовского, людей заслуженных и влиятельных. На иностранные дела назначил бывшего вице-канцлера Никиту Панина, который по природной гордости смотрел на всех, и тем более на выскочку Палена, свысока. Правой своей рукой царь сделал распорядительного Дмитрия Трощинского (при Екатерине статс-секретаря). Когда император предложил перегруженному должностями Палену отдать Трощинскому почтовое ведомство (граф Петр Алексеевич среди прочего занимал и место почт-директора), возражений не последовало. Пост в самом деле был малозначительный, однако очень деликатный, ибо почтовый департамент осуществлял перлюстрацию писем.
В конце марта было объявлено, что учреждается новый орган – Непременный Совет, состоящий из двенадцати высших сановников. Туда, конечно, вошли и Пален, и братья Зубовы, но все остальные члены были назначенцами Александра.
Остается только удивляться, как старая лиса Пален не понял, к чему идет дело. На всякого мудреца довольно простоты: в это время граф больше всего опасался Зубовых, казавшихся ему конкурентами.
Через три месяца после воцарения Александра свершился тихий переворот – с невероятной легкостью. Государю даже не пришлось ничего делать. Решив, что пора, он всего лишь пожаловался на своеволие Палена генерал-прокурору Беклешову.
Предоставим слово Чарторыйскому: «Беклешов с обычной своей резкостью выразил удивление, что русский самодержец может ограничиваться жалобами вместо того, чтобы заставить исполнить свою волю. «Когда мухи жужжат вокруг моего носа, – сказал он, – я их прогоняю». Император подписал указ, предписывающий Палену немедленно покинуть Петербург и отправиться в свои поместья. Беклешов, связанный давнишней дружбой с этим генералом и бывший и теперь еще его другом, взял на себя труд, в качестве генерал-прокурора, отвезти ему этот приказ и заставить его уехать в двадцать четыре часа. На следующий день, рано утром, Пален был разбужен Беклешовым, объявившим ему волю императора. Пален повиновался». Непременный Совет лишился одного из двенадцати членов, только и всего.
В сущности, финал могущественного графа Палена очень напоминает падение фельдмаршала Миниха, который, приведя к власти слабую Анну Леопольдовну, вообразил, что он незаменим и несокрушим, а хватило одного слова – и «великого человека» не стало.
Ничтожный Платон Зубов и нечестолюбивый Валериан Зубов государя не пугали. Первого Александр скоро спровадил за границу, второго оставил на безобидной должности начальника кадетского корпуса.
Вслед за тем, уже чувствуя себя увереннее, император избавился от тех членов Непременного Совета, которые не сочувствовали реформам, в том числе и от бравого генерал-прокурора. Тот сделал свое дело и теперь мог уходить.
Сам Непременный Совет утратил всякое значение и почти перестал собираться. Его миссия была исполнена.
Около царя сформировался другой, неофициальный орган, вошедший в историю под названием Негласного Комитета.
Негласный Комитет
Это название впервые появилось в записке, которую в мае 1801 года представил царю единственный остававшийся в России член маленького кружка Павел Строганов. Он предлагал, когда прибудут остальные, создать нечто вроде комитета по подготовке преобразований и вести его работу кулуарно, негласно. Идея была во всех отношениях здравая. Одно дело – умные разговоры далеких от властей мечтателей, и совсем другое – программа действий. Александру и его товарищам самим многое было непонятно, многое непридумано или недодумано.
Летом Чарторыйский, Новосильцев и Кочубей приехали. Встречи единомышленников проходили в царском кабинете, по вечерам. «Наши тайные собрания происходили два или три раза в неделю. После кофе и короткого общего разговора император удалялся, и в то время как остальные приглашенные разъезжались, четыре человека отправлялись через коридор в небольшую туалетную комнату, непосредственно сообщавшуюся с внутренними покоями их величеств, куда затем приходил и государь, – рассказывает Чарторыйский. – …В нашем комитете самым пылким был Строганов, самым рассудительным – Новосильцев, наиболее осторожным и искренно желавшим принять участие в делах – Кочубей». Про себя князь скромно пишет, что он был самым бескорыстным.
Участники этих жарких совещаний иногда в шутку называли себя на революционный манер «Comité de salut public», «Комитетом общественного спасения». Со временем, когда заседания перестанут быть тайной, придворные консерваторы зашепчутся безо всякой шутливости, а с ужасом, что это «шайка якобинцев».
На теоретическом уровне планы реформаторов вначале действительно выглядели сверхреволюционно. Обсуждались и конституция, и отмена крепостного права, и установление правового государства. Однако при всем прекраснодушии, будучи людьми умными, члены Комитета отлично понимали, что реформы невозможны без правительственного механизма, который будет их проводить в жизнь. Поэтому своей первоочередной задачей они поставили помощь императору «в систематической работе над реформою бесформенного здания управления империей», то есть административную модернизацию. А для того, чтобы это правильно сделать, требовалось, по выражению императора, «иметь перед глазами картину настоящего состояния империи во всех ее частях».
Таким образом, Негласный Комитет собирался сначала оценить ситуацию, затем отладить систему управления и лишь после этого заняться изменением государства.
За первый этап отвечал Новосильцев, делавший регулярные доклады перед остальными. Эта работа у них называлась «статистической», хотя подразумевала не просто сбор цифровых данных, а полный анализ экономического, социального и даже ментального состояния населения. Складывавшаяся картина заставила будущих реформаторов засомневаться в реальности их грандиозных планов.
Царь очень надеялся на своего дорогого учителя Лагарпа, конечно же, тоже приглашенного в Россию. В конце лета Лагарп, к тому времени видный деятель швейцарской Гельветической республики, прибыл и подключился к работе Комитета. Однако вместо того, чтобы поддержать в приунывшем Александре веру в революционные преобразования, Лагарп тоже стал призывать к осторожности. Долго проживший в России, он знал истинное положение дел лучше, чем его высокородные коллеги. Бывший кумир показался Александру постаревшим, а его друзьям – слишком велеречивым, умозрительным и утомительным. Через некоторое время швейцарца, от которого было мало толку, вежливо спровадили обратно, и Комитет продолжил работу в прежнем составе.
Очень любопытным образом проходило и завершилось обсуждение проекта конституции. Это важнейшее задание Александр решил не доверять своим молодым друзьям, а привлек к работе опытнейшего екатерининского деятеля графа А. Воронцова. Тот исправно выполнил поручение и составил манифест, нареченный «Всемилостивейшая грамота, русскому народу жалуемая». Слово «конституция» не упоминалось, но делался первый, абсолютно логичный шаг к будущей конституционной монархии: провозглашались верховенство закона и принципы Habeas Corpus, неотъемлемых личных прав всех граждан.
Заседание Негласного Комитета. И. Сакуров
«Утверждаем и постановляем впредь навсегда и ненарушимо, что безопасность личная есть право, российскому подданному существенно принадлежащее; почему каждый да пользуется оною сообразно с званием и чиносостоянием своим. Право сие да пребудет всегда под священною стражею закона, – объявлялось в документе. – …Да никто, не имеющий на то власти, законами данной, не дерзает российского подданного (к какому бы чиносостоянию он ни принадлежал) оскорблять в личной его безопасности, лишая его свободы, заточая, сажая в темницу, налагая оковы или просто имая под стражу».
Далее провозглашалась незыблемость частной собственности; право пользоваться «невозбранно свободою мысли, веры или исповедания, богослужения, слова или речи, письма и деяния, поколику они законам государственным не противны и никому не оскорбительны». Музыкой для всякого либерала звучит обещание «слова и сочинения не почитать никогда преступлением».
Вопиюще «антиордынским» образом выглядит заявление: «Не менее правилом себе поставляем признать сию истину, что не народы сделаны для государей, а сами государи промыслом Божиим установлены для пользы и благополучия народов, под державою их живущих».
По сути дела старый англоман Воронцов предлагал росчерком пера превратить Россию чуть не в Британию.
Представим себе «ордынскую» модель с ее четырьмя столпами, два из которых разом убираются. Не народ для государя, а государь для народа? Не высочайшая воля, а первенство Закона?
А чем же удерживать в повиновении население, если у него есть набор личных прав, которые нельзя отнять? Всяк начнет говорить и писать, что ему вздумается, критиковать власть, и от ее сакральности ничего не останется.
Все эти соображения несомненно пришли в голову и членам Негласного Комитета. При обсуждении «Всемилостивейшей грамоты» Новосильцев усомнился, не придется ли через некоторое время отбирать все эти свободы обратно? (Очень трезвое соображение. Именно так это и будет происходить всякий раз, когда реформы замахнутся на основы «ордынской» прочности.) Император немедленно согласился с этим суждением, и воронцовский проект отправился в архив.
Таким образом, «якобинцы» оказались осторожнее и консервативнее старого графа Воронцова. Разговоры о конституции после этого прекратились.
Но еще насущнее был вопрос о крепостном праве, которое все реформаторы справедливо считали главным корнем российских бед. Александр писал в дневнике: «Ничего не может быть унизительнее и бесчеловечнее, как продажа людей, и для того неотменно нужен указ, который бы оную навсегда запретил. К стыду России рабство еще в ней существует. Не нужно, я думаю, описывать, сколь желательно, чтобы оное прекратилось. Но, однако же, должно признаться, сие трудно и опасно исполнить, особливо если не исподволь за оное приняться».
Коренное слово здесь «исподволь». Все реформаторы были с ним согласны, но каждый толковал постепенность по-своему. Самым радикальным в этом вопросе был аристократ Чарторыйский, самым осторожным – революционер Лагарп. Последний доказывал, что предварительно нужно просветить народ, иначе он не сумеет распорядиться своей свободой. Кочубей и Строганов склонялись к первой точке зрения, Новосильцев – ко второй. Осторожность возобладала, потому что в конце концов устрашился рисков и царь. Александр боялся не столько народа, сколько дворян, которые убили его отца и деда. В самом деле – как было оставить без средств к существованию сословие, являвшееся опорой трона? Думали, не выплатить ли помещикам выкуп, но в казне таких огромных денег не было, а сами крестьяне за свою свободу по бедности заплатить не смогли бы.
В результате Негласный Комитет постановил «понемногу подготавливать умы» к отмене крепостничества – и тем удовлетворился. По этому поводу легко сокрушаться (многие историки это и делали), однако следует признать, что в 1801 году еще непрочно утвердившийся царь, покусившись на помещичью живую собственность, действительно мог легко потерять и корону, и голову. Вообще несколько ироническое отношение к деятельности «негласников» мне кажется несправедливым. Они не только руководствовались лучшими намерениями, но и провели огромную подготовительную работу: за один год проанализировали положение дел и изобрели новую структуру управления государством, лучше приспособленную для осуществления масштабных задач.
Поскольку все четверо собирались войти в правительство, келейная деятельность Негласного Комитета летом 1802 года заканчивается.
Александр и его команда переходят от бесед к действиям.
Реорганизация правительства
Российское общество, кажется, не очень понимало, с какой целью затеяно кардинальное переустройство высшего эшелона власти. Мемуарист Н. Греч высказывает следующее предположение касательно мотивов государя: «Нежная и кроткая душа его не могла долго выносить тогдашней тяжелой службы. К нему приносили большие кипы дел. Надлежало помыслить о сокращении его работы, об упрощении дел вообще, и оттого возникла мысль об учреждении министерств». Чарторыйский с досадой пишет: «Большинство рассматривало эту реформу не с точки зрения ее действительных достоинств и пользы, которую она могла принести государству, а по тому, как она должна была отозваться на личной карьере каждого. Получившие места в новых учреждениях одобряли реформу; те же, которые остались за штатом, порицали ее, как слепое увлечение молодости, направленное на изменение древних и уважаемых учреждений, под действием которых возвеличилась Россия».
«Древние уважаемые учреждения» в то время представляли собой коллегии, в которых никто ни за что по-настоящему не отвечал, находившиеся под руководством Сената – аморфного института, соединявшего законодательные, судебные и контролирующие функции. За Сенатом в свою очередь приглядывал генерал-прокурор, «государево око». Подобная система могла худо-бедно существовать, пока все главные решения принимал лично самодержец с фаворитами, но реформаторы желали установить систему упорядоченного, профессионального управления.
В феврале 1802 года Чарторыйский представил доклад о введении министерств – профильных ведомств с точно определенными обязанностями и ответственным руководителем-министром. Именно так к этому времени были организованы правительства всех европейских держав. Комитет министров (новое название российского правительства) подчинялся не Сенату, а непосредственно императору.
Доклад Чарторыйского был одобрен, доработан и 8 сентября 1802 года обнародован.
Государственные дела подразделялись на восемь направлений. Каждому соответствовало министерство: военное, морское, внутренних дел, иностранных дел, финансов, народного просвещения, юстиции и коммерции.
Министерства подразделялись на департаменты, департаменты – на отделения; отделения – на «столы». Каждая ячейка бюрократического механизма должна была ведать своей сферой деятельности.
Поскольку речь шла не о кулуарных беседах за закрытыми дверями, а о «лице» государства, Александр проявил сугубую осторожность в подборе первого состава министров. Его друзья не получили министерских портфелей, но заняли посты заместителей («товарищей») в тех ведомствах, которые должны были заняться основными реформами. Так, товарищем министра иностранных дел был назначен Чарторыйский, товарищем министра юстиции через некоторое время стал Новосильцев, товарищем министра просвещения – хоть и не член Негласного Комитета, но близкий царю человек, его бывший воспитатель М. Муравьев, и так далее. Только один портфель, самый важный – внутренних дел, был сразу дан «молодому реформатору» Кочубею, а его заместителем сделался Строганов. Объем работы у этой пары был колоссальный. Новое для России министерство ведало и промышленностью, и строительством, и губерниями, и государственным имуществом, и почтовой службой, и медициной, и продовольственным обеспечением, и много чем еще. «Товарищи» министров тоже входили в Комитет и играли в нем более важную роль, чем их номинальные начальники. К тому же положение «реформаторов» было прочным, а большинство первоначальных министров долго не продержались.
Апофеоз Александра I. Винсент Нойман
Одновременно с учреждением министерств вышел указ о новых обязанностях Сената. Он становился высшей судебной инстанцией и неким «верховным местом империи», которое вроде бы получало отчеты от министров и могло требовать от них объяснений, но фактически никакими властными полномочиями не обладало. Звание сенатора звучало почетно, им жаловали всяких заслуженных, но не слишком полезных вельмож, чтобы они не обижались и не уходили в оппозицию.
Новая структура управления отчасти устранила административный сумбур и сократила бумажную волокиту на центральном уровне. Что же касается провинциального управления, то здесь еще в екатерининские времена был наведен относительный порядок, поэтому особенных новшеств не появилось, если не считать таковыми высочайшие призывы к губернаторам не злоупотреблять властью, не принимать подарков и бережно расходовать казенные деньги. Как водится, было несколько показательных антикоррупционных расследований, на том дело и закончилось.
«Молодые реформаторы» начинали сверху, им пока было не до провинции.
Что удалось и что не удалось
С самой главной задачей правительственной деятельности – составлением свода разумных, эффективных законов, по которым сможет нормально работать государство и жить общество, правительство не справилось, да и не могло справиться. Александру и его помощникам представлялось, что вся проблема в разномастности и запутанности многочисленных актов, плохо согласованных между собой. Достаточно в этом хаосе разобраться, убрать лишнее, привести в соответствие здравое – и дело устроится.
Однако нагромождение противоречивых указов, законов и высочайших повелений прежних лет возникло неслучайно. Это один из основополагающих принципов «ордынской» системы: управлять не по раз и навсегда заведенным правилам, а постоянно корректировать их волею государя, который не должен и не может быть связан никакими законами, тем более установленными кем-то другим. Высочайшие постановления издавались применительно к текущей ситуации или даже просто по капризу монарха, без учета существующих правовых актов. Однако стоило только покуситься на эту прерогативу самодержавия, и оно сразу перестало бы быть самодержавием.
Создавая специальную комиссию по составлению законов, Александр указал ей, что «единый закон – начало и источник народного блаженства», однако народное блаженство вовсе не являлось целью той империи, которая сложилась в России. Собственно, всякая империя потому и империя (а не национальное государство), что стремится она не к процветанию своих граждан, а к величию.
Трудоспособный Новосильцев для того и был сделан товарищем министра юстиции, чтобы руководить работой этой исторической комиссии. Он добросовестно изучил всю массу существующих законодательных актов, систематически распределил их, попытался «озарить светом новой юриспруденции» и «здравым народным разумением», но из этого ничего не вышло. «Единого закона» так и не составилось. Чарторыйский сухо и лаконично пишет, что работа «ожидаемых плодов не принесла».
Немногое реализовалось и из планов «исподволь готовить умы» к решению крестьянского вопроса.
Александр собирался хотя бы отменить самую позорную, абсолютно рабовладельческую практику продавать людей «на вывод», то есть без земли, но в результате не решился даже на это. Ограничились запретом публиковать подобные объявления в газетах, тем самым давая понять, что торговать людьми неприлично. Назвать этот шаг историческим трудно.
В декабре 1801 года вышел указ, разрешавший покупать землю не только дворянам. Но на крепостных это право не распространялось, то есть разрыв между ними и другими сословиями еще больше увеличился.
Лишь в 1803 году, после долгих сомнений и опасений, вышло постановление, сделавшее очень робкий шажок в сторону освобождения помещичьих крестьян. Дворянам позволялось – при желании – отпускать крепостных на свободу с землей, за выкуп. Вольноотпущенники красиво именовались «вольными хлебопашцами».
Для Александра этот пробный камень был чем-то вроде «опроса общественного мнения» среди дворянства. В высочайшем указе говорилось: «…Утверждение таковое земель в собственность [бывших крепостных] может во многих случаях представить помещикам разные выгоды и есть полезное действие на ободрение земледелия и других частей государственного хозяйства …». Царь хотел проверить, многие ли пойдут по этому пути, регулярно запрашивал новые данные. А вдруг роковой вопрос разрешится сам собой, без всяких неприятностей для монархии?
Примечательно, что даже эта скромная инициатива принадлежала не правительству. Известный меценат и адепт Просвещения граф Сергей Румянцев захотел отпустить двести душ, но не знал, как оформить это действие юридически, поскольку не существовало прецедентов, и обратился к властям с соответствующим запросом. Реформаторы очень обрадовались такому поводу – возник «Указ о вольных хлебопашцах».
В 1804 году богатый воронежский помещик Андрей Петрово-Соловово на основании этого закона заключил сделку с 5 000 крестьян, которые выкупили у него личную свободу и по 6 десятин земли за полтора миллиона рублей (то есть 300 рублей с души) с выплатой в течение 19 лет. Но подобные случаи остались единичными. За все александровское царствование набралось только 160 передовых помещиков, согласившихся последовать этому примеру. Все вместе они отпустили на волю 47 тысяч душ, меньше половины процента от общего количества российских крепостных.
Нет, роковой вопрос сам собой не разрешился.
Лишь на самом западе империи, в Прибалтике, положение крепостных существенно облегчилось – но лишь потому, что об этом попросило само дворянство. Аграрные отношения в Лифляндии и Эстляндии помимо причин социальных обострялись еще и этнической рознью, поскольку крестьяне были латышами или эстонцами, а помещики в основном немцами. Последние рассудили, что предусмотрительнее будет смягчить противостояние. Правительство было только радо. Крестьяне не получили полной свободы, но их теперь нельзя было продавать, как скот, и отрывать от земли. Сама земля закреплялась за теми, кто ее обрабатывал, хоть и не на правах собственности. Барщина ограничивалась двумя днями в неделю. Кроме того, помещики лишались права судить своих крестьян, то есть фактически те превращались из «имущества» в граждан.
В 1804 году эти правила были введены в Лифляндии, год спустя в Эстляндии. Таким образом, население Прибалтики избавилось от рабства на несколько десятилетий раньше, чем основная масса российского населения.
Александр стал надеяться, что пример остзейцев увлечет и русских дворян, но этого, как уже было сказано, не произошло. Реформа ограничилась пределами одного региона.
Больше всего успели сделать в сфере образования, поскольку эта деятельность, во-первых, соответствовала духу Века Просвещения, взрастившего «молодых реформаторов», а во-вторых, не вызывала сопротивления в элитах.
«До царствования Александра народное образование в России находилось в самом неудовлетворительном, жалком положении. Петербургская академия наук если и пользовалась известностью, то только благодаря некоторым иностранным ученым, которых правительству удалось привлечь в Россию. Московский университет также стоял обособленно и посещался лишь сотней учеников, содержавшихся на казенный счет. Студенты, учившиеся на свой счет, появлялись там весьма редко. Кроме этих двух учреждений, стоявших наверху ученой и литературной лестницы, в России не было никаких других учебных заведений, кроме школ, называемых народными. В них довольно плохо преподавались первоначальные сведения по весьма немногим предметам», – пишет Чарторыйский.
Преобразования начались в 1802 году с учреждения министерства народного просвещения. Год спустя вышел закон об устройстве учебных заведений, объявлявший образование бессословным (то есть открытым для всех) и, что еще важнее, бесплатным на низшей, начальной, ступени.
Вводилась инфраструктура образования со стройной и логичной иерархией. Страна делилась на шесть округов, в каждом из которых имелся свой университет. Для этого к трем уже существовавшим – Московскому, Дерптскому и Виленскому – понадобилось открыть еще три: Санкт-Петербургский, Харьковский и Казанский. В каждом губернском городе появились гимназии, в уездном – училища, в волостях – приходские школы. Для подготовки достаточного количества учителей при университетах были созданы педагогические институты. Государственные расходы на просвещение были увеличены почти вчетверо, достигнув весьма значительной суммы в 2,8 миллиона рублей. Уже в 1804 году в стране существовало почти пятьсот учебных заведений, где обучались 33 тысячи человек – очень мало для страны с тридцатимиллионным населением, но намного больше, чем когда бы то ни было.
О важности, которая придавалась просвещению, свидетельствует тот факт, что двое из ведущих членов правительства, Новосильцев и Чарторыйский, взяли на себя управление педагогическими округами (первый – Петербургским, второй – Виленским).
Все неосуществленные мечты реформаторов о свободах и гражданских правах воплотились в «Университетском уставе». Высшее учебное заведение становилось своего рода республикой. Ректор и профессора не назначались сверху, а избирались на совете; университеты обладали полной автономией и сами определяли учебную программу; существовал в университете и собственный суд. По замыслу столичных мечтателей, островки просвещения и свободы в непросвещенной и несвободной стране должны были стать теплицами, где выращивается рассада для будущего повсеместного распространения. Предполагалось, что студенты, сформированные в таких условиях, захотят переустроить подобным же образом и всё общество. Это был весьма рискованный эксперимент для «ордынского» государства, о котором оно через некоторое время пожалеет.
Большинство историков оценивают реформы 1801–1805 гг. невысоко. Ключевский и вовсе заявляет: «Все они были безуспешны. Лучшие из них – те, которые остались бесплодными, другие имели худший результат, т. е. ухудшили положение дел». Оценка эта вряд ли справедлива. Конечно, члены Негласного Комитета осуществили лишь крошечную часть первоначальных великих планов, но и это было совсем немало.
Казанский университет. В. Тюнин
Перечислим то, что у них получилось.
Во-первых, была создана более современная и эффективная структура центрального управления.
Во-вторых, сформировалась национальная система образования.
В-третьих и в-главных, произошло кардинальное улучшение общественной атмосферы – это вообще самое важное, что только может произойти со страной. «Милостивые указы» Александра, которые должны были всего лишь стяжать новому государю популярность и подготовить почву для будущей конституции, произвели ментальную революцию, значение которой трудно переоценить. Стоило закончиться заморозкам и пригреть солнцу, и страна будто проснулась. Появилось множество ярких, талантливых людей и новых идей, главной из которых была совершенно революционная для «ордынской» модели концепция, что основной целью государства является народное благо. Мы подробно поговорим об этом в главе, посвященной эволюции российского общества.
Но безусловно результаты преобразований были скромнее, чем могли бы. Отчасти это объясняется тем, что «молодые реформаторы» оказались довольно посредственными администраторами.
О том, что Николай Новосильцев так и не справился с неподъемной задачей составления юридического кодекса, уже говорилось. Но не слишком хорошо в практической работе проявили себя и руководители ключевого министерства внутренних дел. Александровский вельможа П. Дивов, вблизи наблюдавший за их деятельностью, пишет: «Алча честолюбием, Кочубей был трудолюбив и весьма мелочен, но по несчастью без познания о своем отечестве и удивляясь премудрости иностранной, истребил весь древний порядок и главный есть виновник многосложности, который потом внедрил в управление государством. Товарищ его, человек добрый [Строганов], не имел о делах ни малейшего сведения». О том, что Павел Строганов был прекрасным человеком, но неважным работником, сообщают и другие современники, а про Виктора Кочубея рассказывают, что он увлекался главным образом кадровыми назначениями и устройством канцелярии. «Я не могу припомнить сейчас всех нововведений, предпринятых Кочубеем; не думаю, чтобы многие из них удержались долгое время», – признает и Чарторыйский.
Сам Чарторыйский, в 1804 году ставший министром иностранных дел, наоборот, «предпринял нововведения», которые надолго определили дальнейший ход событий, но эти новшества привели к роковым последствиям.
В 1801 году, придя к власти, Александр объявил новую доктрину российской внешней политики. Ее сформулировал Кочубей: «Россия достаточно велика и могущественна пространством, населением и положением, она безопасна со всех сторон, лишь бы сама оставляла других в покое. Она слишком часто и без малейшего повода вмешивалась в дела, прямо до нее не касавшиеся. Никакое событие не могло произойти в Европе без того, чтобы она не предъявила притязания на участие в нем. Она вела войны бесполезные и дорого ей стоившие… Какое соотношение может существовать между многочисленным населением России и европейскими делами вместе с войнами, из них проистекающими? Оно не извлекало из них ни малейшей пользы; русские гибли в этих войнах; с отчаянием поставляли они все более рекрутов и платили все больше налогов. Между тем действительное их благосостояние требовало продолжительного мира и постоянной попечительности мудрой и миролюбивой администрации».
Идея состояла в том, чтобы целиком и полностью сосредоточиться на внутренних реформах, не тратя силы и средства на внешние конфликты. Той же системы взглядов придерживался и канцлер А. Румянцев, глава иностранной коллегии.
Александр заявил тогда: «Если я подниму оружие, то это единственно для обороны от нападения, для защиты моих народов или жертв честолюбия, опасного для спокойствия Европы. Я никогда не приму участия во внутренних раздорах, которые будут волновать другие государства». В соответствии с этой программой и действовали.
Новый царь начал с того, что вернул обратно экспедиционный корпус, отряженный Павлом на завоевание Индии. Потом наладил испорченные отношения с Англией и стал оказывать знаки дружеского внимания Франции.
Следует сказать, что первые годы девятнадцатого века были чрезвычайно благоприятными для того, чтобы сосредоточиться на внутренних преобразованиях. Долгая война на время прекратилась. Только что утвердившийся у власти Бонапарт занялся обустройством своего государства, и другие державы вздохнули с облегчением.
Но в 1804 году ситуация изменилась. Неукротимый корсиканец решил, что пора двигаться дальше. Он провозгласил себя императором, скандализовав этим всех европейских монархов, и начал готовиться к вторжению в Англию.
Как раз в это время Чарторыйский сменил Румянцева в качестве руководителя российской внешней политики. Ее тон сразу стал иным. Россия будто спохватилась, что она не национальное государство, а империя, которая не имеет права ставить внутренние дела выше внешних. Так оно и есть – если страна желает сохранять за собой статус империи, но ведь доктрина 1801 года, кажется, утверждала обратное?
Агрессивность Наполеона заставила делать выбор: или оставаться посторонним наблюдателем и в результате потерять всякое международное влияние – или снова облачаться в имперские доспехи. У Чарторыйского в этом вопросе колебаний не было, и немалую роль в решительном повороте внешнеполитического курса сыграло честолюбие нового министра. И тогда, и потом многие объясняли действия князя Адама его «польскими» интересами, да и сам он в позднейшие, эмигрантские времена охотно это признавал, однако в доводах Чарторыйского звучит классическая имперская риторика в духе «за державу обидно». Он писал: «Политический престиж Франции заметно возрос, между тем как значение России очень упало… В гостиных злословили по поводу политического ничтожества, в которое впала Россия… Страна рискует сделаться игрушкой и прислужницей более предприимчивых и более деятельных правительств».
Чарторыйский составил «политический план», коренным образом отличавшийся от заявленного ранее принципа невмешательства. Теперь речь шла о «первенствующей роли в делах Европы» и об освобождении греков и славян от турецкого владычества, то есть об экспансии сразу в двух направлениях – западном и южном. Делались и практические выводы: «Нельзя было играть выдающуюся роль в делах Европы, брать на себя задачи судьи и посредника, препятствовать жестокостям, несправедливостям и хищениям, не встретившись при первых же шагах с Францией».
Как раз явился и подходящий повод: Наполеон казнил герцога Энгиенского, французского принца королевской крови (об этом инциденте – в следующей главе). Казалось бы, какое до этого дела России, если ее царь обещал не участвовать «во внутренних раздорах, которые будут волновать другие государства»?
Но, пишет Чарторыйский, «Россия не могла остаться безучастной зрительницей такого попрания справедливости и международного права, ввиду той роли, которую она наметила для себя в европейских делах». Он отправил в Париж резкую ноту. Наполеон, готовый к войне, ответил в тоне совсем уже оскорбительном. В переводе с дипломатического языка на обыкновенный ответ означал: не суйтесь в наши дела, мы ведь не требовали от вас объяснений, когда вы убили императора Павла. Хуже уязвить Александра было невозможно.
Дело шло прямым ходом к войне, а это плохое время для реформ.
Неотечественные войны. 1805–1812
«Фактор Наполеона»
За семь лет, предшествовавшие «грозе двенадцатого года», когда на карту будет поставлена национальная независимость, Россия ввязалась в четыре войны, которые по своей природе являлись имперскими, ибо велись во имя империи: ее международного влияния или расширения. Все эти вооруженные конфликты были вызваны – прямо или косвенно – одной и той же причиной. Назовем ее «фактор Наполеона».
Всякая революция, приводящая к гражданской войне и большому кровопролитию, неминуемо заканчивается диктатурой. Произошло это и во Франции, где пришел к власти чрезвычайно амбициозный и энергичный лидер – генерал, затем консул и наконец император Наполеон Бонапарт.
В предыдущих томах было немало рассуждений о роли личности в истории. Говорилось, что повернуть мировые макропроцессы в ту или иную сторону по собственной воле не может никто. Всякий правитель, даже самый великий, лишь способен их немного ускорить либо замедлить. Но сильный вождь (обычно это полководец, завоеватель) вполне может оказать огромное влияние на судьбу отдельной страны или целого региона. В качестве примера ранее приводился Чингисхан. В силу объективных причин Великая Степь рано или поздно должна была захлестнуть всю Азию и восток Европы, но то что это движение зародилось не где-нибудь, а в Монголии – заслуга (или вина, в зависимости от взгляда) конкретной сильной личности.
В Наполеоновских войнах субъективного и случайного еще меньше – разве лишь в том, что они стали «наполеоновскими», а не «гошевскими», «жуберовскими» или носящими имя какого-нибудь иного триумфатора в борьбе за диктаторское кресло.
В конце XVIII века Франция была самой большой и могущественной страной Европы. Случившаяся там революция породила энергетический заряд огромной силы. Сражаясь с монархиями всего континента, республика нарастила богатырские мышцы, создала самую передовую армию своего времени. Возглавляли эту армию дерзкие, честолюбивые, бесконечно самоуверенные люди, жадные до почестей, славы и величия. Самый напористый и удачливый из них, подчинив себе Францию, конечно, не мог на этом остановиться. Вокруг находились богатые, аппетитные, слабые страны, которые грех было не взять силой оружия. Бонапарт неслучайно провозгласил себя не королем, но императором. Наполеон отлично понимал про империю главное: она должна все время расти и развиваться, иначе начнет усыхать и распадаться. Знал он (даже проговаривал вслух) и другую истину – что выскочке вроде него необходимо вести нацию от победы к победе. Он не наследственный монарх, народ не простит ему ни поражения, ни пассивности.
«Великим корсиканцем» принято восхищаться и любоваться. Если другой похожий завоеватель, Гитлер, воспринимается как чудовище, то Наполеон – как романтический герой. Но так ли уж велика между ними разница? Конечно, Бонапарт не изобрел расовой теории и не создал лагерей смерти, но это был точно такой же массовый убийца и агрессивный мегаломаньяк, вознамерившийся стать властелином всего мира. По разным оценкам в ходе Наполеоновских войн погибло от 3 до 6,5 миллионов человек (половина из них гражданские). Если верна вторая цифра, это 3,5 % населения тогдашней Европы – такова же пропорция людских потерь во Второй мировой войне.
Ничего романтического в кровавой наполеоновской эпопее нет. Это была самая настоящая глобальная катастрофа. И ее двигателем была мечта одного человека о величии.
Мы видели, как жила Россия в первые годы нового столетия, накануне столкновения с грозным врагом. Теперь давайте посмотрим, что в это время происходило во Франции.
Так называемая Война Второй коалиции, в которой при Павле неудачно поучаствовала и Россия, завершилась победой французского оружия. В 1801 году по Люневильскому мирному договору Австрия лишалась контроля над Германией и Италией, Франция же приобрела обширные и богатые территории на Рейне. В следующем году пришлось выйти из борьбы и Англии, которая по Амьенскому договору должна была вернуть захваченные ею заморские колонии, очистить Средиземноморье и отказаться от вмешательства в континентальные дела.
Добившись гегемонии в Европе, первый консул Бонапарт занялся обустройством своего государства и провел целую серию важных реформ, справившись с этой задачей несравненно успешнее, чем мечтатели из Негласного Комитета.
В какие-то три-четыре года французское государство преобразилось. Его административная структура приобрела стройность и логику. Теперь страна делилась на 80 департаментов, единообразно управляемых и возглавляемых префектами, которые назначались в Париже. Каждый населенный пункт получил собственного начальника – мэра.
Появился единый свод законов – задача, с которой, как мы знаем, российские реформаторы не совладали.
Новоучрежденное ведомство, Банк Франции, навел порядок в финансовой сфере. Доходы государства возросли, расходы упорядочились.
В 1802 году была создана национальная система школьного образования, и скоро Франция станет страной всеобщей грамотности.
Однако все эти энергичные преобразования затевались не для того, чтобы привести страну к процветанию, а чтоб подготовиться к следующему витку экспансии.
Централизация административной и финансовой системы позволила эффективнее собирать налоги и быстрее проводить воинский призыв. Страна превращалась в базу для поддержки армии.
Одновременно Наполеон концентрировал в своих руках всё больше и больше личной власти. Он расправился с левой и правой оппозицией, закрыл большинство газет, а оставшиеся поставил под контроль. Народное волеизъявление, это главное завоевание революции, диктатор использовал только для легитимизации своего статуса. В 1802 году французы послушно проголосовали за то, чтобы первый консул превратился в пожизненного консула (99 % было «за»), а еще через два года, уже без всяких плебисцитов, Наполеон был провозглашен императором. В стране формально продолжала действовать конституция, но фактически Франция стала жестко автократическим государством.
Превратив страну в единый лагерь, новоявленный император решил, что готов продолжить борьбу за мировое первенство. Главным препятствием этому была Англия – не в военном, а в экономическом смысле. Промышленность островного государства, раньше всех приступившего к индустриальной революции, обеспечивала своей продукцией всю Европу; английская торговля повсеместно доминировала. Наполеону было совершенно ясно, что, не покончив с британской проблемой, он своих целей не добьется.
Император поступил с всегдашней решительностью. Уже в мае 1803 года война возобновилась. Наполеон оккупировал ганноверские владения английской короны и начал собирать на берегу Ла-Манша огромную десантную армию. 1700 судов должны были перевезти ее через узкий пролив.
Остальная Европа наблюдала за этими приготовлениями с ужасом. Английские дипломаты в Вене, Берлине, Санкт-Петербурге доказывали, что, расправившись с Британией, «корсиканское чудовище» затем легко завоюет и остальную Европу.
Неоднократно битые немцы и австрийцы ввязываться в войну не решались. Но русские, сравнительно легко отделавшиеся в 1800 году и к тому же отделенные от Франции значительным расстоянием, особенного страха перед Бонапартом не испытывали. Одной из причин перемены во внешнеполитической доктрине Александра I, более серьезной, чем воззрения нового министра иностранных дел Чарторыйского, была явная неудача затеянных реформ. В подобных случаях у правительств часто возникает искушение компенсировать внутренние неурядицы военными победами. В своей армии, так прекрасно маршировавшей на парадах, гатчинский воспитанник не сомневался. Мечталось ему и о полководческой славе – наполеоновские свершения многим тогда вскружили голову.
Казнь герцога Энгиенского. Ж.-М. Гастон Онфре де Бревиль
Сочетание всех этих мотивов побудило царя всерьез задуматься о войне. Недоставало только какого-нибудь красивого повода – и он нашелся: расправа с герцогом Энгиенским.
Вернее говоря, этот повод уже имелся, поскольку событие было довольно давнее. Злосчастного принца-эмигранта, которого во Франции почему-то считали виновным в организации покушения на Бонапарта, хитростью выманили с германской территории и потом расстреляли еще в марте 1804 года, а свои военные приготовления Россия начала лишь год спустя, но какое это имело значение, если решение воевать уже было принято?
Впрочем, пробудившуюся воинственность Александра ни в коем случае нельзя объяснять субъективными причинами. С «фактором Наполеона» нужно было что-то делать. Казалось очевидным, что агрессора необходимо остановить, пока не поздно. С поражением Англии французы действительно стали бы полновластными хозяевами Европы, и рано или поздно России все равно пришлось бы сражаться с ними, но уже в одиночку. (Как известно, в конце концов это и произошло.)
Ошибка царя заключалась в том, что, во-первых, останавливать Наполеона «на дальних подступах» к этому времени было уже поздно, а во-вторых, Александр неадекватно оценивал соотношение сил.
Первая война с Наполеоном
На бумаге-то все выглядело великолепно.
В апреле 1805 года Россия заключила союзный договор с Англией. Серьезной военной помощи от последней ждать не приходилось, потому что вся мощь морского королевства была во флоте. Зато британцы располагали деньгами. Всем, кто присоединится к коалиции, они обещали выплачивать по 12 фунтов в год за каждого солдата – существенная поддержка. В августе к союзу примкнула Австрия. Потом еще две страны: Швеция и южноитальянское Королевство обеих Сицилий. Пруссия колебалась, но ее рассчитывали привлечь к альянсу в ходе кампании.
Составился внушительный план.
Русско-австрийская армия в 130 тысяч солдат, соединившись в Баварии, пойдет прямо на Францию. Другая русская армия встанет у прусской границы и тем самым ободрит робкого короля Фридриха-Вильгельма III, после чего союзное войско (в которое вольются и шведы) начнет наступление в Северной Германии. В Ломбардии и Венето будет действовать еще одна австрийская армия, а на юге Италии – сицилийцы при поддержке русского и британского десантов. Таким образом, Наполеона собирались атаковать огромными силами (полмиллиона воинов) с четырех направлений.
Всё это очень напоминало стратегию предыдущего антифранцузского союза, которая провалилась из-за своей чрезмерной громоздкости и несогласованности действий. Даже удивительно, что члены коалиции не извлекли из того неудачного опыта уроков. А ведь на этот раз им предстояло еще и иметь дело с «фактором Наполеона». В. Соловьев пишет: «…Все говорилось только о количестве: «У нас будет много войска, у Наполеона будет меньше, мы его победим», а не говорили, что против Наполеона, первого полководца времени, мы выставим подобного ему; против его знаменитых генералов, против его воспитанного на победах войска мы выставим таких же генералов, такое же войско».
План кампании исходил из странного предположения, что французы будут пассивны. Но чего Наполеон никогда не уступал врагу, так это инициативы.
Основным контингентом австрийцев, Дунайской армией, командовал барон Мак, про которого Бонапарт впоследствии скажет: «Это самый посредственный человек из всех, которые мне когда-либо встречались. Самоуверенный, самолюбивый, уверенный, что ему все под силу».
Так Мак и действовал. Не дожидаясь подхода русских, которым надо было преодолеть изрядное расстояние, австрийский командующий перешел в наступление.
Этого Бонапарту и было нужно. Стратегия великого полководца обычно заключалась в том, чтобы разбивать превосходящего по численности противника по частям. Император двинулся от Ла-Манша в Баварию, преодолев за месяц тысячу километров, причем для сокращения маршрута прошел через прусские владения. Вместо того, чтобы возмутиться и объявить войну, король Фридрих-Вильгельм III перепугался. Шансы на немедленное вступление пруссаков в коалицию уменьшились.
Правда, в выигрыше оказалась Англия: непосредственная угроза наполеоновского вторжения отодвигалась, а скоро и вовсе исчезла, поскольку в октябре, при Трафальгаре, адмирал Нельсон истребил весь французский флот.
Но для остальных союзников дела приобретали скверный оборот.
Русская армия под командованием генерала Кутузова спешила на помощь Маку, как могла, выматывая себя форсированными маршами, но все равно опоздала.
Французы потрепали австрийцев в нескольких сражениях, потом окружили Мака в Ульме и 20 октября заставили капитулировать.
Кутузов оказался один на один со всей французской армией, которая брала его в клещи. Благодаря знаменитому Шенграбенскому маневру, описанному в романе «Война и мир», когда 7-тысячный отряд храброго Багратиона задержал втрое сильнейший корпус маршала Мюрата, армия Кутузова смогла отступить и соединиться со вторым эшелоном, который вел из России генерал Буксгевден, а также с остатками австрийского войска.
Еще больше, чем громить противника по частям, Наполеон любил генеральные сражения, когда можно одним ударом решить участь всей кампании.
Такое сражение и произошло 20 ноября близ моравского городка Аустерлиц.
Эту битву назвали «Сражением трех императоров». Правда, только один из императоров, французский, действительно командовал своим войском. Двое остальных, Александр I и Франц II, лишь присутствовали при армии, причем российский самодержец мечтал о полководческих лаврах и во все вмешивался. На нем и лежит основная ответственность за случившуюся катастрофу.
Сражению предшествовал военный совет, на котором формальный главнокомандующий Кутузов высказался за отступление. Александр осторожничать не желал, настаивая на решительных действиях, и Кутузов не посмел спорить, за что потом многие, включая самого царя, будут его осуждать. «Я был молод и неопытен, – скажет впоследствии Александр. – Кутузов говорил мне, что нам надобно было действовать иначе, но ему следовало быть настойчивее».
После 1812 года Михаил Илларионович войдет в историю как спаситель отечества и национальный герой, но в начале александровского царствования общественная репутация у него была неважная. Все знали, что он суворовский соратник, но помнили и о том, что главную свою карьеру Кутузов сделал не на полях сражений, а во дворце, угодничая перед екатерининским фаворитом Зубовым.
Готовясь к войне, царь не видел в русской армии генерала, способного противостоять Наполеону. Хотел пригласить знаменитого француза Жан-Виктора Моро, заклятого бонапартовского врага, но тот находился далеко, в Америке. Кутузов был назначен за неимением лучшей кандидатуры и проявил себя не лучшим образом. На военном совете перед Аустерлицем царедворец в нем оказался сильнее полководца.
У французов было 75 тысяч солдат, у русских с австрийцами несколько больше, 85 тысяч, но Наполеон их переманеврировал, заманил под массированный артиллерийский огонь, атакой прорвал центр и завершил разгром фланговым ударом. Почти половина союзной армии полегла или угодила в плен (в том числе восемь русских генералов – невиданный со времен Нарвы позор).
Уже через день император Франц попросил Наполеона о встрече. Австрия вышла из войны, заключив очень тяжелый мир: потеряла обширные территории и согласилась на упразднение тысячелетней Священной Римской империи. Одним из условий было немедленное удаление русских войск.
Аустерлиц. Шарль Верне
Разгромленный, униженный, едва спасшийся Александр тут впервые проявил свое знаменитое упорство: мириться он не собирался. В 1812 году иного выбора у царя и не будет, поскольку речь пойдет о спасении отечества, но в 1805 году, после Аустерлица, императором в первую очередь руководило уязвленное самолюбие – не упорство, а упрямство, которое будет стоить стране больших жертв и вскоре приведет врага к самым ее границам.
Весь следующий год Россия не вела активных действий, собирая новую армию и уговаривая Пруссию вступить в войну.
Наполеон же времени не терял и успел достичь многого.
Он перекроил карту Западной Европы, обеспечив себя целой командой стран-сателлитов. Брат императора Луи стал королем Голландии. Баварский курфюрст получил королевский титул и породнился с Наполеоном, выдав свою дочь за императорского пасынка Эжена Богарне. В Германии вместо отмененной империи возник Рейнский союз небольших государств, протектором которого стал Бонапарт. Королевство обеих Сицилий, враждебное Франции, превратилось в «королевство одной Сицилии» – самую богатую часть этой страны, юг Апеннинского полуострова, забрал себе другой брат Наполеона – Жозеф, объявленный королем Неаполитанским. Теперь основная часть континента была на стороне Франции.
Создав новую германскую конфедерацию, враждебную по отношению к Пруссии, Наполеон сам сознательно спровоцировал Пруссию на войну – император был к ней готов и желал разгромить этого не слишком серьезного противника побыстрее, пока русские раскачиваются.
Пруссаки еще и сами помогли Бонапарту. Повторяя прошлогоднюю ошибку австрийцев, они начали боевые действия, не дождавшись подхода русской армии. Разгром был молниеносным и сокрушительным. В один день, 14 октября 1806 года, были наголову разбиты две прусские армии – одна под Иеной, другая под Ауэрштедтом. Французы заняли Берлин и оккупировали почти всю страну. Теперь они двигались к русским рубежам. Россия, не получив никакой пользы от долгожданного прусского союзника, опять оказалась один на один с врагом.
В ноябре французы заняли прусскую часть Польши, включая Варшаву. Навстречу двигалась 160-тысячная русская армия, собранная напряжением всех сил и ресурсов империи.
Опять возникли проблемы с командованием. Сначала Александр поставил во главе войска фельдмаршала графа Михаила Каменского, когда-то успешно воевавшего против турок, но состарившегося и нездорового. Скоро пришлось искать ему замену.
Интересно, что в этой трудной, даже отчаянной ситуации царь выбрал Леонтия Беннигсена, чуть ли не главного руководителя переворота 1801 года – хотя очень не любил всех участников заговора. Беннигсен славился решительностью и хладнокровием. Однако для того, чтобы противостоять Наполеону, этих качеств было недостаточно.
Беннигсен боялся быть отрезанным от российской территории, придерживался оборонительной тактики и все время отступал, с большим или меньшим успехом отбиваясь от наседающих французов.
В конце января 1807 года ему все же пришлось дать сражение главным силам Наполеона близ восточнопрусского городка Прейсиш-Эйлау. В ужасной бойне, где с обеих сторон были убиты и ранены 50 тысяч человек, ни одна сторона не одержала победы и каждая объявила себя победительницей. Но уже то, что непобедимый Наполеон не смог взять верх над противником, необычайно окрылило русских. Беннигсен, еще и сильно преувеличивший свои достижения в реляциях, на некоторое время прославился. Но когда после перерыва военные действия возобновились и состоялось решающее сражение при Фридлянде, Беннигсен переосторожничал: сначала упустил шанс разгромить французский авангард, оторвавшийся от главных сил, потом дал втянуть себя в затяжной бой и оказался в ловушке. Подошел Наполеон с костяком армии и нанес русским тяжелейшее поражение. Остатки разбитой армии отступили за пограничную реку Неман. Возникла угроза вражеского вторжения на русскую территорию, и отражать его было уже нечем.
Война с Наполеоном 1805–1807 гг. М. Романова
Еще один удар, не менее чувствительный, по России нанесли союзники-англичане. В Лондоне объявили, что больше денег на войну не дадут, даже на условиях займа. По выражению историка М. Покровского, «видимо, там окончательно разочаровались в качестве русских штыков».
В этой ситуации Александру пришлось просить мира.
Худой мир
Уже через десять дней после проигранной битвы Александр лично встретился с Наполеоном. Первое свидание произошло близ восточнопрусского Тильзита, на плоту посередине Немана. Император Запада и Император Востока решали судьбы Европы в доверительном разговоре с глазу на глаз.
Оба монарха считали себя великими хитрецами и мастерами дипломатии, каждый надеялся переиграть партнера. Историки спорят, кому это удалось лучше. Пожалуй, все-таки Наполеону.
Конечно, позиция Бонапарта была сильней. Он выиграл войну и теперь мог изображать великодушие, но в мире он был заинтересован не меньше, чем Александр. Французская армия была совершенно не готова к большому восточному походу. Кроме того у Наполеона к этому времени сложились совсем иные планы, нацеленные на противоположный край континента – нужно было развязать себе руки на Востоке. Второй, не менее важной целью было втянуть Россию в антианглийский альянс – не в военном смысле, а в политическом. Была и третья задача: возродить Польшу – не столько из благодарности польским солдатам, доблестно сражавшимся во французской армии, сколько для противовеса России. Последнее условие для Александра было особенно тяжелым, поскольку любое польское национальное государство немедленно начало бы претендовать на бывшие владения Речи Посполитой, присоединенные Екатериной Великой.
Всего этого Наполеон добился: обезопасил восточный фланг, заставил Россию присоединиться к континентальной блокаде и сделал важный шаг к возрождению польской государственности – создал из прусской части Польши великое герцогство Варшавское. Формально оно не являлось полноценной страной, признавая своим монархом саксонского короля, однако обладало автономией и, главное, имело собственную армию, которая со временем достигнет внушительной цифры в 85 тысяч штыков и сабель. Если учитывать, что Саксония была во всем покорна Наполеону, выходило, что по соседству с Россией возник мощный профранцузский плацдарм.
Что получил в обмен Александр? Во-первых, он очень просил не уничтожать Пруссию, и Бонапарт, так и быть, оставил Фридриху-Вильгельму половину территории. Но в стране разместились французские гарнизоны, и Пруссия превратилась в наполеоновского сателлита. В 1812 году ее вооруженные силы присоединятся к Великой Армии, так что выгоды от этой «дипломатической победы» царя весьма сомнительны.
Великие друзья. Жан-Батист Дебре
Во-вторых, Россия получила в утешение маленький кусочек прусской Польши – то есть Бонапарт дал то, что ему не принадлежало, и тем самым подмочил в глазах Фридриха-Вильгельма русское заступничество.
Пожалуй, следует согласиться с мнением В. Соловьева, писавшего: «Война была ведена дурно, потерпели поражение, испугались и отдались в руки победителю, заключили с ним союз – для чего? Союз с Наполеоном – значит, постоянная война, ибо он постоянно воюет, и Россия будет теперь ходить на войну, куда он захочет, – союз! И прежде всего ссора с Англией, естественной, всегдашней союзницей, прекращение выгодной, необходимой торговли, и за все это Наполеон дал Белостокскую область, отнятую у нашего же союзника, прусского короля».
Именно так – с разочарованием и осуждением – восприняло Тильзитский мир тогдашнее русское общество, то есть, собственно, дворянство. Во время войны были взяты 600 тысяч рекрутов, то есть в основном помещичьих работников, были потрачены огромные денежные средства – и все ради Белостока? Недоумевал и народ: как это вчерашний супостат, чудовище и антихрист Буонапарте вдруг оказался «дорогим другом» и «любезным братом» батюшки-царя? Ропот и недовольство были так велики, что в Петербурге не сразу решились обнародовать условия мирного договора.
А дальше, когда проявились последствия участия в антианглийской блокаде, дела пошли еще хуже.
Новое средство экономической войны, придуманное Наполеоном, должно было лишить Англию главного ее оружия – огромных денежных доходов, приносимых передовой индустрией и морской торговлей. В 1806 году был издан декрет, по которому вся береговая линия Европы провозглашалась закрытой для британских товаров. Расчет был двойной: с одной стороны, разорить Англию, с другой – помочь французской промышленности занять освободившийся рынок.
России континентальная блокада наносила больший ущерб, чем Англии, которая для русских с давних пор являлась главным внешнеторговым партнером. Пенька, лен, лес, железо и прочие статьи традиционного русского экспорта теперь не находили сбыта. Осталась Россия и без множества необходимых ей английских товаров; резко сократились поступления в казну от таможенных пошлин.
А тем временем Наполеон не сидел сложа руки. Он затеял масштабную операцию на западе, где сначала оккупировал не присоединившуюся к блокаде Португалию, а затем, раз уж все равно войска находились на Пиренеях, решил забрать себе слабое испанское королевство. В 1808 году Наполеон «пересадил» своего брата Жозефа с неаполитанского престола на испанский. Однако в стране вспыхнуло восстание, справиться с которым оказалось очень трудно. Вместо послушного союзника, каковой Испания была прежде, Бонапарт обрел яростного, непримиримого врага. Пиренейская авантюра стала первой большой ошибкой Наполеона. Огромный резонанс имело поражение французов при Байлене, где корпус генерала Дюпона был вынужден сдаться испанцам. В притихшей Европе засомневались – так ли уж велик великий завоеватель, так ли уж непобедимо французское оружие?
В этой ситуации Бонапарт повел себя, как азартный игрок, повышающий ставки. Единственной большой страной, не участвовавшей в блокаде, оставалась Австрия. Подчинив ее своей воле, Наполеон стал бы полновластным хозяином всей Европы.
Но прежде чем воевать с Австрией, следовало убедиться, что к ней не присоединится Россия, и Бонапарт просит Александра о новом свидании.
В сентябре 1808 года они встретились в Эрфурте. И опять Наполеон добился своего. Он получил от России гарантии как минимум невмешательства, а то и помощи, расплатившись тем, что ему не принадлежало: обещанием не препятствовать русскому захвату Молдавии и Финляндии. Первая являлась владением Турции, вторая – Швеции, и России еще предстояло за эти «подарки» посражаться. Большой своей победой Александр считал согласие «любезного брата» вывести войска с территории Варшавского герцогства, но этот жест был сугубо символическим, ибо сама польская армия по сути дела являлась частью французской.
В следующем 1809 году Наполеон в очередной раз и теперь уже окончательно разгромил изолированную Австрию. Отнял у нее часть территории, заставил выплатить контрибуцию и присоединиться к континентальной блокаде. Великое герцогство Варшавское увеличилось почти вдвое за счет австрийской части Польши, а России, повторив один раз уже отработанный прием, победитель отдал небольшой кусок австрийской Галиции (впоследствии, в 1815 году, возвращенный Александром обратно). Французско-австрийское сближение было закреплено династическим союзом: в 1810 году Наполеон женился на дочери императора Франца.
Матримониальные демарши «великого человека» – дело, казалось бы, сугубо приватное – сыграли существенную роль в европейской истории, поскольку сильно испортили отношения между Францией и Россией. Наполеон решил развестись со своей супругой Жозефиной не столько из-за бездетности этого брака (наследником можно было сделать пасынка или кого-то из племянников), сколько из соображений политико-стратегических. Ему хотелось закрепить свое положение родством со старинным царствующим домом – причем лучше всего с российским.
Бонапарт стал свататься к сестре царя Екатерине. Но Екатерина Павловна была девушкой с характером и предпочла выйти замуж по любви – за принца Ольденбургского. Тогда французский император переключил внимание на Анну Павловну, но ему опять вежливо отказали, сославшись на юность великой княжны.
Наполеон расценил это как афронт и проявление враждебности. Очень возможно, что, если бы подобный династический союз состоялся, войны 1812 года не случилось бы и вся мировая история пошла бы иначе. Вместо этого Наполеону пришлось довольствоваться родством с австрийским домом, что никак не изменило баланса европейских сил, поскольку к тому времени Вена и так уже была во всем покорна Франции.
Положение всеевропейского диктатора казалось незыблемым, его контроль над континентом – абсолютным, но на самом деле ситуация наполеоновской Франции становилась все более тревожной. Одолев всех врагов на полях сражений, она проигрывала другую войну – экономическую.
Анна Павловна. Жан-Анри Беннер (слева)
Екатерина Павловна. Иоганн-Фридрих Тишбейн (справа)
С 1810 года в стране начался масштабный, всесторонний кризис, затронувший практически все сферы хозяйства. Французская индустрия не смогла заменить английскую, ее продукция не пользовалась таким же спросом, а объемы производства были недостаточны. Из-за того, что значительная часть здоровых молодых мужчин служила в армии, не хватало рабочих рук. По той же причине, усугубленной жестокой засухой 1811 года, произошел аграрный кризис. Начались перебои с продовольствием, резко подорожал хлеб. Военные империи редко бывают рачительными хозяевами, и наполеоновская держава не стала здесь исключением.
Отчасти – да, пожалуй, и во многом – в неэффективности блокады была повинна Россия, скоро нашедшая незамысловатый способ обойти антианглийскую санкционную систему: товары перевозились на судах нейтральных стран. Для Наполеона это, разумеется, не являлось секретом. Кроме того, Россия ввела высокие таможенные тарифы, сильно бившие по французскому импорту, и отказывалась их отменять.
Таким образом, новое столкновение двух империй было вызвано тремя главными причинами. Во-первых, Наполеону стало ясно, что при российском саботаже Англию ему не разорить. Во-вторых, что без полного подчинения России «по австрийскому образцу» контроль над Европой будет оставаться неполным и непрочным. Наконец, в-третьих, внутренние проблемы Франции, ухудшение жизни народа требовали новых триумфов – это обычная логика агрессивных режимов.
Поводов для взаимного раздражения и ухудшения отношений было более чем достаточно, но острее всего стоял польский вопрос, очень чувствительный для России.
Великое герцогство Варшавское, к 1812 году уже довольно большая страна, рассматривалось в Петербурге как плацдарм для польского реванша. К русским попал секретный доклад, составленный для Наполеона его гофмаршалом Дюроком, где речь шла о восстановлении Польши в границах 1772 года, а единственной страной, удерживавшей бывшие польские земли, теперь оставалась Россия. Александр предложил Наполеону заключить договор, который гарантировал бы отказ от подобных планов, и такой документ даже был составлен. Но французский император его не подписал, и это было равнозначно признанию в агрессивных намерениях.
Худой мир с французами был, конечно, лучше ссоры, но к началу 1812 года он совсем уж прохудился. И Наполеон, и Александр, каждый по своим резонам, считали войну неизбежной и открыто к ней готовились.
А между тем период между двумя французскими войнами для России вовсе не был мирной передышкой. Империя непрерывно сражалась – то на юге, то на севере, то там и сям одновременно.
Персидская война
Самым протяженным и вялотекущим был вооруженный конфликт с Персией, начавшийся еще в 1804 году. Причиной стала российская экспансия в Закавказье, отнюдь не закончившаяся присоединением в 1801 году Картли-Кахетинского царства. Еще через два года империя взяла под свое крыло Мегрелию, затем Имеретию и Гурию. Но не остановилась и на этом, двинулась дальше, уже в мусульманские края.
В начале 1804 года генерал Цицианов силой оружия захватил Гянджинское ханство в северо-западном «Адербиджане» – на том шатком основании, что когда-то давно эта область принадлежала Грузии.
Но Гянджу считала своей подконтрольной территорией Персия. Там недавно сменилась династия, и одряхлевшее государство существенно усилилось. Правил им энергичный шах Фетх-Али, а его юный наследник Аббас-Мирза оказался способным военачальником. С тридцатитысячной армией принц пошел на Тифлис, но потерпел поражение от регулярных войск Цицианова. Однако взять Ереван русские не смогли и отступили.
В следующем году Цицианов, уже не ссылаясь на историю, а просто по праву силы занял еще несколько княжеств, в том числе Карабах, и подошел к Баку. Но здесь русский корпус постигла неудача. Во время переговоров бакинцы убили генерала, после чего войско в смятении отступило. Пришлось заключать с персами перемирие, то есть война затягивалась. Она продолжалась с перерывами, причем Аббас-Мирза все время атаковал, и русским надо было обороняться. Из-за того, что в это время параллельно шли другие, более важные войны, сил на наступательные действия у империи не хватало.
В 1812 году, узнав о нашествии Наполеона, Аббас-Мирза приготовился к большому рейду. По иронии судьбы оружием и деньгами для этого предприятия персов снабдили англичане, рассматривавшие Россию как наполеоновского союзника и, стало быть, врага. Ко времени персидского наступления всё переменилось, и Лондон с Петербургом снова оказались на одной стороне, но сделанное было уже не поправить.
Аббас-Мирза успешно вторгся в Карабах, захватил в плен целый русский батальон и взял штурмом сильную крепость Ленкорань. Царские представители начали переговоры, предлагая отдать часть азербайджанских территорий. Персы требовали, чтобы русские очистили всю Грузию. Но в октябре генерал Котляревский с отрядом в две с половиной тысячи человек внезапно атаковал впятеро, а то и вшестеро бóльшую вражескую армию и разгромил ее. Военная ситуация изменилась, а вскоре за тем стало известно, что наполеоновское нашествие провалилось.
Лишь после этого, уже в 1813 году, шах согласился заключить мир, признав российские приобретения в Закавказье и право России держать военную флотилию на Каспии. На время империя этим удовлетворилась.
Принц Аббас-Мирза. Михр-Али
Шведская война
Прошел почти век с тех пор, как Швеция утратила политическую важность, но Россия все время относилась к Стокгольму нервозно, потому что ее шведские владения находились в слишком опасной близости от Санкт-Петербурга. Шведы дважды предпринимали попытки реванша, надеясь вернуть захваченные Петром I территории, причем последний раз это произошло недавно, и в момент критический, когда Россия вела тяжелую войну с Турцией.
Правда, шведская армия была невелика, а король Густав IV держался русской ориентации, но полагаться на этого вздорного и строптивого молодого человека не следовало. Это он в 1796 году довел до инсульта Екатерину, в последний момент отказавшись жениться на великой княжне Александре Павловне. Таким же упрямцем Густав проявлял себя и в политике.
Впрочем, короля трудно винить в том, что он отказывался во всем следовать за Россией. Петербург сначала втянул Швецию в антифранцузскую коалицию и уговорил отправить войско на эту злосчастную войну, а после Тильзита с той же настойчивостью, выполняя обязательства перед Наполеоном, начал принуждать соседа примкнуть к континентальной блокаде. Это было бы чревато для Швеции полным экономическим крахом, поскольку страна зависела от английской торговли еще больше, чем Россия.
Густав отказал и вместо этого заключил союз с Англией, которая пообещала Стокгольму огромную финансовую помощь в случае войны с Россией. Александра же подталкивал к обострению Бонапарт, которому было важно завершить континентальную блокаду, присоединив к ней Скандинавию.
В Петербурге не сомневались, что война будет нетрудной, и собирались ее быстро закончить. В 1808 году Александр был уже не тот рыцарственный мечтатель, который в начале царствования клялся «поднять оружие единственно для обороны от нападения». Чтобы не дать противнику время подготовиться, русские войска сначала пересекли границу, а лишь потом была объявлена война. Командующий граф Буксгевден почти без сопротивления занял Гельсингфорс (Хельсинки) и захватил крепость Свеаборг, главную военную базу шведов в Финляндии. Русский флот оккупировал стратегически важный остров Готланд.
Но дальше всё пошло негладко. Шведы собрались с силами, набрали финское ополчение и нанесли несколько чувствительных ответных ударов.
В апреле отряд генерала Кульнева, будущего героя 1812 года, был сильно потрепан в бою. Другой генерал, Михаил Булатов, тоже потерпел поражение и даже попал в плен. Капитулировал русский десант, высадившийся на Аландских островах. В мае пришлось очистить Готланд. Тут на помощь шведам прибыла еще и английская эскадра.
Несмотря на численное преимущество (русская армия была в два с половиной раза больше), Буксгевден и его генералы повсюду оборонялись и отступали. Так продолжалось всё лето, а в сентябре Буксгевден даже хотел заключить перемирие, но царь не позволил. В это время как раз происходила встреча в Эрфурте, и затянувшаяся война выставляла Александра в крайне невыгодном свете перед Наполеоном. (Вообще вся эта эпопея удивительно напоминает тяжелую советско-финскую войну, когда вместо легкой победы получился конфуз, продемонстрировавший Гитлеру слабость советской армии.)
В октябре последовало еще одно поражение. В бою при Иденсальми генерал Николай Тучков (тот самый, что потом героически погибнет в 1812 году) был разбит небольшим шведским отрядом. Среди убитых оказался детский приятель императора Александра молодой генерал Михаил Долгоруков.
К концу осени из-за нехватки сил шведы в конце концов оставили Финляндию, но сдаваться не собирались. Было ясно, что придется переносить боевые действия непосредственно на шведскую территорию.
Вместо Буксгевдена командующим был назначен старый и опытный Кнорринг, но и он, по мнению нетерпеливого Александра, слишком осторожничал. Царь требовал продолжать кампанию и зимой. Она выдалась аномально холодной, море замерзло, и возник рискованный план провести армию прямо по льду. Кнорринг на это не решался. Из Петербурга прибыл военный министр Аракчеев – только тогда дело задвигалось.
В марте 1809 года корпус Багратиона – семнадцать с половиной тысяч солдат с артиллерией и лошадьми – совершил беспрецедентный переход по морю аки по суху из Або (современный Турку) к Аландским островам. На севере отряд генерала Павла Шувалова взял находившийся на финско-шведской границе Торнео. Авангард генерала Кульнева вышел почти к самому Стокгольму.
Непосредственная угроза русского вторжения привела к тому, что в Швеции, уставшей от взбалмошности Густава IV, произошел переворот. К власти пришел дядя короля герцог Зюдерманландский, предложивший перемирие. Кнорринг согласился и, пока не начал таять лед, отвел войска назад. Тут шведы мириться передумали, и война возобновилась.
Раздосадованный царь во второй раз сменил командующего. Теперь военными действиями стал руководить генерал Барклай-де-Толли. Провоевали еще несколько месяцев и завершили эту неожиданно тяжелую войну только в сентябре. По Фридрихсгамскому мирному договору Швеция отдавала Финляндию и Аландские острова.
Настоящим победителем в этой войне мог считать себя Наполеон. Швеция присоединялась к континентальной блокаде, а кроме того могла очень пригодиться в будущем на случай войны Франции с Россией. Ведь захочет же Стокгольм вернуть себе Финляндию?
Для пущей гарантии Бонапарт провел в Швеции политический маневр, казавшийся ему очень удачным.
Герцог Зюдерманландский, ныне король Карл XIII, был стар, болен и бездетен. Почему бы не пристроить к нему в наследники своего человека – например, маршала Жан-Батиста Бернадотта, который в 1806 году великодушно обошелся с пленными шведами и с тех пор стал в этой стране очень популярен. Идея была экзотическая, но в те времена в Европе появилось немало диковинных монархов: сыновья корсиканского адвоката Карло Буонапарте заняли троны Франции, Испании и королевства Вестфалия, сын трактирщика Мюрат стал королем Неаполитанским.
Медаль за Ледовый поход
Послушные шведы выдвинули только одно условие: чтобы француз принял лютеранскую веру. Бернадотта это не смутило. В 1810 году он получил отставку из наполеоновской армии и сделался шведским кронпринцем, а фактически правителем королевства, поскольку Карл XIII был в деменции и ни во что не вмешивался.
Заглядывая вперед, скажем, что здесь Бонапарт совершил большую ошибку. Со временем выяснится, что Бернадотт вовсе не симпатизирует своему бывшему императору и вообще теперь считает себя шведом, то есть национальные интересы новой родины для него важнее французских. А для Швеции английская торговля была по-прежнему жизненно необходима. Поэтому в 1812 году вместо того чтобы ударить по Санкт-Петербургу (это имело бы для России катастрофические последствия), Бернадотт сначала сохранит нейтралитет, а потом присоединится к антифранцузской коалиции.
Таким образом в случае с Швецией великий махинатор Наполеон сам себя перехитрил. Бернадотт, единственный из плеяды «бонапартовских» монархов, сохранит корону и оставит после себя династию, которая царствует и поныне.
Турецкая война
Эта война, тоже нелегкая, стала, как и шведская, одним из последствий конфликта с Францией.
Турецкая империя к началу девятнадцатого века трещала по швам. Ее христианские провинции и протектораты выходили из-под контроля, стремились к независимости. Власть султана Селима III подтачивал раздор внутри армии. Пытаясь ее модернизировать, падишах ввел полки европейского строя, и это вызывало недовольство у янычар, которых поддерживало нетерпимое ко всему новому консервативное духовенство.
После Аустерлица, когда давний враг турок Россия перестала казаться страшной, французы убедили султана, что настал удачный момент для реванша за минувшие поражения. Политика Константинополя по отношению к Петербургу переменилась. Турки стали чинить препятствия для прохода русских кораблей через проливы и сменили правителей в Молдавии и Румынии (тогдашней Валахии), которые придерживались прорусской ориентации. Это было прямым нарушением существующих договоров, поскольку два эти турецких протектората в то же время находились под покровительством России. Следующим шагом должно было стать введение туда турецких войск.
Чтобы не допустить этого, в ноябре 1806 года в придунайский край вошел корпус генерала Михельсона (того самого, который когда-то громил пугачевцев). Сопровождалась эта военная акция странными дипломатическими уверениями, что так будет лучше для самой же Турции, которую заморочил Бонапарт.
В Сербии в это время бушевало освободительное восстание, которому русские стали оказывать активную поддержку.
Султан, не ожидавший столь быстрой и сильной реакции со стороны Петербурга (французский посол уверял, что царю сейчас не до Турции), объявил войну не сразу. У него было недостаточно войск, чтобы воевать на два фронта. Сначала турки нанесли удар по сербам, захватив Белград, и только после этого, уже в середине декабря разорвали отношения с Россией. К этому времени фактически война уже велась. Русские отряды занимали турецкие крепости, повсюду происходили стычки.
Так прошла весна 1807 года. Крупных сражений не было, поскольку русские, занятые борьбой с Наполеоном, не могли держать на юге значительных сил, а турки собирали армию для контрнаступления небыстро. Активно действовала лишь русская эскадра под командованием адмирала Сенявина, нанесшая слабому турецкому флоту два поражения у греческих берегов.
К началу лета в Болгарии наконец появилась большая турецкая армия, в том числе полки «нового порядка», но этим воспользовались столичные янычары. Они свергли Селима и возвели на престол своего ставленника Мустафу IV. Пока в Турции царил хаос, сербские повстанцы отвоевали Белград, после чего, уже действуя как самостоятельное государство, сразу же заключили союзный договор с Россией. В это время еще и завершилась русско-французская война. Турки испугались, что теперь северная империя обрушится на них всей своей мощью, и поспешили заключить перемирие. Стороны договорились о компромиссе: в Придунайских княжествах не будет ни тех, ни других войск, а султан не станет карать сербов.
На подобных условиях мир не мог быть прочным. Осенью следующего 1808 года турецкие военачальники «нового порядка» прогнали янычарского султана. К власти пришел сторонник реформ Махмуд II, который начал приготовления к новой кампании. Теперь ему помогала уже не Франция, а Англия – деньгами, оружием, военными советниками.
В марте 1809 года война возобновилась. Как и в прошлый раз, турки прежде всего обрушились на Сербию и достигли там значительных успехов. Русская армия под руководством семидесятипятилетнего генерал-фельдмаршала Прозоровского действовала вяло. В августе Прозоровский умер, и командующим стал энергичный Багратион, но у этого полководца решительности было больше, чем стратегических дарований. Он раздробил свои невеликие силы на три части, сам отправился брать крепость Силистрия, не сумел ее взять и вернулся обратно на левый берег Дуная.
Недовольный Александр заменил Багратиона на еще более энергичного Николая Каменского, отличившегося в шведской войне. В кампанию 1810 года тот снова перешел через Дунай, взял несколько крепостей, в том числе Силистрию, не давшуюся Багратиону, и вторгся в Болгарию. Но у стен Шумлы, где засел большой турецкий гарнизон, после неудачного приступа Каменскому пришлось остановиться, а затем и отступить. В июле он попробовал взять крепость Рущук – опять неудача, и очень тяжелая. При штурме русские понесли огромные потери, восемь тысяч убитыми и ранеными.
Турецкие солдаты нового строя. Элбичей Атика
Осада Рущука длилась до середины сентября, когда крепость наконец капитулировала. Предполагался поход за Балканы, но его пришлось отложить до следующей кампании.
Вскоре после этого, готовясь к новой войне с Наполеоном, царь забрал у Каменского почти половину войск, так что весной наступать было не с чем. Командующему велели перейти к обороне и начинать переговоры о мире. Однако турки почувствовали свою силу и не желали мириться. Франция и ее нынешняя союзница Австрия всячески поддерживали в султане воинственность.
Положение России сделалось опасным. К этому времени было уже ясно, что новое столкновение с Наполеоном неизбежно. Незавершенная война на юге становилась тяжелым бременем. Заключить мир ценой серьезных уступок означало лишь разжечь аппетиты Константинополя и не давало гарантий, что во время французского нашествия турки не захотят большего. Надежды на победу не было. Армия и прежде, в значительно более сильном составе, не могла одолеть врага, теперь же там оставалось 45 тысяч солдат против 70 тысяч турецких.
В этих условиях царь снова заменил командующего, только теперь молодого и активного на старого и пассивного – Михаила Кутузова. После Аустерлица этот генерал, опозоренный поражением и нелюбимый императором, в основном прозябал на административных должностях. Царь остановил свой выбор на Кутузове, потому что лучшие боевые военачальники сейчас были нужны на западной границе, а на турецком фронте требовалось «держаться скромного поведения» и добиваться скорейшего мира.
Именно здесь, на Дунае, будущий победитель Наполеона, в это время уже 66-летний, почти списанный в тираж, впервые в полном объеме проявил свой уникальный полководческий талант. Кутузов никогда не был (и не станет) мастером полевого сражения, но он обладал даром более важным – стратегическим. В войне с турками старик совершил невозможное, чего от него никто не ждал.
В основных своих чертах кампания, разработанная Кутузовым, очень напоминает сценарий будущей Отечественной войны.
Сначала русский командующий выманил врага на удобное место. Кутузов действовал осторожно и даже робко, всячески преувеличивая свою слабость. К тому же, выполняя указание царя, все время присылал турецкому великому визирю Ахмед-паше мирные предложения. Преисполнившись самоуверенности, визирь сам повел свою армию в наступление и форсировал Дунай. При этом турецкое войско разделилось на две части: одна половина укрепилась на плацдарме, близ городка Слободзея, а другая осталась на правом берегу, чтобы обеспечивать снабжение.
Здесь Кутузов вдруг перестал вести себя сонно. Он переправил часть армии на тот берег и нанес удар по не ожидавшему нападения турецкому контингенту, который считал, что находится в глубоком тылу. Разгром был абсолютный. Великий визирь оказался заперт в ловушке – на чужой стороне, без продовольствия и боеприпасов. Поняв, что угодил в капкан, Ахмед-паша тут же согласился на все мирные предложения, но не тут-то было. Теперь Кутузов заканчивать войну не собирался.
Турки продержались несколько месяцев, терпя невыносимые лишения (две трети умерли от голода и болезней). Тем временем Кутузов выторговывал у султана хорошие условия.
Игра была рискованная – не из-за турок, которые остались без армии и больше опасности не представляли, а из-за Наполеона. Со дня на день могла начаться большая война, и тогда затягивание переговоров могло дорого обойтись России.
Но Кутузов выиграл. Он успел заключить мир вовремя, в мае 1812 года, всего за три недели до нашествия. Россия приобретала Бессарабию и Сухум, а Дунайские княжества и Сербия получили автономию. Год назад ни о чем подобном нельзя было и мечтать.
Главное же – теперь можно было не опасаться за южный фланг, когда начнется большая война.
Неромантические реформы
Так можно было бы назвать нововведения второго, послеаустерлицкого периода, ибо они были вызваны не отвлеченными идеями, почерпнутыми из просвещенной литературы, а насущной необходимостью – не поэзией, но прозой. Наилучшим кнутом для проведения реформ, как известно, является проигранная война, вскрывающая дефекты существующей системы. И горькие уроки 1805–1807 годов продемонстрировали Александру, что он и его высокомысленные друзья занимались не тем, чем нужно, и не так, как нужно. Они рассуждали об идеалах и справедливых законах, а надо было модернизировать армию, экономику, финансы. Правительство «молодых реформаторов» со всеми этими задачами не справилось.
В этот период все члены Негласного Комитета утрачивают свое влияние на императора и отдаляются от него. Кочубей перестает быть министром, Чарторыйский отстранен от иностранных дел и уезжает на родину руководить Виленским учебным округом, Новосильцев со Строгановым вовсе покидают Россию.
Требовались иные меры – конкретные, практические, с немедленным результатом.
И когда возник человек, который знал, что делать, царь вздохнул с облегчением. Появился кто-то, имевший ясный и выполнимый план.
План Сперанского
Этот человек, собственно, Александру был давно известен. Михаил Сперанский уже несколько лет управлял ключевым департаментом в министерстве внутренних дел, не раз составлял дельные докладные записки, одна из которых, поданная еще в 1803 году, рекомендовала повременить с коренной перестройкой государства, а на первом этапе, сохраняя все прерогативы самодержавия, ограничиться созданием учреждений, которые готовили бы «дух народный» (то есть общественное мнение) к грядущим великим переменам.
Окружение императора состояло из молодых «верхохватов» и екатерининских «стародумов». Сперанский был не похож ни на тех, ни на других. «Впечатлительного, более восприимчивого, чем деятельного Александра подкупило обаяние этого блестящего ума, твердого, как лед, но и холодного, как лед же, – пишет Ключевский. – Это была воплощенная система. Ворвавшись со своими крепкими неизрасходованными мозговыми нервами в петербургское общество, уставшее от делового безделья, Сперанский взволновал и встревожил его, как струя свежего воздуха, пробравшаяся в закупоренную комнату хворого человека, пропитанную благовонными миазмами». Другой историк, А. Корнилов, выражается лаконичнее, но еще комплиментарнее, называя Михаила Михайловича «быть может, самым замечательным государственным умом во всей новейшей русской истории».
В конце 1808 года этот самородок получает от царя задание подготовить план постепенного преобразования государства. Протрудившись над этим документом несколько месяцев, Сперанский представляет государю доклад, размахом и смелостью намного превосходящий программу Негласного Комитета. Автор проекта, скучно названного «Введение к уложению государственных законов», разработал не только порядок «учреждений», о которых поминал в записке 1803 года, но и – шире – новый принцип устроения российского общества.
Сперанский не покушался на крепостное право и не пытался установить всеобщее равенство. Он предлагал разделить население на три группы, отличающиеся по объему прав. Дворянство будет обладать правами гражданскими и политическими; «среднее состояние», то есть средний класс – купцы, мещане, свободные крестьяне – правами гражданскими и, в случае обладания достаточной собственностью, политическими; крепостные – только гражданскими. Главным критерием здесь становился размер собственности, то есть в основу социальной системы ставился параметр сугубо буржуазный. Переход в следующий класс, писал Сперанский, «всем отверзт, кто приобрел недвижимую собственность в известном количестве».
Гражданские права для помещичьих крестьян – это уже было очень много. Под политическими же правами имелось в виду участие в выборах, которые отныне должны были стать важным компонентом государственной системы.
Сперанский предлагал учредить «думы» на четырех уровнях: волостном, окружном, губернском и всероссийском. Высший из этих парламентов, Государственный Совет, существовал бы непосредственно при императоре.
Далее предлагалось разделить управление на три ветви. Исполнительной властью ведал бы Комитет министров и вся находящаяся под ним бюрократическая инфраструктура. Законы инициировались бы в думах. Судебную власть представлял бы Сенат.
При этом, по мысли реформатора, все власть по-прежнему оставалась бы в руках императора, который по своей воле назначал бы главу Государственного Совета и министров, лично утверждал бы все законы и решения инстанций. Однако же, будучи принятым, закон становился обязательным для всех, в том числе и для государя.
Указ, составленный Сперанским
По сути дела речь шла о первом шаге по преобразованию самодержавия в конституционную монархию. Сперанский писал об этом прямым текстом: «Российская конституция одолжена будет бытием своим не воспалению страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, устроив политическое бытие своего народа, может и имеет все способы дать ему самые правильные формы. Общий предмет преобразования состоит в том, чтобы правление, доселе самодержавное, постановить и учредить на непременяемом законе».
С присущей ему практичностью Михаил Михайлович прилагал к проекту подробный календарный план всех необходимых действий. Приступить к ним можно было немедленно и полностью осуществить программу в течение 1810 и 1811 годов.
Известно, что Александр сначала горячо одобрил проект, потом под влиянием консервативно настроенных министров и сенаторов заколебался и в конце концов не решился осуществить эту колоссальную реформу.
Большинство историков осуждают царя за робость, рассматривая провал программы Сперанского как еще одну упущенную возможность модернизации общественно-политической системы Российского государства. И действительно, на первый взгляд либеральный проект 1809 года смотрится весьма привлекательно. Однако, если проанализировать его с учетом веками складывавшейся государственной модели, возникает ощущение, что консерваторы, возможно, были правы.
Программа подтачивала две несущие опоры «ордынского» здания: ставила закон выше монарха и создавала легитимные общественные платформы, которые неминуемо начали бы конкурировать с исполнительной «вертикалью». При этом тотальная централизованная система принятия решений и унитарность государственного устройства (за исключением особого статуса Финляндии, о чем ниже) оставались незыблемыми. Нет сомнений, что это привело бы к ослаблению управляемости страной и кризису сохраняемого, но урезанного самодержавия. Нечто подобное случится век спустя, когда последний император своим манифестом 19 октября 1905 года введет «недоконституцию», после чего в империи наступит хаос. Следует учитывать еще и то, что во времена обсуждения программы Сперанского уже было ясно: назревает большая война со всей Европой. В этой ситуации демонтировать «ордынскую» модель, главным достоинством которой являлась прочность в годину тяжелых испытаний, было бы вдвойне рискованно.
В общем, скорее всего, Александр тогда поступил разумно.
«Календарный план» Сперанского был осуществлен частично, лишь в административной своей части.
Государственная реформа
Никаких предконституционных «учреждений» не возникло, но довольно существенно обновилась структура высших органов власти. Этому предшествовали два указа, направленные на то, чтобы повысить качество бюрократии.
В 1809 году сначала вышло постановление о том, что лица, имеющие придворное звание (камер-юнкер, камергер), но не исполняющие при дворе конкретных обязанностей, должны в двухмесячный срок найти себе какую-то настоящую службу. Эта мера очень раздражила высшую аристократию, но вызвала приток новых кадров в государственные ведомства как раз накануне административных реформ.
Второй мерой, более важной и совсем уж не понравившейся знати, была привязка карьеры к образованию. Раньше поднимались по чиновной лестнице в лучшем случае по выслуге лет, в худшей – просто благодаря хорошим связям. Однако для новой системы требовались квалифицированные, грамотные исполнители. Теперь никто не мог подняться выше восьмого класса (коллежский асессор), не имея университетского диплома или не сдав экзамены по целому кругу дисциплин. Еще более жесткие требования предъявлялись к особам, претендующим на пятый класс (статский советник), с которого начинались высшие чины.
Это новшество принесло два благих результата: старший и высший эшелоны чиновничества стали заметно профессиональней, а кроме того, наполнились студентами университеты, прежде не пользовавшиеся у дворянства особенной популярностью.
Подготовив подобным образом кадровую базу, в следующем 1810 году Сперанский приступил к собственно реформе. Суть ее сводилась к дальнейшей рационализации центрального управления.
Был учрежден Государственный Совет – но не в качестве представительного органа, как планировалось в проекте, а как высший совещательно-рекомендационный орган при государе. Его членами становились все министры, а председатель Комитета министров скоро стал и председателем Государственного Совета. Новый орган, по словам Сперанского, существовал для того, «чтобы власти законодательной, дотоле рассеянной и разбросанной, дать новое начертание постоянства и единообразия». Все законопроекты должны были сначала проходить через Государственный Совет. Таким образом, разделение высшей власти на исполнительную и законодательную не состоялось. Совет включал четыре департамента: общегосударственных законов, гражданский (в том числе церковный), финансово-промышленный и военный.
При Совете учреждалась Государственная канцелярия, которой руководил статс-секретарь, фактически первый бюрократ империи. Эту должность занял сам Сперанский.
На следующем этапе реорганизации подверглась министерская система, с учетом перекосов и диспропорции ее первоначального формата.
Все государственные дела теперь делились на пять сфер: 1) внешние сношения, 2) внешняя безопасность, 3) «государственная экономия», 4) законы, 5) внутренняя безопасность.
Внешними сношениями, естественно, занималось министерство иностранных дел, а внешней безопасностью – военное и морское министерства, законами – министерство юстиции. Здесь ничто не менялось. Но далее начинались новшества.
Под «государственной экономией» имелись в виду не только экономика и финансы, но вообще вся гражданская жизнь страны, ответственность за которую поделили между собой министерство финансов, министерство внутренних дел, министерство просвещения, казначейство и еще несколько профильных управлений. Для обеспечения же внутренней безопасности – по французскому, наполеоновскому образцу – вводилось министерство полиции, которая теперь приобретала самостоятельное значение.
Помимо стратегического перераспределения государственных обязанностей Сперанский усовершенствовал структуру и делопроизводство центральных ведомств. Ключевский почти век спустя напишет, что все эти нововведения «по стройности плана, логической последовательности его развития, по своеобразности и точности изложения доселе признаются образцовыми произведениями нашего законодательства».
Менялось и положение Сената. Этому маловразумительному органу и раньше неоднократно пытались придумать какую-то определенную функцию, да всё не получалось. Сперанский предложил устроить два сената: правительствующий из числа министров и их товарищей (взамен Комитета министров) и судебный – как высшую юридическую инстанцию. Второй сенат состоял бы как из царских назначенцев, так и из членов, избираемых дворянством. Но и в таком усеченном виде хитроумному Михаилу Михайловичу не удалось протащить в «ордынскую» модель элементы чуждого ей выборного устройства. Члены новосозданного Государственного Совета сразу почуяли опасность, и Сенат остался тем, чем был – ареопагом почтенных старцев.
Таким образом, даже реформа высших органов власти осуществилась лишь отчасти. Сперанский собирался превратить Россию в конституционную буржуазную монархию, а в результате всего лишь произвел технологический ремонт государственной самодержавной машины.
Фрагментарная либерализация
Хотя второй период преобразований главным образом коснулся работы государственной машины, кое-что было сделано и по части либерализации, но немногое и сугубо локально.
Идея освобождения крепостных на повестке дня уже не стояла, но положение их чуть-чуть улучшилось. В 1809 году вышел указ, запрещавший дворянам бесконтрольно ссылать крестьян в Сибирь, бывшие солдаты по выходе из службы обретали свободу, кроме того на помещиков возлагалась обязанность кормить свою живую собственность в неурожайные годы. Еще одна мера, вроде бы не имевшая отношения к гуманности – позволение крепостным заниматься коммерцией – будет иметь большие последствия, так как даст толчок появлению нового разряда капиталистов из числа предприимчивых крестьян.
Другим шажком на пути «малых дел» стал вклад Сперанского в развитие просвещения. Записка, в которой Михаил Михайлович обосновывал царю необходимость ввести образовательный ценз для чиновников, начиналась следующей преамбулой: «Главные средства, которыми правительство может действовать на воспитание народное, состоят: 1) В доставлении способов к просвещению. Сюда принадлежит устройство училищ, библиотек и тому подобных публичных заведений. 2) В побуждениях и некоторой моральной необходимости общего образования».
Многого на этом поприще Сперанский сделать не успел – только разработал систему духовного образования, в котором по обстоятельствам биографии очень хорошо разбирался, да способствовал открытию образцовой школы нового типа, Царскосельского лицея. Передовое по тем временам учебное заведение, где – о чудо – запрещались телесные наказания, должно было выпускать разносторонне образованных юношей, сразу по выпуске получавших чин титулярного советника. Как известно, из лицея потом выйдет много выдающихся и даже великих деятелей.
Самой же масштабной из либеральных инициатив этого времени стало особое устройство Финляндии.
Присоединенное к империи в 1809 году, после шведской войны, это «великое княжество» давало царю и его помощнику безопасный шанс поэкспериментировать с конституцией и свободами. Дело в том, что при шведах население этой провинции уже пользовалось набором определенных прав, так что вводить ничего нового почти не потребовалось. В Финляндии не было крепостных и существовало разделение властей на три ветви.
Сперанский стал доказывать, что покушаться на права финнов будет политически неправильно. Наоборот, нужно их сохранить и закрепить, «чтобы внутренним устройством Финляндии предоставить народу сему более выгод в соединении его с Россией, нежели сколько он имел, быв под обладанием Швеции».
Царскосельский лицей
Под руководством Михаила Михайловича был создан «План общего управления Финляндии», предоставлявший этому краю значительную автономию. На открытии финского представительного органа, Сейма, царь произнес речь, в которой местному населению даровались права, о каких русские могли только мечтать – в том числе верховенство закона.
Несомненно, у Александра и Сперанского была надежда, что Финляндия продемонстрирует остальной стране преимущества конституционного правления. Но благой пример помог так же мало, как частичная отмена крепостного права в Прибалтике. То есть самим финнам свободы, конечно, пошли впрок, поскольку великое княжество жило привольнее, зажиточнее и благоустроеннее, чем народ завоевавшей их империи, да только на исторической судьбе России это никак не скажется, лишь век спустя облегчит Финляндии обретение собственной государственности.
Финансовая санация
Михаил Сперанский не только занимался реформами, но и руководил всей хозяйственной деятельностью правительства. В тогдашней России, с ее пустой казной и огромным бюджетным дефицитом, это прежде всего означало выстраивание финансовой политики, которая смогла бы вывести страну из кризиса, а кроме того, надо было найти средства на обновление армии перед грядущей большой войной.
Еще в 1760-е годы начали печатать бумажные деньги, ассигнации, и запускали печатный станок по мере необходимости, так что их находилось в обращении больше, чем на полмиллиарда рублей. К этому следовало приплюсовать внешний долг. Бюджет 1808 года предполагал расход в 244,8 миллиона при доходе в 118,5 миллиона, то есть планировался с 52-процентным дефицитом, для покрытия которого опять пришлось печатать ассигнации. Рубль все сильнее обесценивался. К 1810 году он стоил не более 20 копеек серебром, то есть одну пятую номинала.
Финансовый кризис возник и по причинам политическим: из-за военных расходов, из-за континентальной блокады. Российский товарооборот чрезвычайно сократился, прежде всего за счет экспорта. Таможенные тарифы были таковы, что отечественной промышленности, и так слабой, стало невозможно конкурировать с привозными товарами, после Тильзита в основном французскими.
Из-за нехватки средств в первую очередь страдали «мирные» статьи бюджета. Например, траты на просвещение к 1810 году в реальных деньгах сократились втрое. Экономить приходилось даже царскому двору. Расходы на его содержание сократились более чем наполовину. «Таким образом, государственное хозяйство быстрыми шагами приближалось к краху», – резюмирует состояние российской экономики А. Корнилов.
Сперанский разработал программу санации, использовав для ее составления (кажется, впервые в отечественной истории) «команду экспертов». Главными из них были австрийский экономист Михаил Балугьянский, в будущем первый ректор Санкт-Петербургского университета, и профессор Людвиг фон Якоб из Галльского университета. Эта группа представила царю и только что учрежденному Государственному Совету план, предлагавший очень жесткие меры.
В финансовом положении России еще не раз будет возникать подобная катастрофическая ситуация, поэтому «чрезвычайная программа» Сперанского представляет не только исторический интерес.
Суть ее была проста: привести расходную часть бюджета в соответствие доходной.
Помимо режима строгой экономии (он и так уже существовал) предлагалось следующее.
1. Прекратить выпуск необеспеченных бумажных денег, а те, что уже находятся в обращении, признать государственным долгом и понемногу сокращать его, сжигая ассигнации. Впредь внутренние займы производить только под твердые гарантии – например, под залог государственного имущества. Это должно было повысить доверие к рублю и поднять его курс.
2. Учитывая чрезвычайность ситуации, временно повысить налоги – как прямые, так и косвенные. Метод был, прямо скажем, не новый, однако впервые при сборе подоходного налога вводилась прогрессивная шкала, так что основная тяжесть ложилась на дворян, еще при Екатерине освобожденных от всех личных налогов. С бедных помещиков взыскивался всего 1 %, а с богатых (имевших более 18 тысяч рублей годового дохода) вдесятеро больше.
3. Увеличить тарифы на импорт, поскольку континентальная блокада должна разорять Англию, но не Россию. А кроме того, возобновить экспорт товаров под нейтральным флагом и не заботиться о том, куда они потом попадут, хоть в ту же Англию.
План Сперанского был осуществлен только частично. Кое-что не удалось, а кое-что дало неоднозначный результат.
Прежде всего, не получилось прекратить выпуск ассигнаций, поскольку многие расходы сокращению не подлежали. Правда, напечатали меньше, чем могли бы, – в 1810 году только на 43 миллиона, но и этой уступки оказалось достаточно, чтобы сорвать «психологическое» укрепление рубля. Курс бумажных денег продолжил падение.
Легче всего, конечно, было изменить правила внешней торговли. Эта мера дала казне большую прибыль за счет резкого увеличения таможенных сборов. Очень оживилась и русская промышленность, продукция которой теперь, хоть и кривыми путями, снова добиралась до Англии. Но повышенные тарифы на французский импорт и саботаж континентальной блокады испортили отношения с Наполеоном и приблизили войну, которая обойдется во много раз дороже.
Что касается новых сборов с населения, то и это, разумеется, была палка о двух концах. Казна получила дополнительные средства, но в разоренной войнами стране новые тяготы вызвали повсеместное возмущение.
Пожалуй, все-таки финансовую политику Сперанского назвать оздоровлением трудно.
Опала Сперанского
Последняя полезная служба, которую царю сослужил Сперанский, состояла в том, что он взял на себя роль громоотвода и козла отпущения. Осуществленные правительством меры, в особенности податные, были болезненны для населения, и все винили статс-секретаря.
Большой свет ненавидел выскочку уже давно, а после налоговых указов имя Сперанского стало жупелом и для всего помещичьего сословия. В сущности, такого рода деятели очень выгодны для монархии при проведении непопулярной политики, поскольку принимают весь огонь общественной неприязни на себя, а «добрый царь» остается в стороне.
Партия врагов статс-секретаря возникла в момент проведения бюрократической реформы. Камер-юнкеры большого значения не имели, а вот ущемленные в привилегиях камергеры были как правило людьми влиятельными. Не прибавляла Сперанскому друзей в правительстве и самоуверенность, которой он преисполнился, достигнув высших степеней. Императору постоянно доносили о каких-то неосторожных или обидных словах Сперанского, и на самолюбивого Александра это действовало. Отношения между государем и его помощником постепенно охлаждались.
Больше всего против Михаила Михайловича интриговали министр полиции Александр Балашов и сестра государя Екатерина Павловна, вокруг которой сформировался кружок консерваторов. Считается, что это они, каждый на свой лад, нанесли по Сперанскому решающие удары.
В начале 1812 года министра перестали приглашать к императору. Вечером 17 марта вдруг вызвали, и состоялся разговор за закрытыми дверями, содержание которого в точности неизвестно, но завершилась беседа отставкой.
С. Южаков, биограф Сперанского, пишет, что тот вышел «почти в беспамятстве, вместо бумаг стал укладывать в портфель свою шляпу и, наконец, упал на стул, так что Кутузов [Павел Васильевич, генерал-адъютант] побежал за водой. Через несколько секунд дверь из государева кабинета отворилась, и государь показался на пороге, видимо расстроенный. «Ещё раз прощайте, Михаил Михайлович», – проговорил он и потом скрылся.
Но отставкой дело не ограничилось. Дома Сперанского ожидал торжествующий Балашов. Считается, что это его донос стал непосредственным поводом к отставке реформатора. Будто бы министр доложил государю, что статс-секретарь самопроизвольно перлюстрирует дипломатическую переписку, и это-де переполнило чашу царского терпения.
Министр полиции немедленно, даже не дав Сперанскому проститься с домашними, отправил его под конвоем в ссылку. Блестящий взлет поповского сына завершился еще более стремительным падением.
Отставка Сперанского. И. Сакуров
Конкретный повод к отставке Сперанского малоинтересен. Важнее понять настоящую причину, по которой император столь резко изменил свое отношение к ценному помощнику, а вместе с тем и государственную политику. В конце концов гадости о статс-секретаре Александр выслушивал уже не первый год, а чтение высшим бюрократом секретной переписки таким уж ужасным преступлением не являлось.
Падение Сперанского, очевидно, было вызвано маневрами кружка Екатерины Павловны. Эти люди имели к статс-секретарю не столько личные, сколько сущностные претензии. Придворный историограф Николай Карамзин, принадлежавший к этому влиятельному сообществу, составил своего рода конспект отечественной истории, названный – «Записка о древней и новой России». Это был убедительный и страстный манифест консерватизма, включавший в себя обзор всей русской истории и выводы автора о том, что, по его мнению, хорошо и что плохо для страны.
Приводя примеры и факты из прошлого, Карамзин доказывал, что любые западнические реформы – вообще любые новшества – губительны для Российского государства («всякая новость в государственном порядке есть зло, к коему надо прибегать только в необходимости»); что опираться следует не на европейский, а на собственный опыт; что спасение и благо России не в свободе, а в самодержавии. Бывший вольнолюбец находил плюсы даже в крепостничестве, ибо темный крестьянин на воле предастся «собственным порокам», и лучше уж ему оставаться под управлением помещика, «имея бдительного попечителя и сторонника». Самое же лучшее и надежное средство к процветанию – сыскать в каждую губернию исправного губернатора да хорошего пастыря-архиерея, а всё прочее от лукавого.
Эволюция умного и бескорыстного Николая Михайловича из либералов в крайние государственники не слишком удивительна. Глубоко погрузившись в историю, Карамзин безусловно разобрался в архитектуре Российского государства и понял всю опасность подрыва его несущих опор.
Гораздо существенней, что к тому же выводу приходил и государь. Когда карамзинский меморандум при посредстве Екатерины Павловны попал к Александру, похоже, это стало последней каплей. Доводы показались царю убедительными, да и неотвратимость войны с Наполеоном предписывала не заигрывать с рискованными экспериментами, а «превращать страну в боевой лагерь».
Государь с болью и печалью – как в свое время Екатерина Великая – отказывался от идеалов молодости. Известно, что назавтра после отставки реформатора Александр сказал своему другу князю Голицыну: «Если у тебя отсекли руку, ты, наверное, кричал бы и жаловался, что тебе больно; у меня прошлой ночью отняли Сперанского, а он был моей правою рукою».
Что ж, время для гражданских реформ действительно было неподходящее. Тяжелая война и окончательное духовное перерождение Александра положили конец всем прогрессивным начинаниям. Вскоре начнется движение в обратную сторону.
Укрепление армии
Со вторым помощником, Аракчеевым, который вошел в силу одновременно со Сперанским, у Александра проблем было меньше. Во-первых, на личностном уровне: граф Алексей Андреевич был истово, по-собачьи предан императору. Во-вторых, результаты деятельности этого министра были нагляднее и несомненнее. Главное же – дело, порученное Аракчееву, для страны являлось вопросом жизни и смерти. Предстояла война со всей Европой, с лучшим на свете полководцем и лучшей на свете армией, а вооруженные силы России находились в неважном состоянии.
В свете приближающейся грозы распределение обязанностей между послетильзитскими помощниками Александра можно обозначить и так: Сперанский добывал деньги на переустройство армии, а граф Аракчеев их как можно рациональнее расходовал. И следует сказать, что генерал справлялся со своей задачей лучше, чем статс-секретарь.
Правда, в 1810 году, в самый разгар военных реформ, Аракчеев обиделся на то, что царь ставит его на второе место после Сперанского, и попросился в отставку с поста военного министра, но сохранил добрые отношения с царем и от общего руководства делом не отошел – остался председателем Военного департамента в Государственном Совете. По рекомендации графа министром был назначен генерал от инфантерии Барклай-де-Толли, продолживший осуществление той же программы.
За предвоенные годы реформаторы успели сделать очень многое. Оскудевшая казна, как мы видели, экономила на всем, на чем можно и нельзя – но только не на подготовке к войне.
Если в начале александровского правления на армию тратилось 35 миллионов рублей в год, то в 1810 году эта статья бюджета выросла до 147 миллионов. Это составляло более половины всех государственных трат (279 миллионов).
Многие нововведения коснулись внутренней организации, снабжения и комплектования – предметов, в которых военный администратор Аракчеев прекрасно разбирался.
Он и Барклай централизовали систему управления, сосредоточив в руках министра всю полноту строевой, административной и хозяйственной власти; реорганизовали структуру штабов; наладили интендантскую службу; обновили уставы; модернизировали медицинскую часть. Это была работа невидная, но очень важная. Благодаря ей во время грянувшей вскоре войны русская армия управлялась, снабжалась, размещалась и комплектовалась намного лучше, чем прежде.
Аракчеевский герб
Провиантский департамент подготовил четыре базы снабжения: три вдоль западной границы и одну в тылу. Там были собраны огромные запасы продовольствия и фуража. На 142 военных заводах спешно готовили оружие и боеприпасы для нужд военного времени. Одних пушечных ядер было отлито 4 миллиона.
Много средств было потрачено на перевооружение. Пехота получила ружья нового образца, обладавшие большей скорострельностью и прицельной дальностью. Солдат начали обучать не только залповой пальбе, но и меткости. Лучшие стрелки получили штуцеры – нарезные ружья.
Поскольку Аракчеев, как и Бонапарт, изначально был артиллеристом, с особенным увлечением он занимался улучшением этого рода войск. Наполеоновская армия славилась своими пушкарями, быстрота и точность которых не раз решала судьбу сражения. Но к 1812 году русская артиллерия стала не хуже. В ней появились новые орудия – менее тяжелые, подвижные, быстро перезаряжаемые. Они позволяли вести огонь ядрами на 2500 метров, а картечью на 500 метров.
И, конечно, первоочередное значение придавалось численному росту армии. Мобилизация тогда проводилась посредством рекрутских наборов. В России того времени насчитывалось 15 миллионов мужчин солдатского возраста. Во время очередного набора обычно призывали по одному новобранцу с пятисот душ, то есть около 30 тысяч человек. Накануне войны таких призывов было несколько, причем в 1811 году взяли по четыре «души» за раз. Новобранцев спешно распределяли по рекрутским депо, обучали, рассылали по полкам.
К началу войны полевая, то есть маневренная армия насчитывала 365 тысяч пехотинцев, 76 тысяч кавалеристов и 40 тысяч артиллеристов при 1600 орудиях – не считая иррегулярных боевых частей (например, казачьей и «инородческой» конницы). Больше войска при тогдашнем состоянии финансов содержать было и невозможно.
В общем, всё, что могли, сделали.
Большая война
Наполеон готовится
Мы видели, с каким напряжением шла к 1812 году Россия. Но деятельно готовился к войне и французский император. В его распоряжении имелись куда более значительные ресурсы.
Во-первых, сама Франция была намного богаче. Ее бюджет на 1811 год составил 950 миллионов франков (франк приблизительно равнялся рублю), то есть в 3,5 раза превышал российский, а военные расходы были больше вчетверо. Население сильно разросшейся Наполеоновской империи, в которую вошли Италия, Испания, Голландия, изрядный кусок Германии, Швейцария и другие территории, дошло до 70 миллионов человек. Это позволяло Наполеону содержать огромную армию. В общей сложности на начало 1812 года в ней числилось 950 тысяч человек. Самые боеспособные части входили в Великую Армию, собранную на востоке для нападения на Россию.
Кроме того, союзниками и сателлитами Наполеона являлись почти все европейские страны, в том числе Австрия и Пруссия, недавно сражавшиеся бок о бок с русскими. По данным современного историка О. Соколова, в нашествии приняли участие четверть миллиона немцев, 80 тысяч поляков, 30 тысяч австрийцев, 30 тысяч итальянцев, плюс испанцы, датчане, швейцарцы и так далее, и так далее.
Историки спорят о точном размере Великой Армии, называя цифры от 450 до 685 тысяч солдат, но известно, что только в главном массиве войск, которым командовал сам император, было 286 тысяч человек. Никогда еще Бонапарт не вел в бой такое количество штыков и сабель.
Для обеспечения этой махины интенданты приготовили почти 8 тысяч повозок с провиантом. В Варшаве был устроен гигантский арсенал, еще несколько менее крупных – в других городах. Ни одна армия со времен Чингисхана не имела столько конского состава – его мобилизовали по всей Европе и набрали 120 тысяч голов. Начало войны в значительной степени зависело от того, когда поднимутся травы и появится подножный корм для верховых и тягловых лошадей, потому что запасти столько фуража было невозможно. (Как мы увидим, в конце концов из-за лошадиного корма Великая Армия и сгинет.)
Русское командование разработало стратегию, основанную на осторожности. Лобового столкновения с грозным полководцем решили избегать, однако рассчитывали выстоять в сражении оборонительном, как при Прейсиш-Эйлау. На первом этапе предполагали отходить, изматывая противника оборонительными боями. Поскольку не было известно, куда именно ударит Бонапарт, разделили полевое войско на три части. Первая армия Барклая-де-Толли (120 тысяч солдат) группировалась в районе Вильно; Вторая армия Багратиона (60 тысяч) находилась южнее, около Гродно; Третья армия Тормасова (45 тысяч) прикрывала Украину. Диспозиция предписывала стянуть все силы и заманить врага на выгодное место, заранее выбранное для битвы: к сильно укрепленному Дрисскому лагерю на Западной Двине.
Природное расположение и фортификационные сооружения Дрисского лагеря действительно были выше всяких похвал. С тыла и флангов позиции прикрывала река. С фронта в несколько ярусов были вырыты окопы и насыпаны редуты. Наступающие французы попадали под перекрестный огонь множества батарей и под залпы удобно расположенной пехоты. Местность вокруг еще и была изрезана оврагами, что затруднило бы атаку знаменитой французской кавалерии.
Автор проекта прусский генштабист Карл Пфуль предусмотрел всё: и стойкость русского солдата в обороне, и прекрасные качества аракчеевской артиллерии, и отсутствие поблизости дорог, что затруднило бы подход французских резервов и транспортировку тяжелых орудий. Пока Наполеон расшибает себе лоб о неприступные позиции, инициативный Багратион наносил бы удары по вражеским коммуникациям.
Императору Наполеону русский план был известен и отлично его устраивал. Если противник соберет все наличные силы в одной точке, войну можно выиграть одним ударом. Тогда не придется затевать длинный, трудный поход вглубь страны. Завоевательных намерений Бонапарт не вынашивал – ему нужно было поступить с Россией, как с Австрией, то есть ослабить и подчинить, а для противовеса на будущее воссоздать польское государство, вернув ему утраченные исторические области.
Оба монарха еще обменивались увещевательно-грозными письмами, но ничто уже не могло предотвратить войны. Формальным поводом стала оккупация французами немецкого княжества Ольденбург, которое находилось под покровительством российского императорского дома. (Со стороны Корсиканца тут, вероятно, имелся и личный мотив: напомню, что сестра царя Екатерина Павловна предпочла выйти замуж не за Наполеона, а за принца Ольденбургского.) Александр сделал по этому поводу резкое заявление, Бонапарт не менее резко ответил… Casus belli, впрочем, не имел значения. Война началась, потому что слишком вески были ее причины, слишком много денег и средств потрачено на подготовку.
«С конца 1811-го года началось усиленное вооружение и сосредоточение сил Западной Европы, и в 1812 году силы эти – миллионы людей (считая тех, которые перевозили и кормили армию) двинулись с Запада на Восток, к границам России, к которым точно так же с 1811-го года стягивались силы России, – написано в романе «Война и мир». – 12 июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война, то есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие». С последним утверждением классика можно спорить (люди всю свою историю только и делали, что воевали), но в целом ситуация описана очень точно.
Дрисский лагерь. «Военная энциклопедия». 1912 г.
Наполеон наступает
Не буду детально описывать ход военных перипетий 1812 года – они хорошо известны русскому читателю по школьным учебникам, художественной литературе и кинофильмам. Ограничусь конспективным описанием событий, чуть подробнее коснувшись нескольких аспектов и моментов, которые искажены или сильно романтизированы официальной историографией и массовой культурой. В истреблении и страданиях огромного количества людей ничего романтического не бывает. Война была страшной, грязной и жестокой – самым ужасным национальным испытанием со времен Смуты.
Великая армия переправляется через Неман. Игнац-Себастьян Клаубер
Первый этап кампании в совсем коротком описании выглядит так: Наполеон все время наступал и быстро дошел до Москвы, за два с половиной месяца преодолев с боями 1200 километров.
Накануне перехода границы Бонапарт обратился к своей армии с коротким, энергичным воззванием, которое выглядело весьма откровенной декларацией политических намерений. Война именовалась «второй польской», то есть как бы затеянной ради Польши (поддержка поляков в тот момент Бонапарту была очень важна), а про Россию говорилось, что «ее судьба должна свершиться» и что «губительному влиянию, которое она в течение [почему-то] пятидесяти лет оказывала на дела Европы» теперь наступит конец. Иными словами, России как великой державы больше не будет.
Нашествие началось 12 (24) июня, когда огромные массы войск по плавучим мостам стали переправляться через Неман.
Прекрасный план генерала фон Пфуля – заманить вражеские полчища на удобное место и там истребить в оборонительном сражении – провалился сразу, потому что одновременно с ударом в центре Наполеон предпринял еще два фланговых наступления. На севере корпус маршала Макдональда двинулся к Риге, а корпус маршала Удино – в направлении Санкт-Петербурга. На юге, где заранее сгруппировались французские союзники австрийцы, им в помощь был отправлен корпус генерала Ренье. Оба маневра являлись скорее демонстрацией, и цель ее – рассредоточить главные силы русских – отлично удалась. Для прикрытия столицы (на севере) и Украины (на юге) Барклай и Багратион выделили треть своих войск, Наполеон – меньше одной пятой. Теперь на основном направлении перед ним оставалось только 120 тысяч русских солдат, да еще разбросанных по обширной территории.
На второстепенных фронтах Отечественной войны события будут развиваться следующим образом.
Макдональд подойдет к Риге, но, не имея достаточно сил, застрянет там до конца кампании. Удино предпримет нервирующее движение на восток, угрожая Петербургу, но выделенных маршалу 25 тысяч солдат для такой задачи было явно недостаточно. Здесь на пути французов встанет корпус генерала Петра Витгенштейна. Если на главном театре русские количественно уступали противнику вдвое, на петербуржском направлении силы были примерно равны. В упорном трехдневном бою при Клястицах, к северу от Полоцка, французы были остановлены и впоследствии особенной активности не проявляли. Витгенштейна провозгласят «спасителем Петербурга», хотя от Клястиц до Петербурга было очень далеко.
На юге австрийцы, участвовавшие в этой войне поневоле, вели себя пассивно. Откомандированный им в помощь корпус Ренье в основном состоял из саксонцев, тоже не отличавшихся рвением (в начале боевых действий целая саксонская бригада, 5 тысяч солдат, сдалась в плен). Мало-мальски крупное сражение на этом фронте произошло только однажды и не скоро, уже в начале августа. При Городечно Третья армия Тормасова выдержала несколько вражеских атак и потом отступила, но скоро с юга подошла Дунайская армия Чичагова (освободившаяся после мира с Турцией), и движение неприятеля прекратилось.
Судьба войны решалась на центральном направлении. От затеи с Дрисским лагерем отказались почти сразу, потому что не было возможности стянуть туда все наличные силы, да и в любом случае их оказалось бы недостаточно – имея такое численное превосходство, Наполеон просто окружил бы всю армию, и война на этом завершилась бы.
Памятуя об Аустерлице, где его присутствие только мешало командованию, Александр отбыл из действующей армии в Петербург, предоставив всю полноту власти Барклаю. Но тому предстояло сначала свести корпуса и дивизии своей Первой армии в один кулак, а потом еще соединиться со Второй армией Багратиона. Наполеон, конечно же, пытался этому помешать. У него появилась надежда разгромить противника по частям.
Поэтому весь остаток июня и весь июль русские проворно отступали, ведя арьергардные бои, а французская кавалерия все время вклинивалась между Первой и Второй армиями, мешая их слиянию.
Впоследствии, задним числом, это нескончаемое отступление будет провозглашено великим стратегическим замыслом – истощить и сократить силы врага по примеру древних скифов, заманивших персидские полчища вглубь собственной территории. На самом деле никто не хотел отдавать врагу свою землю, но другого выбора не было. А. Корнилов пишет: «Скифская война была легка только для скифов; в стране же, стоявшей даже на той степени культуры, на которой стояла тогдашняя Россия, этого рода война сопряжена была со страшными жертвами. Притом опустошение должно было начаться с западной, наиболее культурной и населенной окраины, сравнительно недавно присоединенной к России». И в столице, и в штабах, и в войсках роптали, что пора дать французам настоящее сражение, а его всё не происходило.
Причина заключалась не только в том, что Первой и Второй армиям было не так просто соединиться из-за французских маневров. Делу мешал еще один фактор, сугубо личный – отвратительные отношения между Барклаем и Багратионом.
Оба были заслуженными генералами. Михаил Богданович Барклай-де-Толли прославился в шведскую войну и потом в качестве министра проводил армейские реформы. Петр Иванович Багратион, ученик Суворова, спас русскую армию в 1805 году, героически удержавшись при Шенграбене – то есть мог считаться победителем непобедимых французов. Своим подчиненным положением Багратион был очень недоволен и вел себя по отношению к главнокомандующему (точнее, и.о. главнокомандующего, поскольку формального приказа не было) вызывающе. В те времена было принято высчитывать старшинство по сроку производства в чин, и в этом отношении генерал от инфантерии Багратион стоял чуть выше генерала от инфантерии Барклая-де-Толли. Историк кампании С. Мельгунов пишет: «…В армии происходили бесподобные сцены: дело доходило до того, что командующие в присутствии подчиненных ругали в буквальном смысле один другого. «Ты немец, тебе все русские нипочем», – кричал Багратион. «А ты дурак и сам не знаешь, почему себя называешь коренным русским», – отвечал Барклай».
Против Барклая сложилась мощная оппозиция. Возглавляли ее наследник престола Константин Павлович и царский зять принц Ольденбургский. Как обычно случается при неудачном ходе войны, ходили слухи об «измене».
Впоследствии стали писать и говорить, что осторожный Барклай своим отступлением спас армию и вместе с нею Россию, но летом 1812 года преобладало иное мнение: герой и патриот Багратион рвется в бой, а подозрительный Барклай ему мешает. На самом деле в упрек главнокомандующему можно было поставить лишь одно. «Боязлив перед государем, лишен дара объясняться. Боится потерять милость его», – писал про Барклая начальник его штаба генерал Ермолов.
Багратион, героизированный Бородинским сражением, при всей своей храбрости был никудышным стратегом и в главнокомандующие, конечно, не годился. С. Мельгунов обильно цитирует письма князя Петра Ивановича. «Чего нам бояться? – пишет он царю. – Неприятель, собранный на разных пунктах, есть сущая сволочь». Ермолову: «Я не понимаю ваших мудрых маневров. Мой маневр – искать и бить!» Московскому генерал-губернатору Ростопчину: «Божусь вам, неприятель дрянь, сами пленные и беглые божатся, что если мы пойдем на них, они все разбегутся».
Нетрудно себе представить, чем закончилась бы война, если бы во главе русской армии оказался такой полководец.
3 (15) августа армии наконец соединились, откатившись от границы на 800 километров. Теперь конфликт между двумя генералами еще больше обострился.
Багратион требовал немедленной битвы, Барклай настаивал на том, что нужно отступать дальше. В конце концов первый своевольно ввязался у Смоленска в большое сражение, в котором пришлось участвовать всей армии. После трехдневных боев Барклай приказал отступать.
Помимо того что дотла выгорел немаленький Смоленск, эта странная битва очень дорого обошлась армии, которая потеряла на подступах к городу, в самом городе и потом, при довольно хаотичном отходе, от 15 до 20 тысяч солдат (по французским источникам – еще и много пушек). После этого поражения русские продолжили отступать к Москве, а царю стало окончательно ясно, что нужно назначать другого главнокомандующего.
Решение было нелегким, а выбор непростым. Чтобы восстановить субординацию, требовалось назначить человека авторитетного и обладающего безусловным старшинством – то есть кого-то из стариков. Таковых имелось только двое, каждый шестидесяти семи лет: Михаил Кутузов (полный генерал с 1798 года) и Леонтий Беннигсен (с 1802 года). Оба имели на своей полководческой репутации и заслуги, и пятна. Беннигсен мог гордиться тем, что при Прейсиш-Эйлау выстоял против самого Наполеона – но потом, при Фридлянде, был разгромлен. Кутузов проиграл при Аустерлице, зато – только что – блестяще показал себя на турецкой войне.
Оба кандидата царю были лично неприятны. Беннигсен участвовал в убийстве Павла I, Кутузову же, как мы знаем, Александр не мог простить аустерлицкого позора. Однако император – надо отдать ему должное – со своими антипатиями считаться не стал.
Решающую роль, очевидно, сыграла русская фамилия Кутузова. К этому времени в Петербурге уже решили придать войне страстно-патриотический характер, и ставить во главе национального войска «немца» было бы политически неправильно.
Трое полководцев, находившихся в непростых отношениях: Барклай-де-Толли (неизвестный художник), Багратион (гравюра Франческо Вендрамини) и Кутузов (портрет Йозефа Олешкевича)
Михаила Илларионовича срочно освободили от тыловой должности начальника ополчения и сделали главнокомандующим.
Особенных надежд на старого военачальника Александр не питал. Он жаловался одному из приближенных: «Общество желало его назначения, и я его назначил. Что же касается меня, то я умываю руки». Ермолов рассказывает, что не обрадовался и сам Кутузов, признававшийся ему в доверительной беседе: «Если бы кто два или три года назад сказал мне, что меня изберет судьба низложить Наполеона, гиганта, страшившего всю Европу, я, право, плюнул бы тому в рожу».
Через неделю после назначения фельдмаршал был уже в действующей армии и принял командование. Беннигсена поставили к нему начальником штаба – очевидно, для подстраховки, на случай, если снова понадобится замена. «Барклай, образец субординации, молча перенес уничижение, скрыл свою скорбь и продолжал служить с прежним усердием, – рассказывает Ростопчин. – Багратион, напротив того, вышел из всех мер приличия и, сообщая мне письмом о прибытии Кутузова, называл его мошенником, способным изменить за деньги».
При таком настроении, имея подобных помощников, новый главнокомандующий вряд ли чувствовал себя уверенно, особенно вначале. Все ждали, что «пришел Кутузов бить французов», ведь Наполеону до Москвы оставалось всего 200 километров, а вместо этого Михаил Илларионович велел отступать дальше.
После взятия Смоленска у Бонапарта возникли колебания, не остановиться ли. Первоначальный план не предполагал углубляться во вражескую территорию дальше этого пункта. Но русская армия, благодаря осторожности Барклая, все еще не дала себя разбить, а, пока она цела, на капитуляцию Александра рассчитывать не приходилось. Посомневавшись несколько дней, Наполеон двинулся дальше. Теперь он шел на Москву.
Со стратегической точки зрения выгоды «скифского отступления», пускай даже не намеренного, а вынужденного, к этому времени уже были очевидны. Французские коммуникации растягивались, силы наступающих понемногу таяли.
Как уже говорилось, в начале кампании под непосредственным командованием Наполеона находилось почти триста тысяч солдат. До Бородинского поля дойдет меньше половины. Великая Армия сократится не столько из-за боевых потерь, впрочем весьма значительных, сколько из-за необходимости охранять пройденный маршрут и, в еще большей степени, из-за болезней. А. Корнилов пишет, что уже в первые недели из строя выбыло 50 тысяч захворавших. В те антисанитарные, негигиенические времена при таком скоплении людей и лошадей это было обычным явлением.
Русская армия, конечно, тоже сокращалась. Кроме убитых, раненых и заболевших, она, как всегда при быстром отступлении, теряла множество солдат отставшими. Но ряды все время пополнялись новыми резервами, так что общая численность осталась такой же, как в первых, приграничных боях. Если бы Кутузов отступил восточнее Москвы (которую все равно придется сдать), так и не дав баталии, наполеоновская армия усохла бы еще больше. Однако на войне психологический фактор важнее стратегии. Конечно, не следует преувеличивать значение общественного мнения в стране, где этого явления практически еще не существовало, как не имелось и нормальных (то есть свободных) средств массовой информации. «Общественное мнение» в ту пору было позицией государя и двора. А там ждали победоносной битвы и уж точно не простили бы сдачи Москвы без боя. Кроме того, бесконечная ретирада ослабляла боевой дух войск.
И все же Кутузов тянул время, опасался дать сражение, которое могло погубить всю армию. Он пятился до самого Можайска, и только там, в трех переходах от древней столицы, наконец остановился.
Силы сторон к этому времени почти сравнялись. У Наполеона под ружьем оставалось 135 тысяч человек, у Кутузова – 120 тысяч плюс необученные ополченцы, которых можно было использовать на вспомогательных работах, тем самым высвободив больше штыков для боя. Кутузов готовился только обороняться: на широком поле близ села Бородино ополченцы строили земляные укрепления.
Бонапарт не мог поверить своему счастью – бесконечный бег на восток наконец завершился, противник ждет атаки и, конечно, будет разбит.
Не буду останавливаться на многократно описанных событиях Бородинской битвы, произошедшей 26 августа (по юлианскому календарю). Вкратце фабула такова: французы упорно атаковали, русские упорно оборонялись, но в итоге уступили все ключевые позиции.
Урон был чудовищный. Разные источники высчитывали их по-разному, но чаще всего называют такие цифры: русские потеряли 45 тысяч убитыми и ранеными (больше трети состава), французы более 30 тысяч, то есть почти четверть. То, что потери обороняющихся оказались выше, объясняется высокой маневренностью французской полевой артиллерии, которую Бонапарт умело концентрировал в местах атак.
Разумеется, Наполеон отправил во Францию сообщение о великой победе в «битве при Москве», и формально у него имелись на то основания, ибо русская армия продолжила отступление и оставила город. Но о виктории рапортовал в Петербург и Кутузов. В столице ликовали – и потом очень удивились, узнав о падении Москвы. С исторической дистанции видно, что прав был скорее Кутузов. Это верно подметил Лев Толстой, писавший в своем великом романе, что русские одержали «победу нравственную», понимая под этим некий психологический перелом в войне. Армия видела, какой огромный урон она нанесла грозному врагу, и преисполнилась гордости и веры в свои силы. Верным свидетельством этого успеха было отсутствие пленных – все дрались до последнего, никто не сложил оружия.
Ну а кроме того, Бородино можно считать победой стратегической. Отступив, Кутузов сохранил костяк своей армии; заняв Москву, Наполеон попал в ловушку – как несколькими месяцами ранее турецкий великий визирь в Слободзее.
Однако в начале сентября Европе, да и Петербургу не казалось, что Бонапарт в опасной ситуации. Все знали лишь, что Москва пала и что в древней столице русских царей встала на бивуаки Великая Армия.
Бородино. Французская литография начала XIX в.
Наполеон теряет время
Французский император считал, что вражеские войска разбиты и деморализованы, раз они уступили Москву без дальнейшего сопротивления. Цель похода достигнута, война выиграна. Конечно, странно, что огромный город не объявил капитуляции, да и горожане куда-то подевались, но у русских ведь всё не как в Европе.
Москву действительно покинуло большинство жителей. Многие авторы объясняют это массовое бегство патриотическим порывом, уязвленной национальной гордостью, нежеланием покориться Наполеону: «Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою». Но при ближайшем рассмотрении картина выглядит менее пафосно.
Генерал-губернатором («главнокомандующим») второй столицы был граф Федор Ростопчин, честолюбивый и циничный вельможа из бывших павловских фаворитов. При новом царствовании он оказался в полуопале, но очень хотел снова вскарабкаться наверх и сделал ставку на влиятельный кружок Екатерины Павловны. Поскольку там, как уже писалось, царили консервативные, антизападнические настроения, совершенно офранцуженный Ростопчин заделался пылким патриотом и по протекции государевой сестры получил в управление Москву. По мере углубления врага вглубь России патриотическая агитация стала одной из важнейших государственных задач, и бойкий Ростопчин сделался на этом поприще настоящей звездой.
Ростопчина можно считать российским первопроходцем в деле обработки массового сознания – правда, в пределах одного города. Граф Федор Васильевич сделал то, чем до него никто не озабочивался: развернул агитационную работу среди «плебса». Раньше от простонародья требовалось только беспрекословное подчинение, теперь же, в связи с курсом на «отечественную войну» понадобилось нечто большее: жертвенность, энтузиазм.
Генерал-губернатор стал повсюду развешивать лубочные картинки и воззвания, озаглавленные «Дружеские послания главнокомандующего в Москве к жителям её». Обычно их называют «ростопчинскими афишками». У взыскательных современников вроде Карамзина карикатурно-простецкий стиль этих агиток вызывал отвращение, но оказалось, что на низшее сословие, непривычное к вниманию высокого начальства, такой метод коммуникации отлично действует. «Никогда ещё лицо правительственное не говорило таким языком к народу! – восторгался литератор Иван Дмитриев. – Причем эти афишки были вполне ко времени. Они производили на народ московский огненное, непреоборимое действие! А что за язык! Один гр. Ростопчин умел говорить им! Его тогда винили в публике: и афиши казались хвастовством, и язык их казался неприличным! Но они… много способствовали и к возбуждению народа против Наполеона и французов». Ладно Дмитриев – он был романтический поэт, но действенность ростопчинской пропаганды признавал и замечательно трезвый Петр Вяземский: «Так называемые “афиши” графа Ростопчина были новым и довольно знаменательным явлением в нашей гражданской жизни и гражданской литературе».
Иное дело – как воспользовался генерал-губернатор этим новым инструментом. С одной стороны, Ростопчину удалось собрать огромное ополчение – 28 тысяч ратников. Но после Бородина граф вообразил себя новым Кузьмой Мининым, спасителем отечества и с этой ролью не справился. 30 августа он велел развесить по городу листовку с призывом к населению назавтра собраться на Пресне, чтобы идти бить Наполеона: «Не впустим злодея в Москву… Вооружитесь, кто чем может, и конные и пешие; возьмите только на три дня хлеба… Возьмите хоругвей из церквей и с сим знаменем собирайтесь тотчас на Трех горах. Я буду с вами, и вместе истребим злодея».
Шапкозакидательская наглядная агитация «Наполеонова пляска»:
Не удалось тебе нас переладить на свою погудку: Попляши же, басурман, под нашу дудкуПишут, что на следующий день в указанном месте скопились десятки тысяч людей. Они прождали генерал-губернатора с рассвета дотемна. Ростопчин не появился – он узнал от Кутузова, что битвы за Москву не будет. (Впрочем, непонятно, зачем для обороны понадобилась бы бесформенная толпа безоружных обывателей.)
Москвичи уже несколько дней находились в нервической лихорадке, которая моментально перешла из эйфорической, шапкозакидательской фазы в паническую. До того времени покидать город без особого разрешения запрещалось: на заставах были выставлены караулы. Точнее сказать, из Москвы выпускали только «чистую публику». Теперь же дороги открылись, и все кинулись прочь, куда глаза глядят. Это была не эвакуация, не гордый исход, а род коллективного безумия, когда люди уходили без всего, не зная куда. «Здесь действовал просто инстинктивный страх, бежали, «куда Бог поведет»… не руководясь никакими обдуманными целями и не думая о последствиях», – пишет Мельгунов. Организованной помощи московским беглецам оказано не будет. Впереди их ждали невообразимые лишения.
В Москве же наступила анархия. Мемуарист А. Бестужев-Рюмин описывает положение так: «Стали разбивать кабаки; питейная контора на улице Поварской разграблена, на улицах крик, драка… Я встретил… у Лобного места, что близ кремлевских Спасских ворот, огромное стечение народа, большею частью пьяных, готовых на всякое убийство».
Ростопчин и все начальство спешно покинули обреченный город, в котором остались только те, кто не смог или не захотел уехать, плюс тысячи и тысячи брошеных бородинских раненых (почти все эти несчастные погибнут). Невозможно определить, какая часть 270-тысячного московского населения осталась на месте. По словам Ростопчина (которому ни в чем верить нельзя) – почти никто; французы предполагают, что около трети жителей. Вероятно, и больше. Ведь при вступлении страшного врага все, конечно, попрятались.
Дальнейшее поведение Бонапарта в очередной раз демонстрирует, что в стратегическом отношении он был отнюдь не гений. Судьбу кампании решило не Бородинское побоище, а месячное московское стояние французов.
Объяснялось оно двумя капитальными заблуждениями императора.
Во-первых, Наполеон был уверен, что русская армия как боевая сила уже не существует, – и ошибался. Кутузов вывел свои поредевшие, но сохранившие дисциплину полки к югу и встал лагерем в Тарутине, всего в 80 километрах от Москвы. Бонапарт упустил возможность атаковать отступавшие колонны на марше, а когда спохватился – было поздно. Русская армия пополнила свои ряды и укрепилась.
Наполеон наступает – и отступает. М. Романова
Во-вторых, французский император не сомневался, что царь теперь запросит мира.
Почти весь ближний круг Александра после падения Москвы действительно был за скорейшее окончание войны: и брат-наследник Константин, и верный соратник Аракчеев, и министр иностранных дел Румянцев, и тот же Ростопчин, уже не звавший «басурмана поплясать под дудку». В высшем свете Санкт-Петербурга царило уныние, двор готовился к эвакуации.
Но государь оставался тверд. Многие потом посмеивались над его знаменитым обещанием «отрастить бороду и питаться черствым хлебом в Сибири», однако в сентябре 1812 года было не до смеха. Не только в Европе, но и в России большинство считали, что Наполеон опять триумфально победил. Письмо Александра шведскому регенту Бернадотту, датированное 19 сентября, не комично, а исполнено достоинства: «Я повторяю вашему королевскому высочеству торжественное уверение, что я и народ, в челе которого я имею честь находиться, тверже чем когда-либо решились выдерживать до конца и скорее погребсти себя под развалинами империи, чем войти в соглашение с новым Аттилою». (Напомню, что нейтралитет Швеции имел для России очень большое значение, а после потери Москвы – тем более.)
Неделю прождав парламентеров, Наполеон сам сделал первый шаг – отправил царю великодушное письмо, не делая никаких предложений, но намекая, что готов к переговорам. «Я вел войну с вашим величеством без озлобления; одно письмо от вас прежде или после Бородинской битвы остановило бы мое движение, я бы даже пожертвовал вам выгодою вступления в Москву. Если ваше величество сохраняете еще ко мне остатки прежних чувств, то вы примете радушно это письмо» – и так далее.
Нет, Александр не сохранял к Наполеону «остатка прежних чувств». На послание царь не ответил.
Тогда, начиная нервничать, Бонапарт две недели спустя отправил в лагерь к Кутузову своего представителя маркиза де Лористона, который когда-то жил в России и пользовался расположением царя. Фельдмаршал доложил о нежданном госте Александру: «Ввечеру прибыл ко мне Лористон, бывший в С.-Петербурге посол, который, распространяясь о пожарах, бывших в Москве, не виня французов, но малое число русских, остававшихся в Москве, предлагал размену пленных, в которой ему от меня отказано… Наконец, дошел до истинного предмета его послания, т. е. говорить стал о мире: что дружба, существовавшая между вашим императорским величеством и императором Наполеоном, разорвалась несчастливым образом по обстоятельствам совсем посторонним, и что теперь мог бы еще быть удобный случай оную восстановить». Самому Лористону пропуска в столицу не дали. Предложение было передано, но вновь осталось без ответа, причем Кутузов получил от государя реприманд за то, что вообще стал разговаривать с наполеоновским посланцем.
Тем временем французам в Москве становилось жарко – в буквальном смысле слова. Город пылал, и погасить гигантский пожар никак не удавалось.
В свое время было сломано немало копий по поводу того, кто поджег Москву и поджигали ли ее вообще.
Поначалу ответственность никто на себя не брал. Русские обвиняли французов в злонамеренном уничтожении священного города – это было полезно с пропагандистской точки зрения. Французы, наоборот, винили русских и расстреляли множество «поджигателей» – вероятно, случайных людей, для устрашения.
Не возникало версии об антично-героическом самосожжении гордого русского города и в первые послевоенные годы, когда на пепелище потянулись москвичи. Если бы выяснилось, что их дома спалили по приказу начальства, погорельцам пришлось бы выплачивать неподъемную компенсацию. В 1814 году Ростопчин был уволен в отставку, уехал за границу и увидел, что в Европе сложилась легенда о Московском Пожаре, якобы устроенном самими русскими. Тогда граф охотно подхватил эту версию и с удовольствием стал изображать из себя нового Муция Сцеволу. Ростопчин хвастался жене, что ему повсюду «делают почести и признают главным орудием гибели Наполеона».
На самом деле вклад Ростопчина в сожжение Москвы ограничивался тем, что, вывозя казенное имущество, он забрал и все пожарное снаряжение. (При этом для раненых у графа подвод не нашлось.)
Скорее всего город загорелся – сразу в нескольких местах, – потому что был деревянным и наполовину пустым, а французские солдаты на своих бивуаках не соблюдали правил безопасности. Комендатура вовремя не приняла мер, и сильный ветер в сочетании с сухой погодой довершили дело.
Московский пожар. Неизвестный художник
Обширный город полыхал несколько дней и выгорел почти полностью. Оставаться в нем на зимовку стало невозможно, в дальнейшем ожидании не было никакого смысла. Во время неизбежного затишья русская армия усилилась бы, а французская усохла бы. Да и не мог Наполеон себе позволить так надолго застревать на дальнем краю континента. На противоположном его конце, в Испании, дела французов шли скверно – в августе им пришлось оставить Мадрид. Неспокойно вела себя и Германия, в которой усиливались антифранцузские настроения.
Если бы Бонапарт, взяв Москву, сразу повернул на Петербург, очень вероятно, что царю Александру пришлось бы отращивать бороду, но последний погожий месяц был потрачен попусту.
В начале октября Наполеон сделал единственное, что ему оставалось – повернул назад, в сторону границы. Если война растягивалась до следующего года, лучше было перезимовать вблизи своих баз.
Наполеон отступает
Из Москвы французы сначала двинулись на юг, по Старой Калужской дороге, как бы намереваясь пройти через неразоренные войной местности и, возможно, перезимовать на Украине.
Чтобы помешать этому, русские кинулись наперерез, и 12(24) октября при Малоярославце произошло ожесточенное сражение. Французы пытались прорваться, спешно подходящие русские дивизии их не пропускали. В течение дня городок восемь раз переходил из рук в руки, но обороняющиеся выстояли, и Наполеон повернул на северо-запад – чтобы отступать тем же путем, которым шел к Москве.
У отечественных авторов преобладает точка зрения, что этот бой был чуть ли не важнее Бородина, поскольку, вынудив Бонапарта идти к границе через опустошенные края, Кутузов обрек Великую Армию на голод и гибель.
Французские источники оценивают сражение совсем иначе – как удачный маневр. Наполеон с самого начала собирался уходить тем же маршрутом, потому что впереди, в Смоленске, Витебске и Орше были заготовлены промежуточные склады с провиантом, а в Вильне и Ковно – капитальные, которых хватило бы на всю зиму. Но сначала нужно было оторваться от русских, чтобы те поменьше атаковали арьергард. Своей демонстрацией по Старой Калужской дороге Бонапарт, откомандировав к югу лишь пятую часть армии, побудил Кутузова перекинуть в том направлении все свои силы. В результате Великая Армия оторвалась от преследования на несколько десятков километров, и Кутузову потом пришлось ее догонять. Наполеон потом очень гордился своей тактической уловкой.
Однако Великую Армию она не спасла. Гениальный тактик опять проявил себя неважным стратегом – не учел ряд неподвластных ему обстоятельств.
Отступление стало катастрофой по трем причинам.
Первой из них было очень раннее наступление холодов, чего французы не ждали и к чему не были готовы. Прежде чем передовые части добрались до Смоленска, дорогу завалило снегом, ударили морозы. Известно, например, что 7 ноября было минус 22 градуса – удивительная метеоаномалия.
Второй причиной были нападения партизан, хотя русские авторы склонны преувеличивать значение этого фактора и его масштабы. Кроме того, тут обычно путают два совершенно разных явления: «военных» партизан и стихийно возникавшие крестьянские отряды. Скажем сразу, что толстовская «дубина народной войны», «с глупой простотой» гвоздившая французов, «пока не погибло все нашествие», – красивая легенда. Действительно, возмущенные мародерством и оказавшиеся перед угрозой голодной смерти крестьяне нападали на вражеских фуражиров, но для Великой Армии это были комариные укусы. Единственным сколько-то значительным крестьянским отрядом командовал сбежавший из французского плена драгун Ермолай Четвертаков. У него набралось несколько сотен людей, что позволяло атаковать и большие транспорты. Но уже в ноябре Четвертаков вернулся в свой полк (и был награжден «георгием» да унтер-офицерским чином).
Восславленная многими авторами, в том числе Львом Толстым, партизанская командирша Василиса Кожина, якобы истребившая «сотни французов», при ближайшем рассмотрении тоже оказывается легендой, родившейся из короткой заметки в журнале «Сын отечества».
«Один здешний купец, ездивший недавно из любопытства в Москву и её окрестности, рассказывает следующий анекдот», – так начинается заметка, и далее описывается, что старостиха Василиса, конвоируя пленных, зарубила косой французского офицера, который не желал повиноваться женщине. При этом Василиса вскричала: «Всем вам, ворам, собакам, будет то же, кто только чуть-чуть зашевелится! Уж я двадцати семи таким вашим озорникам сорвала головы! Марш в город!» Иных сообщений о героической руководительнице партизан не имеется.
Гораздо важнее в военном отношении были другие партизаны, носившие мундир. Первоначально они назывались «летучими отрядами» и были созданы еще в середине лета, по приказу Барклая, чтобы тревожить вражеские тылы и коммуникации. Состояли эти небольшие контингенты из легкой кавалерии – иррегулярной (казаков, башкир или калмыков) и регулярной (гусаров с драгунами). Но и с этими партизанами в сложившейся легенде об Отечественной войне не всё гладко. Неприятность для патриотично озабоченных историков заключалась в том, что главным партизаном был иностранец, гессенский уроженец барон Фердинанд фон Винценгероде, возглавивший первую крупную партизанскую операцию войны – удачное нападение 19 августа на витебский гарнизон. И совсем уж нехорошо (в особенности для историков советского периода) то, что первым помощником барона был флигель-адъютант Александр фон Бенкендорф – тот самый, что потом станет шефом жандармов. Поэтому вся слава досталась второму помощнику, гусарскому подполковнику Денису Давыдову, впрочем, действительно лихому командиру.
Старостиха Василиса. Неизвестный художник начала XIX в.
Однако, повторю еще раз, значение партизанского фактора и тем более «дубины народной войны» в гибели Великой Армии было невелико.
Главной причиной, как ни странно это звучит, были лошади, единственное тогдашнее транспортное средство. Прокормить десятки и десятки тысяч животных на подножном корму было очень трудно, а когда выпал снег, сделалось вообще невозможно. Люди еще как-то шли, а вот кони быстро слабели, не могли тащить повозки и пушки, падали, умирали. Армия теряла артиллерию и кавалерию. Еще хуже было то, что без конной тяги стало невозможно подвозить провиант и для солдат. Начался голод.
Измученные, деморализованные солдаты авангарда, достигнув первой базы, смоленской, накинулись на склады и разгромили их, так что основной части армии ничего не досталось.
Великая Армия погибла из-за аномальной погоды, скверного планирования и плохой логистики. Виноват в этом прежде всего был, конечно, главнокомандующий. Из Москвы Наполеон вывел 100 тысяч боеспособных солдат. После Смоленска в строю осталась половина (и только 5 тысяч кавалеристов), а до границы было еще очень далеко.
При изменившемся соотношении сил Кутузов, который со своей всегдашней осторожностью доселе просто следовал параллельным курсом, решил, что пора добить врага.
Под городком Красный, в 45 километрах западнее Смоленска, русские преградили французам путь. Четыре дня Наполеон со своими голодными, разрозненными частями прорывался через заслон. Потерял две трети людей (количественно – столько же, сколько при Бородине), остатки артиллерии, но все-таки пробился к Орше, где находилась следующая после Смоленска опорная база.
Здесь Бонапарт смог накормить и снабдить боеприпасами уцелевших. Великая Армия превратилась в Маленькую Армию, но до некоторой степени восстановила порядок и снова могла драться. Потом подошли свежие войска маршалов Удино и Виктора. Теперь у Бонапарта было 30 тысяч готовых к бою солдат и примерно столько же, если не больше, сброда, на который махнули рукой.
Видя усиление врага, Кутузов, которому зимний марш тоже давался очень тяжело, отстал на сто с лишним километров. Главнокомандующий мог себе это позволить еще и потому, что наперерез французам двигались свежие силы: с юга Дунайская армия адмирала Чичагова, с севера – корпус Витгенштейна.
Наполеон оказывался в капкане. Ему нужно было под угрозой нападения с нескольких сторон преодолеть реку Березину. Лед на ней еще не встал, и не бог весть какая широкая водная преграда представляла собой серьезную проблему.
В этой, казалось бы, безвыходной ситуации император в очередной раз явил свое тактическое мастерство. Он построил переправу к югу от города Борисова, обманув Чичагова, а тем временем быстро навел два понтонных моста севернее и за три дня (14–17 ноября по старому стилю) увел всех, кого успел – в первую очередь дисциплинированные части. Но и те понесли огромные потери. Из тридцати тысяч прорвались только девять.
Это всё, с чем Наполеон вернулся из своего катастрофического русского похода.
Точные данные потерь французской коалиции оцениваются по-разному. Отечественный историк Б. Урланис подсчитал, что за время кампании 1812 года Великая Армия потеряла в боях 112 тысяч убитыми и 214 тысяч ранеными. Современный французский автор Тьери Ленц пишет, что на полях сражений, от болезней и холода погибли примерно 200 тысяч плюс 150–190 тысяч угодили в русский плен.
Великая Армия исчезла и, казалось, уже не возродится.
Заграничный поход
Император Александр прибыл к войскам и остановился в Вильне. Нужно было решать: двигаться ли дальше, преследуя Наполеона, или удовлетвориться достигнутым, чтобы не искушать судьбу.
Сомнения были нешуточные. Да, французская армия погибла, но уцелел Бонапарт. Его по-прежнему боялись – в особенности если придется сражаться на чужой территории, и, вероятно, в одиночку, поскольку Европа пока вела себя выжидательно.
Первое время казалось, что Франция сохраняет всех своих союзников. Россия же была разорена, от ее армии после тяжелейшего зимнего похода тоже мало что осталось, а перенесение войны в Европу сулило новые расходы и потери.
Опять, как в сентябре, все вокруг уговаривали Александра не рисковать. Ростопчин призывал смириться с тем, что враг ускользнул; пламенный патриот адмирал Шишков убеждал остановиться; даже провозглашенный спасителем отечества Кутузов был против войны. «Щадя русские войска, Кутузов не преследовал неприятеля с тем напряжением, с каким мог бы, полагая, что Наполеона следует приберечь для англичан, а для России он больше не опасен», – пишет дореволюционный историк Ф. Кудринский, автор книги «Вильна в 1812 году».
И вновь Александр проявил твердость. К этому времени он преисполнился мистической веры в свое божественное предназначение – избавить Европу от «тирана». Кроме того произошли два события, положившие конец колебаниям.
Во-первых, Наполеон отбыл на запад – ему нужно было убедиться, что его власть не пошатнулась, ободрить немецких союзников и набрать новую армию.
Во-вторых, у России образовался союзник – Пруссия. Эта страна, разгромленная, обобранная и униженная Бонапартом в 1806 году, была принуждена участвовать в русском походе, однако воевала очень неохотно. В декабре командующий генерал Йорк собственной волей заключил перемирие. Король было испугался и хотел предать изменника суду, но народ бурно приветствовал Йорка как героя. Французских войск в Пруссии стояло немного, Бонапарт был далеко, а царь близко.
В феврале составился русско-прусский альянс, основа новой, шестой по счету антифранцузской коалиции. На патриотической волне немецкие добровольцы тысячами вливались в национальную армию, и к весне Пруссия превратилась в серьезного союзника.
К началу кампании 1813 года ситуация выглядела следующим образом.
Русская армия, преследуя отступающих из Москвы французов, точно так же страдала от холода и голода, с той лишь разницей, что отставшие и обмороженные не попадали в плен, однако все равно выбывали из строя. Выйдя из Тарутинского лагеря со 100 тысячами солдат, Кутузов довел до Вильны только четверть. Две трети пушек пришлось оставить из-за нехватки лошадей. По всей дороге в госпиталях лежали 48 тысяч больных и раненых. При всем желании пока продолжать войну было нечем, а у французов, когда к ним подтянулись отставшие солдаты и окрестные гарнизоны, собралось 33 тысячи боеспособного войска.
Но Россия была недалеко, и оттуда все время прибывали подкрепления. К марту в объединенной русско-прусской армии было уже 70 тысяч человек. Торопились начать наступление, пока из Франции с новыми силами не вернулся Бонапарт.
Задача состояла в том, чтобы занять германские земли и тем самым перетянуть весь центр Европы на свою сторону. Первый удар был направлен против Саксонии, самого верного из наполеоновских союзников. Без большого труда взяли столицу королевства Дрезден, потом Лейпциг, но Фридрих-Август Саксонский знал, что Бонапарт уже выступил, и не сдавался.
Наполеон же за очень короткий срок сумел сделать невероятное. В декабре, отправляясь в Париж, он говорил: «Я соберу армию в 300 тысяч, выступлю с нею весною и уничтожу москвитян», – и тогда это казалось хвастовством. Но французская мобилизационная система работала превосходно. В несколько недель были набраны новые полки и дивизии, и в начале весны Бонапарт уже вел быстрым маршем через всю Германию пусть не триста, но сто двадцать тысяч солдат. Это были плохо обученные новобранцы, зато они рвались в бой. Из остатков прежней армии и гарнизонных войск сформировались еще два корпуса общей численностью в 60 тысяч. У Наполеона осталось мало пушек и конницы, но с этим уж ничего поделать было нельзя.
Быстрота, с которой французы восстановили свои силы, сорвала план союзников. К тому же они лишились вождя. В апреле старый Кутузов, чьи силы были подорваны тяготами похода, умер. Его заменил Витгенштейн.
С прибытием Бонапарта война сразу пошла иначе. Торопясь к театру военных действий, Наполеон чрезмерно растянул маршевые колонны, а из-за нехватки кавалерии разведка у французов была плохо поставлена, поэтому они невольно подставили под удар одну из своих колонн, которую вел маршал Ней. Витгенштейн решил воспользоваться выигрышной ситуацией.
2 мая под саксонским Лютценом русские и пруссаки внезапно атаковали Нея превосходящими силами, но опрокинуть не смогли, а лишь вынудили отступать с боем. Пользуясь тем, что неприятель увяз в сражении, Наполеон со всей армией сделал обходной маневр и напал с фланга. Если бы у французов было достаточно конницы, битва завершилась бы полным разгромом и преследованием.
Особенность наполеоновских побед этого периода войны состояла в том, что французы постоянно теряли очень много людей – часто больше, чем побежденные. При Лютцене, например, разбитые союзники лишились двенадцати тысяч солдат, а победители – почти двадцати тысяч. Дело в том, что новая французская армия состояла из малоопытных солдат, которые бились храбро, но неумело – еще одно доказательство древней максимы: войско овец во главе с львом сильнее войска львов во главе с овцой. Петра Витгенштейна, отличного боевого генерала, овцой, конечно, не назовешь, но одно дело – командовать корпусом, и совсем другое – вести большую, да еще разномастную армию против великого полководца.
Европейская кампания. М. Романова
После Лютценского поражения из Саксонии пришлось уходить. Дрезден снова стал французским.
Через 10 дней последовала еще одна битва, при Бауцене, где Наполеон, армия которого за счет саксонцев разрослась до 200 тысяч, обеспечил себе двукратное численное преимущество. Французы опять потеряли больше солдат убитыми и ранеными – и опять победили. Русско-прусская армия едва выскользнула из мешка, отступив на прусскую территорию. Казалось, что Кутузов и прочие осторожные люди были правы, когда отговаривали Александра от европейской войны. Бонапарт воскресил Великую Армию и вновь выглядел непобедимым.
18 мая, и потом неделю спустя еще раз Наполеон предлагал царю вступить в переговоры. Александр даже не ответил. Он не собирался заключать мир, несмотря на все неудачи.
Единственной реакцией на поражения было смещение Витгенштейна и замена его Барклаем-де-Толли. Новый-старый главнокомандующий применил ту же тактику, что год назад: уклонялся от сражений и отступал.
И это опять сработало. Истомленная длинными маршами и тяжелыми потерями французская армия не была готова к преследованию. Но ослабели и союзники.
Поэтому, когда Наполеон предложил не мир, а временное перемирие, Александр согласился. Два с лишним месяца боевые действия не велись.
Это затишье стало еще одной, может быть, самой роковой стратегической ошибкой французского императора. Он рассчитывал, что, дав отдых своим молодым солдатам и дождавшись резервов, станет сильнее врага, а вышло наоборот.
Да, численность французской армии значительно увеличилась. В начале августа под ружьем стояло уже 420 тысяч человек, и вновь появились крупные кавалерийские соединения. Но не сидели сложа руки и союзники. Русские имели в Германии и Польше 245 тысяч солдат, пруссаки почти столько же. Бонапарт не увеличил, а утратил численное преимущество. И это только пол-беды. Еще опаснее для французов была дипломатическая катастрофа. Во вражеский лагерь перешла Австрия, это прибавило союзникам еще 110 тысяч штыков и сабель. Перед этим к коалиции подключилась Швеция. Стало быть, против Наполеона выступили его тесть Франц II и его бывший соратник Бернадотт.
Англия, как водится, помочь войсками не могла, но обещала пособить деньгами.
Русский царь оставался, так сказать, политическим главой коалиции, однако военное руководство перешло к иностранным полководцам. Приняли общий план, по которому войска союзников разделились на три армии, действовавшие согласованно, но изолированно – у каждой была собственная задача. Такая стратегия не в последнюю очередь диктовалась страхом перед полководческим искусством Бонапарта и нежеланием ввязываться в генеральное сражение. Решили, что проще будет иметь дело с наполеоновскими маршалами, когда Великая Армия тоже разделится.
В августе боевые действия возобновились, и стало очевидно, что союзники почти повсюду имеют превосходство. Французам пришлось распылить часть своих сил по крепостям и гарнизонам, чтобы не утратить контроль над Германией.
На севере, в Пруссии, армии кронпринца шведского (156 тысяч солдат) противостояла группировка маршала Удино (71 тысяча); на юге, в Саксонии, австриец Шварценберг (235 тысяч) действовал против Бонапарта (122 тысячи); и только на центральном участке, в Силезии, у пруссака Блюхера и французского маршала Макдональда, силы были равны – по сто тысяч у того и другого. Самым многочисленным контингентом в коалиционной армии были русские, в общей сложности 173 тысячи человек, но их распределили по трем направлениям.
Подразумевалось, что в случае столкновения с Наполеоном все сразу пойдут на выручку тому, кого он атакует. Но, когда такое произошло, не успели.
В конце августа Богемская армия Шварценберга напала на корпус маршала Гувиона Сен-Сира, стоявшего близ Дрездена в отдалении от основной французской армии. Однако Бонапарт совершил стремительный бросок и в двухдневной битве разбил противника, заставив его отступить с большими потерями.
Дрезденское сражение стало последней крупной победой французов. Стратегия рассредоточения, которой придерживались союзники, оказывалась удачной. Пока Наполеон трепал Шварценберга, в Силезии маршал Макдональд был разгромлен Блюхером. Чтобы компенсировать нехватку сил, французам приходилось все время перебрасывать дивизии из одного конца Германии в другой. При этом потери от болезней и дезертирства становились значительнее боевых. К тому же Наполеон начинал проигрывать и политически. Его важный союзник Бавария вступила с коалицией в сепаратные переговоры.
К октябрю неравенство сил достигло таких размеров, что командование коалиции перестало бояться генерального сражения. Оно началось близ Лейпцига 16 октября 1813 года (поскольку события происходят в Европе, даю григорианский календарь) и вошло в историю под названием «Битва народов».
Это была самая масштабная баталия за всю историю человечества. Кровавый рекорд продержится до Первой мировой войны.
180 тысяч французов, поляков, саксонцев, вюртембержцев, баденцев, итальянцев с одной стороны и 350 тысяч русских, пруссаков, австрийцев, шведов с другой в течение четырех дней истребляли друг друга на почти двадцатикилометровом фронте.
Вначале силы были почти равны, потому что не все союзные войска успели прибыть к месту сражения, но Наполеон не сумел добиться решительного успеха. Затем, по мере усиления противника, дела французов шли все хуже. Они оборонялись, отступали, теряли позицию за позицией.
Интересной особенностью этой затяжной битвы было то, что одновременно велись закулисные переговоры. Наполеон пытался договориться с австрийцами о сепаратном мире, соблазняя их невероятными уступками: обещал отдать Польшу и Голландию, уйти из Италии и Испании, распустить Рейнский Союз. Эта уступчивость дала обратный эффект, поскольку была воспринята как признак слабости. А вот агенты союзников действовали успешнее. В самый напряженный момент битвы, 18 октября, наполеоновские сателлиты – саксонцы, баденцы, вюртембержцы – внезапно перешли на сторону врага и открыли брешь в самом центре французской линии.
Человеческие потери в этом колоссальном побоище тоже побили все рекорды – по разным оценкам, от 110 до 130 тысяч солдат были убиты или ранены.
«Битва народов». Готфрид Виллевальде
Формально, с сугубо военной точки зрения, дело закончилось вничью. Никто никого не разгромил, французы отступили в полном порядке. Но в ситуации осени 1813 года неуспех для Наполеона был равнозначен поражению, а поскольку битва была генеральной, она решила исход кампании и всей войны.
Бонапарту пришлось уходить из Германии. При отступлении его поредевшая армия опять понесла огромные небоевые потери – почти как год назад в России, разве что без морозов и голода. Во Францию пришлось пробиваться через враждебные земли вчерашних немецких союзников, теперь массово присоединявшихся к коалиции, и домой Наполеон привел всего 40 тысяч солдат. Великая Армия набора 1813 года повторила судьбу предыдущей.
Крупные французские соединения продолжали держаться в Гамбурге, Дрездене, Данциге, Магдебурге и других немецких городах, сковывая и задерживая союзников. Это давало Бонапарту надежду, что он успеет собрать новую армию. Опасались этого и союзники, памятуя, с какой грозной скоростью воскресли французские дивизии предыдущей зимой. Поэтому в ноябре Наполеон получил от коалиции предложение заключить мир: ему оставляли Францию в ее «естественных пределах» (то есть без всех завоеваний). Бонапарт хорошо понимал, что, проиграв войну, он не удержится и во Франции, поэтому ответил отказом. Тем самым из личных интересов он обрек свою страну на продолжение войны, которая теперь – это было ясно – будет происходить на французской территории.
Кампания 1814 года получилась короткой и кровавой.
Еще в конце декабря союзники переправились через Рейн и вторглись во Францию с востока. В первый день нового года император Александр с гвардией пересек французскую границу со стороны Швейцарии. Силы вторжения состояли из 200 тысяч солдат. Бонапарт смог собрать только 70 тысяч.
В эти последние недели Наполеон проявил все свои полководческие таланты. Он бросался с одного фланга на другой, за два месяца дал 12 сражений и почти все выиграл, погубил массу людей, но ничего изменить уже не мог. Побитые на одном участке, союзники пятились, но наступали на другом. Бонапарт кидался туда – пожар разгорался там, откуда он ушел. Вражеские авангарды подбирались все ближе к столице.
10–14 февраля Наполеон чуть не разгромил армию Блюхера, нанеся ему за пять дней четыре поражения. Впечатленные союзники даже остановились и снова предложили мир: Францию оставят в покое, если она согласится остаться в границах 1792 года. Бонапарт опять отказался. Он желал выторговать больше – кусок Германии до Рейна, кусок Альп. Подобная неадекватность притязаний может показаться удивительной, но у Наполеона в это время сложился дерзкий, авантюрный план переломить ход войны. Он двинулся на северо-восток, чтобы деблокировать находившиеся там сильные французские гарнизоны, до 50 тысяч солдат. С такими силами можно было снова перейти в общее наступление. Париж при этом остался почти незащищенным – Бонапарт надеялся на всегдашнюю медлительность противника.
Но отчаянно рискованная затея провалилась. На сей раз союзники действовали быстро. 25 марта они опрокинули малочисленный французский заслон и четыре дня спустя были уже около Парижа. Начались уличные бои. 30 марта командовавший обороной маршал Мармон послал к Александру парламентеров. Царь сказал: немедленно капитулируйте, «иначе к вечеру не узнают места, где была ваша столица». Если бы Бонапарт, гнавший войска к Парижу, подоспел чуть раньше, несомненно, так и случилось бы. На счастье будущим поколениям, Корсиканец опоздал, и прекрасный город не подвергся участи Москвы.
На следующий день Александр во главе войск (на две трети русских) торжественно вошел во французскую столицу. Это был самый великий день в жизни царя и во всей истории Российской империи.
У Бонапарта еще оставалось 60 тысяч войска, он собирался воевать дальше. Но собственные маршалы его не поддержали, полки без приказа складывали оружие. Наполеон попробовал отречься в пользу своего маленького сына, но союзники на это не согласились. Корона должна была вернуться к династии Бурбонов. Послушный французский Сенат признал монархом Людовика XVIII, брата казненного короля.
Мир подписали 30 мая – примерно на тех условиях, от которых неразумно отказался Наполеон. Только самого Наполеона уже не было. Его отправили в почетную ссылку на остров Эльба. Зато Франция получила назад захваченные англичанами колонии и не должна была выплачивать контрибуцию за огромный ущерб, который она в течение долгих лет наносила Европе. Более того, французов приглашали принять участие в международном конгрессе, который созывался в Вене, чтобы определить новый порядок мироустройства.
В результате победы над Наполеоном в Европе складывалась совершенно новая ситуация. Главным государством континента (на языке ХХ столетия – сверхдержавой) становилась Россия, а ее правитель возносился над всеми прочими монархами. Выглядело это так, будто русский царь заменил Наполеона в качестве всеевропейского вождя.
Дальнейшие деяния Александра Павловича в значительной степени объяснялись тем, что именно так он себя теперь и видел – ответственным за судьбы не только своей страны, но всей Европы.
«Европейский концерт»
Коллективная безопасность
С сентября 1814 года в Вене начался съезд победителей, который должен был определить новую карту Европы. К этой обычной после всякой большой войны задаче прибавлялась еще одна, совершенно новая и, прямо скажем, величественная: создать систему, при которой войны в Европе вообще станут невозможны.
Венский конгресс стал первой попыткой международного сотрудничества ради мира, а созданную им конструкцию, получившую название «Европейский концерт», следует считать предшественницей Лиги Наций и ООН.
Во встрече участвовали все европейские страны за исключением Турции, но решения принимались в узком кругу, который можно считать прообразом нынешнего Совета Безопасности. К нему принадлежали три «великие державы» (именно тогда впервые появился этот термин), то есть Россия, Англия и Австрия, к которым за свои боевые заслуги и понесенные жертвы приравнивалась Пруссия. Россию представляли царь и молодой дипломат Карл Нессельроде; Англию – герцог Веллингтон; Пруссию – канцлер Гарденберг; Австрию – император Франц и канцлер Меттерних, который являлся автором идеи о новом миропорядке. Через некоторое время важную роль стал играть представитель побежденной Франции князь Талейран – исключительно благодаря своей феноменальной ловкости. Прочие делегаты политического значения не имели.
Александр прибыл в Вену, увенчанный славой спасителя Европы и уверенный, что будет первой скрипкой в этом оркестре. Во время Заграничного похода он очень хотел возглавить союзную армию, но не решился (и правильно сделал), однако в своих дипломатических талантах царь нисколько не сомневался.
Его ждали обиды и разочарования. Талейран оказался хитрее, Меттерних умнее, европейцы вместо благодарности относились к России с подозрительностью – никому не нравилось, что она претендует на первенство. Ожидаемого триумфа не получилось. Если Александр и играл первую скрипку, то дирижером в Вене являлся Меттерних.
Некоторые вопросы впрочем были решены с относительной легкостью.
Восстанавливалось голландское королевство (в 1810 году Наполеон присоединил его к Франции); оно теперь называлось Нидерландским и включило также территорию будущей Бельгии. Австрия вернула себе итальянские владения. У Дании за верность Наполеону отобрали Норвегию – передали ее союзной Швеции. Итальянским Бурбонам возвратили Неаполь. Вместо упраздненной в 1806 году Священной Римской империи учредили Германский союз. Возникла новая страна Швейцария, объявившая о том, что никогда не будет участвовать ни в каких войнах. Сардинское королевство получило назад Савойю и Ниццу.
Но камнем преткновения стал роковой «польский вопрос». Александр рассчитывал навсегда закрыть его, присоединив к России герцогство Варшавское. Часть этой территории раньше принадлежала Пруссии, но царь придумал способ удовлетворить союзника, отдав ему Саксонию. Пруссия была не против – это сделало бы ее самым сильным государством германского региона, однако подобный поворот событий не устраивал Австрию, которая сама претендовала на всенемецкое лидерство. Встревожилась и Франция, опасавшаяся возникновения сильной единой Германии (как покажет будущее – не напрасно). Англии же не нравилось дальнейшее усиление России. К этому времени уже было ясно, что по-настоящему великих держав в мире теперь только две: Британия и Россия, и их соперничество неизбежно. В начале 1815 года Австрия, Англия и Франция даже заключили секретное соглашение о противодействии российским планам. Дело шло чуть ли не к войне между победителями.
Александр очень сердился и расстраивался, а однажды в порыве возмущения даже отправил «коварному интригану» Меттерниху вызов на дуэль, что повергло всех в недоумение. (Потом царь пригласил австрийского канцлера и сказал ему: «Оба мы христиане, и наша Святая Вера приказывает нам забывать все обиды. Обнимемся и забудем всё».)
И вдруг ситуация переменилась.
В марте 1815 года Наполеон высадился на материке и с поразительной скоростью вернул себе власть. В Европе началась новая война, и Россия опять стала всем нужна и для всех важна.
Сразу нашелся компромисс в польско-саксонском вопросе. Саксонию не отдали прусскому королю, но вернули ему кусок Польши; другой кусок достался Австрии; основная же часть бывшего герцогства вместе с Варшавой переходила к России в качестве полуавтономного Царства Польского.
Если бы союзники знали, что управятся с Бонапартом и без русской помощи, столь выгодных условий Россия не получила бы.
Бонапарт просидел в своей комфортабельной средиземноморской ссылке, на итальянском острове Эльба, только десять месяцев. До него постоянно доходили вести, что народ недоволен Бурбонами, что союзники переругались между собой, что французы ностальгируют по былой славе. Кроме того, из русского, немецкого, испанского плена вернулись ветераны – из них можно было собрать армию лучше той, что была у императора в последний период войны. Главная же причина, по которой Наполеон пустился в новую авантюру, несомненно была психологической. Человеку, который поверил в свою исключительность, трудно отказаться от величия. В конце концов экс-императору было всего 45 лет.
После высадки Наполеон дошел до Парижа за две недели. Повсюду его встречали с восторгом, королевские войска вставали под его знамена. Людовик XVIII и его правительство бежали без сопротивления.
Сразу же начался набор в армию, которая за два месяца увеличилась почти впятеро. Наполеон решил, что этого хватит для разгрома англо-прусской армии, группировавшейся близ французских границ, в Бельгии. Нужно было торопиться, пока не подошли русские с австрийцами.
Но Бонапарт переоценил свои силы. Для того чтобы одолеть наскоро сколоченную французскую армию, хватило и англичан с пруссаками. 18 июня 1815 года при Ватерлоо они разгромили Наполеона и положили конец его кровавой карьере. За последний всплеск бонапартовской мегаломании пролили свою кровь еще 125 тысяч человек.
Краткая реставрация Наполеона вошла в историю под названием «Ста дней» (хотя, если быть точным, продолжалась эта эпопея 111 дней).
Бонапарт сдался англичанам и был отправлен теперь уже очень далеко, на край света, в южную Атлантику – под надежный караул.
Великие люди мирятся. И. Сакуров
Европа до Венского конгресса. М. Романова
Европа после Венского конгресса. М. Романова
Франции этот рецидив бонапартизма обошелся дорого – теперь условия мира стали жестче. Стране назначили контрибуцию в размере 700 миллионов франков, да еще на всякий случай ввели оккупационный корпус из 150 тысяч солдат. Содержать его тоже предстояло французам.
Но главным результатом Ста дней было осознание хрупкости мира в Европе. Теперь державы отнеслись к идее коллективной безопасности со всей серьезностью. Официально возобновился четверной союз России, Англии, Австрии и Пруссии как гарант европейского равновесия. Эти страны брали на себя ответственность согласовывать все конфликты путем переговоров и арбитража, а не силой оружия.
И система всеевропейского мира, созданная Венским конгрессом, в самом деле долго, почти четыре десятилетия, оберегала континент от больших войн между державами. «Европейский концерт» исполнял иногда очень нервную, но неизменно мирную музыку. Если же историческая репутация у меттерниховского проекта неважная, то объясняется это второй его направленностью – реакционной.
Коллективная несвобода
Ко времени Венского конгресса русский царь успел разочароваться лишь в собственных подданных, но в последующие годы ему пришлось убедиться, что европейцы тоже еще не созрели для свободы. Народы жаждут прав, но не умеют с ними обращаться и, дай им волю, запалят новый пожар – к такому печальному выводу постепенно пришел воспитанник Лагарпа.
Европу действительно лихорадило. Искры 1789 года разлетелись во все стороны и продолжали тлеть, разгораясь то там, то сям – всюду на свой лад. Союз старых монархий справился с великим завоевателем, но не с идеями великой революции. Можно было вернуть на трон Бурбонов. Нельзя было запихнуть Европу назад в восемнадцатый век.
Не получилось это прежде всего в самой Франции, несмотря на репрессии и казни после Ста дней, несмотря на иностранную оккупацию.
При этом прочно установившееся мнение, что Бурбоны «ничего не забыли и ничему не научились», не вполне справедливо. Многие новшества, привнесенные революцией и Бонапартом, были сохранены – прежде всего конституция. После реставрации монархия перестала быть абсолютной. В стране существовали депутаты, выборы, довольно задиристая пресса. Свободы стало больше, чем при наполеоновском режиме, вполне тоталитарном. И все же народ был недоволен, раздражен. Частичный возврат помещичьих и церковных земель, люстрация бонапартистов, к которым были причислены многие офицеры и чиновники, а пуще всего национальное унижение, прочно связанное с Бурбонами, порождали непрекращающееся брожение. Оно выражалось не только в парламентских баталиях между левыми и правыми, но и в заговорах, в политических убийствах. Так в 1816 году раскрыли подпольную организацию под названием «Патриоты» и во устрашение предали ее руководителей жестокой казни: сначала отрубили руку – за цареубийственные помыслы, потом голову. В 1819 году в Париже бунтовали студенты. В 1820 году ремесленник-бонапартист убил королевского племянника герцога Беррийского, считавшегося реакционером.
В Германии революционное движение имело сильную националистическую окраску – в том смысле, что немцы желали объединиться в одну нацию. Патриотический подъем, первоначально обращенный против Наполеона, носил не прусский, а общегерманский характер.
Прусское правительство само запустило этот сильный, но опасный для абсолютной монархии двигатель своей знаменитой педагогической реформой.
После разгрома 1806 года страна лишилась самых богатых областей, почти всех доходов от промышленности и торговли. Единственным источником государственного благосостояния остались люди. Тогда Фридрих-Вильгельм III объявил: «Государство должно заместить духовной силой то, что оно потеряло в физической». В 1807 году правительство освободило крестьян, а затем вложилось всеми своими ресурсами в образование – создало систему народных школ, основало новые университеты. Эта «инвестиция в человеческий капитал» оказалась весьма эффективной: повышение уровня образования привело к оживлению частной инициативы, промышленному росту, развитию торговли. Но был и другой, неприятный для монархии результат – люди «стали много о себе понимать», добиваться новых прав. Активнее всего вели себя студенты, создававшие уже не прусские, а общегерманские братства. И требовали они не только национального единства, но и конституции, свобод, социального равенства. Горячие головы готовы были взяться за оружие. Императора Александра больше всего потрясло убийство в 1817 году ультраправого публициста, российского «агента влияния» Августа фон Коцебу – его на брутовский манер, с возгласом «Умри, предатель Отчизны!» заколол кинжалом экзальтированный студент.
Убийство Коцебу. Рисунок начала XIX в.
На юге Европы «якобинский дух» не исчерпывался одними только конспирациями и политическими убийствами.
Клокотала Испания, которая все не могла успокоиться после французского нашествия. Монархия защитить страну не смогла, за оружие пришлось браться народу, и это навсегда подорвало авторитет королевской власти.
Фердинанд VII вызвал всеобщее возмущение, когда отказался признавать конституцию, принятую в разгар освободительного движения. Король пошел на эту крайнюю меру по необходимости: колониальная империя разваливалась на куски, по всей Латинской Америке бушевали революции, и подавить их можно было только при очень сильной власти. Но войска, приготовленные к отправке за море, взбунтовались, и революция началась в самой Испании. Король был фактически свергнут, в стране началась гражданская война между роялистами и республиканцами.
Такие же процессы разворачивались в Италии – как на юге, так и на севере. Еще во времена антифранцузского сопротивления возникла сеть тайных организаций, члены которых называли себя «угольщиками» (carbonari). После 1815 года, как в Германии, освободительное движение переросло в общенационально-объединительное, притом с сильным антимонархическим и антиклерикальным уклоном, а в областях, принадлежавших Габсбургам, еще и с антиавстрийским. Восстания вспыхнули и в королевстве Обеих Сицилий, и в Пьемонте. Тамошние монархи были не в силах справиться с мятежниками собственными силами, шли им на уступки, соглашались ввести конституцию.
Эти тревожные процессы окончательно убедили Александра в пагубности либерализма: он несет хаос и гибель. Религиозная экзальтация, порожденная «грозой двенадцатого года» и питаемая пророчествами баронессы Криденер, побуждала самого могущественного государя Европы искать спасение не в ухищрениях человеческого ума, а в Боге. У Бога нет ни конституции, ни избирателей; Он мудр и милосерден; Он лучше знает. Так же должно быть и на земле. Государи сами будут решать, когда пришло время предоставить народу те или иные свободы. Священная обязанность европейских монархов – управлять этим процессом, не выпускать его из-под контроля.
Так возникла инициатива создания Священного Союза монархов, который будет удерживать Европу не только от войн, но и от революционных потрясений. Недостаточно избегать международных конфликтов, нужно еще и «подморозить» стихийные освободительные движения. Солидарности низов необходимо противопоставить солидарность государей.
Так идея Меттерниха дополнилась идеей Александра; принцип коллективной безопасности соединился с принципом коллективной несвободы – и первое без второго стало невозможно. Нельзя отрицать, что формула эта выглядела вполне логично. Когда в ходе революции 1848 года рухнет вторая ее составляющая, вскоре развалится и первая.
На первых порах прочие вершители мировых судеб отнеслись к мысли о создании какого-то боговдохновенного союза как к блажи – мистические увлечения «Северного Сфинкса» к этому времени были общеизвестны. Меттерних назвал идею пустой химерой, но впрочем безвредной. Почему бы не сделать царю приятное, выторговав взамен что-нибудь посущественней?
С некоторым сочувствием отнесся к идее прусский король Фридрих-Вильгельм. Австрийский император Франц – пиетист, подверженный влиянию иезуитов, – подписал договор неохотно, по настоянию Меттерниха.
Была выпущена декларация, что «три союзные государя почитают себя аки поставленными от Провидения для управления тремя единого семейства отраслями» и обязуются «приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать себя как бы членами единого народа христианского». Конкретной программы в документе не содержалось, и Меттерних назвал его «пустым и трескучим». Однако стремительное распространение «революционной заразы» вскоре заставило всех участников, включая и Меттерниха, отнестись к Священному Союзу всерьез.
В течение ряда лет эта ультраконсервативная организация активно противодействовала повсеместному натиску вольнолюбия и в конце концов – на время – притушила этот пожар.
Постепенно в Священный Союз вступили и другие монархи – либералы считали эту организацию «заговором правителей против народов». Из держав в стороне осталась только Англия, которой всё это очень не нравилось. Британия уклонилась от формального участия в Священном Союзе, сославшись на то, что является конституционной монархией и должна руководствоваться не волей Божьей, а решениями парламента. Теперь же Лондон оказывался в стороне от принятия решений и выражал свое недовольство, ратуя за попираемые свободы. На самом деле англичанам не нравилось возросшее влияние России, главного геополитического конкурента.
Священный Союз управлял континентом при помощи международных конгрессов, и созывались они часто: четыре раза за четыре года.
Первый по счету, Ахенский (1818), был относительно спокойным, поскольку испанская и итальянская революции еще не разразились. Главной темой было «прощение Франции», которую освободили от обязанности содержать оккупационный корпус. Королевское правительство в это время возглавлял царский ставленник герцог Ришелье, в недавнем прошлом новороссийский генерал-губернатор, и Александр решил помочь своему протеже. Был расчет на то, чтобы покрепче привязать Францию к России. (Из этих планов ничего не выйдет – французы предпочтут союзничать с Англией.)
Второй конгресс, в Троппау (1820), был уже очень нервным – в Пьемонте и Неаполе восстал народ, Австрия забеспокоилась за свои итальянские владения и просила санкции на вооруженное вмешательство. На съезде была принята резолюция, которая давала державам право на военное вторжение в другие страны, если там происходит революция.
Почти сразу же пришлось собирать еще один конгресс, в Лайбахе, потому что ситуация на юге Италии стала катастрофической: король Фердинанд был вынужден согласиться на конституцию и отчаянно просил о помощи. Державы дали Австрии мандат на немедленные действия. Были введены войска, революцию подавили силой иностранных штыков. В апреле австрийцы вторглись в Пьемонт, где помогли королевским войскам справиться с бунтовщиками. На Апеннинском полуострове повсюду торжествовала реакция. Священный Союз доказал свою действенность.
Веронский конгресс Священного Союза. Неизвестный художник
Но Веронский конгресс 1822 года обнаружил коренное противоречие между общей целью союза и национальными интересами его членов.
Стороны довольно легко договорились, что испанской революции пора положить конец. Выполнить это общественное поручение охотно взялась Франция, которая в следующем году отправила в Испанию восемьдесят тысяч солдат и потом, вернув королю власть, половину контингента оставила для «охраны порядка».
Но по другим, менее очевидным вопросам позиции сторон разошлись. Представители новых латиноамериканских стран просили признания независимости. Англия и Франция это приветствовали, поскольку, будучи морскими державами, рассчитывали на новые рынки. Однако Россия, а вместе с нею Австрия с Пруссией требовали соблюдения принципов Союза: никакой поддержки мятежникам, которые восстают против помазанника Божия.
Другим камнем преткновения стал вопрос о запрете работорговли. Англия предлагала объявить эту позорную практику вне закона и карать нарушителей как пиратов. Россия, интересы которой этот прекрасный жест никак не затрагивал, поддержала благородную инициативу, еще и заявив, что торговля черными рабами «противоречит религии, справедливости и человечности» (очевидно, в отличие от торговли белыми рабами). Но воспротивилась Франция: это ее корабли под португальским и бразильским флагом занимались грязным, но высокоприбыльным бизнесом.
Затем настала очередь Александра делать нелегкий выбор – чем поступиться: принципами или интересами.
К Веронскому конгрессу с просьбой о помощи – как христиане к христианам – обратилось временное правительство Греции, восставшей против Османской империи. Россия здесь оказывалась в двойственном положении. Она всегда считала себя защитницей православного мира, к тому же в греческих событиях просматривался «русский» след.
На российской территории, в Одессе, несколько лет назад возникло патриотическое общество греков-эмигрантов, мечтавших вернуть своей родине независимость. Греческая община в империи вообще была многочисленна и влиятельна. К ней, в частности, принадлежал управляющий министерством иностранных дел Иоанн Каподистрия. Сначала «Этерия» (так называлась организация) рассчитывала, что он и возглавит движение, но почтенный дипломат уклонился. Тогда вождем стал молодой гусарский генерал Александр Ипсиланти, герой войны 1812 года, потерявший руку в Дрезденском сражении. Одно время он состоял адъютантом при государе, что придавало его действиям вид русской интриги.
В 1821 году Ипсиланти с небольшой дружиной устроил восстание в низовьях Дуная, был разбит, попытался в обход, через австрийскую территорию, проникнуть в Грецию, но Вене эта подозрительная авантюра, грозившая нарушить баланс на Балканах, совсем не нравилась, и повстанцев, российских подданных, арестовали. Еще хуже повели себя турки. Они схватили константинопольского патриарха Григория V и прямо в день православной Пасхи повесили его и трех митрополитов на воротах, в торжественном облачении. За этим последовал кровавый христианский погром.
Восстание, к тому времени уже вспыхнувшее на юге страны, теперь развернулось еще шире. Греки избрали депутатов в Национальное собрание, провозгласили конституцию – и вот теперь попросили Европу о помощи.
Император Александр попал в очень трудное положение. С одной стороны, смириться с убийством православных иерархов было невозможно, как и бросить в беде греков, привыкших надеяться на Россию. Еще Екатерина Великая мечтала о греческом восстании, чтобы поддержать его и утвердиться на Средиземном море. И этот момент наконец настал. «Отказаться от сочувствия этому явлению для России, для русского царя значило вступить в вопиющее противоречие с собственной историей», – пишет В. Соловьев.
Но греки восстали против хоть и мусульманского, но законного государя, да еще провозгласили конституцию. Поддержать их революцию означало бы предать всё, ради чего создавался Священный Союз.
Александр отказал грекам и потом объяснил это так: «Я первый должен показать верность принципам, на которых я основал союз. Представилось испытание – восстание Греции; религиозная война против Турции была в моих интересах, в интересах моего народа, требовалась общественным мнением моей страны. Но в волнениях Пелопоннеса мне показались признаки революционные, и я удержался».
И дома, в России, и в славянском мире это решение вызвало огромное разочарование. Турки беспрепятственно резали плохо вооруженных повстанцев, устраивали казни и карательные экспедиции, а Россия бездействовала.
В этой тяжелой ситуации Александр продемонстрировал, что ставит интересы Европы (как он их понимал) выше национальных. Но это была личная позиция, вступавшая в конфликт с духом и логикой империи. Преемник Александра изменит приоритеты и еще вернется к греческому вопросу.
Реакционный либерал
Смена курса
Либеральные реформы – вернее, попытки реформ – происходившие в 1800-е годы, были так внове для российской истории, что за Александром I закрепилась прочная репутация правителя-либерала. Однако на самом деле в послевоенный период это царствование стало охранительным и антилиберальным, а под конец сделалось откровенно реакционным.
Уже говорилось, что кроме причины субъективной – пробудившегося религиозно-мистического чувства – у Александра имелись и вполне рациональные резоны для столь резкого поворота. В 1820-е годы они только усилились.
Адам Чарторыйский в старости напишет: «…Сорок лет тому назад либеральные идеи были еще окружены для нас ореолом, который побледнел при последующих опытах их применения; и жизнь еще не доставила нам тогда тех жестоких разочарований, которые впоследствии повторялись слишком часто». Два эти фактора – неудачные «опыты применения» и «жестокие разочарования» – определили дух поздней александровской эпохи, которую Ключевский называл «одним из самых мрачных периодов русской истории». Россия, конечно, переживала моменты куда более страшные, но Василий Осипович имеет в виду мрачность общественного настроения, всегда наступающую с крушением надежд.
«Жестокое разочарование» в вольнолюбии и просвещении произошло у Александра под влиянием внешних событий – прежде всего череды революций на юге Европы. Либеральные реформы повсюду привели к кровавым беспорядкам, а стало быть они опасны, и уж во всяком случае нельзя создавать подобной ситуации в отсталой России – вот вывод, к которому пришел император. Реакционность Священного Союза и реакционность внутренней политики были звеньями одной и той же цепи.
В 1820 году царю показалось, что он все же не уберег свою державу от революционной заразы. В это время царь находился на конгрессе в Троппау, где руководители Священного Союза решали, что делать с неаполитанской революцией, затеянной военными, – и вдруг то же самое происходит в Петербурге. Приходит весть, что взбунтовался лейб-гвардии Семеновский полк, которым когда-то в юности командовал сам Александр.
В полку сменился командир. Вместо прежнего, мягкого, был назначен новый, придирчивый и вздорный. Этот истовый служака (его звали Шварц) считал, что привилегированные семеновцы слишком разболтались, и принялся их всячески тиранить: обзывал офицеров бранными словами, бил солдат, порол георгиевских кавалеров (что было нарушением устава). В конце концов терпение семеновцев лопнуло. Полк не восстал, не взялся за оружие, а всего лишь выразил коллективный протест, а когда начальство рассердилось, то в полном составе смирно отправился под арест.
В смысле военной дисциплины событие, конечно, было из ряда вон выходящим, но если бы император находился на месте событий, он увидел бы, что ничего революционного и вообще политического в этом возмущении не прослеживалось.
Семеновцы. Орас Верне
Однако издали Александру померещилось бог знает что. Царь очень испугался. Полк распустили и целиком набрали заново, «мятежников» сурово наказали, но этим дело не ограничилось. Началось повсеместное «закручивание гаек».
К этому времени вольные ветры и так уже давно дуть перестали. С 1814 года правой рукой государя и главным администратором являлся генерал Аракчеев, положение которого декабрист Николай Бестужев описывает так: «…Никто еще не достигал столь высокой степени силы и власти, как Аракчеев, не имея другого определенного звания, кроме принятого им титла верного царского слуги. Этот приближенный вельможа под личиной скромности, устраняя всякую власть, один, незримый никем, без всякой явной должности, в тайне кабинета, вращал всею тягостью дел государственных, и злобная, подозрительная его политика лазутчески вкрадывалась во все отрасли правления. Не было министерства, звания, дела, которое не зависело бы или оставалось бы неизвестно сему невидимому Протею – министру, политику, царедворцу. Не было места, куда бы не проник его хитрый подсмотр; не было происшествия, которое бы не отозвалось в этом Дионисиевом ухе». Сам временщик говорил про себя (в третьем лице): «Аракчеев есть первый человек в государстве».
Современники приписали смену курса злокачественному влиянию на государя этого певца казармы, но Аракчеев всегда был лишь усердным исполнителем монаршей воли, это Александр в нем и ценил.
Одними административными строгостями император не ограничился. Зная, что революции порождаются брожением умов, он вознамерился духовно оздоровить Россию. Впервые в отечественной истории важнейшей государственной задачей объявляется идеология, и этим направлением ведал отнюдь не солдафон Аракчеев.
Спасение от разрушительных идей Александру виделось в религии, которая опирается не на гордую мысль, а на смирение, не на знание, а на веру. В идеологической политике этого времени можно различить два периода: агитационный и запретительный.
Первый связан с именем уже поминавшегося Александра Голицына, президента Библейского общества. Эта организация, созданная в 1814 году по царскому указу, должна была бороться с «мнимо просвещенным врагом» (революционной заразой) пропагандой истинного, то есть религиозного просвещения. Формально Библейское общество всего лишь печатало и распространяло духовные книги, по сути же являлась чем-то вроде клерикальной партии – и это была «партия власти». Н. Греч пишет: «Кто не принадлежал к Обществу библейскому, тому не было хода ни по службе, ни при дворе. Люди благоразумные пробавлялись содействием косвенным или молчанием… Тщеславные шуты, люди без убеждений и совести, старались подыграться под общий тон».
Голицын в своем религиозном неофитстве доходил до карикатурного. Ключевский рассказывает, что у князя на нюхательной табакерке была иконка и даже комнатная собачка ела из миски со священным изображением. И такой вот человек с 1817 года руководил Министерством духовных дел и народного просвещения – теперь эти сферы не обосабливались друг от друга.
Однако скоро Александру агитации становится недостаточно, и вместо Голицына к управлению идеологией приходят более серьезные люди, прежде всего адмирал А.Н. Шишков. Это родоначальник русского патриотизма – сначала как культурного, а затем и как политического движения. Начинал Шишков с благого дела – борьбы за русский язык и национальную словесность. В годы войны патриотизм стал государственной идеологией, и адмирал занял должность статс-секретаря, освободившуюся после Сперанского. Шишков – автор всех возвышенных манифестов и воззваний, певец «огня народной гордости, огня любви к отечеству».
А. Шишков. Джордж Доу
Архимандрит Фотий. Л. Серяков
М. Магницкий. Неизвестный художник
По окончании войны надобность в воспламенительной риторике отпала, и Шишков получил отставку, но через несколько лет вновь оказался востребован. Вокруг адмирала возник кружок воинствующих клерикалов (чтобы не употребить слово «мракобесов»), считавших, что пора переходить от слов к делу – от увещеваний к запретам. Самыми деятельными участниками этой группы были столичный митрополит Серафим, архимандрит Фотий и крупный чиновник голицынского министерства Михаил Магницкий. Если «телом» страны управлял Аракчеев, то эти люди пытались управлять ее «духом». В конце концов они совершенно отодвинули в сторону Голицына с его библейскими затеями, а в 1824 году Шишков заменил князя и на посту министра.
«Эпоха Затемнения»
В те годы печально шутили, что Просвещение сменилось Затемнением. Логично, что потемнело в тех сферах российской жизни, где перед тем стало слишком светло: в издательском мире и в образовании.
Либеральный цензурный устав 1804 года, запрещавший только сочинения, противные христианству и законам, предписывал трактовать в пользу автора все «двойные по смыслу» высказывания. Книгоиздание и в особенности журнальная деятельность после этого необычайно оживились, стала развиваться публицистика, появились статьи на философские, экономические, общественные темы. Всякое свободное выражение мысли неотделимо от вольнодумства, которое в 1810-е годы, однако, стало считаться крамолой. Еще в доголицынские времена цензура сильно посуровела. Ей предписывалось пресекать «своевольство революционной необузданности, мечтательного философствования или опорочивания догматов православной церкви». Затем пошли дальше: журнальным авторам запретили высказывать суждения на темы, относящиеся к ведению государства – например, экономические. Шишкову показалось мало и этого. Став министром, он предложил царю план, «какие употребить способы к такому и скорому потушению того зла, которое, хотя и не носит у нас имени карбонарства, оно есть точно оное». План заключался в составлении нового цензурного устава. Высочайшее разрешение было получено, и министр сочинил документ, вошедший в историю под названием «Чугунного устава». (Принят этот драконовский регламент будет уже царем Николаем.)
Еще радикальнее были строгости в области образования. Административное объединение «духовных дел» и просвещения должно было гарантировать «постоянное и спасительное согласие между верою, ведением и разумом», но и этого скоро оказалось недостаточно. Для контроля над учебными заведениями в министерстве было учреждено Главное управление училищ, на первом же заседании которого Шишков сказал, что этот орган будет бороться с «лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, пухлой гордостью и пагубным самолюбием, вовлекающим человека в опасное заблуждение думать, что он в юности старик, и через то делающим его в старости юношею».
На практике это вылилось в разгром новых университетов, которыми еще недавно так гордился Александр: Казанского, Санкт-Петербургского и Харьковского. Эти питомники просвещения, созданные для подготовки учителей и квалифицированных чиновников, обладали автономией и существовали по весьма либеральным правилам, в свое время разработанным «молодыми реформаторами».
Один из членов той команды, бывший помощник Сперанского и сам в прошлом заядлый либерал Магницкий, ныне сотрудник Главного управления училищ, произвел ревизию Казанского университета и составил сокрушительный отчет о том, что там царит «дух вольнодумства и лжемудрия». Искоренять заразу поручили самому Магницкому, и он преобразовал университет в соответствии с новой государственной политикой.
Преподавание наук становилось жестко, даже абсурдно идеологизированным. Всеобщую историю следовало вести от Адама и Евы; новейшая европейская история, в которой фигурировали революции, вообще упразднялась; в философии надлежало руководствоваться посланиями апостолов; в политологии – опытом ветхозаветных царей иудейских; из словесности оставалась только духовная литература. Даже математика рассматривалась как наука «нравственная», доказывающая истинность христианства.
Еще больше внимания инструкция Магницкого уделяла студентам, чтобы те ни в коем случае не стали революционным элементом по примеру своих немецких собратьев.
Студентов водили строем, заставляли хором петь молитвы, понуждали доносить друг на друга. В общежитии их расселяли не по курсам или факультетам, а согласно «нравственности» – на разные этажи. Этажам запрещалось общаться между собой, чтобы более «порочные» не распространяли своих дурных нравов. Совсем провинившихся одевали в армяк и лапти, вешали на грудь табличку «грешник», сажали в карцер и заставляли с утра до вечера молиться. Выпускал раскаявшегося только священник. А если кто-то оказывался неисправим, такого отдавали в солдаты.
Правила, разработанные Магницким для Казанского университета, настолько понравились в столице, что по той же инструкции стали действовать и в других высших учебных заведениях. В Харькове и Петербурге студентов до такой степени не муштровали, но всех мало-мальски дельных профессоров оттуда вычистили.
С точки зрения новой охранительской доктрины Александра, всё это было, может быть, и прискорбно, но совершенно необходимо.
Тоталитарная утопия
Однако мечтателем государь остается и в этот период царствования. Просто мечты меняются. В Европе это греза о вечном мире и стабильности, воплотившаяся в Венской системе и Священном Союзе. В собственной же стране, где у Александра возможностей было больше, царь задумывает построить нечто вроде земного рая – но теперь уже не либерального, а государственнического. Именно в этом, вероятно, заключалась суть грандиозной затеи с военными поселениями.
Все были уверены, что идея исходит от Аракчеева, но автором проекта являлся сам Александр. Граф Алексей Андреевич поначалу даже возражал, однако потом, как обычно, стал исполнять высочайшую волю со всей своей железной непреклонностью. «Сие новое, никогда, нигде на принятых основаниях небывалое великое государственное предприятие, справедливо обратившее на себя внимание целой Европы, обязано своим началом и осуществлением величайшему из царей», – подтверждал и сам Аракчеев.
Историческая репутация у военных поселений ужасная, однако цель, как всегда у Александра Благословенного, была благая: если не получается дать народу счастье через свободу, нельзя ли осчастливить подданных без свободы, к которой они все равно не готовы? Ведь Порядок надежнее и лучше Хаоса. Казалось, «ордынский» государственный механизм с его мощными инструментами контроля идеально приспособлен для такой задачи: прикажешь – сделают.
«Великое государственное предприятие» состояло в том, чтобы сократить военные расходы и занять большое количество здоровых и праздных мужчин (солдат) полезным трудом, а заодно явить стране все выгоды разумной жизни под управлением мудрого начальства. В мирное время солдаты должны были заниматься крестьянским трудом, живя все вместе, по-военному, но при этом имея собственные семьи и ведя свое хозяйство. На бумаге это выглядело очень убедительно. Если в России лучше всего устроена и содержится армия, так не распространить ли принципы военной дисциплины и всеобъемлющей организованности шире?
Первоначально на эту мысль Александра натолкнула дороговизна военной гонки перед решающим столкновением с Наполеоном. Казна просто не справлялась с такими расходами. Один полк расселили по новой системе еще в 1810 году, но начавшаяся вскоре большая война не дала времени понять, удачен эксперимент или нет. Когда установился мир, государь к заманчивой идее вернулся. «С отеческим попечением занимаясь средствами сделать переход сих людей в военное состояние нечувствительным и самую службу менее тягостною, мы положили в основание сему то правило, чтобы в мирное время солдат, служа отечеству, не был отдален от своей родины, и посему мы приняли непреложное намерение дать каждому полку свою оседлость в известном округе землею и определить на укомплектование оного единственно самих жителей сего округа», – говорится в одном из указов, и в этих словах явственно слышен голос Александра.
Военные поселения придумал не Аракчеев, но он невольно подтолкнул царя к этой идее наглядным примером. Император много раз бывал в Грузине, новгородском поместье Аракчеева, которое граф Алексей Андреевич обустроил согласно своим представлениям о прекрасном. Там всюду были прямые мощеные дороги, аккуратные каменные постройки (в том числе крестьянские дома), разные удобные изобретения и учреждения, царила идеальная чистота. Мужики и бабы были сытые и опрятные, дети ухоженные, поля золотисты, коровы толсты и так далее. На гатчинского питомца, каким являлся Александр, всё это производило большое впечатление. После первого посещения Грузина царь писал Аракчееву: «Быв личным свидетелем того обилия и устройства, которое в краткое время, без принуждения, одним умеренным и правильным распределением крестьянских повинностей и тщательным ко всем нуждам их вниманием успели ввести в ваших селениях, я поспешаю изъявить вам истинную мою признательность за удовольствие, которое вы мне сим доставили, когда с деятельною государственною службою сопрягается пример частного доброго хозяйства, тогда и служба и хозяйство получают новую цену и уважение».
Граф несомненно объяснил его величеству, что без принуждения такое в России не получится. Секрет успеха – в дотошном контроле над жизнью «детушек», с которыми без отеческой строгости нельзя. Аракчеев вплоть до мелочей регламентировал инструкциями быт своих двух тысяч душ: как вести хозяйство, как поддерживать чистоту в доме, когда и с кем сочетаться браком. С. Мельгунов цитирует слова «отца-барина» о дисциплинированном деторождении: «У меня всякая баба должна каждый год рожать – и лучше сына, чем дочь. Если у кого родится дочь, то буду взыскивать штраф. Если родится мертвый ребенок или выкинет баба – тоже штраф. А в какой год не родит, то представь десять аршин точива [ткани]». Поскольку с неразумным народом без суровости нельзя, у каждого мужика и каждой бабы имелся специальный кондуит, куда записывались взыскания, тоже подробно регламентированные.
Много секли – причем разной толщины палками, в зависимости от тяжести греха. Женщин в наказание заставляли ходить с деревянной рогаткой на шее. Имелась в Грузине и собственная тюрьма, как же без нее. Но после кары хозяин обязательно прощал виновного, лично делая ему благонравное наущение и допуская поцеловать отеческую руку.
Грузино: аракчеевский рай. Неизвестный художник
Впрочем, в неприятные детали государь, возможно, и не углублялся. Его пленили простота и осуществимость идеи по-военному регламентируемого благоденствия. Поселения нового типа теперь создавались не для войны (Венская система устранила эту опасность), а для мира: по мысли царя они должны были постепенно преобразить Россию.
Сначала в поселенцы целыми полками записывали служащих солдат, но из этих людей, в юности оторванных от крестьянского труда, получались неважные работники. Тогда стали делать наоборот: превращать жителей определенной местности в военных. Брали самых рачительных крестьян, определяли их в «хозяева». «Хозяин» не состоял на военной службе, а исполнял функцию руководителя маленькой ячейки, к которой были приписаны «помощники» – служащие солдаты, в мирное время используемые на сельскохозяйственных работах. Жены и дети «помощников» находились на попечении «хозяина», так что при необходимости солдат мог отправляться в поход, не волнуясь за свою семью. Те, кто хорошо работали, со временем могли сами становиться «хозяевами». Прочие по достижении 45-летнего возраста должны были переводиться в «инвалиды», которые уже занимались только мирным трудом. Детей, как и отцов, одели в форму, учили грамоте, готовили и к военной службе, и к крестьянским занятиям. В указе расписывались блестящие выгоды такого жизнеустройства, ибо поселенцы «будут жить в своих домах неразлучно со своими семействами, иметь всегда свежую и здоровую пищу и другие удовольствия жизни и, обращая в свою собственность всё то, что от самих их зависит, приобресть рачительным возделыванием земли и разведением скота, умножать тем, год от года, состояние свое и упрочить оное своим детям».
Предполагалось, что в результате этой реформы возникнет обширное военно-крестьянское сословие – вроде казачьего, только гораздо более дисциплинированное. Оно-то и станет костяком новой России. Ну а кроме того, армия будет сама себя кормить, перестанет отягощать государственный бюджет.
С 1817 года началось массовое строительство военных поселений, и к концу александровского царствования в них обитало уже более полумиллиона человек (треть из них – солдаты действительной службы). При Николае население военных колоний возрастет до 800 тысяч.
Все деревни строились по утвержденному плану: геометрические кварталы, стандартные дома, плацы, хозяйственные постройки, шоссейные дороги, правильно размежеванные поля, обязательно церковь, больница, школа, гауптвахта. Потрачено на всё это было не менее 100 миллионов рублей. По внешнему виду военные поселки очень выгодно отличались от обычных нищих деревень и радовали глаз императора, когда он приезжал полюбоваться на свое детище.
Изнутри, однако, всё выглядело по-другому.
На бедных поселенцев легла двойная нагрузка: надо было и тянуть солдатскую лямку, и производить тяжелые работы – не только крестьянские, а любые, какие прикажет начальство. Людей изводили мелочной опекой, у них не было совсем никакой частной жизни. Офицеры совали свой нос повсюду – и в печь, и в постель, и во взаимоотношения внутри семьи. При этом в сельском хозяйстве командиры совершенно не разбирались, заботились лишь о парадности, поэтому большинство колоний оказались убыточными.
Государство «ордынского» типа за свою историю не раз пробовало организовать «дисциплинированную утопию». Перед Александром это неудачно пробовал сделать Петр Великий, с пулеметной скоростью выпускавший указы о регламентации всего на свете, вплоть до брития лица и размера гробов. В двадцатом веке сельская Россия с ее колхозно-совхозной системой превратится в сплошное «военное поселение».
Справедливости ради надо сказать, что аракчеевские «колхозы» были благоустроеннее советских. Поселенцы жили в удобных домах, никогда не голодали, пользовались медицинским обслуживанием (большая роскошь для той эпохи). С. Мельгунов пишет: «И чего только не было в военных поселениях: чистые шоссированные улицы на несколько верст, освещенные ночью фонарями, бульвары, госпитали, богадельни, школы, заводы, заемные банки, прекрасные дома (в которых жители, однако, зимой мерзли), в окнах занавески, на заслонках печей – амуры, родильные с ваннами и повивальными бабками; при штабе военных поселений существуют литографии (в то время еще большая новость), издается даже свой собственный журнал: «Семидневный листок военного поселения учебного батальона гренадерского графа Аракчеева полка». Вокруг поселений цвели сады, осушались болота. Иногда попадались и прибыльные хозяйства – если командир вдруг оказывался хорошим администратором».
Военное поселение в Новгородской губернии. Рисунок начала XIX в.
Но человек, начисто лишенный свободы, всегда будет чувствовать себя глубоко несчастным. Рая из-под палки не бывает.
В военных поселениях были часты самоубийства. Множество раз колонисты писали жалобы царю о невыносимости своей жизни. Ропот и недовольство не прекращались, временами перерастая в бунт. Счет подобных инцидентов шел на тысячи. А поскольку люди это были военные, имевшие доступ к оружию, подавлять такие восстания было непросто. Иногда даже приходилось использовать артиллерию. В 1819 году произошло большое восстание на Харьковщине. Понадобилось две дивизии, чтобы с ним справиться. 29 бунтовщиков были засечены насмерть, многих искалечили шпицрутенами и отправили на каторгу.
Земного рая из военных поселений не получилось. Получился земной ад.
Фантомные боли
Но даже последний период александровского царствования не был монохромно реакционным. С императором и теперь случались порывы либеральности, что придает этой противоречивой личности, да и всей эпохе еще более сложные черты.
В 1818 году государь (что примечательно – тайно) поручил нескольким доверенным лицам составить план отмены крепостного права. Люди эти были из числа первейших государственных сановников, придерживавшихся разного образа мыслей: Аракчеев считался реакционером; член Государственного Совета адмирал Мордвинов – либералом; министр финансов Гурьев – прагматиком.
Интересно, что самый осторожный проект представил либерал, предлагавший отпустить крестьян на волю без земли, а самый радикальный – реакционер, считавший, что государство должно выкупить каждому крепостному хотя бы по 2 десятины пашни. Гурьев предложил нечто среднее: растянуть выкуп на 60 лет, чтобы избежать ненужных потрясений.
Были и другие проекты, один из которых составил генерал-интендант Канкрин, который станет одним из столпов следующего царствования. Этот ученый немец, основываясь на доводах политэкономической науки и на европейском опыте, подготовил записку «Разыскание о происхождении и отмене крепостного права», где предлагал меры, многие из которых почти полвека спустя и будут осуществлены.
Но при Александре ничего сделано не было. Прожекты так и остались прожектами.
Другим «рецидивным спазмом» было поручение, данное в том же 1818 году бывшему реформатору Новосильцеву – составить не более и не менее как проект конституции. Задание было выполнено. Появился удивительный документ «Государственная уставная грамота», рисовавший план какой-то совсем другой России. Она делилась на десять «наместничеств» (сейчас сказали бы «субъектов федерации») с автономным управлением в виде собственных парламентов-сеймов. Высшим законодательным органом должен был стать Государственный Сейм с двумя палатами. Исполнительная власть отделялась от представительной и судебной. Гарантировались свобода печати и неприкосновенность личности. Должно быть, государь прочитал этот прекрасный документ с ностальгическим вздохом, а Новосильцев с удовольствием вспомнил молодость, но всерьез никто осуществлять эту программу, конечно, не пытался. Она начисто разрушила бы основу «ордынского» государства.
Вместо этого Александр усугубил строгости, а Новосильцев, отправленный искоренять крамолу в Царстве Польском, проявил себя там отъявленным врагом всяких вольностей.
Крамолы в Польше действительно развелось много, и виноват в том был сам Александр. Убедив себя в том, что русскому народу свобода вредна, царь решил ограничить свои либеральные устремления несколькими регионами «европейской культуры». Мы уже говорили о предоставлении прав прибалтийскому крестьянству и о льготном существовании Финляндии, но самой большой зоной относительной свободы стало Царство Польское, присоединенное к империи в 1815 году. Здесь Александр отважился поэкспериментировать с конституционным строем. Польша становилась автономией, которая имела собственные законы, собственный парламент (Сейм) и даже собственную армию, где солдаты служили не двадцать пять лет, как в России, а только десять. Крестьяне поголовно освобождались от барщины.
Конечно, Россия была удивительной империей, в которой нация-гегемон существовала в гораздо худших условиях, чем некоторые завоеванные ею народы. Причину государь объявлял прямо. На открытии первого Польского сейма Александр сказал: «…Вы мне подали средство явить моему Отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». Иными словами, русские для свобод еще не созрели, а вы, поляки, – вполне.
Очень скоро, однако, выяснилось, что придуманный Александром гибрид самодержавия с конституцией нежизнеспособен – или же что поляки не такие «зрелые», как казалось его величеству. Вместо того чтобы благодарить за великую милость, они хотели восстановления независимости. Наместник Царства Польского великий князь Константин не умел противостоять этому опасному настроению. Тут-то и пригодился безотказный Новосильцев, который, подобно Аракчееву, делал, что прикажут: мог хоть сочинить либеральную конституцию, хоть громить национально-освободительное движение.
Таким образом и этот либеральный эксперимент вышел боком – а ведь Александр еще не дожил до всепольского вооруженного восстания, с которым столкнется его преемник.
На самом последнем отрезке жизни императором владело странное беспокойство. Он всё метался из конца в конец своего обширного царства, будто решил изучить его получше. В 1824 году добрался до Северного Кавказа, оренбургских степей и Урала. В 1825 году проследовал через Украину и Крым до Таганрога, где жестоко простудился и 19 ноября скончался.
Незадолго до смерти в частном разговоре создатель Священного Союза и аракчеевско-шишковский покровитель сказал: «А все-таки, что бы ни говорили обо мне, я жил и умру республиканцем». Грустное признание.
Страна и общество в первой четверти XIX века
До сих пор речь шла в основном о политических событиях и о сменах настроений в «коридорах власти», но самые важные процессы, конечно, происходили не наверху и не на поверхности, а в жизни народа и в сознании людей.
В первые десятилетия девятнадцатого века Россия сильно изменилась – прежде всего вследствие мегакатастрофы, иноземного нашествия.
В 1812–1814 годах погибло много людей – приблизительно триста тысяч военных и столько же мирных жителей, причем потери среди последних в основном произошли в «коридоре», которым наполеоновская армия проследовала от границы к Москве и обратно. Эта часть страны, одна из самых населенных и развитых, была совершенно опустошена. Москва и еще несколько городов (Смоленск, Орша, Малоярославец) почти исчезли. Вообще материальный ущерб, понесенный Россией, был ужасен – по некоторым оценкам, война обошлась стране в миллиард рублей, около семи годовых доходов.
Однако за пределами зоны военных действий население продолжало расти. После раздела наполеоновской империи Россия стала самой многолюдной страной Европы. Здесь проживало более 40 миллионов человек. Почти все они (93,5 %) жили в сельской местности. Больших городов по-прежнему насчитывалось мало – всего три: Петербург (к 1825 году около 400 тысяч жителей), Москва (240 тысяч – существенно меньше, чем до 1812 года) и недавно присоединенная Варшава (100 тысяч). Для сравнения – в Париже того времени проживало 700 тысяч человек, а в Лондоне миллион.
Подавляющее большинство подданных империи принадлежали к крестьянскому сословию, которое, однако, было неоднородным. Оно делилось на три части: крепостные крестьяне, государственные и удельные.
Первая категория, самая многочисленная и самая бесправная, состояла из барщинных крестьян, которые работали на помещичьей земле, и оброчных, которые отдавали владельцу часть своих заработков. Помимо этого крепостные, конечно, платили налоги и казне.
Для государственных крестьян в роли помещика выступало само государство, и это тоже был суровый хозяин. За первую половину столетия он увеличил подушную подать втрое. Формально государственные крестьяне считались вольными, но свобода эта была весьма условна. Правда, при Александре их перестали отдавать в частные руки, что часто происходило при Екатерине и Павле, но сотнями тысяч записывали в военные поселенцы, а это было еще хуже крепостной зависимости.
Удельных крестьян, принадлежавших императорской фамилии на правах частной собственности, было сравнительно немного – около полутора миллионов. Они занимали промежуточное положение между помещичьими и государственными крестьянами: не работали на барщине, но платили оброк, приносивший царскому дому около 3 миллионов рублей серебром в год.
Крестьяне за обедом. А.Г. Венецианов
События 1812 года произвели в крестьянской массе – особенно западных губерний – большое движение. Сотни тысяч мужчин попали в ополчение, тысячи оказались в партизанских отрядах. Пресловутая «дубина народной войны», обрушившаяся на захватчиков, сильно нервировала власть – ведь в руки мужиков попало много оружия. Не обратится ли оно против помещиков? Одним из самых первых манифестов после изгнания Наполеона был призыв поскорее сдать ружья и пистолеты. Несмотря на опустевшую казну, крестьянам платили за это хорошие деньги.
Но никаких мятежей не произошло. В народе распространились слухи, что в награду за понесенные жертвы и участие в борьбе государь пожалует всем ополченцам и партизанам волю.
Благодарственный манифест вышел лишь 30 августа 1814 года, когда войска уже вернулись на родину и в случае чего могли бы подавить беспорядки. Царь выражал народу высочайшую признательность, но сулил лишь «мзду от Бога». Касательно крестьянских чаяний о воле в документе говорилось: «…С одной стороны, помещики отечески о них, яко о чадах своих, заботою, а с другой – они, яко усердные домочадцы, исполнением сыновних обязанностей и долга, приведут себя в то счастливое состояние, в каком процветают добронравные и благополучные семейства».
В общем, ни народная война, ни кулуарно обсуждавшиеся проекты положение основной части народа никак не улучшили.
Высшее сословие империи, дворянское, в 1825 году насчитывало примерно полмиллиона человек, то есть чуть больше 1 % населения. Этот класс тоже был неоднороден. Он состоял из дворян «малодушных», то есть имевших менее 20 «душ», дворян среднего достатка и крупных помещиков, владевших более чем тысячью крепостных. К последнему разряду относились 3700 семей, которым принадлежала половина всех рабов. Особую «полублагородную» прослойку составляли личные дворяне – младшие чиновники, получавшие этот статус по службе. «Душами», однако, владеть они не могли.
В XIX веке крепостной способ хозяйствования с его принудительным, а значит малопроизводительным трудом стал невыгоден и для помещиков. Они беднели, влезали в долги. К середине века почти две трети имений окажутся заложенными, а то и перезаложенными. Всё больше и больше дворян предпочитали переводить крестьян с барщины на оброк, что, с одной стороны, повышало мобильность и активность трудящегося населения, но с другой – приводило к сокращению «помещичьего сектора» в сельском хозяйстве.
Потребности зарождающейся индустриальной эпохи требовали притока рабочих рук. Многие оброчные крестьяне устремились на фабрики и заводы, но их число увеличивалось медленно, сильно отставая от европейских темпов. Там промышленный пролетариат рос очень быстро – в Англии он уже составлял большинство населения, а во всей России 1825 года было лишь 200 тысяч рабочих (конечно, за вычетом кустарей).
Причиной такого отставания была не только узость рынка труда, но и традиционный этатизм российской экономики – повышенная роль государственного регулирования. Проявлялась она своеобразно: не в покровительстве отечественному предпринимательству, а в ориентации промышленности на сугубо казенные нужды. К таковым относилось всё, связанное с военным и морским делом, а также создание/поддержание транспортной инфраструктуры. Остальные отрасли были предоставлены сами себе и развивались очень медленно в условиях скудости частных капиталов, слабой внутренней торговли, низкой покупательной способности населения и отсутствия предпринимательских кредитов.
Некоторое оживление произошло только в текстильном производстве. Раньше вся продукция шла на мундиры и в свободную продажу не поступала, но с 1816 года, в связи с ожидаемым прекращением войн, фабриканты получили право выходить на рынок. Ткацкая промышленность, в особенности хлопчатобумажная (хлопок поступал из Средней Азии), быстро пошла в гору. И все же в 1820-е годы во всей империи существовало лишь около пяти тысяч промышленных предприятий, в основном небольших.
Поскольку массовый приток рабочих в индустриальные центры еще не начался, структура городского населения оставалась прежней. Недавно появившееся сословие «почетных граждан», освобожденное от телесных наказаний (главная привилегия в тогдашней России), включало в себя представителей недворянской интеллигенции и крупных коммерсантов. До «среднего класса» и по численности, и по значению эта категория российских жителей никак не дотягивала. Кроме того, в городах обитали мещане, цеховые мастера, всякого рода рабочий люд и купечество.
Купцов для такой большой страны было на удивление немного, а при Александре их количество еще и сократилось, ибо государство подняло имущественный порог, позволявший причислиться к торгово-промышленному сословию. Теперь гильдейским купцом мог считаться лишь тот, кто обладал капиталом хотя бы в 8 тысяч рублей. Таких набралось всего полпроцента податного населения.
Предпринимателей в александровской России было мало, а те, что имелись, в основной своей массе большими денежными средствами не располагали.
Церковное сословие пользовалось рядом личных привилегий, но, в общем, существовало в положении приниженном и бедном: получало очень скудное жалование, едва позволявшее сводить концы с концами. В 1806 году в жизни русского духовенства произошло одно вроде бы небольшое событие, которое будет иметь важные общественные последствия. Вышел указ, предписывавший отдавать поповских детей, не озаботившихся получить образование, в солдаты. Приходы обычно передавались от отца к сыну, а сыновей в семьях было много, поэтому многие юноши, с детства приученные к чтению, испугавшись солдатчины, кинулись учиться. Скоро в российской интеллигенции появится непропорционально много выходцев из духовной среды. Уже при следующем царствовании они сильно потеснят интеллигенцию дворянского происхождения.
В этническом смысле население стало заметно многообразнее. Большинство по-прежнему составляли русские, от которых тогда еще не отделяли украинцев с белоруссами, но появились новые большие регионы, культура, язык или конфессия в которых были иными.
Самой крупной из таких областей являлось Царство Польское, в которое вошли и литовские земли, захваченные при разделе Речи Посполитой. Там обитало около 3 миллионов человек.
В Великом княжестве Финляндском жил миллион финнов, тройная обособленность которых (и по языку, и по вере, и по бытовой культуре) закреплялась особым статусом внутри империи.
Небольшой народ грузины (менее полумиллиона человек), став российскими подданными, начали играть довольно заметную роль в государстве, потому что местное сословие мелких землевладельцев азнаури обрело права российского дворянства и тем самым получило доступ к офицерской и чиновничьей карьере. Это была обычная практика правительства, успешно применявшаяся при освоении новых иноплеменных территорий. Проще было приручить местные элиты, а не антагонизировать их. Права дворянства были предоставлены и многим азербайджанским маафам (представителям военного сословия), и кавказской горской знати, а ранее – башкирским и калмыцким старейшинам.
С более многочисленным еврейским населением, которое после 1815 года исчислялось в два с лишним миллиона человек, правительство, однако, повело себя иначе. Государство никак не могло решить, что ему делать с этим нежданным и, в общем, нежелательным привеском к польскому наследству. Решением «еврейского вопроса» займется уже следующее царствование.
Еще одним неиноверческим, но инокультурным анклавом стала присоединенная в 1812 году Молдавия (полмиллиона жителей), однако значительная часть того же народа оставалась под властью турок. Эта незавершенность сулила в будущем новые войны.
В целом же можно сказать, что при Александре I империя, оставшись по духу и риторике «великоросской», сделалась страной по-настоящему многонациональной и многоукладной. Скоро недоброжелатели окрестят ее «тюрьмой народов» – но если так, то узником этой огромной темницы были и сами русские.
Впрочем, свобода и несвобода – понятия относительные. И если сравнивать александровскую Россию не с Европой, а с предыдущей эпохой, следует сказать, что это царствование, несмотря на строгости последних лет, все же осталось в памяти потомков как некая светлая эпоха.
В немалой степени это связано с личностью монарха. Александр Благословенный был мягким самодержцем в очень жесткой стране, и за его четвертьвековое правление нравы в ней существенно смягчились. В предыдущем столетии то же самое произошло в царствование «кроткой Елисавет» и «матушки» Екатерины, но в несравненно меньшем масштабе. Начало девятнадцатого века стало для России настоящей ментальной революцией. В последующем примерно такой же эффект будет производить всякая либеральная «оттепель» после реакционных «заморозков»: в 1860-е годы, в 1950-е, в конце 1980-х. Общество будто оттаивает и распрямляется. Появляется много ярких, независимых личностей, звучат новые голоса, рождаются свежие идеи.
Атмосфера вольномыслия и гуманности, установившаяся в 1800-е годы после павловской истерической диктатуры, не просто разморозила русское общество – она создала его. До Александра в стране, собственно, никакого общества и не было, если понимать под этим термином комплекс мнений и политических устремлений, возникающих вне зависимости от желаний и намерений власти. Раньше в империи существовали только придворные партии. Конечно, и теперь к категории «общества» можно было отнести лишь образованную часть дворянства, но этот пока еще небольшой круг теперь будет все время увеличиваться.
В любой автократии личные черты правителя задают тон всей стране, подают людям пример. Главная историческая заслуга Александра заключалась в том, что пример этот был благим. Царь отличался жалостливостью и сентиментальностью, он сострадал несчастным, и это замечательное качество породило моду на филантропию и всякого рода благотворительность – тогда это называли «общественным призрением». Первыми же указами молодой государь принял страждущих и обездоленных под свое «особое покровительство». В 1802 году по высочайшей воле была основана крупная организация (с 1814 года она называлась «Императорское человеколюбивое общество») для помощи «нуждающимся без различия пола, возраста и вероисповедания, при всех проявлениях их нужд от младенческого возраста до глубокой старости». «Человеколюбивое общество» аккумулировало и распределяло частные пожертвования, причем самым крупным спонсором был сам император. Отделения открывались по всей стране. Шефствовала над человеколюбием вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать государя, что придавало движению державный размах. Повсеместно возникали больницы, богадельни, приюты, учебные заведения. К концу царствования бюджет Общества достиг полутора миллионов рублей в год, под его «призрением» находилось 150 тысяч человек. Самым драгоценным результатом этой инициативы стало то, что отныне – хоть в либеральные времена, хоть в реакционные – филантропия будет считаться в России достойным и похвальным делом.
Другим отрадным событием, сильно подействовавшим на умы и нравы, было общее раскрепощение мысли – следствие ранних либеральных реформ. Новые университеты, издательски-журнальный бум, значительное смягчение цензуры дали толчок интеллектуальной жизни, и потом никаким Шишковым с Магницкими справиться с этим взрывом было уже невозможно. Когда общество начинает свободно размышлять, да еще и получает привычку к высказыванию, обратного хода уже не бывает.
Эта мощная пружина, распрямившись, со временем произвела еще одну революцию – культурную. Русская культура перестала быть периферийным явлением и начала обретать общемировое значение именно при Александре I, в 1820-е годы. Перед тем она сто лет чувствовала себя задворками Европы – и вдруг, с Пушкиным, обрела собственный неповторимый голос. Скоро она станет великой, и уже невозможно будет представить себе Россию вне отрыва от ее писателей, композиторов, художников.
Русская словесность поднялась еще и на волне патриотизма, пробужденного 1812 годом. Кстати говоря, и само это чувство – любви к Родине, а не к самодержцу, – по-настоящему возникло только при Александре. После Бородина, после взятия Парижа русские дворяне преисполнились чувства национальной гордости. Всем захотелось читать не по-французски, а по-русски, все стали интересоваться историей отечества. Не следует, впрочем, преувеличивать масштабы этого явления. Когда мы говорим «все», в виду опять-таки имеется лишь круг более или менее образованного дворянства. Главный бестселлер эпохи, карамзинская «История государства российского», выпущенная в 1818 году, на пике послевоенного энтузиазма, была продана невиданным тиражом – три тысячи экземпляров за один месяц. Для сравнения скажем, что в Англии несколькими годами ранее 14 тысяч книжек байроновского «Корсара» были раскуплены в один день. Правда, в России книги были очень дорогими: первое издание «Руслана и Людмилы» (1820) стоило 10 рублей – это месячное жалованье тогдашнего канцеляриста, то есть человека грамотного, потенциального читателя.
Произошел в эту эпоху и еще один принципиальный сдвиг, психологический – снова пока только в сознании дворянства, вернее, лучшей его части. До сих пор это сословие именовалось «благородным», но по своим повадкам таковым отнюдь не являлось. Злоязыкий, но меткий публицист XIX века князь Петр Долгоруков писал: «Людей, приговоренных служить всю жизнь, людей, которых били кнутом на конюшне и принародно наказывали розгами, нельзя назвать аристократами». Русский дворянин восемнадцатого века был готов раболепствовать перед вышестоящими – это даже не считалось чем-то зазорным. При Екатерине какого-нибудь напудренного щеголя, а то и светскую даму запросто могли кулуарно высечь в тайной экспедиции; при Павле с провинившимися офицерами обходились так же бесцеремонно, как с простолюдинами.
В салоне. Карл Кольман
При Александре же дворян избавили от унизительных наказаний, к людям «благородного звания» стало принято обращаться на «вы» – хоть бы даже генерал разговаривал с прапорщиком. Этой атмосферы формального уважения оказалось совершенно достаточно, чтобы в дворянах появилось и стало быстро развиваться чувство собственного достоинства, самый драгоценный продукт эволюции. «Подлость» (это слово тогда означало приниженность, низкопоклонство) теперь стала дурным тоном. Как говорит Чацкий: «Хоть есть охотники поподличать везде, да нынче смех страшит и держит стыд в узде».
Сыграло роль и витавшее в воздухе ощущение, что величайший в русской истории триумф, победа над Наполеоном, был заслугой всех и каждого, кто участвовал в этой тяжелой войне. Русское офицерство, если так можно выразиться, стало само себя уважать, а это очень опасное настроение в государстве, где всегда уважали только верховную власть. Более того, у дворян, сражавшихся за отечество, возникло убеждение, что они проливают свою кровь еще и за некие новые права. Декабрист Каховский перед казнью напишет о настроениях того времени: «Свободу проповедовали нам и манифесты, и воззвания, и приказы! Нас манили, и мы, добрые сердцем, поверили, не щадили ни крови своей, ни имущества». Другой декабрист, Александр Бестужев, в письме царю Николаю сформулирует ту же мысль еще ясней: в 1812 году «народ впервые ощутил свою силу», и это положило «начало свободомыслия в России» (с той поправкой, что под народом здесь следует понимать всё то же дворянское общество).
Читаем у Ключевского: «…Общество непривычно оживилось, приподнятое великими событиями, в которых ему пришлось принять такое деятельное участие». Охранительные инициативы поздней александровской поры не сумели загнать этого джинна обратно в кувшин. Реакция вызвала контрреакцию, протест. В стране назревал общественный кризис, который разразился сразу после смерти императора.
Междуцарствие
Воспаленное общество
Самой решительной частью дворянского общества были люди военные. В их среде и зародилось сопротивление. Раздражение против царя и его нового курса все время усиливалось. В конце концов оно привело к составлению заговора, участники которого были готовы к самым радикальным мерам. Если бы Александр не умер в Таганроге, очень возможно, что его, как отца и деда, убили бы офицеры. В сущности император был прав, когда опасался, что в Россию перекинется «испанская зараза».
Стартовало опасное движение довольно невинно. Пушкин видел это собственными глазами:
Сначала эти заговоры Между Лафитом и Клико Лишь были дружеские споры, И не входила глубоко В сердца мятежная наука, Все это было только скука, Безделье молодых умов, Забавы взрослых шалунов.«При Александре тайные общества составлялись так же легко, как теперь акционерные компании, и даже революционного в них было не больше, как в последних. Члены тайного общества собирались на секретные заседания, но сами были всем известны и прежде всего полиции. Само правительство предполагало возможным не только для гражданина, но и для чиновника принадлежать к тайному обществу и не видело в этом ничего преступного», – пишет Ключевский. В России, прежде всего в обеих столицах, существовали масонские ложи, литературные кружки, офицерские клубы-«артели» и так далее.
Но в 1816 году, как раз в то время, когда правительственная линия начинает принимать отчетливо консервативные черты, возникает первое тайное общество, ставящее перед собой уже политические задачи. Называлось оно «Союз спасения» (явная отсылка к якобинскому Комитету общественного спасения) и включало в себя три десятка молодых серьезных офицеров, собиравшихся, чтобы порассуждать о бедах и судьбах отечества. Собрание очень радикализировалось и приобрело черты настоящего заговора, когда к любителям умных разговоров присоединился 24-летний Павел Пестель, адъютант генерала Витгенштейна, обладавший целеустремленностью и незаурядными организаторскими способностями. (Позднее царь Николай о нем напишет: «Пестель был злодей во всей силе слова… со зверским выражением и самой дерзкой смелости… я полагаю, что редко найдется подобный изверг»).
Пестель взял за основу иерархическую структуру карбонариев и ввел правила конспирации. Члены Союза делились на четыре категории, причем лишь высшие степени знали, что целью организации является установление в России конституционного строя.
С таким предводителем восстание произошло бы не в 1825 году, а много раньше, но Пестеля перевели служить на Украину, и в Союзе началось брожение. Первую скрипку теперь играл 22-летний штабс-капитан Михаил Муравьев, молодой человек блестящих дарований, бородинский инвалид. Он был сторонником не революции, а эволюции: просвещения, государственного строительства, улучшения нравов.
Общество избавилось от своего боевитого названия и стало называться мирно: «Союз благоденствия». Первый пункт нового устава гласил, что организация «в святую себе вменяет обязанность … споспешествовать правительству к возведению России на степень величия и благоденствия», то есть по сути дела речь шла о лоббистском клубе. Конспиративность объяснялась не заговорщическими целями, а «избежанием злобы и зависти».
Определялись четыре направления деятельности: филантропия, просветительство, экономическое развитие и улучшение правосудия. Члены Союза (их было человек двести) облегчали жизнь своих крепостных, устраивали школы для солдат, писали труды по экономике и финансам, а некоторые пошли служить по судебной части.
Всё это было бы прекрасно, но в стране наступили иные, совсем не прогрессивные времена. Аракчеев и Шишков с Магницким имели куда более мощный ресурс влияния, чем молодые члены «Союза благоденствия». Грести против течения было невозможно, и движение зашло в тупик. Кто-то, разочарованный, отошел в сторону. Другие радикализировались и вновь заговорили о революции. Из-за этих расхождений в 1821 году, в атмосфере общественной депрессии, Союз самораспустился.
Примечательна дальнейшая судьба благонамеренного Михаила Муравьева, довольно типическая для российского либерала, если он видит спасение в «споспешествовании правительству». В николаевские времена в России способному человеку прогрессивных взглядов приходилось выбирать: или менять взгляды, или оставаться в стороне от больших дел.
Бывший противник угнетения и защитник крестьян, Михаил Николаевич скоро определился с выбором. Он сделает большую карьеру, но станет одним из самых суровых гонителей свобод, заклятым врагом всяческого вольнодумства и противником отмены крепостничества.
Много лет он прослужит на начальственных должностях в польско-литовских землях, проводя там жесткий курс на подавление национальной культуры, насильственную русификацию, ущемление прав католиков. Во время восстания 1863 года Муравьев будет командовать карателями и заслужит прозвище «Вешатель», с которым и останется в истории. А когда умрет, Герцен проводит его словами: «Задохнулся отвалившийся от груди России вампир».
Собрание декабристов. К. Гольдштейн
Тем временем на юге, где служил Пестель, уже полковник, возникло собственное тайное общество, неторопливо и основательно ведшее подготовительную работу к выступлению. В 1820-е годы феномен «революционного офицерства» не был чем-то экзотическим. В Испании, Пьемонте и Неаполе профессиональным военным удалось на время прийти к власти; в латиноамериканских странах они ее даже удержали. При этом выяснилось, что восстание вовсе не обязательно должно начинаться в столице. Подполковник Риега поднял солдат в Кадисе, полковник Боливар – в глухой провинции далекой колонии.
Когда выяснилось, что «Союз благоденствия» прекратил существование, Пестель и его товарищи активизировались. Поскольку гарнизоны, в которых они служили, были разбросаны по всей Украине, «Южное общество» разделилось на три «управы». Главной, находившейся в Тульчине (Винницкая область), руководил сам Пестель; Васильковской (близ Киева) – подполковник Сергей Муравьев-Апостол; Каменской (Черкасская область) – генерал-майор Сергей Волконский.
Заговорщики регулярно собирались на подпольные съезды в Киеве. Они приняли революционный устав и постановили, что царя, а пожалуй, и всю царскую семью во имя будущей республики нужно уничтожить. (Отголосок этого кровожадного тираноборства звучит в пушкинских строках: «Самовластительный злодей! Тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу».) Составили развернутую программу новой России. Документ назывался «Русская правда», на нем мы остановимся позже.
Пестель был педантичен и обстоятелен, он никуда не торопился, дожидался удобной минуты. Все же произвести переворот удобнее было в столице, и южане периодически отправляли туда своих представителей. В 1822 году петербургская организация (ее принято называть «Северным обществом») восстановилась уже без «эволюционеров». Теперь она объединяла только убежденных врагов самодержавия, которые не боялись взяться за оружие. Но идеолог северян Никита Муравьев смотрел на будущее страны иначе, чем Пестель, и составил собственный проект государственного устройства. Договориться между собой у «северян» и «южан» не получалось. В 1824 году Пестель сам отправился в Петербург и сумел склонить на свою сторону несколько самых деятельных тамошних заговорщиков, в том числе Кондратия Рылеева и Евгения Оболенского, которые потом сыграют активную роль в событиях 14 декабря. Но объединения не произошло, была лишь достигнута договоренность о проведении общего съезда. Пестель полагал, что восстание можно будет устроить в 1826 году (то есть как раз к десятой годовщине идеи, что отечество нужно срочно спасать). Как обычно, русские запрягали очень медленно и все-таки подготовиться не успели. Когда вдруг возникла идеальная ситуация для переворота, заговорщики поехали быстрее, но уехали недалеко.
Однако сначала об «идеальной ситуации».
Династический кризис
Она образовалась вследствие династического кризиса, вызванного внезапной и к тому же удаленной смертью императора. «Кощеевой иглой» всякой автократии является момент перехода власти от одного самодержца к другому. Павел I вроде бы позаботился о том, чтобы защитить это уязвимое место монархии, и принял ясный, недвусмысленный закон о престолонаследии: трон передается от отца к старшему сыну, а при отсутствии сыновей к следующему по возрасту брату. На протяжении всего александровского правления цесаревичем считался Константин Павлович, поэтому когда пришла скорбная весть из Таганрога, великого князя уже воспринимали как государя: славили в церквях, начали приносить ему присягу.
Однако на самом верху очень узкому кругу людей было известно, что Константин принимать корону не намерен.
Это был человек вздорный, упрямый, эгоцентричный, вечно попадавший в скандальные истории и не имевший никакой склонности к великим делам. Ему нравилось жить в Польше. Взваливать на себя заботы обо всей огромной, дурно устроенной империи Константин не желал. Кроме того несколькими годами ранее он разошелся с женой, немецкой принцессой, и вступил в морганатический брак со своей польской фавориткой.
Еще в 1819 году Александр сообщил следующему по старшинству брату, 22-летнему Николаю Павловичу и его супруге, что им, вероятно, суждено стать царем и царицей. Николай в своих записках рассказывает: «…Государь уехал, но мы с женой остались в положении, которое уподобить могу только тому ощущению, которое, полагаю, поразит человека, идущего спокойно по приятной дороге, усеянной цветами и с которой всюду открываются приятнейшие виды, когда вдруг разверзается под ногами пропасть, в которую непреодолимая сила ввергает его, не давая отступить или воротиться». Беседа, впрочем, имела предварительный характер, и молодую чету лишь известили, что они «должны заблаговременно только привыкать к сей будущности неизбежной». Во всяком случае Николая не известили, что император предпринял и некоторые практические шаги. Царь истребовал от Константина письменный отказ от престола, а потом подготовил манифест о назначении наследником великого князя Николая Павловича. Однако этот важный документ был сохранен в тайне, запечатан и передан на хранение митрополиту Филарету. Кроме владыки о воле государя знали три человека: мать-императрица, Аракчеев и князь А. Голицын, вскоре после этого удаленный из правительства. Можно лишь догадываться, почему Александр не довел дело до конца. Не исключено, что царь испытывал сомнения в годности такого наследника – у Николая в обществе, особенно в гвардии, была неважная репутация. В конце концов имелся еще один брат, Михаил Павлович. Ну а кроме того государь был нестар и отличался завидным здоровьем, умирать он пока не собирался.
Известие о смерти императора застало Николая врасплох. Он сразу написал Константину, называя его «своим государем», паническое письмо, в котором умолял: «Бога ради, не покидайте нас и не оставляйте нас одних!» Не дожидаясь ответа, великий князь поспешил принести брату присягу, что сделали и другие придворные. Лишь тогда мать-императрица сообщила Николаю про запечатанный конверт с манифестом. Собрался Государственный Совет, изучил документ – и пришел в недоумение. Спросили новообъявленного наследника, какова будет его воля. Николай ответил, что признает законным государем Константина, и потребовал того же от Совета. Государственные мужи повиновались. И они, и вся гвардия присягнули Константину Первому.
Смерть Александра в Таганроге. Неизвестный художник
3 декабря, то есть через неделю после получения вести о смерти Александра, из Варшавы прибыл младший брат Михаил с письмом от Константина: тот твердо заявлял, что быть царем отказывается. Но и теперь Николай еще надеялся избавиться от «тяжелой шапки Мономаха»: ведь Константин не знает о том, что присяга уже состоялась. В Варшаву снова отправилось письмо с мольбой принять престол. В русской истории еще не бывало столь странной торговли за корону – когда оппоненты изо всех сил пихают ее друг другу.
А между тем Константин Павлович написал о своем решении еще и членам Государственного Совета, так что конфликт переставал быть внутрисемейным. По столице поползли слухи: наверху что-то зашаталось. Для государственной системы, построенной на принципе тотально централизованной власти, не бывает ничего опаснее.
Лишь 12 декабря стало окончательно ясно, что Константин царем не станет и в Петербург не приедет. Но к этому времени столичные заговорщики уже вовсю готовились к выступлению: такой удобный случай упустить было нельзя.
В тот самый момент, когда Николай, смирившись с неизбежным, составлял манифест о восшествии на престол, одно за другим поступили два грозных известия. Сначала прибыл пакет от Дибича, начальника Главного Штаба, в котором говорилось об обширном военном заговоре на юге, а затем явился один из участников «Северного общества» гвардейский подпоручик Ростовцев, признавшийся великому князю, что в Петербурге вот-вот произойдет восстание. При этом Ростовцев отказался назвать имена заговорщиков. Молодой человек хотел предотвратить кровопролитие, но не желал был предателем.
Вспоминая события этого дня, Николай напишет: «Пусть изобразят себе, что должно было произойти во мне, когда, бросив глаза на включенное письмо от генерала Дибича, увидел я, что дело шло о существующем и только что открытом пространном заговоре, которого отрасли распространялись чрез всю империю, от Петербурга на Москву и до второй армии в Бессарабии». Новый царь еще не знал, что полковника Пестеля в последний момент успеют арестовать. Не знал он и какие подразделения столичного гарнизона вовлечены в заговор.
Единственное, что можно было сделать – ускорить принесение повторной присяги. Она была назначена на 14 декабря.
Но торопились и заговорщики. Идя к Николаю, Ростовцев предупредил о своем верноподданническом поступке товарищей – ему хотелось соблюсти порядочность (вот плоды «психологической революции», пробудившей в дворянстве новые представления о чувстве собственного достоинства). Колебаниям пришел конец, теперь выбора не было.
Восстание
Ход декабристского выступления в столице хорошо известен. Его фабула может быть изложена в двух предложениях. Офицеры-заговорщики вывели на Сенатскую площадь своих солдат и не знали, что делать дальше. Сначала власти растерялись, но затем пришли в себя, подвезли пушки и разогнали мятежников картечью.
Впоследствии восстание было чрезвычайно героизировано литераторами, художниками, кинематографистами, да и историками, хотя в сущности произошел еще один военный путч, последний в вековой череде «гвардейских переворотов», только окончившийся поражением.
В событиях 14 декабря есть один очень некрасивый аспект, на котором как-то не принято заострять внимание: по сути дела предводители вывели солдат под пушки, а затем и под шпицрутены обманом, не сказав нижним чинам, что они участвуют в государственном перевороте. Большинство из них просто повиновались командирам и даже не поняли, чтó происходит. Особенно пылкие офицеры, правда, что-то кричали про конституцию, но солдаты этого мудреного слова не знали и полагали, что так зовут жену Константина.
Стояние на площади могло бы иметь смысл только в одном случае: если б к восставшим присоединился столичный люд. Но этого не произошло. Собралась огромная толпа зевак, но никакой революции устраивать не желала, а лишь глазела на невиданное зрелище. Декабристы застряли где-то посередине между военным переворотом, требующим быстрых, точечных ударов, и революцией, нуждающейся в поддержке масс. Не произошло ни первого, ни второго. В ближайшие сутки почти все участники были арестованы, причем никто не сопротивлялся.
Нескладно прошло и восстание на юге. Оно вспыхнуло две недели спустя – и только потому, что у заговорщиков не осталось другого выхода. Их вождь Пестель находился под арестом, второго предводителя Сергея Муравьева-Апостола тоже задержали. Та же участь ожидала и остальных заговорщиков. Понимая это, они освободили Муравьева-Апостола и подняли солдат Черниговского полка, опять-таки используя их вслепую. Несколько дней колонна двигалась непонятно куда и зачем, причем дисциплина все время падала, а одно из подразделений целиком дезертировало. Потом мятежники, их осталось меньше тысячи человек, угодили в артиллерийскую засаду и были разгромлены. Когда раненый Муравьев-Апостол пытался скрыться на коне, один из черниговцев помешал ему со словами: «Вы нам наварили каши, кушайте ее с нами!» Всех солдат потом перепороли и сослали на Кавказ. Офицеров отвезли в столицу, на следствие и суд.
«Кушайте ее с нами!» И. Сакуров
Всего под подозрением оказались 579 дворян; обвинительные приговоры были вынесены примерно пятой их части, остальные отделались неприятностями или были вовсе оправданы. Казнили пятерых: «архизлодея» Пестеля; поэта Кондратия Рылеева (его не вполне заслуженно объявили организатором 14 декабря); предводителя южного восстания Сергея Муравьева-Апостола; отставного поручика Петра Каховского, который застрелил столичного генерал-губернатора и командира лейб-гренадеров Стюрлера; подпоручика Михаила Бестужева-Рюмина, слишком невоздержанного в цареубийственных речах.
Дела четырех тысяч нижних чинов рассматривались особыми военными комиссиями, и здесь ответственность понесли все, причем двести солдат были подвергнуты прогону через строй. Сколько из них умерли, неизвестно.
В эпопее декабристского движения интереснее всего, конечно, вопрос, мог ли этот заговор победить и что произошло бы в этом случае с Россией.
Если бы перед 14 декабря в Петербурге находился энергичный Пестель, очень вероятно, что мятежники захватили бы власть над столицей, а стало быть, и над всей страной, которая привыкла повиноваться воле центра. (Вспомним, что в 1917 году такое произошло дважды, в феврале и в октябре, хотя в революционных событиях участвовали совсем незначительные силы.) У южного восстания, хоть бы даже и с Пестелем, никаких шансов не было – по той же самой причине: в России судьба государства в провинции никогда не решалась.
Итак, предположим, что 14 декабря Николай и Михаил были бы убиты; Константин Павлович из своей Польши носа бы, конечно, не высунул; к губернаторам и гарнизонным начальникам из Петербурга поскакали бы фельдъегери с распоряжениями новой, непонятной, но главное столичной власти – и привычная к повиновению гиперцентрализованная империя взяла бы под козырек.
Как уже говорилось, декабристы имели две программы: «северную» Никиты Муравьева и «южную» Павла Пестеля («Русскую правду»).
Муравьевская конституция сохраняла институт монархии, ибо народ еще не созрел для республиканского правления, но власть императора становилась почти номинальной. «Источник верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основныя постановления для самого себя», – говорилось в тексте. Страна должна была разделиться на 15 автономий, то есть отойти от жесткой централизованности, которая делала необходимой «ордынскую» вертикаль со всеми ее побочными эффектами. Крестьяне освобождались, но помещики сохраняли земельную собственность, чтобы дворянство не разорилось. Одним словом, проект был и разумен, и хорош, но заключал в себе неразрешимый парадокс: ввести федерализацию и парламентскую систему в стране, не знакомой ни с тем, ни с другим, вряд ли получилось бы без переходного периода твердой власти, а ее-то конституция и упраздняла.
Второй проект, пестелевский, в полной мере учитывал это обстоятельство и потому выглядит более реальным. Вместо монархии, института недостаточно сильного, предполагалось на 8–10 лет ввести военную диктатуру, которая подготовила бы страну к республиканскому строю. Любое недовольство (а оно предполагалось) будет безжалостно подавляться силой оружия. «Державная дума» из пяти директоров избирается «Народным вечем», состоящим из 500 депутатов, и обладает всей полнотой исполнительной власти. Вводится еще «Верховный Собор» – нечто вроде палаты старейшин, которыми становятся самые уважаемые россияне. Они осеняют своим авторитетом и нравственно контролируют действия высших институтов. Крепостное право отменяется. Половина пахотных земель передается в особый фонд на правах общинной собственности; помещичьи угодья сдаются крестьянам в аренду. Классовые различия отменяются, весь русский народ превращается в единое «гражданское сословие». Слово «русский» тут, впрочем, требует пояснения. По мысли Пестеля, население должно было разделиться на «сорта» не по социальному, а по этническому принципу. Высшую категорию составлял «коренной народ русский», к которому причисляли всех славян. Далее следовали «племена присоединенные», которым дозволялось жить по-своему, но с некоторыми ограничениями (например, мусульманам воспрещалось многоженство). И наконец были народности, которые надлежало постепенно искоренить как вредные. «Буйных» кавказских горцев – расселить в отдаленных частях России малыми группами; евреев ассимилировать, а буде не пожелают – всех отправить в Палестину, дабы основали там свое собственное государство; цыган – понудить отказаться от кочевого образа жизни и вступить в православие либо тоже изгнать.
Федеральную структуру «Русская правда» почитала опасной и намеревалась упразднить особый статус Финляндии, а Польшу – отделить, но с непременным условием введения у себя такого же строя, как в России.
Такую программу, вероятно, можно было осуществить железом и кровью (чего Пестель не страшился), но в результате возникло бы некое протофашистское государство. Истории неизвестны случаи, чтобы военная диктатура, в особенности кровавая, добровольно переформатировалась в демократию. Никакой парламентской республики после «переходного периода» не возникло бы. Из пяти директоров в результате внутренней борьбы к единоличной власти пришел бы кто-то один, то есть установилась бы еще более жесткая и беспримесная «ордынская» система – как это случится через сто лет после Октябрьской революции.
В общем, создается ощущение, что потомкам не следует сильно жалеть о поражении декабристского восстания.
Ключевский даже считает, что «событию 14 декабря придавалось значение, какого оно не имело». Само по себе «событие», возможно, и не имело. Но следствием неудавшегося путча стало длительное замораживание общественного процесса, параноидальный страх власти перед всем новым, свободным, живым. С такой родовой травмой николаевская Россия двинется не вперед, а назад, из современности в архаику, и страна будет всё больше отставать от Европы в социальном, экономическом, технологическом смысле. Сам же Ключевский рассказывает: «Один высокопоставленный сановник, встретив одного из арестованных декабристов, своего доброго знакомого князя Евгения Оболенского, с ужасом воскликнул: «Что вы наделали, князь! Вы отодвинули Россию по крайней мере на 50 лет назад!»
«Высокопоставленный сановник» был совершенно прав.
Часть вторая Николай Первый: Утраченное величие
Николай Павлович Романов в жизни
За тридцать лет николаевского царствования (1825–1855) Россия пережила драматический перепад: сначала вознеслась до вершин политического могущества, а затем обрушилась в катастрофу. Обретенный при Александре статус мировой сверхдержавы при Николае было укрепился – и рассыпался. Впредь, до самого конца монархической эпохи, Россия будет занимать положение одной из «второстепенных великих держав».
Разобраться, как произошел этот взлет и почему он закончился крахом, невозможно без анализа личности Николая I, который принимал все государственные решения по собственному разумению и ни с кем не делился своей самодержавной властью.
«Сфинксом», в отличие от старшего брата, Николай Павлович не был, и понять ментальное устройство этого человека – задача вроде бы несложная. Современники, да и большинство историков считали царя натурой цельной, без полутонов и внутренних противоречий. Примерно так же выглядела со стороны и его империя.
Но оба эти впечатления обманчивы. И держава была немонолитна, и ее правитель вовсе не столь бронзов, каким желал казаться.
Ранние годы
Николай родился в 1796 году, то есть был почти на двадцать лет младше своего предшественника. Воспитанием ребенка, которому как третьему по счету сыну вряд ли предстояло царствовать, занималась мать. Это была дама совсем иного масштаба, чем Екатерина II, пестовавшая Александра. Представления о педагогике у Марии Федоровны были старомодно немецкими. Возможно, правы те авторы, кто объясняет узость взглядов будущего императора этой архаичной методикой.
Как было заведено со старины, ребенка сначала доверили попечению ласковых, заботливых женщин, а потом передали в руки сурового воспитателя-мужчины. Этот перепад, несомненно травматический для четырехлетнего мальчика, вероятно, сформировал у него убеждение, что «женский» и «мужской» миры должны существовать по разным правилам. В частной жизни Николай будет мягок и прост, в государственной – жёсток и холоден. Но М. Полиевктов, написавший замечательную биографию императора, считает, что и впитанная с раннего детства любовь к уюту и семейному очагу, ностальгия по этому утраченному раю пошла Николаю не на пользу: «Позднее и к вопросам государственного характера он зачастую подходил с меркой частной жизни, а такая мерка, в свою очередь, вполне совпадала с известной узостью его взглядов, стремлением все свести к элементарным основаниям, не осложнять чересчур разрешения вопросов».
В любом случае, главное влияние на формирование личности великого князя оказали не няньки, а официальный воспитатель генерал Матвей Ламсдорф, состоявший при юноше целых 17 лет. Это был человек грубый и жестокий, превыше всего ставивший порядок. Николая учили не столько наукам, сколько дисциплине, повиновению, фрунту. «Шестилетний великий князь находился постоянно как бы в железных тисках, не смея свободно и непринужденно ни встать, ни сесть, ни ходить, ни говорить, ни предаваться обычной детской резвости, шаловливости и естественной шумливости; его на каждом шагу останавливали, исправляли замечаниями и наказаниями, преследовали нравоучениями и угрозами», – пишет Б. Глинский, автор исследования «Царские дети и их наставники».
Сам царь потом вспоминал: «В учении видел я одно принуждение и учился без охоты. Меня часто, и я думаю не без причины, обвиняли в лености и рассеянности, и нередко граф Ламсдорф меня наказывал тростником весьма больно среди самых уроков». Мальчика ставили в угол на колени. За тяжкие провинности могли и отлупить железным шомполом.
Конечно, нельзя всё в человеке объяснять его ранним опытом, но факт остается фактом: Александра Павловича в детстве не пороли – и, взойдя на престол, он отменил телесные наказания (по крайней мере для дворянства); Николая Павловича нещадно били – и он стал Николаем Палкиным.
Как все дети императора Павла, его третий сын обожал мундир и военные упражнения, причем это доходило до обсессии. В конце концов мать даже обеспокоилась односторонностью в образовании юноши и попыталась приобщить его к гражданским наукам, но было уже поздно. Николай так навсегда и останется солдафоном. Александр подумывал отправить брата на учебу в новосозданный Царскосельский лицей, но не сделал этого. До поры до времени император не слишком занимался подростком, еще и в мыслях не держа сделать его наследником престола. К гуманитарным знаниям Николай относился пренебрежительно, а из наук точных охотно занимался лишь математикой, ибо увлекался военно-инженерным делом. Впоследствии, познакомившись с великим самодержцем, английская королева Виктория с разочарованием напишет: «Очень умным я его не нахожу, а мысль его не просвещенна; образованием его пренебрегали» («Very clever I do not find him, and his mind is uncivilised; his education has been neglected»).
Николай в младенчестве, но уже с орденской лентой. В.Л. Боровиковский
В войне с французами Николай не участвовал. Ему позволили присоединиться к армии, лишь когда Париж уже пал – для бредившего войной юноши это было огромным разочарованием.
После установления мира мать отправила великого князя в два ознакомительных путешествия. Девятнадцатилетним он объехал собственную страну, от Белоруссии до Черноморья. Ум Николая в это время еще совсем не развит. По записям о российской поездке видно, что великого князя интересует только всё армейское, да и то лишь с внешней стороны. Биограф М. Корф отмечает, что замечания путешественника «относятся до одних неважных внешностей военной службы, одежды, выправки, маршировки и проч. и не касаются ни одной существенной части военного устройства, управления или морального духа и направления войска».
Узнав таким образом отечество, молодой человек должен был теперь посмотреть на другую сверхдержаву, Англию, которую Мария Федоровна рекомендовала ему как «страну, достойнейшую внимания». Но увлекаться английскими свободами молодому человеку ни в коем случае не рекомендовалось. Красноречивый дипломат Нессельроде составил для Николая специальное разъяснение, в котором говорилось, что всякая попытка пересадить «английское своеобразие» на другую почву опасна.
Беспокоились, впрочем, зря. В Англии молодой человек интересовался чем угодно, но не конституционным устройством, а непочтительность народа к монархии вызывала у Николая живейшее осуждение.
На этом образование и воспитание великого князя завершилось. В двадцать лет он женился и приступил к службе – разумеется, военной.
Кажется, специально для Николая, отдавая дань его увлечению, была учреждена должность генерал-инспектора по инженерной части, но этот род войск тогда не имел важного значения, и одновременно юноша становится командиром одной из гвардейских бригад – весьма скромное назначение. Александр знает ограниченные возможности брата и пока не придает ему большого значения. Николая не привлекают к важным делам, не вводят в Государственный Совет. «Николая вовсе не знали до его воцарения; при Александре он ничего не значил и никого не занимал», – пишет А. Герцен.
Вернее сказать, молодого великого князя знала только гвардия – и не любила. А. Михайловский-Данилевский, в будущем военный историк, вспоминает: «Необыкновенные знания великого князя по фрунтовой части нас изумили: иногда, стоя на поле, он брал в руки ружье и совершал ружейные приемы так хорошо, что вряд ли лучший ефрейтор мог с ним равняться; к тому же показывал барабанщикам, как им надлежит бить». Это бы ладно, но Николай, истинный ученик Ламсдорфа, был груб и придирчив, что очень раздражало подчиненных, многие из которых были участниками и героями великой войны. «Они его ненавидели за холодную жестокость, за мелочное педантство, за злопамятность» (А. Герцен).
Остальная страна не могла и предположить, до какой степени при новом царе всё переменится. Но правда и то, что события 14 декабря очень сильно изменили и самого Николая.
Зигзаги александровской политики были определены тремя потрясениями: убийством отца, аустерлицким позором и победой над Наполеоном. У Николая подобный шок случился только однажды, в момент восшествия на престол, и пережитый в тот день ужас определил стиль всего царствования.
Из собственноручных записок императора известно, в какой панике он пребывал накануне восстания, всячески пытаясь уклониться от короны, и как он растерялся в час испытания.
Толпа пришла прямо к дворцу, не понимая, что происходит. Не знал как вести себя с нею и Николай. «Надо было мне выигрывать время, дабы дать войскам собраться, нужно было отвлечь внимание народа чем-нибудь необыкновенным – все эти мысли пришли мне как бы вдохновением, и я начал говорить народу, спрашивая, читали ль мой манифест. Все говорили, что нет; пришло мне на мысль самому его читать. У кого-то в толпе нашелся экземпляр; я взял его и начал читать тихо и протяжно, толкуя каждое слово. Но сердце замирало, признаюсь, и единый Бог меня поддержал».
Представим себе эту картину: самодержец всероссийский читает каким-то случайным людям по бумажке, трусит, тянет время. А на Сенатской площади шумят враждебные полки, оттуда доносятся выстрелы, храбрый Милорадович застрелен. Государь спешит к войскам, но натыкается на мятежных лейб-гренадеров. Они кричат ему, что они «за Константина» и идут мимо. «К счастию, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца и участь бы наша была более чем сомнительна», – содрогается царь. Действительно, могли бы убить, и вся история России пошла бы по иному пути.
В конце концов, после долгого замешательства, решительность проявил генерал-адъютант Васильчиков, потребовавший применить артиллерию. «Эти слова меня снова привели в себя, – вспоминает царь. – Опомнившись, я видел, что или должно мне взять на себя пролить кровь некоторых и спасти почти наверно всё; или, пощадив себя, жертвовать решительно государством».
Пережитый страх и унижение сильно подействовали на Николая. Мировоззрение и характер этого правителя окончательно сформировались 14 декабря.
Взгляды и личные качества
Консерватором и сторонником «твердой руки» он был и в юности. Этому способствовали ламсдорфовское воспитание и общий поворот к охранительству, пришедшийся как раз на годы взросления великого князя. Смертельная опасность, которой Николай подвергся во время декабристского восстания, окончательно уверила молодого самодержца в мысли, что самое страшное для государства – выпустить ситуацию из-под контроля. Рецепт против этого царю виделся только один: сдерживать разрушительный Хаос при помощи неукоснительного Порядка. Любые изменения, не придуманные и не санкционированные высшей властью, вредны, а то и губительны. А лучше вообще ничего не менять.
Очень умная мемуаристка фрейлина Анна Тютчева, которую я еще не раз процитирую, пишет о системе взглядов Николая: «Повсюду вокруг него в Европе под веянием новых идей зарождался новый мир, но этот мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся ему во всех своих проявлениях лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть, подавить, искоренить во что бы то ни стало, и он преследовал её не только без угрызения совести, но со спокойным и пламенным сознанием исполнения долга. Глубоко искренний в своих убеждениях, часто героический и великий в своей преданности тому делу, в котором он видел миссию, возложенную провидением, можно сказать, что Николай I был дон Кихотом самодержавия, дон Кихотом грозным и своенравным, потому что обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять всё своей фантастической и устарелой теории и попирать ногами самые законные стремления и права своего века».
Во время следствия над декабристами царь сказал брату Михаилу: «Революция на пороге России, но, клянусь, она не проникнет в нее, пока во мне сохранится дыхание жизни, пока Божьей милостью я буду императором».
По своим убеждениям Николай был классическим, беспримесным «государственником», то есть приверженцем концепции, по которой смыслом существования России является государство – как сверхидея и наивысшая ценность. Все обязаны служить государству, никто не смеет покушаться на его авторитет и «раскачивать лодку». Живое воплощение российской государственности – помазанник Божий, самодержец. Он подотчетен лишь Богу, Ему единому и ответит, если в чем-то неправ. Иными словами, идеология Николая Первого по всем пунктам совпадала со старинными принципами «ордынского» устройства.
Конечно же, находиться на подобных позициях в разгар промышленной революции, научных открытий и социальных сдвигов мог только человек глубоко верующий. Царь никогда не пропускал воскресную службу, пел в церковном хоре, и это было не данью традициям, не демонстрацией. В основе всех действий Николая, по-видимому, лежало мистическое чувство – уверенность в неких особенных отношениях с Господом. «Никогда этот человек не испытал тени сомнения в своей власти или в законности её, – пишет Тютчева. – …Он с глубоким убеждением и верою совмещал в своём лице роль кумира и великого жреца этой религии».
В девятнадцатом веке успешно править огромной страной, руководствуясь «гласом Божьим», было невозможно. Человек вполне консервативных взглядов А. Суворин едко напишет (правда, по поводу второго Николая, страдавшего тем же недугом, что и первый): «Государь учится только у Бога и только с Богом советуется, но так как Бог невидим, то он советуется со всяким встречным: со своей супругой, со своей матерью, со своим желудком, со всей своей природой, и всё это принимает за божье указание».
Эта психологическая аномалия, своего рода профессиональное заболевание диктаторов, давало стержень всему характеру Николая, от природы не такому уж сильному.
Император усердно и небезуспешно изображал из себя сверхчеловека, ходячую статую, но внутренне был еще ранимее и неувереннее, чем вечно рефлексирующий Александр.
В раннем детстве Николай был застенчив, впечатлителен, до трусости робок. Пугался грозы, фейерверков, пальбы. Военные учения избавили его от страха перед шумом, но нервность никуда не делась. Грозный самодержец страдал клаустрофобией и высотобоязнью, был чрезвычайно мнителен, подвержен ипохондрии. В 1836 году после дорожного происшествия (выпал из коляски) несколько недель находился во взвинченном состоянии; год спустя, после пожара в Зимнем дворце, стал пугаться дыма и огня.
Нервное расстройство и депрессия вследствие крымских неудач стали одной из причин внезапной смерти государя. «В короткий срок полутора лет несчастный император увидел, как под ним рушились подмостки того иллюзорного величия, на которые он воображал, что поднял Россию», – пишет Тютчева. Уныние, упадок душевных сил, ощущение, что Бог отвернулся от Своего избранника, свели Николая в преждевременную могилу. Он слег от обычной простуды и не поднялся. В последние месяцы жизни император был так удручен, что поползли слухи о самоубийстве, и многие верили.
В личности Николая I сочетались как серьезные достоинства, так и не менее серьезные недостатки. Беда в том, что страна мало обрела от первых и сильно пострадала от последних.
Начну с черт положительных.
Государь не любил роскоши и отличался аскетической простотой в привычках. Автор любопытных воспоминаний Аркадий Эвальд, наблюдавший Николая вблизи, рассказывает: «Император Николай I был человек очень неприхотливый насчет жизненных удобств. Спал он на простой железной кровати с жестким волосяным тюфяком и покрывался не одеялом, а старою шинелью… Точно так же он не был охотник до хитрой французской кухни, а предпочитал простые русские кушанья, в особенности щи да гречневую кашу, которая если не ежедневно, то очень часто подавалась ему в особом горшочке. Шелковая подкладка на его старой шинели была покрыта таким количеством заплат, какое редко было встретить и у бедного армейского офицера… Не курил и не любил курящих, не употреблял крепких напитков, много ходил пешком». Во время визита в Англию юный великий князь поразил всех тем, что спал на мешке, набитом сеном. Англичанам это показалось глупой рисовкой. Николай действительно обожал интересничать и пускать пыль в глаза, но он и на самом деле был очень неприхотлив в быту. (Это, впрочем, общая черта поздних Романовых.)
Точно так же царь вел себя в интимной жизни: отношения с женщинами и государственные дела шли у него по разным департаментам. Супруга Александра Федоровна (до перехода в православие – Шарлотта Прусская) держалась очень скромно и в заботы управления не вмешивалась. Про Николая ходили слухи, что он большой ловелас, но, если это и правда, интрижки самодержца никакого политического значения не имели, а стало быть, не заслуживают и нашего внимания. Единственная, по-видимому, сильная и многолетняя связь у царя была с фрейлиной Варварой Нелидовой, но эта тихая женщина вела себя скромно и своим положением не пользовалась. По завещанию Николай оставил ей 200 тысяч рублей из своих личных средств – и всё. (Тогда шла тяжелая война, и Нелидова передала эти деньги в инвалидный фонд.)
Другим важным достоинством Николая Павловича были исключительное трудолюбие и большая работоспособность. Не жалея подданных, он не миловал и самого себя. Работал чуть ли не по 18 часов в день: начинал с семи утра и почти не отдыхал. Будучи олицетворением дисциплины и четкости, он требовал того же от своих помощников и от всей страны, очень похожий в этом на отца, Павла Первого, только более педантичный и безжалостный.
И здесь мы уже попадаем из зоны позитива в зону негатива. Любовь к порядку сама по себе прекрасна, но до тех пор, пока она не начинает препятствовать естественному развитию жизни, очень часто совсем не упорядоченному.
Александра Федоровна. А. Брюллов
Варвара Нелидова. Неизвестный художник
Мания тотальной организованности в фатально неорганизованной стране – камень, о который споткнулся еще Петр Великий, такой же фанатик контроля, как и Николай. Заставить всех шагать строем, единообразно действовать и мыслить не удалось ни тому, ни другому. Но Петр был открыт новизне и эксперименту, Николай же в любой нестандартности усматривал угрозу. О том, как эта высочайшая фобия сказывалась на государственной политике, мы поговорим позднее. Общий же тон времени Н. Лесков передает так: «…Всё сколько-нибудь и в каком-нибудь отношении „особенное“ тогда не нравилось и казалось подозрительным, или во всяком случае особенность не располагала к доверию и даже внушала беспокойство. Желательны были люди „стереотипного издания“, которые походили бы один на другого, „как одноформенные пуговицы“».
Тяжким личностным дефектом царя были невероятное самомнение, сугубое тщеславие. Об этом непременно упоминают все критически настроенные авторы.
Маркиз де Кюстин, пообщавшийся с ним в 1839 году, пишет: «Он ни на мгновение не забывает об устремленных на него взглядах; он ждет их; более того, ему, кажется, приятно быть предметом всеобщего внимания. Ему слишком часто повторяли и слишком много раз намекали, что он прекрасен и должен как можно чаще являть себя друзьям и врагам России». Петр Долгоруков выражается еще жестче: «Николай в припадке самонадеянности и ослепления, доходившем почти до безумия, считал себя непобедимым и всемогущим; он громко и ясно говорил, что не имеет ни малейшей нужды в гениях, а лишь в исполнителях». (Это классический симптом некомпетентного управления.) Герцен потешается над тем, что царь всерьез считал себя василиском: «Он на улице, во дворце, со своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи – останавливать кровь в жилах…»
Но красноречивее всего эту черту императора характеризует маленький, совсем незначительный эпизод, рассказанный свидетелем непредубежденным и бесхитростным – упомянутым выше А. Эвальдом. В детстве он из любопытства однажды заглянул в квартиру, где иногда останавливался государь.
«В уборной меня поразило то, что на одном столике я увидел шесть или семь подставок с париками.
– Зачем у него так много париков? – спросил я сторожа.
– Это, изволите ли видать, для того, – объяснил он, – что они надевают парики по очереди: спервоначалу наденут, примерно, вот этот, с самыми короткими волосами и поносят его несколько дней. Потом наденут вот этот, у которого волоса чуточку подлиннее, и тоже поносят его несколько дней. Потом вот этот, еще подлиннее, и так до последнего. После того надевают с самыми короткими волосами – оно и выходит так, как будто у них собственные волоса растут, и будто они их подстригают».
Бог знает, сколько из пресловутых 18 часов ежедневного рабочего времени у Николая уходило на подобные ухищрения.
Взгляд Василиска. Г. фон Ботман
Самолюбование редко обходится без склонности к самообману, и государь был весьма подвержен этому опасному для правителя недугу. По меткому выражению Герцена, николаевская Россия состояла из одних «фасадов», то есть представляла собой гигантскую «потемкинскую деревню». Предназначалась эта декорация для одного-единственного наблюдателя, который имел значение, – для самодержца. Николай был очень неглуп и знал цену своим администраторам, а все же охотно принимал желаемое за действительное. «…Нельзя без благодарности Богу и народной гордости взирать на положение нашей матушки России, стоящей как столб и презирающей лай зависти и злости, платящей добром за зло и идущей смело, тихо, по христианским правилам к постепенным усовершенствованиям, которые должны из нее на долгое время сделать сильнейшую и счастливейшую страну в мире», – пишет царь в частном письме о своей нищей, несвободной стране, с каждым годом все больше отстававшей от Европы.
Чувствуя в императоре желание верить в приятное, корыстные и недобросовестные министры, губернаторы, военачальники постоянно раздували свои успехи и преуменьшали либо вовсе утаивали неудачи. В войну со всей Европой царь ввязался из-за того, что сильно преувеличивал возможности России. Когда же начались боевые действия, от Николая долго скрывали истинное положение дел – до тех пор, пока это было возможно. Руководствуясь радужными отчетами, государь отдавал приказы, которые приводили к новым поражениям. Всё это закончилось катастрофой и для страны, и для самого Николая.
Но самым вредоносным недостатком императора было то, что любую проблему он должен был непременно решать сам. Тютчева пишет, что царь «чистосердечно и искренно верил, что в состоянии всё видеть своими глазами, всё слышать своими ушами, всё регламентировать по своему разумению, всё преобразовать своею волею. В результате он лишь нагромоздил вокруг своей бесконтрольной власти груду колоссальных злоупотреблений». И за тридцать лет Николай не изменил этому принципу. В 1826 году, едва взойдя на престол, он объявил в одной из своих резолюций: во всех делах империи должно руководствоваться «моей весьма точной волей» и запретил кому-либо действовать «не в указанном мною направлении». То же пишет царь и двадцать с лишним лет спустя: «Не ясно ли то, что там, где более не повелевают, а позволяют рассуждать вместо повиновения, там дисциплины более не существует… Отсюда происходит беспорядок во мнениях, противоречие с прошедшим, нерешительность насчет настоящего и совершенное незнание и недоумение насчет неизвестного, непонятного и, скажем правду, невозможного будущего».
Запрещая подданным «рассуждать», Николай оставлял это право только за самим собой, то есть взваливал на себя ношу, с которой никак не мог справиться. Он все время, каждую осень, совершал поездки по стране, чтобы давать личные указания; обо всем составлял поверхностное, часто неверное представление, за чем обычно следовало безапелляционное изъявление «очень точной воли», которой никто не смел противиться. Но в девятнадцатом веке эффективно править Россией в «ручном режиме» было уже совершенно невозможно.
Резюмируя, скажем, что Николай Павлович был личностью колоритной и сильной. Ее особенности сказывались во всех сферах российской действительности, пока царь был жив, но и впоследствии его тень еще долго висела над страной – как век спустя тень Иосифа Сталина, с которым Николая Первого часто сравнивают.
Деятели Николаевской эпохи
Почти все ближайшие помощники Николая I имеют нелестную репутацию – отчасти заслуженно, отчасти из-за того, что эту эпоху очень не любили и дореволюционные авторы либеральных взглядов, и официальные историки советского периода. Оценки эти не во всех случаях справедливы. Своеобразие «кадровой политики» властолюбивого императора, утверждавшего, что ему нужны не гении, но исправные исполнители, не способствовало выдвижению ярких личностей – «гениев» близ Николая действительно не видно, однако были там и люди одаренные.
Этих деятелей при всем их разнообразии объединяют три общие черты, без которых держаться при власти в ту пору было невозможно. Все виднейшие николаевские соратники – прагматики, ибо времена мечтателей и прожектеров закончились; все – рьяные «государственники», даже бывшие рьяные либералы; ну и, разумеется, все демонстрировали глубочайшую, а то и нерассуждающую личную преданность государю.
Казалось бы, новому монарху должен был очень пригодиться Аракчеев, но этого не произошло. Граф Алексей Андреевич слишком долго капитализировал собачью верность прежнему царю, и новый предпочел от этого реликтового персонажа избавиться.
При этом нельзя сказать, чтобы Николай полностью заменил александровское правительство. Два ключевых администратора, министр иностранных дел граф Нессельроде и министр финансов Канкрин, сохранили и даже упрочили свое положение, хотя дух нового царствования был подчеркнуто национальный, а эти двое были немцы и оба нечисто говорили по-русски. (Впрочем, царь, правительство и двор всё равно изъяснялись и вели переписку на французском.)
Карл Нессельроде
Карл Васильевич Нессельроде (1780–1862) к тому моменту ведал иностранными делами империи уже десять лет. Именно ведал, а не руководил, ибо и при Александре, и тем более при Николае внешнеполитической стратегией всегда управлял сам государь. Времена, когда какой-нибудь Воронцов или Чарторыйский могли проводить собственную дипломатическую линию, канули в прошлое. Для новых условий Нессельроде подходил просто идеально.
Карл Нессельроде. Г. фон Ботман
Это был человек ловкого ума и большой придворной опытности, умевший заранее улавливать желания высшей власти и затем их исполнять. «Угождать и лгать царю, угадывать, куда склоняется воля Николая, и стараться спешно забежать вперед в требуемом направлении, стилизовать свои доклады так, чтобы Николай вычитывал в них только приятное, – вот какова была движущая пружина всей долгой деятельности российского канцлера, – пишет советский историк Е. Тарле. – Царь обыкновенно его ни о чем не спрашивал, и, входя в кабинет для доклада, Карл Васильевич никогда не знал в точности, с какими политическими убеждениями сам он отсюда выйдет».
Некоторые политические убеждения у графа всё же имелись – ни в чем не противоречившие взглядам государя, но все же дорого обошедшиеся империи.
Большая карьера Нессельроде стартовала во времена Венского конгресса, когда ослепительно сияла звезда Меттерниха, и Карл Васильевич навсегда сохранил веру в гениальность австрийского канцлера.
Нессельроде свято верил в нерушимость меттерниховской системы коллективной безопасности и сильно поспособствовал тому, что Россия совершила две тяжелые стратегические ошибки, которые привели сначала к международной изоляции страны, а затем и к войне со всей Европой. Как мы увидим, министр неверно спрогнозировал реакцию держав на турецкую политику Петербурга и слишком понадеялся на поддержку австрийских союзников. Безусловно Нессельроде делал лишь то, чего хотел император, но информация, которой руководствовался Николай, поступала из министерства иностранных дел. Назначенные графом посланники сообщали из Лондона, Парижа и Вены то, что должно было понравиться царю. «…Сии следовали указаниям своего шефа-канцлера и своим карьеристским соображениям и писали иной раз вовсе не то, что видели их глаза и слышали их уши, а то, что, по их мнению, будет приятно прочесть властелину в Зимнем дворце, то есть нередко льстили и лгали ему почти так же, как и сам Нессельроде. А когда и писали в Петербург правду, то Нессельроде старался подать ее царю так, чтобы она не вызвала его неудовольствия» (Е. Тарле).
Современники утверждали, что главной целью всех поступков графа Карла Васильевича было стремление сохранить свой пост. Если так, то с этой задачей Нессельроде блестяще справился: он бессменно пробыл министром до самого конца николаевского правления.
Егор Канкрин
Другим правительственным долгожителем был министр финансов Егор (Георг) Францевич Канкрин (1774–1845), но слава у него совсем другая, чем у Нессельроде. Кажется, это единственный николаевский деятель, о котором почти все мемуаристы и историки отзываются в целом одобрительно.
У этого немецкого уроженца было университетское образование – редкость для тогдашних министров. К тому же, в отличие от всех остальных, Канкрин вышел не из офицеров, а начинал службу по экономической (солеваренной) части. Он выдвинулся во время Наполеоновских войн, когда стал военным снабженцем – в 1814 году был уже генерал-интендантом всей действующий армии. На этом традиционно проблемном, коррупционном посту Егор Францевич проявил себя весьма распорядительным, аккуратным и честным администратором. Материальное обеспечение войск находилось на неплохом уровне, взяток и хищений не было, а самое большое впечатление на императора Александра произвело то, что Канкрин сумел вшестеро сократить выплаты, которых требовали от русской армии иностранные поставщики.
Егор Канкрин. Г. фон Ботман
В мирное время обнаружилось, что генерал-интендант разбирается не только в проблемах военного снабжения, но и в широком круге финансово-экономических вопросов. Должность министра Канкрин занял в 1823 году и оставался на ней больше 20 лет.
От других министров этот отличался тем, что не был всего лишь исполнителем. Он имел собственную программу и пытался ее осуществить, иногда позволяя себе не соглашаться и спорить с императором. Объяснялось это тем, что государь не считал себя в финансово-экономической сфере таким же корифеем, как в военных или дипломатических делах, и был готов прислушиваться к мнению профессионала. К тому же у Канкрина не было принципиальных расхождений с общей консервативно-охранительской линией правительства. На уровне экономическом она проявлялась в форсированном патернализме и жесткой тарифной политике. Трезво оценивая низкую конкурентоспособность отечественной промышленности, министр пытался ее укрепить, ограничивая доступ импортных, прежде всего английских товаров. Конечно, одной этой меры для развития частной инициативы было недостаточно, но к капиталистам Канкрин относился с недоверием – он был такой же убежденный «государственник», как и царь. Например, министр препятствовал развитию коммерческих банков, без которых настоящий рост предпринимательства невозможен (как мы увидим, оно почти и не развивалось).
Главные достижения Канкрина сводились к области финансовой политики. Здесь были достигнуты существенные успехи, о которых будет рассказано в соответствующей главе. Но экономность министра, неодобрительно относившегося к экстренным тратам (а интересы военной империи постоянно их требовали), всё больше раздражала императора. В конце концов Канкрин в 1844 году вышел в отставку, чему способствовал и возраст – семьдесят лет в то время считались глубокой старостью.
После этого порядка в денежных делах стало гораздо меньше, а с испытанием большой войной архаичная финансовая система николаевской России и вовсе не справится. Впоследствии придется ее полностью перестраивать.
Павел Киселев
Из людей новых, то есть выдвинутых самим Николаем, а не доставшихся ему по наследству от брата, наилучшее впечатление производит Павел Дмитриевич Киселев (1788–1872).
Своим карьерным взлетом он был обязан давнему расположению царя и царицы – десятью годами ранее Киселев, тогда флигель-адъютант, присутствовал при их помолвке в Берлине. Вступив на престол, Николай начал продвигать людей, которых лично знал и кому доверял. Одним из них стал Павел Дмитриевич, к тому времени всего лишь начальник штаба Второй армии, расквартированной в провинции, на Украине. В аракчеевские годы он слыл прогрессистом: избегал телесных наказаний, устраивал школы для солдат, противился учреждению военных поселений. Декабристы из Южного общества даже подумывали, не привлечь ли генерала к заговору.
К тому же у Киселева была репутация человека чести. В 1823 году произошел громкий инцидент, взбудораживший все общество – так называемая «генеральская дуэль». (Пушкинский приятель И. Липранди, например, пишет, что поэт «в продолжении многих дней ни о чем другом не говорил, выпытывая мнения других: на чьей стороне более чести, кто оказал более самоотвержения и т. п.».)
По всеобщему убеждению, Киселев в этой истории вел себя безукоризненно.
Один из его подчиненных, генерал Мордвинов, отставленный за служебное упущение, прислал начальнику картель. Принимать вызов от нижестоящего было необязательно и даже противозаконно, но Киселев согласился. Впоследствии генерал напишет царю: «Он меня вызвал, и я считал своим долгом не укрываться под покровительство закона, но принять вызов и тем доказать, что честь человека служащего неразделима от чести частного человека».
Тогда чаще всего стрелялись «невсерьез» – обменивались ритуальными выстрелами с большого расстояния, а потом жали друг другу руки. Но Мордвинов заявил, что один из дуэлянтов «должен остаться на месте», и потребовал дистанции в восемь шагов. Никто не хотел стрелять первым, уступая очередность противнику. Наконец по команде выпалили одновременно, и Мордвинов был смертельно ранен.
Впоследствии Киселев до конца дней выплачивал вдове немалую пенсию.
Павел Дмитриевич был человеком разносторонних дарований. Он проявил себя хорошим полководцем, командуя армией в турецкой войне 1828–1829 годов, а назначенный управлять новыми российскими протекторатами, Молдавией и Валахией, оказался и отличным администратором. Проведенные там реформы в некотором роде поразительны, ибо шли вразрез с общим государственным курсом. Киселев учредил в Дунайских княжествах нечто вроде парламентов, ограничив власть монархов-господарей; вывел из крепостного состояния крестьян; установил вместо прежних натуральных податей единый денежный налог; поставил под защиту закона цыган, ранее бесправных.
Павел Киселев. Гравюра с фотографии
Киселев вообще является любопытной аномалией Николаевской эпохи. По выражению советского историка П. Зайончковского, он был тогда «единственным представителем партии прогресса» – вернее, он был единственным, которому позволялось высказывать либеральные взгляды. Убежденный сторонник отмены крепостничества во всей России, граф Павел Дмитриевич год за годом убеждал царя в необходимости этой реформы. «Мы займемся этим когда-нибудь», – отвечал его величество.
С 1837 года Киселев возглавлял министерство государственных имуществ, где в частности ведал казенными крестьянами и ввел у этого сословия зачатки самоуправления.
В целом же результаты многолетних усилий энергичного «системного либерала» были весьма скромны. В своих записках он печально резюмирует: «Моя жизнь была деятельная, но безотрадная». Еще лучше выразился сам Николай, сказавший: «Киселев сделал то, что ему разрешили». А «разрешили» ему очень немногое.
Александр Бенкендорф
Это имя впоследствии стало чуть ли не главным символом николаевского времени – не столько из-за личных качеств человека, которому оно принадлежало, сколько из-за особой важности занимаемой им должности. С той эпохи российская государственность начала придавать первостепенное значение «спецслужбам», видя в них свою главную опору и защиту. Александр Христофорович Бенкендорф (1782–1844) был создателем и первым руководителем российской тайной полиции в этом ее новом возвышенном качестве.
Историческая репутация у Бенкендорфа скверная. Это одна из самых одиозных фигур отечественной истории. А между тем он был личностью отнюдь не монохромной, во всяком случае не являлся злодеем или негодяем.
В 1812 году Бенкендорф был храбрым партизаном; потом, во время Заграничного похода, – одним из самых лихих кавалерийских генералов союзной армии. Эти факты замалчивались советскими историками, обычно использовавшими только две краски: черную или белую. Александр Христофорович в их работах кромешно черен. Но в воспоминаниях современников, большинству которых шеф жандармов тоже сильно не нравился, он предстает скорее этакой зеброй: среди черных полос просматриваются и белые.
Подобно Киселеву, это тоже был товарищ Николая Павловича по прежнему времени: великий князь и герой двенадцатого года оба командовали дивизиями в гвардейском корпусе. В тяжелый день 14 декабря Бенкендорф был рядом с новым царем, который сказал ему: «Сегодня вечером, может быть, нас обоих не будет более на свете, но, по крайней мере, мы умрем, исполнив наш долг». Когда всё обошлось, генерал был включен в Особый комитет для изысканий о злоумышленных. Тут-то и проявились истинные таланты Александра Христофоровича.
Александр Бенкендорф. Джордж Доу
Через несколько месяцев он подает государю проект об учреждении «высшей полиции», где говорилось: «События 14 декабря 1825 г. и ужасные заговоры, которые в течение десяти лет подготовляли этот взрыв, достаточно доказывают как ничтожность имперской полиции, так и неизбежную необходимость организации таковой. Для того чтобы полиция была хороша и охватывала все пространство империи, она должна иметь один известный центр и разветвления, проникающие во все пункты; нужно, чтобы ее боялись и уважали за моральные качества ее начальника. Он должен называться министром полиции и инспектором жандармов».
Внушающие страх спецслужбы существовали и прежде, но никогда еще во главу угла не ставился фактор идеологический, репутационный (то, что автор записки назвал «моральными качествами»). По сути дела, предлагалось соединить две сакральности: государя и его тайной полиции.
Николаю подобная логика была понятна и близка. Вскоре новая государственная институция учреждается сразу в двух ипостасях: как отдельный Жандармский корпус и как Третье отделение Собственной Его Величества канцелярии. Бенкендорф возглавляет обе структуры – и сразу становится самым влиятельным чиновником империи. Подробный разговор об этом направлении государственной политики впереди, сейчас же остановимся на самом Бенкендорфе.
Интереснее всего в нем идеалистическое, даже утопическое стремление поддерживать в народе не только страх, но и любовь к спецслужбам. «Эта полиция должна употреблять все свои усилия, чтобы завоевать моральную силу, которая в каждом деле есть главная гарантия успеха», – пишет будущий шеф жандармов. Залог успеха – заслужить «расположение всех честных людей, которые хотели бы предупредить правительство о некоторых заговорах или сообщить ему интересные новости». В качестве символа жандармов был учрежден белый платок – дабы утирать слезы страждущих.
И в первый, бенкендорфовский период существования слово «жандарм» еще не имело того постыдного оттенка, который оно приобрело впоследствии, при других начальниках. В корпус охотно шли представители хороших фамилий, не считая эту службу зазорной. У самого Александра Христофоровича была репутация человека сочувственного и гуманного. Даже ненавистник режима Герцен признает, что Бенкендорф «не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом». Граф усердно занимался благотворительностью – «призрением трудящихся», «попечением о тюрьмах».
И всё же этот лично незлой, по-видимому, добронамеренный человек создал машину тотального подавления всего живого в стране. Многие навыки, приемы и технологии будущих спецслужб, уже совсем не озабоченных «моральными качествами», были разработаны и внедрены Бенкендорфом. Это с его времен тайная полиция становится государством в государстве и «хвост начинает вилять собакой». Александр Христофорович очень хорошо усвоил истину, согласно которой в автократическом государстве влиятельнее всего тот, кто поставляет государю информацию. Поэтому граф никогда не разлучался с императором, сопровождал его во всех внутренних и заграничных поездках, состоял во всех существенных правительственных комитетах и комиссиях. Третье отделение контролировало работу государственного аппарата, важные кадровые назначения не обходились без одобрения Бенкендорфа.
Начиная с 1837 года влияние графа ослабевает, потому что болезни уже не позволяют ему постоянно находиться при императоре. Когда Александр Христофорович умер, царь писал, что верного Бенкендорфа никогда не забудет и не заменит, – но, конечно, заменил, ибо без таких людей государство обходиться уже не могло.
На могиле графа следовало бы высечь его самую знаменитую, вечно живую российскую максиму: «Законы пишутся для подчиненных, а не для начальства».
Алексей Орлов
На посту «главного спецслужбиста» Бенкендорфа заменил деятель существенно меньшего калибра – Алексей Федорович Орлов (1786–1861).
В прошлом это тоже был храбрый вояка, пользовавшийся доброй славой. Пушкин писал про него:
О ты, который сочетал С душою пылкой, откровенной (Хотя и русский генерал) Любезность, разум просвещенный; О ты, который, с каждым днем Вставая на военну муку, Усталым усачам верхом Преподаешь царей науку; Но не бесславишь сгоряча Свою воинственную руку Презренной палкой палача…Как и предшественник, Орлов заслужил признательность царя 14 декабря: первым привел свой Конногвардейский полк на Сенатскую площадь и лично повел его в атаку. На следующий же день верноподданный гвардеец получил графский титул (хоть он и происходил из тех самых Орловых, но был незаконнорожденным).
Князь Алексей Ф. Орлов. Франц Крюгер
Вскоре бывший кавалерист выказал себя превосходным дипломатом. Назначенный на стратегическую должность посла в Константинополе, он сумел завоевать расположение султана и повернуть турецкую политику в выгодную для России сторону.
Царь поручал Орлову самые сложные задания, и Александр Федорович всегда успешно с ними справлялся. Это был идеальный исполнитель, никогда не стремившийся что-то выдумывать или импровизировать. Прежде чем взяться за какое-то дело, граф в точности выяснял, чего именно от него ожидает государь, и никогда от этой линии не отклонялся. Именно такие сотрудники Николаю больше всего и нравились.
Особенного положения Орлов достиг еще в период бенкендорфовского всесилия. «Граф Орлов пользовался тогда большой доверенностью у Государя; он не занимал какого-либо определенного места при дворе или в совете государства, но принимал в то время участие в важнейших совещаниях по сношениям с другими дворами и потому имел сильное влияние в делах», – вспоминает другой видный деятель эпохи генерал Н. Муравьев-Карский.
Когда в 1844 году должности главы Третьего отделения и шефа Жандармского корпуса освободились, их занял этот надежный, приятный государю сановник. В последнее десятилетие николаевского правления он председательствовал сразу в нескольких важных учреждениях. Правда, по отзывам современников, граф не слишком усердствовал на своих высоких постах – в том числе на самом главном. С годами Алексей Федорович сделался ленив и нерасторопен. Этот недостаток компенсировался умением подбирать себе толковых помощников, которые и вели повседневную работу.
По полицейской части – и в Третьем отделении, и в корпусе жандармов – истинным руководителем скоро сделался заместитель Орлова генерал Дубельт.
Леонтий Дубельт
Леонтий Васильевич Дубельт (1792–1862) был человеком скромного происхождения. Лишь на сороковом году жизни он получил грамоту, подтверждавшую его права на потомственное дворянство. И в гору он пошел тоже в годы уже неюные.
Почти до сорока лет Дубельт прозябал в безвестности. Его военной карьере помешало сначала подозрение в связях с декабристами, затем ссора с начальством, вынудившая Леонтия Васильевича уйти в отставку в невеликом чине полковника.
Но в 1830 году он поступил на службу в новое перспективное ведомство – Жандармский корпус и там проявил свои истинные таланты.
Дубельт был умен, старателен, аккуратен, отлично разбирался в людях. При Бенкендорфе он стал в корпусе начальником штаба, затем управляющим Третьим отделением и товарищем министра внутренних дел. Всюду состоя на «второй» должности, он держал все дела под своим контролем.
Леонтий Дубельт. А.В. Тыранов
Современный историк С. Лурье пишет: «Дубельт всю жизнь поздно ложился, рано вставал, много действовал. А на последнем отрезке стажа, когда занимал сразу две должности – военную (начальник штаба Отдельного корпуса жандармов) и штатскую (управляющий Третьим отделением Собственной Его Величества канцелярии), – был, наверное, самый трудящийся в России человек».
Взгляды Дубельта хорошо известны из его собственноручных записок. Вот, например, обращение к сыновьям: «Первая обязанность честного человека есть: любить выше всего свое Отечество и быть самым верным подданным и слугою своего Государя. Сыновья мои! помните это… Не заражайтесь бессмыслием Запада – это гадкая, помойная яма, от которой, кроме смрада, ничего не услышите. Не верьте западным мудрствованиям; они ни вас, и никого к добру не приведут». «Наш народ оттого умен, что тих, а тих оттого, что не свободен», – писал Леонтий Васильевич – да не в какой-нибудь верноподданной бумаге, а в письме собственной жене. Одним словом, это был настоящий, железный «государственник», видевший в свободах один лишь беспорядок.
По своим личным качествам он, как и Бенкендорф с Орловым, вовсе не был монстром. Напротив, помогал беднякам и сиротам, всегда держал данное слово, не проявлял чрезмерной суровости. Хоть и пользовался услугами доносчиков, но презирал их, приказывал платить им стандартное вознаграждение в размере тридцати рублей – в память о тридцати сребрениках. «Леонтий Васильевич – лицо оригинальное, он, наверное, умнее всего Третьего и всех отделений собственной канцелярии, – пишет Герцен. – Исхудалое лицо его, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу явно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, вернее, накрыл всё, что там было».
Дубельт, а не Бенкендорф и тем более не Орлов – в общем-то дилетанты по части политического сыска – превратил Жандармский корпус в хорошо организованную, эффективную структуру, державшую всю большую страну под бдительным надзором. Леонтий Васильевич обезвреживал не внутренних врагов (их, собственно, и не было), а потенциально опасные идеи. Как человек дальновидный, особенную угрозу для власти он усматривал в литературе и с особенной зоркостью приглядывал за писателями. Репрессии против литераторов, от действительно вольнодумного Чаадаева до безобидных Аксакова с Тургеневым, обычно инициировались Дубельтом и носили скорее профилактический характер: чтобы пишущая братия не зарывалась. Единственное громкое политическое дело с тяжелыми приговорами, процесс петрашевцев, было затеяно без участия и даже против воли Дубельта. Он-то понимал, что приговаривать читателей литературной переписки к расстрелу и каторге – глупость и чрезмерность. Как мог, генерал пытался смягчить их участь. Осужденный на казнь Достоевский впоследствии говорил: «Уверяю, что Леонтий Васильевич был преприятный человек».
Преприятный человек, занимающийся пренеприятными делами, – это образ, придуманный не Феликсом Дзержинским; впервые эту маску опробовал Леонтий Дубельт.
Петр Клейнмихель
Николай Первый невысоко ценил личные качества Аракчеева, но сам тип усердного служаки, готового без рассуждений выполнить высочайшую волю, в чем бы она ни состояла, был царю очень мил. Поэтому, отставив александровского фаворита, новый монарх приблизил его главного помощника.
Петр Андреевич Клейнмихель (1793–1869) был сначала адъютантом Аракчеева, потом начальником штаба военных поселений. С 1826 года он состоял на должности дежурного генерала Главного штаба и выполнял самые ответственные поручения его величества, демонстрируя удивительную разносторонность. Николай считал Клейнмихеля незаменимым, даже распорядился в его честь высечь золотую медаль с девизом «Усердие все превозмогает».
Кудесника Клейнмихеля кидали всюду, где требовалось авральным порядком решить некие сложные или небывалые прежде задачи. Он то занимался реформой вооруженных сил, то в кратчайшие сроки ремонтировал после пожара Зимний дворец, то руководил строительством железной дороги между столицами. В различное время Петр Андреевич побывал военным министром, строителем храмов, мостов и всевозможных казенных построек, министром (главноуправляющим) путей сообщений и публичных зданий, но сфера его влияния была много шире. «…Значение Клейнмихеля чрезвычайно вырастает и выходит далеко за пределы сферы его непосредственного управления, покрывая собой тот развал, к какому приходит теперь вся николаевская система», – пишет М. Полиевктов. Граф Петр Андреевич не только «покрывал развал системы», но в значительной степени сам ему и способствовал. В отличие от Аракчеева он не был «предан без лести», а наоборот слыл искуснейшим царедворцем. Ходили упорные слухи, что некоторые из его восьми детей на самом деле рождены фрейлиной Нелидовой от государя, а граф прикрывает августейшие развлечения. Правда это или нет, неизвестно, но уже то, что общество охотно верило в подобную вероятность, красноречиво свидетельствует о репутации Клейнмихеля.
Особенное доверие царя Петр Андреевич беззастенчиво использовал в интересах личного обогащения, Он был виртуозом всяческой показухи, отлично зная пристрастия и слабости Николая, которому всегда был нужен быстрый и наглядный результат. Это предоставляло Клейнмихелю широкие возможности по части разнообразных гешефтов с заказами и поставками. Впрочем император, вообще придерживавшийся невысокого мнения о человеческой природе, иллюзий по поводу честности своего помощника не испытывал. Однажды на вопрос об истинной стоимости Николаевской железной дороги государь ответил: «Об этом знают только двое: Бог да Клейнмихель».
Петр Клейнмихель. Франц Крюгер
Пускай воруют, лишь бы дело делали да не зарывались – вот главный «кадровый» принцип Николая Первого. Известно, что как-то раз он сказал наследнику: «Мне кажется, что во всей России не воруем только ты да я».
Но касательно любимого соратника царь заблуждался: тот не только «зарывался», но и «дело делал» весьма неважно. В записках будущего деятеля великих реформ князя Дмитрия Оболенского за 1855 год про Клейнмихеля сказано: «Не имея никакого образования, он даже не имел от природы никаких административных способностей и запутал дела не только казенные, но и свои собственные. Злоупотребления и воровство в его управление достигли колоссальных размеров. Не могу себе представить, как он сдаст дела своему преемнику».
А сдавать дела Клейнмихелю пришлось сразу же после смерти августейшего покровителя, одним из первых. Тот же мемуарист сообщает, что по этому поводу в департаментах и среди подрядчиков воцарился «невыразимый восторг». «Купец Кокорев пишет мне из деревни: «Целую неделю ходят слухи о прогнании Клейнмихеля, но все еще слухи пока. Не смею радоваться, пока не прочту в приказах, а по прочтении – даю обеды на бедных в течение месяца за здоровье царя».
Александр Чернышев
Еще одним символом эпохи, в которую наибольшего успеха добивались люди гибкие, готовые меняться в зависимости от дующих наверху ветров, был Александр Иванович Чернышев (1786–1857).
В ранней молодости он блестяще проявил себя на должности военно-дипломатического представителя Александра I при Наполеоне – в годы, когда Франция и Россия, являясь формальными союзниками, готовились к решительному столкновению. Чернышев отлично шпионствовал и добывал секретные сведения. Затем, во время войны, он был одним из самых молодых генералов русской армии и опять оказался на высоте положения.
Когда, с восшествием на престол Николая, стали востребованы иные таланты, Александр Иванович и тут не ударил лицом в грязь. Включенный в состав Следственной комиссии по декабристскому делу, он проявил такое рвение при допросах, что государь счел его человеком весьма полезным.
О моральных качествах А.И. Чернышева можно судить по тому, что во время следствия он всячески пытался погубить своего богатого родственника Захара Чернышева, чтобы завладеть огромным состоянием, – и все это видели. Лев Толстой в повести «Хаджи-Мурат» пишет, что царь Александра Чернышева «только терпел, считая незаменимым человеком», но «зная его старания погубить в процессе декабристов Захара Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал большим подлецом».
Александр Чернышев. Франц Крюгер
Как мы уже знаем, в николаевской «кадровой политике» это качество особенным минусом не считалось. Зато по высоко ценимым параметрам исполнительности и усердия Александр Иванович не уступал Клейнмихелю.
За следствие над декабристами Чернышев был пожалован графом, а затем стал и светлейшим князем. В 1848 году он занял самый высокий пост в чиновничьей иерархии – председателя Государственного совета.
Но важнее, что в течение четверти века (до 1852 года) Чернышев руководил военным министерством. На этой должности он тоже делал лишь то, что угодно государю. А поскольку Николай придерживался старинных суворовских верований в лихие атаки сомкнутым строем, соответствующим образом дрессировал армию и министр. Солдаты прекрасно маршировали и кололи чучела штыком-молодцом, но не были обучены тактике рассыпного боя и плохо стреляли, да и ружья у них (поскольку все равно пуля-дура) были образца 1808 года.
Через два года после почетной, по состоянию здоровья, отставки военного министра русской армии придется дорого заплатить за его нерассуждающую исполнительность.
Иван Паскевич
Поскольку империя была военная, на первых ролях в ней были военачальники. Самым выдающимся полководцем считался Иван Федорович Паскевич (1782–1856).
Еще в бытность великим князем Николай проникся глубочайшим почтением к этому генералу, который отличился тем, что в 1814 году один из первых вошел в Париж. Как раз в это время юный Николай Павлович добрался до действующей армии. Александр представил ему Паскевича со словами: «Познакомься с одним из лучших генералов моей армии».
Через несколько лет Николай получил бригаду в дивизии, которой командовал Паскевич. Впоследствии царь будет называть бывшего начальника «отцом-командиром».
В 1826 году знаком высшего доверия со стороны нового монарха было приобщение к расправе над декабристами, и Паскевич становится членом суда, впрочем, никак себя в этом качестве не проявив, – он был человеком военным, а не политиком и не карьеристом.
Мы увидим, что все кампании, которыми руководил Иван Федорович, заканчивались победоносно. В данном случае личные симпатии императора совпадали с деловыми качествами его любимца.
Но награды и поощрения, сыпавшиеся на Паскевича, были еще пышнее, чем подлинные его достижения. Это самый «обласканный» военачальник во всей отечественной истории – в большей степени, чем Суворов или Кутузов. Граф Эриванский и князь Варшавский (оба титула получены за три года), единственный в истории кавалер первых степеней одновременно ордена Святого Георгия и ордена Святого Владимира, генерал-фельдмаршал, рекордсмен по части денежных пожалований (в 1828 году получил премию в миллион рублей), Паскевич – как пишет его биограф А. Щербатов – «по значению своему в государстве в среде русских подданных не имел себе равного». По тону переписки, которую долгие годы вел с Иваном Федоровичем царь, видно, что их связывали очень близкие, доверительные отношения.
Иван Паскевич. Франц Крюгер
За свою долгую военную карьеру Паскевич не ведал поражений и одержал немало блестящих побед, однако в отечественной исторической традиции великим полководцем почему-то не считается. Отчасти это вызвано тем, что все главные его виктории были одержаны над более слабыми противниками – персами, турками, польскими и венгерскими повстанцами. Но сыграла свою роль и идеология. И либеральные, и тем более советские историки, во-первых, вообще негативно относились к Николаевской эпохе и ее кумирам, а во-вторых (это уже касается персонально Паскевича), считали его душителем революций, хотя это был просто толковый и исправный генерал. Никаких особенных зверств и жестокостей за ним не числится.
Владимир Адлерберг
Наконец, важную роль на протяжении всего царствования играл человек случайный и по своим качествам вполне ничтожный – Владимир Федорович Адлерберг (1791–1884). Это был самый давний приятель Николая, еще с раннего детства. Мать фаворита была главной воспитательницей у младших сыновей Павла I. «Я шел по Зимнему дворцу к моей матушке, – растроганно вспоминал потом император, – и там увидел маленького мальчика, поднимавшегося по лестнице на антресоли, которые вели из библиотеки. Мне хотелось с ним поиграть, но меня заставили продолжать путь; в слезах пришел я к матушке, пожелавшей узнать причину этих слез, – приводят маленького Эдуарда [немецкое имя Адлерберга], и наша 25-летняя дружба зародилась в это время».
Если бы Владимир Адлерберг оставался только личным приятелем Николая, не о чем было бы и говорить, но царь назначал своего наперсника на весьма ответственные посты и относился к нему с глубоким доверием как к «неизменному и правдивому другу».
Адлерберг повсюду сопровождал монарха, был директором канцелярии Главного штаба, главой Почтового ведомства, а затем министром двора и уделов. По завещанию царь оставил его своим душеприказчиком.
При этом высоко вознесенный и сверхвлиятельный вельможа ни у кого не пользовался уважением. Прозвище у него было «Минин» – но не в честь старинного героя, а по имени любовницы Мины Бурковой, через которую, как всем было известно, следовало давать министру взятки, чтоб получить выгодный подряд. Петр Долгоруков характеризует царского «правдивого друга» следующим образом: «Владимир Федорович отличался совершенным отсутствием ума, соображения и познаний; трудно встретить такую совершенную, безграничную бездарность. Дел он не понимает вовсе, занят лишь своими удовольствиями и добыванием какими бы то ни было способами денег, которые проматывает на свои удовольствия… С подчиненными горд, как истинный глупец, и высокомерен, как истинный выскочка. Деньгами и подлостью через него можно всё получить, особенно если достигать до него путем Мины Ивановны».
Владимир Адлерберг. Франц Крюгер
К началу второй половины столетия, когда империя уже ощущала приближение всестороннего кризиса, а ее статус сверхдержавы оказался под угрозой, близ Николая с его «точной волей» находились приверженец разваливающегося Священного Союза старенький Нессельроде, вороватые Клейнмихель с Адлербергом, ленивый Орлов, вредоносный Чернышев – и даже некогда деятельные Киселев с Дубельтом уже постарели и потускнели.
Вся эта команда после смерти ее покровителя будет немедленно отстранена от дел. Никто из столпов прежнего режима в новой России не понадобится.
Россия как сверхдержава
Между взятием Парижа и падением Севастополя – точно так же, как в двадцатом веке между взятием Берлина и падением Берлинской стены (и тоже в течение четырех десятилетий) – Россия занимала в мире особенное положение, для которого позднее придумают термин «сверхдержава». Сходство еще и в том, что «сверхдержав» было тоже две, что они соперничали между собой и что более сильной была другая страна, которая в конце концов и победила в состязании.
Столкновение интересов с Британией было неминуемым. Оно объяснялось тем, что во всякой империи главное направление деятельности – внешнее; в период роста империя стремится к расширению, в период стагнации и упадка – к сохранению завоеванных владений и влияния.
Если лаконично описать главную интригу мировой политики того времени, можно сказать так: это был первый этап становления гегемонии Британской империи, когда ей пыталась противостоять Россия. (Потом еще шестьдесят лет, до Первой мировой войны, бесспорным мировым лидером будет Pax Britannica.)
Говоря о том, что Англия была более сильной, следует учитывать, что речь тут идет о преимуществе промышленном, экономическом, денежном. В военном отношении сравнивать две державы было трудно – это напомнило бы сакраментальный вопрос: кто сильнее – кит или слон? Британия имела самый большой флот, Россия – самую большую армию, и это обстоятельство долгое время отсрочивало войну, пока Лондон не обзавелся мощными «сухопутными» союзниками.
Что касается остальных тогдашних «держав», то все они или одряхлели, как Австрия с Турцией, или еще не распрямили плечи, как Соединенные Штаты с Германией (тогда Пруссией), или же, подобно Франции, на время сдали позиции. Большая политика состояла в том, что Англия с Россией пытались перетянуть на свою сторону этих второстепенных игроков (за исключением далекой и никому пока не интересной Америки).
На протяжении всего своего царствования Николай Первый вел борьбу на двух главных внешнеполитических направлениях: пытался удержать под своим контролем континентальную Европу (под предлогом борьбы с революционной опасностью) и установить господство над Турцией, чтобы иметь свободный выход в Средиземноморье. Борясь за достижение этих задач, николаевская империя подорвала свои силы и ни с одной из них не справилась.
В этой главе мы посмотрим, как царь пытался властвовать над Европой.
«Жандарм Европы»
Собственную страну Николай держал в повиновении при помощи Бенкендорфа, в Европе же пытался осуществлять аналогичные функции сам – чем и заслужил свое знаменитое прозвище. Неизвестно, было ли оно ведомо царю, но, если и было, вполне возможно, что он чувствовал себя польщенным. Слово «жандарм» самодержцу бранным не казалось – совсем наоборот. В представлении Николая, это был доблестный и честный защитник людей от всяческих злодейств, наихудшим из которых являлась революция.
Декабристский заговор император (не без оснований) считал проявлением общей болезни, охватившей Европу. Для того, чтобы зараза вновь не перекинулась на благословенную российскую почву, следовало истреблять ее «на дальних подступах». Заодно можно было распространить политическое влияние империи повсюду, где местные монархи сами не справлялись с освободительным движением и просили о помощи.
Организация, позволявшая осуществлять подобное вмешательство, и правовая база, его оправдывающая, уже существовала – Священный Союз, созданный Александром Первым. Разница между двумя царями заключалась в том, что Александра в первую очередь занимали проблемы общеевропейские, и ради них он готов был поступаться выгодами национальными; для Николая приоритетны всегда были интересы империи. Это не мешало ему представлять себя рыцарем и защитником международного согласия, но в Лондоне, Париже и других столицах российскую политику воспринимали совсем иначе, что в конце концов и привело к разрыву.
Из континентальных государств больше всего хлопот Николаю доставляла вечно неспокойная Франция. Она не хотела жить под властью Бурбонов и в 1830 году изгнала их. Вслед за тем заполыхало в соседнем Нидерландском королевстве, и тут же началось восстание в Польше, на российской территории, – то есть оправдались худшие опасения царя о «заразности» революций.
Польский мятеж залили кровью, но император был готов вести войска и на запад континента.
Во Франции одна слабая монархия сменилась другой, еще более слабой и еще более ограниченной. На престол взошел представитель побочной ветви Бурбонов герцог Луи-Филипп Орлеанский, с точки зрения Николая нелигитимный. Царь потребовал созыва экстраординарного конгресса Священного Союза с тем, чтобы «восстановить законность» во Франции. От войны Европу спасло только то, что другие страны признали нового короля, и России пришлось с этим смириться, однако Николай всячески демонстрировал свое пренебрежение Луи-Филиппу, и Франция переместилась в лагерь оппонентов Петербурга.
Северный медведь. О. Домье
Поход в Нидерланды – вернее, в Бельгию, которая отложилась от Гааги и провозгласила независимость, – готовился всерьез. Король Вильгельм сам попросил об этом Николая, тем самым признавая за царем «жандармские» права и полномочия. Армия уже получила приказ выступать. Помешало экспедиции только то, что как раз в этот момент разразилось польское восстание, и Николаю стало не до Бельгии. Но, вынужденный смириться с появлением на карте новой страны, царь и бельгийскую монархию считал «неполноценной», то есть приобрел себе врага еще и в этой части континента.
В 1830-е годы Николай инициировал сближение трех стран: России, Австрии и Пруссии, рассчитывая сформировать более компактный и действенный альянс, чем рыхлый Священный Союз, где слишком долго приходилось всё со всеми согласовывать. В 1833 году три ультраконсервативных государя выпустили декларацию о том, что они «единодушно решили укрепить охранительную систему» и будут оказывать поддержку друг другу «в случае внутренних смут». При этом было ясно, что с Россией такого несчастья произойти никак не может, и фактически конвенция санкционировала использование русского оружия для подавления беспорядков в Пруссии и Австрии, а заодно во всех странах, за которые альянс «считал себя ответственным». В перечень подобных регионов попадали Италия, Швейцария, пиренейские страны, Голландия и все германские государства. Плюс к тому Николай охотно «взял ответственность» за Балканский полуостров – наряду с паневропейскими «охранительными» целями он не забывал и об имперских интересах. Новая европейская система должна была гарантировать ему контроль над Турцией и незыблемость власти над Польшей.
Какое-то время тройственный союз успешно справлялся с поставленными задачами. В 1836 году Петербург, Вена и Берлин оккупировали Краковскую республику, единственный островок польской государственности, признанный Венским конгрессом. Для Николая этот анклав был бельмом на глазу – в особенности со времен польского восстания, когда «вольный город» Краков сначала поддерживал повстанцев, а затем предоставил им убежище.
Апофеоз могущества российской «сверхдержавы» приходится на вторую половину тридцатых и на сороковые годы. Тогда перед именем Николая трепетала вся Европа.
Многие мемуаристы, несколько расходясь в деталях, описывают удивительный эпизод, как в Париже поставили пьесу Эжена Скриба «Потемкин, иль Каприз императрицы», где Екатерина II была изображена в скандальном свете. Оскорбившись за бабку, Николай потребовал у короля запретить постановку, а все напечатанные экземпляры пьесы уничтожить. Луи-Филипп пытался протестовать, ссылаясь на то, что во Франции конституция и свобода печати. Тогда император якобы пообещал прислать миллион зрителей в серых шинелях, которые освищут пьесу, – и спектакль был снят. Так, во всяком случае, описывают эту историю русские источники. Французские гордо утверждают, что представления остановились из-за отсутствия зрителей, ибо драма была нехороша (ne fait pas très grand honneur au répertoire de M. Scribe[1]), однако при рекламе, которую должен был создать спектаклю русский царь, это вряд ли имело бы значение. Очевидно, всё же причина была в политике.
Но усилению российского могущества всё сильнее противилась Англия, а вместе с нею и Франция, то есть уже в тридцатые годы будущий разлом вполне обозначился. На Пиренеях, где шла гражданская война между сторонниками абсолютной монархии и либералами (Николай и его союзники, разумеется, поддерживали первых), верх взяли силы, ориентировавшиеся на Лондон и Париж. После этого возник четверной союз Англии, Франции, Испании и Португалии – в противовес тройному союзу России, Австрии и Пруссии. Меттерниховская система затрещала по швам.
В 1848 году она рухнула почти одновременно во всей Европе. Архаичное «охранительство» больше не могло сдерживать напора новых идей и народных движений.
Всеевропейский пожар
Очагом возгорания опять стала Франция. В феврале 1848 года в результате трехдневной революции с пальбой и баррикадами слабый режим Луи-Филиппа рухнул. В стране вновь, после 44-летнего перерыва, установилась республика.
Царь разорвал отношения с Парижем и велел всем русским подданным немедленно покинуть страну, захваченную заразой социализма. Но о посылке «миллиона серых шинелей» речи не шло, потому что пожар быстро распространился на территории, находившиеся гораздо ближе к российским границам.
Ситуацию усугублял раздор внутри тройственного союза: теперь Россия выкручивала руки своей ближайшей соратнице Пруссии.
Умер датский король, и два герцогства, Шлезвиг с Гольштейном, принадлежавшие датской короне, но в основном населенные немцами, пожелали присоединиться к Германскому Союзу. Поскольку прусская монархия считала себя блюстительницей общенемецких интересов, в Берлине горячо поддержали эту инициативу. Король Фридрих-Вильгельм приготовился решить вопрос силой оружия, но у Николая армия была намного больше. Он напомнил пруссакам, кто в Европе главный: пригрозил войной, если будет нарушена незыблемость границ, установленных Венским конгрессом. Царю вовсе не хотелось, чтобы Пруссия превратила Германию в единое государство, это совершенно изменило бы европейскую ситуацию. (Справедливости ради скажем, что для мира, вероятно, было бы спокойнее, если бы Германия не объединилась – тогда в ХХ веке, вероятно, не произошло бы двух ужасных войн.)
Фридрих-Вильгельм был вынужден подчиниться. Этим «жандармским» демаршем Николай лишь усугубил революционную ситуацию в Европе. Удар по престижу прусского короля ослабил его влияние на германские дела и настроил против России всё немецкое национально-объединительное движение.
А в маленьких германских государствах и так уже повсюду шло брожение – революционная волна, так называемая «Весна народов», растекалась все шире.
В Вюртемберге, Баварии, Саксонии, Бадене и других регионах толпы требовали парламента, свободы печати, независимости судов и прочих немыслимых для консервативного миропорядка вещей. Хуже того – напуганные французской революцией правительства повсеместно шли на уступки. Собрался общегерманский предпарламент, который заявил о выборах полноценного парламента.
Начались волнения и в самой Пруссии. В Берлине шли бои, и армия не могла совладать с восставшим народом. Королю пришлось пойти на компромисс: отменить цензуру, объявить созыв ландтага, а затем и ввести конституцию.
Не устояла и колыбель европейской реакции – Австрия. Эта «лоскутная» империя давно уже с трудом сохраняла свое единство. Из 35-миллионного населения этнических немцев было меньше четверти; остальные народы – чехи, поляки, хорваты, словаки, итальянцы, венгры – чувствовали себя людьми второго сорта и требовали больших прав или даже независимости. К национальному вопросу присоединялся социальный. Бунтовала и столица. В марте 1848 года вечный Меттерних был вынужден уйти. Правительство совершенно растерялось. Оно то угрожало народу, то обещало свободы. В апреле император Фердинанд объявил частичную конституцию, но это не сняло напряжения. Месяц спустя Вена восстала, монарху пришлось оттуда бежать. К власти пришло либеральное правительство, всенародно избранный парламент отменил все еще сохранявшиеся рудименты крепостного права.
Осенью разразились новые беспорядки, устроенные рабочими, и вновь армия была вынуждена отступить. В конце концов восстание расстреляли из пушек и залили кровью, но император почел за благо отречься от престола в пользу юного племянника Франца-Иосифа, которому досталось очень тяжелое наследство.
На западе у австрийцев шла война с Сардинией, которая поддерживала итальянское освободительное движение. На востоке взбунтовалась Венгрия.
От окончательного краха австрийскую империю спас русский царь, с ужасом и возмущением наблюдавший, как Европа погружается в хаос.
В 1848–1849 гг. Николай вел себя уже не как жандарм, а как пожарный, которому нужно спасать здание, загоревшееся сразу в нескольких местах.
Еще 14 марта 1848 года царь издал манифест, начинавшийся словами: «После благословений долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва во Франции, мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной Германии, и, разливаясь повсеместно с наглостию, возраставшею по мере уступчивости правительств, разрушительный поток сей прикоснулся наконец и союзных Нам империи Австрийской и королевства Прусского. Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает, в безумии своем, и Нашей, Богом Нам вверенной России». Заканчивалось воззвание грозным предупреждением: «Разумейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог!».
Поскольку языцы не покорялись и безначалие разливалось всё пуще, Российская империя перешла к действиям.
На первых порах поддержка зашатавшейся Австрии ограничилась финансовой помощью: для подавления итальянского освободительного движения Вена получила от Петербурга колоссальный займ в 6 миллионов рублей. Это дало австрийцам возможность собрать довольно сил, чтобы разгромить противника и удержать свои итальянские владения. Справились императорские войска и с мятежом в Чехии. Но в Венгрии верх взяли сторонники независимости. Созданная ими национальная армия разбила австрийские войска. Весной 1849 года Венгрия объявила себя республикой.
Юный Франц-Иосиф обратился к Николаю за военной помощью. К этому времени Россия собрала у своих западных границ в общей сложности 400 тысяч солдат, и вторжение началось быстро. 140-тысячный экспедиционный корпус возглавил лучший русский полководец фельдмаршал Паскевич.
Силы были неравны. В короткий срок, всего за два месяца, Венгрия была оккупирована. В Европе подняла голову реакция. Один за другим революционные очаги и в Австрии, и в Германии погасли. Конституции, введенные тамошними монархами в минуту паники, по требованию Николая были отменены. Казалось, статус-кво восстановлен. Россия убедительно доказала, что является первой державой Европы.
Сцена из Венгерского похода. А. ван дер Венне
Но этот триумф будет иметь роковые последствия. Теперь Николай по-настоящему напугал Европу и тем самым побудил ее сплотиться перед общей угрозой.
Русский самодержец очень неумно повел себя по отношению к Франции. После недолгого периода свобод там пришла к власти военная диктатура: Луи-Наполеон Бонапарт, следуя примеру великого дяди, сначала провозгласил себя президентом, а затем и императором. Николай третировал «узурпатора» еще хуже, чем в свое время Луи-Филиппа, но Наполеон III был правителем совсем иного склада, с большими амбициями и планами. Англо-французский союз из дипломатического превратился в военный, притом с явственной антироссийской направленностью.
А вот русско-австрийско-прусский альянс, наоборот, очень ослабел. У Петербурга испортились отношения с самым верным партнером – Пруссией, оскорбленной бесцеремонным вмешательством в ее дела. Напрасно царь полагался и на признательность Австрии. Та была историческим соперником России в славянском вопросе и имела собственные виды на Балканы.
Никогда еще Николай не чувствовал себя таким всемогущим, как в начале 1850-х годов, а при этом впервые с 1812 года Россия оказывалась в фактической изоляции, лицом к лицу с открыто враждебной или, в лучшем случае, недоброжелательной Европой.
Азиатская экспансия и «Восточный вопрос»
Но непосредственной причиной большой войны стал «Восточный вопрос»: столкновение геополитических интересов европейских стран (прежде всего двух сверхдержав) на востоке.
Расти в западном направлении России было уже некуда – границы там были зафиксированы Венской системой, и Николай декларировал себя гарантом их нерушимости. Поэтому империя – поскольку этот тип государства всегда нацелен на экспансию – стремилась расширяться на юге и на востоке.
На совсем далеком востоке это движение было облегчено отсутствием сильной конкуренции: Цинская империя пребывала в упадке, Соединенные Штаты еще только начинали осваивать Тихоокеанские просторы, а Британская империя могла использовать на такой дистанции только свой флот. Но царя мало интересовали те далекие земли и моря, которые через несколько десятилетий приобретут огромное торгово-стратегическое значение. Николай Первый плохо умел заглядывать в будущее – намного хуже, чем держаться за прошлое.
Поэтому, имея собственный сухопутный выход к великому океану, русские не слишком активно пользовались этим преимуществом. Употребленные на это усилия по сравнению с ресурсами, потраченными на «ближнеазиатские» планы, были просто мизерными.
Базы в Калифорнии и на Аляске, отданные в управление полугосударственной Российско-Американской компании, по сути дела были оставлены без попечения. В девятнадцатом веке пушнина стала пользоваться меньшим спросом, и торговля ею получалась убыточной, а Петербург своим промысловикам помогал очень скупо. В 1841 году царь санкционировал продажу калифорнийских владений (за смешную сумму в 30 000 долларов) американскому бизнесмену Джону Саттеру. Семь лет спустя там будут обнаружены огромные запасы золота. Та же участь в скором будущем ожидала и заброшенную русскую Аляску. Нет, российское правительство определенно не отличалось историческим предвидением.
Петербург начал больше интересоваться Тихоокеанским регионом, только когда там активизировались англичане. После Первой опиумной войны (1840–1842) они открыли для себя китайские порты и основали Гонконг – плацдарм для будущей экспансии. Тут Николай спохватился и выделил некоторые средства на освоение дальневосточных закоулков своей бескрайней империи.
В 1849 году на Камчатке была заложена Петропавловская крепость. В следующем году военная экспедиция Г. Невельского колонизовала течение Амура – эта спорная территория была объявлена русской. Но главный океанский порт с говорящим названием «Владивосток» будет построен уже после Николая.
Весь западный мир видел, какие выгоды Англии принесло торговое проникновение в Китай, и теперь началось состязание: кто раньше откроет Японию – не в географическом смысле (где она находится, было известно), а в буквальном, как открывают запертую дверь. Большая и по слухам богатая страна уже два с половиной века отказывалась пускать в свои порты иностранцев.
Петербург снарядил в долгое плавание морскую экспедицию под командованием адмирала Е. Путятина, но ее опередили – даже не британцы, а североамериканцы, новые активные игроки в состязании за тихоокеанские рынки.
Впрочем, Николая сильнее занимала «Большая игра» – такое название у историков получило многолетнее соперничество России и Британии за контроль над обширными областями в Центральной и Южной Азии.
Англичане пытались добраться до Персии, Афганистана, Бухары и Хивы из уже освоенной Индии. Русские тоже пробовали закрепиться в Средней Азии, но пока довольно вяло. Основные средства расходовались на более насущную задачу – покорение Кавказа (об этом будет рассказано в следующей главе). Толчком к большей активности в Средней Азии, как и на Дальнем Востоке, стала агрессивная напористость англичан. В 1839 году те вторглись в Афганистан и посадили на эмирский престол своего ставленника.
Тогда зашевелились и русские.
Большой контингент под командованием оренбургского военного губернатора В. Перовского, шесть с половиной тысяч солдат, выступил в поход на Хиву. Было объявлено, что цель экспедиции – защита от степных набегов и освобождение захваченных в рабство русских поселенцев. В случае успеха планировалось, по британскому рецепту, утвердить на хивинском престоле хана, послушного России.
Предварительно, под видом исследовательской экспедиции, вперед отправился отряд, создавший два промежуточных опорных пункта с сильными гарнизонами.
Затем двинулись основные силы – в ноябре, чтобы избежать зноя и суши. Однако зимой пустыня оказалась не гостеприимнее, чем летом. Тридцатиградусный мороз и снежные бураны очень замедляли и осложняли поход. Затем начались бои с хивинцами – более упорные, чем ожидалось.
Перовский был вынужден вернуться обратно, потеряв четверть личного состава убитыми, замерзшими и заболевшими.
Летом 1853 года тот же Перовский предпринял еще одну попытку: с большим трудом взял Кокандскую крепость Ак-Мечеть. Но тут началась Восточная война, и движение остановилось.
Эти интересы – и дальневосточный, и центральноазиатский – для империи пока были второстепенными.
Всё свое царствование Николай был прежде всего занят европейскими и «ближнеазиатскими» проблемами – кавказской, персидской и турецкой, тесно связанными между собой.
Закавказские приобретения
Обострение отношений с южным соседом, Персией, произошло из-за присоединения Грузии четвертью века ранее. Россия намеревалась занять всё Закавказье – в качестве плацдарма для дальнейшего движения в Переднюю Азию, а также для того, чтобы замкнуть в кольцо враждебные северокавказские племена.
Персидская война (1804–1813) получилась такой трудной главным образом из-за своей несвоевременности. Мир с шахом заключили второпях, чтобы не отвлекаться от главной задачи: борьбы с Наполеоном.
Обе стороны, и российская, и персидская, сложившимся положением были не удовлетворены.
Принц Аббас-Мирза, который доставил русским столько хлопот в предыдущую войну, потратил минувшие годы на модернизацию армии. При шахе Фетх-Али (1797–1834) Персия вообще более или менее привела в порядок свою внутреннюю жизнь и существенно окрепла.
Английский посланник убеждал шаха и наследника, что более удобного момента для реванша не будет: новый царь слаб, его власть поколеблена декабристским восстанием, у русских назревает война с Турцией, а они не могут справиться даже с кавказскими горцами. Тут Николай еще и совершил дипломатическую ошибку. Желая улучшить отношения с шахом, он предложил вернуть часть азербайджанских земель в обмен на обещание нейтралитета. Персы восприняли это как знак слабости и перешли к решительным действиям.
В середине июля 1826 года, не озаботившись объявлением войны, Аббас-Мирза начал наступление, действуя тремя колоннами. В общей сложности персидское войско насчитывало около 40 тысяч человек. Им противостояло всего 3 тысячи солдат и казаков, которым пришлось отступать.
Персы намеревались прогнать русских за Кавказский хребет. При таком соотношении сил задача казалась вполне реальной.
Война началась для русских скверно, с унизительного поражения. Большой отряд был окружен и после жестокого боя, потеряв половину людей, сложил оружие, чего в прежних войнах не бывало.
Затем Аббас-Мирза осадил самую сильную русскую крепость Шуша. Гарнизон, к которому присоединились армянские добровольцы, держался с отчаянной стойкостью, и эта оборона сбила темп персидского наступления. Под Шушой принц простоял целых семь недель. За это время русский командующий Ермолов сумел собрать у Тифлиса все наличные силы и подкрепления – около 8 тысяч штыков и сабель.
Этого было уже достаточно, чтобы нанести ответный удар. В сентябре русские войска начали одерживать победы: отбили атаку на Тифлис и деблокировали Шушу. Затем генерал Паскевич – у него было уже 10 тысяч воинов – потрепал под Елисаветполем (современная Гянджа) главную армию Аббас-Мирзы. Это была первая большая победа нового царствования, к тому же одержанная личным назначенцем Николая, поэтому Паскевич был награжден шпагой с алмазами, а через несколько месяцев назначен Кавказским главнокомандующим вместо нелюбимого царем Ермолова.
В следующем 1827 году русские перешли в наступление. Теперь основные сражения развернулись в Армении.
В августе, осаждая Эчмиадзин, принц Аббас-Мирза чуть не уничтожил прорывавшийся на выручку отряд генерала Красовского, но тот все же пробился и спас национальную армянскую святыню.
После этого Паскевич уже шел только вперед. В октябре он взял Ереван, а затем углубился на собственно персидскую территорию и завладел Тебризом, столицей Аббас-Мирзы.
Теперь у шаха не было иного выбора, кроме как признать поражение и просить мира. Он был заключен зимой под Тебризом, в Туркманчае. К России перешли Ереван с областью и Нахичеванский край. Персия обязалась выплатить гигантскую контрибуцию, которая должна была надолго обескровить этого проблемного соседа – на русские деньги 20 миллионов рублей. До полного расчета русские войска оставались в иранском Азербайджане.
Война, так тяжело начавшаяся и так победоносно завершившаяся, очень воодушевила и окрылила Николая.
Он решил, что теперь можно заняться и турецкой проблемой.
Турецкий соблазн
Пресловутый «Восточный вопрос», о котором так много писали и говорили в XIX веке, в переводе на язык политический звучал примерно так: какая из держав с наибольшей выгодой воспользуется ослаблением Османской империи? «Европейский больной» (так называли Турцию, самые богатые земли которой находились в Европе, на Балканах) давно уже пребывал в затяжном кризисе и никак не мог из него выбраться. Главным претендентом на турецкое наследство являлась Россия, аппетиты которой все время возрастали. Когда-то, при Петре I, желанной (и недостигнутой) целью было просто получить выход к Черному морю. На протяжении восемнадцатого столетия удалось добиться куда большего: завоевать все Северное Причерноморье и Крым, затем – побережье Кавказа, Молдавию. Но Турция продолжала слабеть, и это представляло собой большой соблазн для крепнущей Российской империи. «Черноморского пруда» Петербургу было уже мало. Екатерина готовилась забрать себе Грецию, все славянские области и сам Константинополь – уже подрастал внук с подходящим именем Константин, которого можно будет посадить на престол нового царства.
«Венская система» с ее гарантией нерушимости европейских границ побудила Александра отказаться от завоевательных планов, и Николай постоянно подтверждал верность этому принципу, но он изобрел иную терапию для лечения «европейского больного»: учреждения над ним опеки и проведения череды ампутаций. Первая из этих целей достигалась превращением Турции в российского сателлита – тогда заветные проливы открывались и закрывались бы по воле царя. Европейским державам подобная перспектива, конечно, не нравилась, однако нарушения Венских договоренностей тут не было. (Англия с Францией активно действовали в том же направлении – по временам успешно.) Иное дело – «ампутации», то есть отсечение от Турции христианских регионов и предоставление им независимости. Политический расчет Петербурга строился на том, что новые страны Балканского полуострова, обязанные своим появлением российской поддержке, станут послушными союзниками.
На деле способствуя национально-освободительным движениям на территории Османской империи, Россия всячески изображала свою непричастность к этим восстаниям. В. Ключевский описывает этот повторяющийся спектакль в ироническом тоне: «…Племя восставало против Турции; турки направляли на него свои силы; в известный момент Россия кричала Турции: „Стой!“; тогда Турция начинала готовиться к войне с Россией, война проигрывалась, и договором восставшее племя получало внутреннюю независимость, оставаясь под верховной властью Турции. При новом столкновении России с Турцией вассальная зависимость уничтожалась».
Николаю I пришлось иметь дело с двумя султанами: Махмудом II (1808–1839) и Абдул-Меджидом I (1839–1861). Эти правители все время пытались реформировать свою архаичную, распадающуюся на куски страну. Махмуд реорганизовал правительство, учредив министерства, и модернизировал армию по западному образцу. В 1826 году он упразднил янычарский корпус, вечный рассадник смут и переворотов. «Счастливое событие» (Вака-и-Хайрие), как этот ключевой момент называется в турецкой истории, существенно укрепило государство.
Следующий султан Абдул-Меджид развернул реформы еще шире. Его программа «Танзимат» («Упорядочение») не только предусматривала важные социально-экономические преобразования, но провозглашала новую политическую доктрину «османизма», согласно которой все народы империи объявлялись равноправными. Если бы эта мера была принята раньше, возможно, Константинополю и удалось бы пригасить освободительное движение в инокультурных и иноверных провинциях, но к тому времени процесс зашел уже слишком далеко, и главной проблемой турецкого государства являлись даже не христиане, а чрезмерно усилившиеся наместники-мусульмане.
Борьба с могущественными сепаратистами составляла главную заботу Стамбула. И если Махмуд II сумел совладать с непокорным вассалом, албанским наместником Али-пашой Янинским, то справиться с египетским губернатором Мухаммедом Али-пашой центру оказалось не под силу.
Тяжелые потрясения были постоянным фоном турецкой государственной политики и очень облегчали вмешательство России во внутренние дела Порты. Мы увидим, что иногда это происходило по просьбе самого Константинополя и позволяло царю Николаю изображать из себя миротворца.
Однако дипломатические декларации Петербурга никого в Европе, конечно, не обманывали. Для Англии, Франции (да и Австрии, имевшей собственные планы касательно Балкан) «Восточный вопрос» постепенно начинал звучать иначе: как положить конец николаевской экспансии?
Решением «Восточного вопроса» в этой новой его формулировке станет «Восточная война» 1853–1856 годов. В исторической перспективе события предшествующих десятилетий выглядят не более чем прелюдией к общеевропейскому макроконфликту. Его бы не произошло, если б Россия в своей турецкой политике не добилась ряда военных и дипломатических побед.
Военные победы
Как уже говорилось, Александр I устоял перед искушением воспользоваться греческой революцией в национальных интересах своей страны. Новый император, точно так же не одобряя повстанцев, взбунтовавшихся против пускай мусульманской, но законной власти, повел себя иначе. Неожиданным союзником здесь оказалась Англия, у которой были свои причины поддержать греков – не в последнюю очередь надежда ослабить австро-российский союз, основу Венской системы. (Вену очень тревожило, что православная Греция станет русским плацдармом на Балканах.)
Весной 1826 года, то есть всего через три месяца после восшествия Николая на престол, в Петербурге был подписан англо-русский протокол о совместных действиях. Вслед за тем Россия предъявила Турции ультиматум: признать греческую автономию (о перекраивании государственных границ речи пока не шло). Заодно уж Порта должна была даровать самоуправление Сербии и предоставить России свободу прохода через проливы. Франция присоединилась к протоколу, Пруссия уклонилась, Австрия же и вовсе заявила протест. Но довольно было солидарности и трех держав; в 1827 году они подписали Лондонскую конвенцию. В документе шла речь о мирном посредничестве в переговорах между султаном и греками, но имелась и секретная часть, где стороны уславливались в случае необходимости применить силу.
Махмуд II на давление не поддался. Собственных сил для отпора у него не хватало, и он обратился за подмогой к египетскому наместнику Мухаммеду Али-паше, который фактически давно уже являлся независимым владыкой и был могущественнее своего номинального сюзерена.
В Наваринской бухте (полуостров Пелопоннес) собрался турецко-египетский флот. К тому же месту прибыла и объединенная англо-французско-русская эскадра – формально для защиты международного мореплавания, на самом же деле для того, чтобы заставить Турцию покориться.
Демонстрация силы, особенно двухсторонняя – тактика взрывоопасная. Пугая турок, союзники чересчур приблизились к их якорной стоянке, и вследствие недоразумения началась пальба, переросшая в полномасштабное сражение. Невзирая на поддержку береговых батарей, флот султана был истреблен и потоплен, погибло 6 тысяч турецких и египетских моряков. Качество кораблей и экипажей у европейцев было несравненно выше.
Наваринское сражение. И.К. Айвазовский
Сражение при необъявленной войне в эпоху, когда уже сложилось твердое представление о международном праве, было чем-то неслыханным. Допустим, в подцензурной России только ликовали, славя Наваринский бой как триумф отечественного флота (хотя вообще-то союзниками командовал английский адмирал Кодрингтон), но в Европе с ее свободной прессой реакция была совсем не бравурной.
В Лондоне продолжала заседать конференция по греческому вопросу. Постановлением этой конференции от 4 ноября 1828 г. и протоколом от 10 марта 1828 г. греческая область Морея, занятая в конце 1828 г. французами, была вверена охране союзных держав, а протокол от 10 марта 1829 г. выработал детали будущего устройства Греции. Греция провозглашалась автономным турецким протекторатом; эта зависимость выражалась в уплате ежегодно дани в 1,5 млн пиастров. Ее внутреннее управление должно было быть независимым. Правителем должен был стать принц-христианин, не родственный династиям, правящим в Англии, России или Франции, причем государственное устройство должно было «приближаться» к монархии.
В Австрии бурно протестовали, в Англии и Франции общественное мнение разделилось, но возобладала точка зрения, что ввязываться в войну с Турцией не следует. В обеих странах из-за политического кризиса сменились кабинеты.
После этого Англия и Франция дали понять, что в дальнейшей эскалации участвовать не будут. Теперь исполнения решений Лондонского протокола добивалась одна Россия. Видя это, турки уступать передумали. Наоборот, они обострили отношения, заперев проливы для русских судов.
Под впечатлением свежих побед над персами Николай не устрашился воевать с Портой и в одиночку. 14 апреля 1828 г. он объявил султану войну. К тому времени войска уже были стянуты к границе. В Европе – Дунайская армия опытного фельдмаршала Витгенштейна (95 тысяч солдат); в Азии – Кавказский корпус победителя персов Паскевича (25 тысяч). У турок на западном театре стояло стопятидесятитысячное войско, на восточном – пятидесятитысячное, но к численному превосходству «азиатского» неприятеля русские были привычны, им случалось побеждать и при худшем соотношении сил.
Однако кампания 1828 года проходила тяжелее, чем ожидалось. Витгенштейн не блистал инициативностью и прежде (вспомним, как в 1813 году он не удержался на посту главнокомандующего союзными войсками), а с тех пор он моложе не стал. Положение фельдмаршала осложнялось еще и тем, что в действующую армию прибыл Николай, захватив с собой начальника Главного штаба графа Дибича, в прошлом витгенштейновского адъютанта. Царь и его помощник не брали на себя командования, но во всё вмешивались, поэтому командующий оказался в довольно неприятной ситуации. Его бывший подчиненный теперь был более важной, а главное, более приближенной к государю персоной. Все успехи приписывались Дибичу, все неудачи сваливались на Витгенштейна.
Армия бодро оккупировала Молдавию и Валахию, где не было вражеских войск, но целый месяц провозилась с форсированием Дуная и застряла у первой же сильной турецкой крепости – Браилова. Попытка взять ее штурмом не удалась. Гарнизон сложил оружие только в июне, после ожесточенного сопротивления.
Задачей кампании было взять три ключевых пункта, находившихся в Болгарии – Варну, Силистрию и Шумлу. Около последней расположилась укрепленным лагерем главная турецкая армия.
Русские действовали во всех трех направлениях: осадили Силистрию с Варной, а основные силы Витгенштейн повел на Шумлу. В результате войск повсюду не хватало. Силистрия с Варной держались. Под Шумлой шли мелкие бои – главнокомандующий не решался затевать большое сражение, пока не прибыли подкрепления. Начались болезни, падеж лошадей. Обсуждался вопрос – не отступить ли. На выручку варнинскому гарнизону двигалась новая турецкая армия. В середине сентября она опрокинула русский заслон и прорвала блокаду.
В начале осени дела выглядели совсем скверно, но Варну все же удалось вынудить к сдаче. Победу обеспечили военные инженеры – род войск, которому Николай оказывал особое покровительство. Они подорвали турецкие бастионы и сделали дальнейшее сопротивление невозможным.
Но взятием Варны успехи и ограничились. Силистрия устояла, а от Шумлы пришлось отойти, причем турки немедленно перешли в контрнаступление.
На Кавказском фронте русская армия воевала лучше. Паскевич взял несколько важных крепостей, в том числе сильно укрепленный Карс, и занял три пашалыка (губернии), однако судьба войны решалась не на этом второстепенном театре.
К 1829 году Турция мобилизовала дополнительные силы, обеспечив себе еще большее численное преимущество, особенно на Кавказе, где Паскевичу, не получившему подкреплений, теперь противостояла 100-тысячная армия.
Но приготовились к новой кампании и русские.
Витгенштейна царь снял, поставил на его место своего любимца Дибича, который оказался более деятельным и удачливым командующим. К тому же у него были развязаны руки, поскольку царь покинул ставку и вернулся в Петербург.
30 мая у местечка Кулевча (восточная Болгария) Дибич нанес поражение армии великого визиря Решида Мехмед-паши. В июне наконец пала Силистрия. Русская эскадра блокировала Константинополь. Главное же – Дибич переиграл визиря стратегически. Тот стянул все силы к Шумле, ожидая, что русские опять двинутся туда, но вместо этого Дунайская армия в июле перешла Балканский хребет и пошла вглубь Турции. Почти беспрепятственно она достигла Адрианополя (Эдирне), откуда до вражеской столицы оставался недельный переход.
Блестяще действовал и Паскевич. Не дожидаясь наступления превосходящих турецких сил, нанес удар первым и в конце июня взял хорошо укрепленный Эрзерум [подробности этой смелой операции увековечены находившимся при армии Пушкиным].
Султан попросил прусского короля о посредничестве для заключения мира. Нескладно начинавшаяся война завершилась для России полной победой.
По условиям Адрианопольского договора, подписанного 2 сентября 1829 года, Турция признала греческую автономию, а фактически – независимость, выплатила большую контрибуцию, уступила России кавказское побережье Черного моря от Кубани до Поти и южную Грузию (поскольку это была не Европа, Венскому принципу нерушимости границ это не противоречило).
Дипломатические победы – и поражения
В 1830-е годы Россия входила победоносно. Окончательное решение «Восточного вопроса» казалось близким.
С Грецией, правда, получилось неудачно. Обязанная свободой русскому оружию, эта новая страна почти сразу же объявила о полном отделении от Османской империи, и главой правительства стал граф Каподистрия, бывший русский министр иностранных дел, то есть для Петербурга свой человек. Он и попытался править «по-русски», жесткой рукой, однако власти не удержал и в 1831 году был убит, после чего Греция утратила пророссийскую ориентацию. После долгих согласований греческий престол достался фигуре компромиссной – баварскому принцу Отто, дальнему потомку византийских императоров. В сферу российского влияния Греция так и не вошла.
Но Николая это не слишком обескуражило. Он пошел на уступки в вопросе о греческой короне, поскольку рассчитывал заполучить приз более ценный: контроль над Турцией.
Недавняя вражда между Петербургом и Константинополем сменилась пылкой дружбой – причем по инициативе султана.
Дело в том, что Махмуд II оказался в тяжелейшей ситуации. Поражение в войне подорвало силы Порты, и этим решил воспользоваться египетский наместник Мухаммед-Али. Он вознамерился расширить свои владения за счет соседних областей Османской империи: вторгся в Сирию и Аравию, дошел до Малой Азии. Египетская армия повсюду била турецкую.
Султан попросил царя о помощи – и Николай охотно взял на себя роль гаранта турецкой целостности. Возникла перспектива стать жандармом не только Европы, но и Азии. Русские военные корабли пересекли проливы. Русские полки шли выручать турок.
Испугался не только египетский паша, но и европейские державы. Они надавили на Мухаммеда-Али, тот проявил уступчивость и договорился с Константинополем о замирении: получил в управление Сирию, а за это признал себя верным вассалом султана.
Этот военно-дипломатический триумф обеспечил России исключительное положение во всем регионе. В 1833 году царь и султан заключили Ункяр-Искелесийский договор о взаимопомощи на случай войны. По условиям этого удивительного соглашения, вызвавшего негодование всей Европы, царь получал право блокировать проливы для судов любых третьих стран. Таким образом, Россия не просто осуществила давнюю мечту о свободном выходе в Средиземное море, но и получила ключ от этой двери. Турция же фактически утрачивала суверенитет над собственными водами и превращалась в российского сателлита.
То был высший пик российских успехов в «Восточном вопросе», но долго удерживать эту высоту Петербургу не удалось. Англия и Франция с самого начала не признали Ункяр-Искелесийский договор, а в последующие годы предприняли серьезные усилия, чтобы ослабить российское влияние в Турции.
Такая возможность представилась в 1839 году, когда Махмуду II вздумалось отобрать Сирию обратно. Египетская армия опять оказалась сильнее, турецкий флот перешел на сторону врага, и Порта снова очутилась в отчаянном положении. Но на сей раз англичане и французы не дали шанса Николаю спасти султана. Они поспешили сделать это сами. Англия и Франция совместно выступили в защиту турецких интересов. К тому же в Константинополе сменился монарх: Махмуд умер, султаном стал 16-летний Адбул-Меджид, и новое правительство с радостью воспользовалось помощью европейских держав.
К возмущению Николая всё устроилось без него. На конференции в Лондоне постановили, что Мухаммед-Али получит Египет в наследственное владение, а за это вернет Константинополю Сирию. Конфликт разрешился.
Проигравшей стороной здесь была Россия. Лондонская конвенция 1841 года, по выражению британского премьера Пальмерстона, «утопила» Ункяр-Искелесийский договор в соглашении более глобального толка. Оно вообще запретило проход через проливы иностранных военных кораблей. При этом было понятно, что запрет касается прежде всего российского Черноморского флота, оставшегося без выхода в Средиземноморье.
Недолгое доминирование России над Турцией с этого момента заканчивается, и Порта начинает дрейфовать в сторону стратегических соперников Петербурга, прежде всего Англии. Николай I, как это вообще было ему свойственно, слишком «пережал» с давлением и достиг прямо противоположного эффекта.
Вид Константинополя. И.К. Айвазовский
Не слишком удачно действовали русские представители и в тех автономиях Османской империи, которые Николай считал зоной своего влияния: в Сербии и Дунайских княжествах.
В 1842 году сербы свергли правящее семейство Обреновичей, в свое время поставленных Россией, и страну возглавил Александр Карагеоргиевич, которого поддерживала Австрия. Царь стал требовать, чтобы султан не узаконивал эту смену власти, но времена были уже другие, и Абдул-Меджид заупрямился, а за него заступились Англия с Францией. После долгих переговоров, после обмена угрозами Николаю пришлось уступить. Для проформы правление Карагеоргиевича было временно дезавуировано, но потом правителя переизбрали и утвердили. Николай отчасти спас лицо, но Сербию потерял.
Она, впрочем, находилась далеко и с Россией не граничила, но Молдавию и Валахию в Петербурге считали уже чуть ли не своей колонией. Там стояли русские войска, управлял областями граф Киселев, проводя преобразования по своему усмотрению. Всё шло к тому, что через какое-то время эти земли будут присоединены к империи.
Однако в 1834 году, в смягчение неравноправного русско-турецкого договора, Николай вывел с этих территорий солдат и позволил султану назначать господарей (из числа кандидатов, устраивающих Петербург).
В результате с изменением турецкой политики Дунайские княжества превратились в весьма странную зону двойного подчинения, потенциальный источник конфликта.
К началу 1850-х годов «Восточный вопрос» представлял собой мину, которая могла взорваться в любой момент. Позиции России ослаблялись еще и дополнительным фактором: войной с горскими народами Кавказа, которую могущественная сверхдержава вела уже много лет и никак не могла выиграть.
Кавказская проблема
Дороже всего империи, однако, обходилась не внешняя экспансия, а тяжелая внутренняя война – кавказская. Она досталась Николаю по наследству и при его царствовании так и не завершилась. Обладая огромными материальными и военными ресурсами, великая держава никак не могла сломить сопротивления малочисленных, почти всегда разрозненных горских народностей. Эти племена жили в труднодоступных местах, откуда совершали быстрые, разрушительные набеги. Походы за добычей испокон веков были частью горской культуры, а для иных общин – главным источником существования.
Иметь в тылу такого упорного противника при постоянной угрозе войны то с Персией, то с Турцией было тревожно, поэтому Россия десятилетиями держала на Кавказе большую армию, и эта армия всё время сражалась.
Расширившись в Закавказье, империя очень осложнила свое существование. Путь в присоединенную Грузию, а затем в Азербайджан и Армению лежал через непокоренные горы. Центральный коридор, кабардинский, был отвоеван еще при Александре, с большими затратами. Жестокие карательные экспедиции и в особенности эпидемия чумы сделали этот край почти безлюдным. Но по обе стороны от худо-бедно контролируемой полосы находились две большие враждебные зоны: западнокавказская (черкесская или адыгейская) и восточнокавказская (Дагестан с Чечней). Русская администрация все время существовала под страхом того, что они сомкнутся, и тогда Закавказье будет отрезано.
С 1816 года наместником был боевой генерал Ермолов, герой Наполеоновских войн. Его прозвали «кавказским проконсулом». Это он жесточайшими мерами обеспечил относительную безопасность центрального участка. На каждый набег Ермолов отвечал карательной экспедицией, после которых оставались только трупы и пепелища. Подсчитано, что до колонизации кабардинцев насчитывалось около 300 тысяч. К середине 1820-х годов, когда Ермолов окончательно добил Кабарду, ее население сократилось в десять раз. Тем же способом (по сути дела геноцидом) «проконсул», вероятно, покорил бы и весь Кавказ, однако новый царь Ермолову не доверял, подозревал его в связях с декабристами и «бонапартизме». Как уже было сказано, после первых неудач персидской войны, в 1827 году, на ответственную должность главного кавказского начальника был назначен Паскевич.
После этого так называемое «замирение» Кавказа существенно замедлилось.
«Линейная» стратегия
Графу Паскевичу-Эриванскому было не до покорения племен. Сразу после персидской войны он должен был участвовать в войне турецкой. Из-за этого западнокавказские горцы в 1830 году получили передышку. Они напали на Гагринскую крепость, покусившись на каботажный маршрут вдоль черноморского побережья. К этому времени, правда, в центре Кавказа уже появилась сухопутная магистраль, связывавшая метрополию с Грузией, – Военно-Грузинская дорога.
В следующем году Паскевича срочно перекинули гасить пожар на другом краю империи – в Польшу. Вместе с ним ушла и основная часть войск. Оставшиеся силы были поделены между Кавказским корпусом генерала Панкратьева и Кавказской линией генерала Вельяминова. Таким образом силы, и так невеликие, оказались распылены, и каждый из начальников действовал на своем участке.
Стратегия заключалась в строительстве «линий» – цепочек укреплений, которые рассекали бы враждебную территорию. Небольшие гарнизоны, распределенные между крепостями и фортами, прорубали просеки через лес и пытались контролировать эти коммуникации. Время от времени войска совершали карательные экспедиции.
Этот изобретенный в штабах проект был во всех отношениях дорогостоящим и очень небыстрым.
Военный министр Чернышев в 1836 году сформулировал принцип кавказской колонизационной политики следующим образом: «Потребовать предварительно добровольного изъявления покорности со стороны горских племён, за новой линией обитающих, и представления достаточных ручательств в ненарушимом соблюдении всех условий подданства, а затем уже обратиться к силе оружия, неотступно опустошая жилища и поля в пределах наших, доколе не будут вынуждены к безусловной покорности и не выдадут оружия».
От моря на запад, вдоль реки Кубань, на двести километров шла Черноморская кордонная линия для обороны от закубанских черкесов. На юг протянулась Черноморская береговая линия – «для затруднения сношений горских племен с Турцией», а позднее и с британскими агентами, проникавшими на Кавказ. На восток, вглубь гор, простиралась Лабинская линия, далее Кисловодская, две Кабардинские, Терская, Нижне-Сунженская, Чеченская и так далее – огромный, сложный комплекс укреплений, постов, пикетов и батарей, которые не столько контролировали горцев, сколько сами служили объектом постоянных нападений.
Год шел за годом, менялись главноначальствующие, а ситуация только ухудшалась. Наскоро построенные форты по большей части были плохи, гарнизоны недостаточны и все время сокращались из-за боев и болезней. Множество солдат сбегали в горы, спасаясь от муштры и палок (у Шамиля потом будут целые подразделения из дезертиров).
В 1840 году стало очевидно, что «линейная» система не работает. Горцы западного Кавказа активизировались и перешли от одиночных набегов к широкому наступлению.
На рассвете 7 февраля черкесский князь Хаджи Исмаил Берзек внезапным ударом захватил форт Лазаревский, истребил весь гарнизон, разрушил укрепления и безнаказанно ушел, оставив груду обезглавленных трупов.
29 февраля та же участь постигла форт Вельяминовский, причем запершиеся в блокгаузе солдаты были сожжены живьем.
23 марта пал форт Михайловский – оказавшись в безвыходном положении, защитники сами себя подорвали. Уцелевшие 80 солдат попали в плен.
Неделю спустя Николаевский форт, названный в честь самого государя, не устоял под черкесским натиском, весь гарнизон, 250 человек, погиб.
Еще несколько крепостей были атакованы, но кое-как устояли.
Не прекратились дерзкие нападения и в последующие годы. Контроль над Черноморским побережьем удалось более или менее восстановить лишь к середине 1840-х годов.
Но к этому времени главной проблемой русского командования давно уже являлся не западный, а восточный Кавказ, куда переместился центр сопротивления.
Внезапное нападение. И. Сакуров
Кавказ поднимается
Настоящая кавказская война началась, когда разрозненные горные «общества» обрели идеологию, позволившую им объединиться и даже создать собственное государство. Это движение, вошедшее в историю под именем «мюридизма» («послушничества»), обладало мощной энергетикой и придавало естественному стремлению горных народов отстоять свои обычаи и свободы дух высокого религиозного служения.
Еще в двадцатые годы в Дагестане явился проповедник из далекой, почитаемой за мусульманскую ученость Бухары – некий Хасс-Мухаммад, призывавший всех истинно верующих отрешиться от стяжательства и эгоизма, посвятить себя Аллаху и следовать Тарикату (Пути). Это был не политический вождь, а суфийский мистик, вокруг которого сплотились ученики-мюриды. Один из них, лезгинец Мухаммад Ярагский, человек уважаемый и авторитетный, первый заговорил о том, что истинным служением Аллаху будет борьба с неверными – теми, кто вознамерился принудить кавказцев к «безусловной покорности».
Но и Мухаммад Ярагский был вероучителем, идеологом – не воином. Знамя газавата против русских поднял его зять аварец Кази-Мулла («Непобедимый Мулла»), провозглашенный имамом, предводителем мусульман.
Он перемещался из аула в аул, произнося зажигательные речи. Свита его фанатичных мюридов постепенно увеличивалась и разрослась в целое войско из нескольких тысяч джигитов. Теперь Кази-Мулла уже не убеждал, а заставлял селения жить по шариату.
Воевал он пока не с русскими, а с дагестанскими «коллаборантами». Самыми сильными из них были владельцы Аварского ханства, присягнувшие на верность России. Сторонники газавата осадили аварскую столицу город Хунзах.
Но в качестве военачальника Непобедимый Мулла оказался не таким уж непобедимым. Молодой хан Абу-Нацал разбил его мюридов, и те отступили в горы. Напал Кази-Мулла на русские крепости – тоже не справился. Однако и карательный отряд, посланный против первого имама, взять его труднодоступную резиденцию не сумел. В атмосфере религиозной экзальтации, которой был охвачен Дагестан, весть о неуспехе русских восприняли как свидетельство милости Аллаха. Ряды сторонников Кази-Муллы сразу увеличились, и в 1831 году он напал на два важных города, Кизляр и Тарки, угрожая Дербенту.
Ответом стала крупная военная операция, которую возглавил сам командующий Кавказской линией генерал Вельяминов.
Русские войска осадили имама в его родном ауле Гимры. 17 октября 1832 года начался штурм.
Покорение Кавказа. М. Романова
Под огнем артиллерии Кази-Мулла с горсткой уцелевших мюридов отступил из аула и заперся в башне. Сдаваться он отказался, и почти все, включая самого имама, были переколоты штыками. Спасся, кажется, только один воин – но какой…
Вот как об этом рассказывает рядовой участник штурма: «Все ущелье горцами было преграждено громадным завалом, в центре которого была возведена башня, оборонявшаяся самим Кази-Муллой со своими избранными приверженцами. После упорного сопротивления башня была взята нашими войсками, и все защитники вместе с самим Кази-Муллой переколоты, но один, совсем почти юноша, прижатый к стене штыком сапера, кинжалом зарезал солдата, потом выдернул штык из своей раны, перемахнул через трупы и спрыгнул в пропасть, зиявшую возле башни. Произошло это на глазах всего отряда. Барон Розен [командующий Кавказским корпусом], когда ему донесли об этом, сказал: «Ну, этот мальчишка наделает нам со временем хлопот…». Слова эти припомнились потом, несколько лет спустя как пророческие, когда со слов самого Шамиля узнали, что он был тем самым юношей, который так поразительно находчиво и счастливо ускользнул в Гимрах».
Но время Шамиля (хоть он и не был таким юным, как показалось русским) еще не настало. Вторым имамом стал один из близких соратников павшего вождя Гамзат-бек Гоцатлинский, прославленный воин из знатного аварского рода.
Однако все усилия нового вождя тратились на борьбу не с оккупантами, а со своими же горцами – теми, кто не желал признавать его власть.
Поначалу Гамзат-беку сопутствовал успех. Уговорами или силой он сумел подчинить себе множество селений и набрать большое войско, чуть не двадцать тысяч воинов. С этой силой, однако, имам пошел не на русских, а на Хунзах. Правительницей Аварии была старая ханша Паху-Бике. Гамзат-бек вступил с ней в переговоры, заманил в свой лагерь ее сыновей, в том числе победителя Кази-Муллы храброго Абу-Нацала, и всех их перебил, а затем умертвил и саму ханшу.
После этого имам объявил себя правителем Аварии – самого крупного и населенного из горских княжеств. Но вероломство и жестокость «святого человека» подорвали его авторитет. Торжество Гамзат-бека длилось недолго. Составился заговор, одним из участников которого был знаменитый впоследствии Хаджи-Мурат. В сентябре 1834 года второй имам был убит в хунзахской мечети, и потом его труп несколько дней валялся на земле. [Этот эпизод кавказской войны красочно описан в повести Л. Толстого «Хаджи-Мурат».]
И лишь после этого, так сказать, с третьей попытки, народы Кавказа обрели по-настоящему великого лидера. Им стал чудом спасшийся в Гимрах мюрид первого имама Шамиль (это имя означало «Услышанный богом»).
Он родился в знаменитом ауле Гимры в 1797 году. С Кази-Муллой, первым имамом, Шамиль был дружен с детства и считал его старшим товарищем, а потом – учителем. По понятиям гор Шамиль был человеком высокообразованным: в доскональности знал Коран и мусульманскую философию, мог читать по-арабски. Но главное – он обладал выдающимися лидерскими качествами, причем как в военной области, так и в гражданском управлении. Два первых имама тоже умели сплачивать вокруг себя людей, но Шамиль был поистине выдающимся «ловцом душ». О его мудрости, набожности, справедливости ходили легенды.
Вот один пример шамилевской «PR-стратегии», впоследствии еще и приукрашенный.
Однажды к имаму явилась делегация от некоей чеченской общины, чтобы попросить разрешения не участвовать в джихаде против русских из-за крайне тяжелого положения. Зная, что имам придерживается принципа «кто не с нами, тот против нас», посланцы решили заручиться поддержкой матери диктатора. Всем было известно, какой он почтительный и послушный сын.
Шамиль устроил целое шоу. Сначала на три дня заперся в мечети – спросить совета у Всевышнего. Когда же вышел, объявил, что Аллах велел ему наказать собственную мать за измену ста ударами плетью. На площади, при всех, старухе нанесли несколько ударов, а остальные Шамиль принял сам. «Мессидж» был ясен: ради божьего дела я не пожалею ни себя, ни собственной матери.
После такого спектакля делегаты ожидали какой-нибудь жестокой казни, но Шамиль сказал им: «Ступайте и расскажите, что видели». Это был очень ловкий ход. Если б Шамиль предал смерти уважаемых людей, чеченцы стали бы его заклятыми врагами, теперь же они прониклись к имаму благоговейным почтением.
Шамиль. Фотография А.И. Деньера
Поддержка чеченцев стала для аварца Шамиля особенно важна после тяжелого поражения 1839 года, когда отряд генерала Граббе взял штурмом укрепленный аул Ахульго. Горский вождь опять спасся чудом, уведя с собой горстку мюридов, при этом одна из жен имама погибла, старший сын попал в плен, второй, шестилетний, был ранен и еще один, совсем маленький, убит.
Тогда многие дагестанские сообщества отошли от газавата и присягнули царскому правительству, а Шамилю пришлось бежать в Чечню. Но это бегство лишь расширило территорию движения. Вместо того чтобы договориться с чеченцами, русское командование потребовало от них полного разоружения, да еще устроило против них карательный поход – и вся область восстала.
С 1840 года Шамиль становится имамом и Дагестана, и Чечни. Он переносит столицу своего государства (Имамата) в чеченское селение Дарго.
Горское государство представляло собой весьма интересное явление. По форме оно было теократической абсолютной монархией, но все важные решения Шамиль обсуждал с Диван-ханом, Высшим Советом, в который входили старшие военачальники-наибы, уважаемые муллы и старейшины. При этом правил Шамиль железной рукой и за короткое время построил довольно эффективную административную систему. Небольшая по размеру страна (около 1000 квадратных километров, с населением примерно в 400 тысяч человек), делилась на 33 района-наибства. С жителей взимались налоги, составлявшие основу бюджета. Кроме того в казну поступала пятая часть всей добычи от набегов.
Разноукладные и разноплеменные общины регулировали свою жизнь по единому своду законов – Низаму, основанному на предписаниях шариата.
Государство было не только религиозным, но и военным: все здоровые мужчины были расписаны по сотням и десяткам. Всеобщая мобилизация проводилась перед очередной кампанией, но у Шамиля имелась и постоянная армия – даже собственная артиллерия, где служили русские дезертиры, которым не за что было любить «Николая Палкина». Со временем в Имамате появились даже регулярные полки, состоявшие из полутысяч, сотен и десятков. Эти части снабжались централизованно (а не сами себя содержали, как обычные отряды партизанского типа).
Поскольку шариат суров, а обстановка все время была военная, власть Шамиля держалась не только на его авторитете, но и на страхе. В Имамате существовала жесткая система наказаний, от тюремного заключения до смертной казни.
Война между двумя государствами – огромным и маленьким, давно существующим и только что созданным, «цивилизованным» и «дикарским» (с русской точки зрения) – развивалась по весьма непростому сценарию.
Неудача за неудачей
«Линейная» стратегия с ее ставкой на сеть маленьких гарнизонов и единичные карательные экспедиции плохо работала и прежде. Теперь она оказалась совсем негодной. Пока большие отряды, обремененные артиллерией и обозами, карабкались по горным склонам или рубили просеки, наибы Шамиля свободно маневрировали, а при необходимости соединялись и давали бой в удобном для них месте. Нанеся правительственным войскам потери своим неизменно метким огнем, горцы уходили. Это позволяло генералам бодро рапортовать начальству о победе, но никакого результата не давало.
Благодаря Лермонтову, летом 1840 года принявшему участие в чеченском походе генерал-лейтенанта Галафеева и сочинившему хрестоматийную поэму о битве на реке Валерик, у русского общества сложилось несколько превратное представление о том, как происходили такие столкновения.
В изображении поэта этот рядовой, типичный для кавказской войны бой выглядит чуть ли не Полтавским сражением:
И два часа в струях потока Бой длился. Резались жестоко Как звери, молча, с грудью грудь, Ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть… (И зной и битва утомили Меня), но мутная волна Была тепла, была красна.Подвиг рядового Архипа Осипова. А.А. Козлов
На самом же деле произошло вот что. Большой воинский контингент (3500 человек с 14 пушками), выйдя из крепости Грозной, медленно двигался вперед, ломая дома в пустых аулах, вытаптывая посевы и портя колодцы. Так продолжалось несколько дней, пока отряд не достиг Валерика, высокий берег которого был укреплен завалами и баррикадами. Оттуда горцы открыли убийственный огонь по сомкнутому строю, пытавшемуся форсировать реку. Как обычно, главной мишенью были офицеры. Одновременно всадники атаковали русский тыл и чуть было не подстрелили самого генерала Галафеева. Бой длился до тех пор, пока пушки не разметали заграждения. Но за ними уже никого не было – горцы ушли. Отряд потерял больше трехсот солдат и 22 офицера.
А пока русское войско вытаптывало чеченские поля, Шамиль с основными силами беспрепятственно вторгся в Дагестан и восстановил свою власть над частью потерянных в 1839 году территорий.
Летучие отряды наносили удары во все стороны. Произошло то, чего больше всего опасалась русская администрация: чеченский отряд захватил станицу Александровскую, расположенную на Военно-Грузинской дороге, и на короткое время связь с Грузией прервалась.
В 1842 году Шамиль пошел большим походом на Дагестан, и командование Кавказского корпуса решило этим воспользоваться, чтобы взять столицу Имамата. Тот же генерал Граббе, который тремя годами ранее едва не захватил Шамиля в Ахульго, повел целое войско, 10 тысяч солдат, к труднодоступному аулу Дарго. На сей раз противник не ушел, а дал оборонительный бой – и регулярная армия потерпела поражение. Она отступила в беспорядке, потеряв 1700 человек и часть артиллерии.
Это событие означало, что в войне наступил новый этап. Она перестала быть партизанской.
Военный министр Чернышев издал приказ, запретивший войскам всякие наступательные действия. Инициатива теперь переходит к Шамилю.
В следующем году он атакует сам и добивается нескольких нешуточных побед. В августе 1843 года берет дагестанскую крепость Унцукуль и несколько укреплений поменьше. В сентябре захватывает важный пункт – крепость Гоцатль. Потом осаждает и берет Гергебиль, отрезав Кизляр и Дербент от расположения главных русских сил.
После этой череды унизительных поражений в Петербурге наконец поняли, что на Кавказе идет не маленькая, а большая война и относиться к ней нужно со всей серьезностью.
Воронцовская стратегия
Новый «статус» Кавказской проблемы требовал не только соответствующих ресурсов, но и первоклассного руководства.
Николай I отправляет в кризисный регион своего лучшего администратора, графа Михаила Воронцова. Перечисляя ближайших царских соратников, я не назвал его, потому что вблизи императора Воронцов почти никогда не находился – Николай доверял ему важные посты на периферии.
То был настоящий знатный вельможа, не чета прежним командующим, обычным армейским служакам. Это уже само по себе демонстрировало, какое значение отныне придается Кавказу. Но граф Михаил Семенович и по личным своим достоинствам был деятелем совсем иного масштаба. К нему намертво приросла знаменитая эпиграмма юного шалопая Пушкина («Полумилорд-полукупец, полумудрец-полуневежда»), но Воронцов совсем не заслуживал этой желчной характеристики. Он имел репутацию «русского европейца», англомана и сибарита, но был заслуженным боевым генералом: получил штыковую рану при Бородине, в сражении при Краоне (1814) устоял против самого Наполеона, а на недавней войне с турками одержал главную победу – взял Варну. В армии граф слыл либералом – учил солдат грамоте и не подвергал их телесным наказаниям, говоря, что непоротый человек «гораздо способнее к чувствам амбиции, достойным настоящаго воина и сына Отечества».
Кроме того – что нечасто встречается у военных – Воронцов был еще и толковым управленцем. Двадцать с лишним лет он губернаторствовал над Новороссией, то есть всем Северным Причерноморьем, и добился там впечатляющих успехов. При нем преобразились Одесса и Крым, зародилось отечественное виноделие, появились первые пароходы и шоссейные дороги.
Расчет был на то, что новый наместник сумеет не только одерживать военные победы, но и обустроить жизнь Кавказа.
В спокойных закавказских областях это и произошло, там Воронцов оставил по себе добрую память. Но замириться с Шамилем граф не надеялся и полагался только на силу оружия.
С 1845 года война активизируется. Получив серьезные подкрепления, русские войска повсюду перешли в наступление.
Новый поход на столицу Дарго наместник возглавил лично. Как обычно, горцы оставляли солдатам только пустые селенья, но в лесистой местности устраивали засады. Отстрелявшись, отступали дальше, не ввязываясь в бой.
Точно так же оставили они и Дарго, где не было ничего особенно ценного. Воронцов оказался в положении Наполеона, взявшего Москву и не понимающего, что с нею делать. Враг налетал то оттуда, то отсюда, войско несло потери. Скоро закончилось продовольствие. Отряд, который должен был доставить припасы, подвергся нападению и еле пробился. Но после этого все равно пришлось возвращаться. И тут – опять-таки как в 1812 году при отступлении французов – началось самое страшное.
Теперь мюриды атаковали беспрестанно, со всех сторон. Воронцов понес огромные потери – почти половина его десятитысячного войска была выведена из строя. В том числе погибли 4 генерала. И всё впустую. Шамиль просто перенес свою столицу в расположенное чуть дальше Видино.
Конечно, в Петербурге праздновали победу, Воронцов получил княжеский титул. Но главнокомандующий хорошо усвоил урок и крупных воинских операций впредь не затевал. «Русский европеец» стал действовать совсем не по-европейски – использовать тактику «выжженной земли». Главная ставка теперь делалась не на то, чтоб разгромить горцев в бою, а на то, чтобы уморить их голодом. По сути дела, произошел возврат к первоначальной ермоловской войне, безжалостной и методичной.
Воронцов постепенно теснил Шамиля, вырубая леса и полностью уничтожая все непокорившиеся аулы. Жить в этих местах становилось невозможно. В более плодородных местах станицами селились казаки.
Вот как Л. Толстой в повести «Хаджи-Мурат» описывает последствия обычной армейской акции: «Вернувшись в свой аул, Садо нашел свою саклю разрушенной: крыша была провалена, и дверь и столбы галерейки сожжены, и внутренность огажена. … Старик дед сидел у стены разваленной сакли и, строгая палочку, тупо смотрел перед собой. Он только что вернулся с своего пчельника. Бывшие там два стожка сена были сожжены; были поломаны и обожжены посаженные стариком и выхоженные абрикосовые и вишневые деревья и, главное, сожжены все ульи с пчелами. Вой женщин слышался во всех домах и на площадях, куда были привезены еще два тела. Малые дети ревели вместе с матерями. Ревела и голодная скотина, которой нечего было дать. Взрослые дети не играли, а испуганными глазами смотрели на старших. Фонтан был загажен, очевидно нарочно, так что воды нельзя было брать из него. Так же была загажена и мечеть, и мулла с муталимами очищал ее».
Эта омерзительная стратегия оказалась эффективной. Перед угрозой голодной смерти многие общины предпочли покориться царю. Другие, боясь Шамиля, присяги не давали, но перестали участвовать в набегах.
А солдаты тем временем занимали все новые и новые опорные пункты. На это ушло несколько лет, но к 1850 году Воронцов блокировал Имамат со всех сторон.
Силы Шамиля понемногу таяли. Чтобы удерживать власть, ему приходилось всё более жестоко карать отступников и колеблющихся – это еще больше ослабляло его поддержку. Вместе с тем Воронцов заботился о том, чтобы жители «мирных» аулов существовали без обид и притеснений. Эта наглядная агитация действовала, может быть, еще лучше.
И все же к началу Крымской войны оба фланга Кавказской линии, западный и восточный, оставались непокоренными. При жизни Николая эта проблема решена так и не будет.
«Тюрьма народов»
Эту убийственную характеристику николаевской России дал в своей книге маркиз Кюстин, написавший: «Сколь ни необъятна эта империя, она не что иное, как тюрьма, ключ от которой хранится у императора». Фразу подхватили европейские журналисты и публицисты, враждебные российскому политическому курсу, и со временем она превратилась в такое же клише, как пресловутый «жандарм Европы».
В России действительно всем жилось несвободно, но некоторые нации ощущали на себе гнет особенно остро.
Царь относился к подвластным народам неодинаково: одним благоволил, другим не доверял – и давал это почувствовать. Империя страдала целым букетом хронических «национальных недугов». Время от времени они обострялись.
Тяжелее всего, конечно, приходилось кавказцам, против которых десятилетиями велась война на истребление. Но почти так же болезненно стояла другая проблема – польская.
Польский вопрос
Бывшие подданные Речи Посполитой являлись самой многочисленной нерусской группой населения империи. Обширные территории, присоединенные к России в период между 1772 и 1815 годами, имели неодинаковый юридический статус. Все приобретения XVIII века – три украинские губернии, две литовские и четыре белорусские – имели общее название «Западный Край» и являлись обычными провинциями, которыми управляли русские чиновники. Но собственно Польша, прежнее Герцогство Варшавское, основная часть которого по Венскому конгрессу отошла к России, находилась «под особенным управлением». Царство Польское представляло собой автономию с конституцией и парламентом, со своими законами и судами, с национальной валютой и даже с собственными вооруженными силами. Фактически Россия и Польша были объединены лишь фигурой монарха, увенчанного обеими коронами.
Существование большого национального анклава, да еще обладающего своей государственной структурой, не могло не представлять опасности для целостности империи. Поляки и литовцы помнили о былой независимости, сохраняли свою культурную идентичность. Важную роль играла и принадлежность к католической церкви, у которой с православием были давние неприязненные отношения.
Русские власти, обеспокоенные националистическими настроениями в западных землях, еще при Александре взяли жесткий курс на «изгнание польского духа» из учебных заведений и правительственных учреждений. Константин Павлович, фактический наместник и Царства Польского, и Западного Края, вел себя как ничем не ограниченный правитель – постоянно конфликтовал с сеймом, нарушал польские конституционные права, раздражал местное население грубостью и самодурством.
Польша в составе Российской империи. М. Романова
Но обществу импонировала несомненная полонофилия Константина, его приверженность польским интересам – как он их понимал. В частности, великий князь добивался от младшего брата-императора того же, о чем мечтали тогда все польские националисты: включения в Царство всех прежних земель Речи Посполитой.
«В душе я совершеннейший поляк!» – восклицал Константин, и это не было пустыми словами. Вспомним, как в 1825 году он отказался от царского престола, чтобы не пришлось переезжать из Варшавы в Петербург, то есть предпочел всей России маленькую Польшу. Великий князь женился на полячке, преодолев многочисленные препятствия, и находился всецело под влиянием своей красавицы-жены. Константин был необуздан в ярости, мог сгоряча назначить солдату или слуге жестокое наказание, а дворянина унизительно обругать – в царствование Александра была целая скандальная история с протестными самоубийствами оскорбленных польских офицеров. При светлейшей княгине Лович (титул морганатической супруги) подобные эксцессы прекратились.
Правитель был в прежние времена еще и ребячлив, не знал меры в проказах. Например, держал во дворце множество бульдогов, которые были очень похожи на своего хозяина, и мог для потехи запустить их вдоль по анфиладам. В 1820-е годы подобных безобразий уже не случалось. Придворные умиленно говорили: «Льва укротила голубка».
Однако умилению перед династией Романовых пришел конец, когда стало ясно, что новый царь ненавидит польские свободы и отвергает идею об укрупнении Царства за счет Западного Края, пусть даже под скипетром русской монархии. В 1829 году, принимая королевскую корону с трехлетним опозданием, новый государь дал недвусмысленно понять, что объединения Польши не будет. Всем стало ясно, что существующие права Царства Польского кажутся императору возмутительными и соблюдаться не будут.
С этого момента общественное настроение меняется. Верх берут радикалы, сторонники независимости.
Тайные общества возникли в польской армии примерно в то же время, что в российской, и поддерживали отношения с декабристами. Офицеры-участники были выявлены и арестованы, но польский суд всех их оправдал – это привело Николая в негодование.
Напряжение между поляками и русскими властями все время увеличивалось. Для восстания не хватало искры. Ею стала европейская революционная волна 1830 года, в особенности слух о том, что царь собирается отправить польское войско на подавление бельгийского восстания.
В таких случаях всегда находятся решительные люди, готовые взять инициативу на себя. Нашлись они и в Варшаве. В тамошнем офицерском училище, Школе подхорунжих, существовал тайный кружок, возглавляемый одним из преподавателей – поручиком Петром Высоцким.
Ночью 17 ноября 1830 года одна часть заговорщиков напала на дворец великого князя, другая – на казарму его любимцев гвардейских улан. Оба предприятия провалились. Константин Павлович успел спастись, уланы отбились, но это уже не имело значения. Варшава ждала лишь сигнала и теперь поднялась вся.
Восстание с самого начала было кровавым – накопилось много ярости. Сановников, известных своей пророссийской приверженностью, толпа убивала. Растерянный и напуганный Константин собрал было верные войска, но вступать в сражение со всем городом не решился и уступил Варшаву мятежникам, а затем и вовсе отступил за пределы царства, потому что поднялась вся Польша. Сторонники независимости повсеместно захватывали власть, почти не встречая сопротивления. Русские гарнизоны спешно уходили.
Временное правительство Польши сначала возглавили умеренные – соратник Александра Первого князь Адам Чарторыйский и, в качестве военного вождя, бывший наполеоновский генерал Иосиф Хлопицкий, очень популярный в народе. Было объявлено, что правят они «от имени короля Николая». Независимости эти деятели не желали – лишь гарантии свобод и присоединения к царству исторических областей. В Петербург к Николаю отправилось почтительное посольство, двое благонамеренных аристократов: князь Любецкий и граф Езерский.
Но царь не собирался вступать с мятежниками ни в какие переговоры. Он уже выпустил манифест, в котором требовал от поляков полной покорности. Приехавших вельмож Николай принял, но не в качестве послов, а как частных лиц – и повторил то же самое требование.
В Варшаве тем временем усиливались сторонники выхода из империи. Война становилась неизбежной. В январе сейм провозгласил разрыв с династией Романовых. Спешным ходом шла мобилизация национальной армии. Слишком осторожного Хлопицкого на посту главнокомандующего сменил другой наполеоновский генерал, князь Михаил Радзивилл.
В это время со стороны Белоруссии в восставшую Польшу уже входила 70-тысячная правительственная армия. Ее вел фельдмаршал Дибич.
13 февраля при Грохове (вблизи Варшавы) состоялось упорное и кровопролитное сражение, после которого каждая сторона объявила себя победительницей. По-разному оценивают итоги битвы и историки, однако судя по тому, что Дибич остановился и мятежной столицы не взял, успехом русского оружия эту баталию назвать нельзя.
Поверивший в победную реляцию царь ругал фельдмаршала за нерешительность; точно так же корили своего командующего поляки – за то, что он не преследовал якобы разбитых русских. В результате Радзивилл был вынужден уйти, его место занял Ян Скржинецкий. Как и предшественники, этот военачальник когда-то сражался за Францию и прославился тем, что в одном из последних сражений той войны спас от гибели самого Наполеона.
Скржинецкий действовал активнее Радзивилла, добившись успеха в нескольких боях. Восстание выплеснулось за пределы Царства Польского – в Литву и Западную Украину. Отступить пришлось даже корпусу российской гвардии, которую привел из Петербурга великий князь Михаил Павлович.
14 мая в битве при Остроленке, в северо-восточной Польше, Дибич нанес польской армии большие потери, но опять действовал вяло и упустил плоды победы. Скржинецкий беспрепятственно увел остатки войска.
Но две недели спустя граф Дибич умер – в войсках свирепствовала холера. Вскоре от той же болезни скончался и наместник Константин Павлович, после бегства из Варшавы впавший в пассивность и апатию.
Николай поручил командование незаменимому Паскевичу, и тот повел наступление на польскую столицу. Там не было единства. За власть боролись разные группировки, сменялись вожди. Разочарованный Чарторыйский уехал, не дожидаясь развязки.
Она пришла, когда к Варшаве приблизилась почти 90-тысячная армия Паскевича. Город был взят в конце августа после кровавого штурма, но бойни на улицах, как при Суворове, не произошло. Русские позволили польской армии и депутатам сейма покинуть город, а потом вошли сами. Это было мудрое решение, потому что после падения Варшавы организованное сопротивление скоро прекратилось по всей Польше. Повстанцы тысячами уходили за границу, но многие и остались, уповая на амнистию.
Наказание действительно оказалось менее суровым, чем можно было ожидать от Николая. Большинство участников, в том числе сдавшиеся в плен предводители, отделались ссылкой. Царю нужно было не ожесточить поляков, а превратить их в лояльных подданных.
Этой цели была подчинена вся дальнейшая польская политика самодержавия. Поражения первого периода революции императора сильно напугали, и он понимал, что доводить поляков до крайности не следует.
Ненавистную конституцию государь упразднил, но ввел вместо нее декоративный «Органический статут», где сохранялись некоторые внешние признаки особенного положения этой провинции. Именно провинции, поскольку отныне Царство Польское объявлялось владением империи – не лично императора. Ни сейма, ни армии у поляков больше не было.
Постепенное наступление на рудименты автономии и национальной самобытности продолжались и в последующие годы.
Польшу разделили на губернии, ввели рубль, русскоязычное образование. Варшавский и Виленские университеты были закрыты как рассадники национализма. В 1846 году на Польшу распространилось действие российского суда и уголовного кодекса.
Но власть действовала и «пряником». Считая главным носителем антирусских настроений шляхетство, царское правительство пыталось склонить на свою сторону крестьян – им предоставлялись льготы и послабления, которых не имели крепостные в России. Католическому духовенству было назначено жалованье от казны – отличный способ контроля, в свое время опробованный на русских священниках. Пастырь превращался в чиновника, полностью зависящего от государства.
Выступая перед варшавской депутацией, Николай со всей недвусмысленностью изложил суть своей «программы»: «Вам предстоит, господа, выбор между двумя путями: или упорствовать в мечтах о независимой Польше, или жить спокойно и верноподданными под моим правлением. Если вы будете упрямо лелеять мечту отдельной национальности, независимой Польши и все эти химеры, вы только накличете на себя большие несчастия. По повелению моему воздвигнута здесь цитадель, и я вам объявляю, что при малейшем возмущении я прикажу разгромить ваш город; я разрушу Варшаву, и, уж конечно, не я отстрою ее снова».
В напоминание об уже случившихся «несчастьях» правителем Польши был поставлен грозный фельдмаршал Паскевич, ныне «светлейший князь Варшавский», и повсюду размещены сильные русские гарнизоны. Предосторожности эти были не напрасны – придет время, и Польша восстанет снова.
Для поляков Российская империя была настоящей «тюрьмой», из которой они все время рвались на свободу. Но еще более тяжелым было положение украинцев и белоруссов, за которыми система вообще не признавала права на национальную идентичность. Как православные, они считались русскими и не выделялись в особые этнические группы. В имперских переписях они отдельно не упоминались, поэтому их численность в ту эпоху может быть определена только приблизительно. Украинского и белорусского языков на уровне образования и официально признанной культуры (не говоря уж о документах) просто не существовало.
Но в Западном Крае и Польше имелся еще один большой разряд российских подданных, которые упрямо держались за свою особость: веру, традиции, язык – и тем навлекали на себя постоянные гонения.
Еврейский вопрос. Избирательная русификация
При Николае I «еврейской проблеме» серьезного значения еще не придавали. Евреи не брались за оружие, как поляки или кавказцы, не требовали независимости, не замышляли революций (это произойдет позднее). Но «еврейский вопрос» уже существовал.
Идеальное государство представлялось Николаю чем-то вроде армейской колонны, где все маршируют в ногу, одинаково выглядят и делают повороты только по приказу начальства, и евреи тут были решительно всем нехороши. Они держались своей предосудительной религии и своих странных обычаев; жили обособленно и слушались собственных старейшин, а не царских чиновников; наконец, после поляков это была самая многочисленная «инородческая» народность империи.
На государственном уровне «еврейский вопрос» выглядел так: как превратить два миллиона неудобных своей инакостью людей в «нормальных» подданных? Ответ представлялся очевидным: уменьшить инакость.
Правительство все время экспериментировало, примериваясь к этой задаче, которую никому со времен древних египтян и вавилонян решить не удавалось. Поскольку система не умела действовать через поощрение и стимулирование, в основном полагались на меры принудительные. Некоторые из них изобретал сам государь.
Свято веря в целительность армейской дисциплины, Николай начал с приобщения иудеев к военной службе, от которой они прежде были освобождены. Но в рекруты брали не юношей, а 12-летних детей, зачисляя их в кантонистские батальоны – подобие военных интернатов. По мысли императора, это должно было вовремя вырвать мальчиков из еврейской среды, привить им любовь к русской жизни и военным порядкам, а также побудить к переходу в христианство.
Нечего и говорить, что это драконовское нововведение принесло только зло. Появились особые преступники «хаперы», которые похищали детей и потом продавали их зажиточным семьям, на которые выпадал рекрутский жребий. Маленькие кантонисты, насильно разлученные с семьями, болели от жестокого обращения, от непривычной пищи и во множестве умирали. Смертность была столь высока, что с мобилизационной точки зрения результат получался ничтожным. В 1839 году во всей русской армии насчитывалось всего четыре с половиной тысячи еврейских солдат, выживших после кантонистских батальонов. И почти 70 % из них, несмотря на все принуждения, остались иудеями.
Кантонисты. Иллюстрация из книги «Историческое описание одежды и вооружения российских войск»
Был учрежден специальный «Комитет для определения мер коренного преобразования евреев». Он усердно работал и кое-что преобразовал, но «коренными» эти перемены назвать было трудно.
Считалось, что иудейский мир так сплочен, потому что каждая община повинуется органу самоуправления – кагалу. «Положение о евреях» 1844 года кагалы упразднило, но этот запрет мало что дал. Вместо формальных лидеров появились неформальные: вероучители-цадики, точно так же следившие за соблюдением еврейских законов и традиций.
Другим рассадником еврейского духа почитались неконтролируемые государством школы. В 1842 году все они были подчинены министерству просвещения. Задача, поставленная перед педагогами этих религиозных, то есть талмудистских учебных заведений, звучала парадоксально: «искоренение суеверия и вредных предрассудков, внушаемых учением Талмуда».
Чиновникам, назначенным ведать «еврейским вопросом», приходили в голову все новые и новые идеи. Возник проект переселения иудеев в Сибирь, где они волей-неволей должны были бы «коренно преобразиться», приобщившись к крестьянскому труду. Потом передумали – вдруг не преобразятся, а пустынный край станет еврейским? Вместо этого стали создавать еврейские сельскохозяйственные колонии в Херсонской губернии, но дело не сложилось. Не имея навыков крестьянского труда, поселенцы быстро разорялись. Власти пытались побудить их к рачительности единственным способом, которым хорошо владели. Была составлена строгая инструкция: каждому хозяину давать задания («уроки»), за неисполнение которых на первый раз он получит 30 розог, на второй – 60, а затем его посадят в тюрьму или забреют в солдаты. Экономического эффекта идея не принесла. Успешных еврейских хозяйств на Херсонщине появилось очень мало, и их роль в «решении еврейского вопроса» была ничтожна.
Другим чиновничьим озарением была борьба с национальной одеждой. По примеру петровской войны с бородами, ввели налог на ее ношение: за верхнее платье, в зависимости от достатка, от пяти до пятидесяти рублей в год; за «ермолку» (кипу) – от трех до пяти. Упрямые евреи сетовали, но платили, и в 1850 году им окончательно запретили одеваться по-своему. В 1852 году указом были объявлены вне закона и «пейсики».
Но у евреев имелся многовековой опыт пассивного сопротивления, и все принудительные способы ассимиляции не работали. Большая (и быстро растущая) часть иудейского населения империи продолжала жить собственной замкнутой жизнью, очень мало интересуясь тем, что происходит за ее пределами. Это вызывало у властей нарастающее раздражение и приводило к эскалации строгостей.
Когда в либеральные послениколаевские времена ассимиляционные процессы все-таки начнутся – не насильно, а добровольно – и евреи активно включатся в российскую жизнь, самодержавие этому не обрадуется. Тогда-то «еврейский вопрос» и обретет настоящую остроту.
Национальная политика Николая на первый взгляд выглядит довольно причудливо, но в ней имелась своя логика.
Тем меньшинствам, кто не доставлял правительству хлопот и кем был доволен государь, дозволялось жить более или менее по-своему. Подобной территорией была Финляндия, самый привилегированный регион империи. Александр предоставил великому княжеству множество льгот и свобод, которыми финны – в отличие от «неблагодарных» поляков совершенно довольствовались. Дворянство усердно служило царю, парламент созывался очень редко и обсуждал только всякие безобидные вопросы. Единственное новшество, введенное в этой образцово исправной области, заключалось в том, что Николай учредил должность специального статс-секретаря по финляндским делам, причем сей чиновник не назначался сверху, а избирался самими финляндцами, что было знаком августейшего доверия.
Не слишком давила власть и на те мусульманские народы, кто вел себя смирно. Времена, когда башкиры бунтовали, остались в прошлом. Татарами его величество, в общем, тоже был доволен. Но вот за волжскими народами христианской веры – марийцами, мордовцами, чувашами – право на особость не признавалось. Империя желала превратить их в русских и проводила жесткую русификацию. В местностях, где население придерживалось древних верований, к культурному принуждению добавлялось религиозное. «Язычества» власть не терпела.
В Прибалтике правительство старалось лавировать. Здесь сосуществовали две группы населения: коренное (эстонцы с латышами) и остзейские немцы. Первым государство никакой национальной самобытности не дозволяло, но и в их повседневную жизнь, в общем, не вмешивалось. По большей части это были крестьяне, и считалось, что заниматься ими должны помещики. Дворянство же было почти исключительно немецким. С ним правительство держалось со всей возможной деликатностью, ведь остзейцы были одной из главных кадровых опор империи. Знаменитый министр Уваров, о котором мы еще поговорим, писал: «Немцев на лету схватить нельзя; против них надобно вести, так сказать, осаду: они сдадутся, но не вдруг». Курс был верный. Через два-три поколения балтийские немцы действительно «сдадутся» и к началу ХХ века почти полностью обрусеют.
Национальная напряженность, существовавшая в империи, ослабляла ее в канун тяжелейшего испытания – Крымской войны. В двух непокорных регионах, на Северном Кавказе и в польско-литовских землях, приходилось держать большое количество войск, которых будет очень не хватать на фронте.
Николаевская система управления
Личность и взгляды самодержца придали государственной жизни империи склад и стиль, получивший название «николаевской системы». Она оформилась в конце двадцатых и тридцатых годов как реакция сначала на декабристское восстание, а затем на европейский революционный взрыв и польские события – и потом если менялась, то лишь в сторону ужесточения, как это произошло после новых потрясений 1848 года.
Николай не был глуп или слеп. Например, он отлично сознавал вред крепостничества, но понимал и то, что его отмена произведет коренную ломку существующих общественных отношений, – и страшился этого. Император рассуждал так: если уж Россия – оплот и гарант европейского порядка, она обязана демонстрировать собой незыблемость и монолитность. Ветхость и разболтанность системы царь компенсировал тем, что всё туже закручивал гайки. Главным лозунгом времени было нерассуждающее повиновение.
Уже цитировавшийся мемуарист Эвальд, лично наблюдавший государя, пишет: «Ни к чему так строго и беспощадно не относился император Николай Павлович, как ко всякому проявлению неповиновения или вообще протеста против какой бы то ни было власти. Человек добрый, любящий, внимательный к нуждам каждого, очень часто трогательно нежный… он становился суровым и беспощадным при малейшем проявлении того, что в те времена называлось либеральным духом. Суровую военную дисциплину с ее безмолвным повиновением и безропотным подчинением младшего старшему он неукоснительно проводил и во весь строй гражданской жизни и в этой строгой и общей субординации видел главнейший залог благосостояния и могущества империи».
Тотальная военизация – вот ключ к пониманию николаевской системы. Речь не об армии, а обо всём устройстве государства. В гражданских ведомствах устанавливается строгое единоначалие. Приказы не обсуждаются, а исполняются. Все высшие должности в государстве, даже самые «мирные», занимают только генералы. (Единственным исключением являлся министр иностранных дел граф Нессельроде – он был из полковников.) «Николаевское царствование рисуется нам обыкновенно как время преобладания военного элемента, – пишет М. Полиевктов. – И действительно, гражданское управление принимает в это царствование своеобразный военный оттенок. Целые отрасли управления и отдельные ведомства получают военное устройство, образуя, в таком случае, особые корпуса: Корпус лесничих, Главное управление путей сообщения и Корпус инженеров путей сообщения и т. п. Во главе отдельных отраслей гражданского управления очень часто стоят представители военного ведомства: министр государственных имуществ генерал-адъютант граф Киселев, министр финансов бывший генерал-интендант граф Канкрин, министр внутренних дел генерал-адъютант Бибиков и даже обер-прокурор Святейшего Синода полковник и впоследствии генерал-адъютант граф Протасов, не говоря о других».
В военизированной иерархии есть только одна фигура, принимающая решения и отдающая приказы, – командующий. Поэтому еще одна ключевая особенность николаевской системы – личное управление. Мы увидим, как этот классический «ордынский» принцип мешал нормальному функционированию государственной машины. Система была плохо систематизирована, в ней преобладал не любимый Николаем порядок, а волюнтаризм, от него же самого исходивший. Если Российская империя и была армией, то очень странной – командующий руководил ею помимо штаба и часто вмешивался в действия мелких подразделений поверх голов непосредственных начальников.
Российский социальный порядок. Оноре Домье
На первых порах, после дезорганизованности александровского режима, противоречиво сочетавшего в себе либеральность с реакционностью, государственный механизм, став более логичным, заработал слаженней. Но затем сказались органические пороки николаевского управления – даже не «вертикального», а скорее «ручного».
Это царствование хронологически делят на две части: период успехов и период неудач. Первый, ознаменовавшийся военными и дипломатическими победами, продолжался около пятнадцати лет, примерно до 1840 года. Затем система стала давать сбои. Число толковых деятелей редело (или они утрачивали прежнюю толковость); верховный правитель всё чаще ошибался – и никто не смел ему об этом сказать; законы работали плохо, потому что в их действие постоянно вмешивалась исполнительная власть; государственная машина активно функционировала только на тех участках, которыми интересовался лично государь, – и останавливалась, когда его внимание переключалось на что-то другое.
Николаевская система исключала всякое участие общества в управлении, уповая только на бюрократические механизмы. Но времена были уже не петровские, да и Николай был не Петр Великий, поэтому при всей кипучей административной деятельности за тридцать лет в государственном устройстве изменилось немногое.
Государственное управление
Взойдя на престол, молодой царь (которого, как уже говорилось, ранее не привлекали к важным делам) обнаружил, что управление находится в беспорядке. У Николая возникла идея о необходимости кардинальных преобразований. Для их подготовки был создан особый секретный орган, получивший название по дате своего учреждения: «Комитет 6 декабря 1826 г.». Это очень напоминало создание Негласного Комитета в начале царствования Александра, да и ведущие члены нового стратегического штаба были людьми александровского времени: В. Кочубей (председатель), М. Сперанский, А. Голицын, но двое первых постарели и потускнели, а последний талантами никогда и не блистал. Из николаевских выдвиженцев самым деятельным был Дмитрий Блудов, понравившийся государю своим усердием во время следствия над декабристами и теперь назначенный секретарем Комитета. Этому гибкому сановнику, умевшему приспосабливаться к чаяниям власти, была уготована долгая жизнь на верху бюрократической лестницы.
Николай поставил перед этой командой задачу найти ответ на следующие вопросы: «Что ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить?» Но общий консервативный тон был таков, чтоб оставить всё и ничего не менять, поэтому, прозаседав шесть лет, Комитет никакой реформы не выработал.
Центральное управление в то время осуществлялось тремя высшими инстанциями: Государственным Советом, Комитетом министров и Сенатом.
В существовании Сената царь особенного смысла не видел и сохранял его, кажется, лишь из консерватизма. Фактически Сенат превратился в подобие верховного суда с весьма ограниченными полномочиями. Постепенно утрачивал свое былое значение и Государственный Совет. Поскольку все решения Николай принимал сам, ему было вполне достаточно исполнительного органа – Комитета министров.
Но и этот институт для государя был недостаточно удобным. Всё большее значение приобретает учреждение, прежде властными полномочиями не наделенное – Собственная его императорского величества канцелярия. Ранее она занималась лишь теми делами, в которых лично участвовал монарх, а поскольку теперь тот участвовал во всём и всегда, Канцелярия стала дубликатом министерской системы и скоро поднялась выше ее. (Этот орган напоминает ЦК советской эпохи или президентскую администрацию тех времен, когда российские правители стали называться «президентами».)
Из-за возросшего значения Канцелярии пришлось разделить ее на департаменты-отделения. Вся прежняя деятельность, непосредственно связанная с особой императора, сосредоточилась в Первом отделении, всего же их станет шесть. Второе отделение ведало законами; Третье – государственной безопасностью и наблюдением за обществом; Четвертое – тем, что мы сегодня назвали бы «соцобеспечением»; Пятое появилось, когда графу Киселеву поручили привести в порядок государственное имущество; Шестое понадобилось для управления Кавказом, когда борьба с горцами зашла в тупик и была возведена в ранг важнейшей задачи.
Значение у отделений было очень разное. Третье, политическая полиция, все время увеличивало свое влияние и стремилось стать государством в государстве. Ведомство Киселева впоследствии преобразовалось в мощное министерство (государственных имуществ).
В отличие от настоящих реформ внутренние бюрократические рокировки при Николае происходили часто. По воле государя – и в зависимости от сиюминутной необходимости – то и дело учреждались новые структуры, которые потом разветвлялись и могли существовать параллельно с министерствами, иногда имея больше власти, поскольку находились ближе к царю.
Николай любил по всякому поводу создавать секретный комитет, и тот подчинялся не министру, а непосредственно государю. Временный орган разрабатывал некий проект, который потом осуществлялся, если был одобрен царем – бывало, что даже без обсуждения на Государственном Совете или вопреки мнению его членов.
Николай и его окружение. Гюстав Доре
Эта система тройного управления – через министерства, императорскую Канцелярию и временные комитеты, подотчетные только монарху, – вносила ужасную неразбериху в бюрократический механизм, и без того запутанный. Порядка наверху не было. Стремление к максимальной централизации и «вертикальности» власти сводилось к шаткому принципу «высочайшего усмотрения».
Но не было порядка и внизу, на периферии. Одним из ответов Секретного комитета 6 декабря на высочайший вопрос «чего оставить нельзя и чем заменить» было указание на скверную организацию провинциального управления. Это хроническая болезнь Российского государства, объясняемая несколькими очевидными причинами. Во-первых, конечно, огромными дистанциями при чрезвычайной медленности сообщений. Во-вторых – общей неэффективностью авторитарной власти: чем дальше от столицы, тем хуже решались проблемы, ибо инициатива снизу не поощрялась и любое действие требовалось согласовывать с высшими инстанциями. Наконец, на низовом уровне, вдали от присмотра, не контролируемая обществом местная администрация часто работала на собственный карман.
С первым обстоятельством поделать было нечего, на второе покушаться никто и не думал, поэтому все усилия правительство направило на третий дефект, считая, что его возможно исправить.
Действовали традиционными «ордынскими» методами – других в арсенале не имелось.
Прежде в областях существовала двойная субординация: губернаторы подчинялись министру внутренних дел, а губернские правления – Сенату, что, с одной стороны, иногда создавало административную путаницу, но с другой – все же обеспечивало хоть какую-то коллегиальность власти. По указу 1837 года правления должны были во всем повиноваться только начальнику губернии и превращались из совещательного органа в исполнительный. Одновременно ослаблялись полномочия дворянских учреждений, в свое время привлеченных Екатериной для провинциального «соуправления». Николаевское государство предприняло новую попытку вернуться из самодержавно-дворянского формата власти в прежний, унитарный. Вследствие этого очень разрослись штаты чиновничества и местной полиции. При Александре Первом на гражданской службе состояло примерно 30 тысяч человек; в 1847 году (тут есть уже точная статистика) – 61 548 человек; десятилетие спустя – 90 139 человек.
Для контроля над местной администрацией были учреждены местные жандармские отделения, доносившие в Петербург о ходе дел и любых неисправностях. (О том, как функционировала имперская тайная полиция – в следующей главе.)
Огромная чиновничья армия управляющих, отчитывающихся, надзирающих порождала огромный бумагопоток, который создавал видимость кипучей деятельности, но на самом деле парализовал делопроизводство и позволял маскировать почти любые злоупотребления.
В. Ключевский приводит красочную историю о том, как провинциальные чиновники долго разбирались в деле некоего откупщика. Оно всё разбухало и разбухало, так что одно лишь его «краткое изложение» составило 15 тысяч страниц, а всего их было сотни и сотни тысяч. Наконец в Петербурге устали от бесконечной переписки и затребовали к себе всю документацию. Для транспортировки огромного количества папок понадобились десятки подвод. Обоз отправился в путь и по дороге бесследно сгинул, вместе с телегами, возчиками и бумагами – ибо на всякое административное давление сыщется коррупционное решение.
Этот достойный гоголевского пера эпизод можно считать символом всего николаевского бюрократического управления.
Законы
Всякая новая российская власть непременно ставила перед собой задачу урегулировать законодательство. Оно вечно хромало, потому что в изначально неправовом государстве хорошо работающие законы не являются обязательным условием функционирования государства – любую проблему собственной волей решает исполнительная власть.
Без законов страна существовать, конечно, не могла, но они вечно устаревали или вступали в противоречие между собой, к тому же жизнь порождала новые ситуации, требовавшие регламентации. Реформаторские правительства пытались ввести принципиально новые законы. Консервативные правительства главным образом наводили порядок в старых. Таково было и законотворчество Николаевской эпохи.
Главное его свершение – кодификация права, завершившаяся выпуском Свода законов.
Эта геракловская задача была поручена Михаилу Сперанскому, в котором прежний царь когда-то разочаровался. Новый государь, напротив, высоко ценил этого администратора за работоспособность и талант к систематизированию.
Свод законов Сперанского
У Сперанского произошел новый взлет карьеры, своего рода «вторая молодость». Но как же она отличалась от первой!
От былых реформаторских амбиций Михаила Михайловича давно уже ничего не осталось. Упав с самых высот иерархии, он должен был заново карабкаться по чиновничьей лестнице. Побывал в скромной должности пензенского губернатора, потом поуправлял Сибирью, попрозябал в Комиссии составления законов, которая при Александре считалась ведомством маловажным.
В 1826 году Сперанский послушно отзаседал в суде над декабристами, тем самым продемонстрировав полную лояльность и разрыв с былыми мечтаниями, а затем под эгидой новообразованного Второго отделения императорской канцелярии взялся разгребать авгиевы конюшни российской законности. Он возглавил юридический департамент Государственного Совета, был удостоен графского титула и пожалован высшей наградой империи – орденом Андрея Первозванного, причем царь снял ленту с себя и воздел на Сперанского.
Задачу, стоявшую перед составителями Свода, со всей ясностью сформулировал сам Николай в программной речи. «Первый предмет, к коему Государь Император по важности оного устремил все свое внимание, было правосудие, составляющее, так сказать, первую надобность всякого государства, – пересказывает высочайшее наставление Сперанский. – Его величество с самой молодости своей слышал о недостатках у нас в оном, о ябеде, о лихоимстве, о неимении полных законов или о смешении оных, от чрезвычайного множества указов, нередко один другому противоречащих… Нетрудно было открыть, что сие главнейше происходило от того, что всегда обращались к составлению новых законов, а не к соглашению на твердых началах старых. Посему Государь Император признать за благо изволил… не созидать новых законов, но привести в порядок старые».
Несколько лет ушло на то, чтобы собрать все существующие законодательные акты «по порядку времени». Таких документов разной важности и формата набралось более 30 тысяч. Приступили к их изданию, отсеивая отмененные и утратившие силу. Разрядов было три: первый касался государственного права («порядок, коим верховная власть образуется и действует»), второй – гражданского и имущественного права, третий – уголовного и «благочинного» (полицейского).
В 1832 году 15-томный свод существующих законов был напечатан. Следующим этапом стала переработка всей системы законов о преступлениях и наказаниях, находившейся в самом запутанном состоянии. Целью этой работы должно было стать составление всеобъемлющего Уголовного уложения. Царь опять-таки повелел не выдумывать ничего нового, а устранить противоречия и всякие неясности, а также провести корректировку с учетом имеющихся судебных прецедентов.
Но и с этой, в общем, редакторской работой огромный аппарат до конца царствования не справился. В 1845 году появилось «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», но весь кодекс целиком вышел уже после смерти императора.
В первую очередь, конечно, появились уголовные законы, направленные на искоренение наихудших недугов общества.
Самым болезненным из них была всепроникающая коррупция.
Неизлечимая болезнь
Система, построенная на всемогуществе исполнительной власти, ничем не защищена от коррупции. У начальников и чиновников неминуемо возникает соблазн воспользоваться своим положением в личных целях, и чем «вертикальнее вертикаль», тем больше для этого возможностей.
Царь Николай был невысокого мнения о человеческой природе и, кажется, не разделял маниловской идеи разочаровавшегося либерала Карамзина о том, что России для благополучия довольно полусотни толковых и честных губернаторов. Рассказывают, что однажды Третье отделение, проведя тайное расследование, доложило императору: в стране есть два губернатора, не берущих мзды, и Николай удивился, что так много. Но, подумав, нашел этому объяснение: «Что не берет взяток Фундуклей [киевский губернатор] – это понятно, потому что он очень богат, ну а если не берет их Радищев [пензенский губернатор, сын того самого Радищева], значит, он чересчур уж честен».
Коррупция раздражала Николая не сама по себе (он хорошо понимал ее неизбежность), а своей неконтролируемостью, отсутствием чувства меры. Это был непорядок, непорядок же государь ненавидел.
В эту эпоху в России борьба с казенным воровством возводится в ранг государственной политики. Официально признавалось, что проблема существует и что власть «примет меры». Неслучайно Николаю, совершенно нетерпимому к какой-либо общественной критике властных учреждений, так понравилась комедия «Ревизор». Автор очень верно уловил «правильное» отношение к коррупции: она жалка, смешна, периферийна и может быть парализована единым лишь появлением государева посланца.
Методы, которыми царь предполагал победить коррупцию или, вернее, сдерживать ее, были троякими: повысить жалованье чиновникам, чтобы те не воровали от нищеты; установить систему контроля за работой казенных учреждений; ну и, конечно же, строго карать провинившихся.
Ни одно из сих административных поползновений не сработало, потому что довести их до конца не хватило средств и решимости.
Мысль о том, что, имея довольное для достойной жизни обеспечение, чиновник перестанет красть, сама по себе не стопроцентно верна. Природно честные люди действительно от воровства откажутся (что и произойдет позднее, при Александре II), но всегда сыщется много корыстолюбцев, которым сколько ни плати, всё будет мало. К тому же у николаевского государства средств хватило на относительно щедрое вознаграждение лишь старшего и среднего чиновничества. Не имея возможности повысить жалованье целым ведомствам и классам, царь выдавал отдельным начальникам, обычно генеральского звания, своеобразные премии сверх оклада – так называемые «аренды», то есть доход от государственных земель.
Сцена из гоголевской комедии «Ревизор». А. Каменский
На мелкое чиновничество денег недоставало, и оно по-прежнему жило очень скудно. Кто-то, чтобы свести концы с концами, находил приработки на стороне, а служащие хоть на сколько-то «доходном месте» не могли удержаться от соблазна дополнить маленькое жалованье иным образом.
Советский исследователь николаевского государственного аппарата П. Зайончковский приводит данные любопытнейшего исследования, проведенного в середине 1850-х годов столичной газетой «Экономический указатель». Там собраны данные по доходам и расходам четырех реальных чиновников с замененными именами: Альчиков, Пальчиков, Мальчиков и Перчиков. Видно, что трое первых, коллежские асессоры, кое-как еще могут жить «по-господски», а у титулярного советника «Перчикова» такой возможности уже нет.
Получая 260 рублей в год, он живет «за перегородкой», платье приобретает на толкучке, книг не покупает, даже вина почти не пьет (7 рублей 70 копеек за весь год), но при этом проживает на 58 рублей больше, чем зарабатывает жалованьем, и должен возмещать дефицит перепиской бумаг у купца. А ведь этот Акакий Акакиевич холост и тратится только на себя.
Немного дали и усилия по контролю за деятельностью государственного аппарата, хотя никогда еще, даже в петровские «фискальные» времена высшая власть не старалась так бдительно следить за лихоимцами. Проверки проводились регулярно, на всех уровнях и всеми вышестоящими ведомствами. Ревизоры, чиновники особых поручений, прокуроры усердно исполняли свою работу. Появилась и новая мощная надзирающая инстанция – инфраструктура политической полиции, которая, как уже говорилось, пронизывала всю империю и занималась отнюдь не только поиском крамолы, но и вообще всякими государственными преступлениями.
Наверх непрерывным потоком шли донесения о нелепостях, ошибках, нерадивости, неисполнении указов, казнокрадстве и тысяче других нарушений. «Вскрывались ужасающие подробности; обнаруживалось, например, что в Петербурге, в центре, ни одна касса никогда не проверялась, – пишет В. Ключевский, – все денежные отчеты составлялись заведомо фальшиво; несколько чиновников с сотнями тысяч пропали без вести. В судебных местах… два миллиона дел, по которым в тюрьмах сидело 127 тысяч человек. Сенатские указы оставлялись без последствий подчиненными учреждениями».
Государь гневался, требовал немедленно всё исправить и всех виновных наказать. Но всё исправить было невозможно, да и с наказанием возникали трудности.
Уголовное уложение 1845 года предприняло несколько комичную попытку установить для коррупционеров нечто вроде шкалы простительных и непростительных злоупотреблений.
Получение подарков и всякого рода «борзых щенков» классифицировалось как мздоимство, которое, конечно, осуждалось, но строго не каралось. Виновный платил штраф и обычно оставался на своем месте.
Но если ради мзды чиновник злоупотреблял своими должностными обязанностями, это было уже лихоимство, и тут дело пахло арестом.
Еще строже котировалось вымогательство, за что могли лишить чинов с дворянством и посадить в тюрьму на срок до 6 лет.
Вымогательство с отягчающими обстоятельствами (например, в особо крупных размерах или с тяжелыми последствиями) при обвинительном приговоре заканчивалось каторгой.
Снисходительное отношение к «мздоимству» превращало низовую коррупцию в полуразрешенный промысел.
Контрольные органы привлекали к ответственности огромное количество низших чиновников, которых было легко поймать за руку. П. Зайончковский пишет, что за двадцать лет под следствием побывали в общей сложности более 90 тысяч человек, однако по большей части дела даже не доходили до приговора. Скажем, в 1853 году под судом состояло лишь две с половиной тысячи служащих.
Изворотливый ум всегда приспосабливается к ситуации лучше, чем контролирующие инстанции. Николаевский сенатор К. Фишер в своих записках сообщает, что казнокрады в эту эпоху отлично научились использовать формальную сторону закона для безнаказанного воровства: «Прежде наглость действовала посредством нарушения законов, теперь она стала чертить законы, способствующие воровству…» Далее автор пишет: «Государь, видя, что повеления его не исполняются, что он повсюду окружен обманом, лицемерием, декорациями, лишился того спокойствия духа и той важности действия, которые нужны и присущи монарху; он стал брать на себя роль полицейскую, которая часто оканчивалась публичным фиаско, потому что от него ускользали подробности и последствия». И следуют примеры того, как безуспешно самодержец сражался с наглыми лихоимцами.
Вот он бежит за двумя солдатами, которых впускают в кабак, хотя это строжайше запрещено, – и не догоняет пьянчужек, а винный откупщик Бенардаки, на которого обрушивается царский гнев, грозится отказаться от откупа. Случись такое, и возникнет 20-миллионная дыра в бюджете, поэтому министр финансов изображает ужас и подает в отставку. Царь отменяет свой указ.
Или, сев изучать собственность, которой владеют чиновники, и обнаружив разительное несоответствие жалованью, Николай грозно требует ответа. Подозреваемый нахально отвечает: «Имение приобретено женою на подарки, полученные ею в молодости от графа Бенкендорфа» (который славился любвеобильностью, но к этому времени уже умер, и поди проверь, а публичного скандала не избежать).
Подобных примеров, одновременно смешных и печальных, в записках современников множество. Приведу один, далеко не самый крупный, подробнее, ибо тут бессилие системы и ее творца перед коррупцией выступают особенно выпукло.
Эвальд пишет, что много путешествовавший царь любил быструю езду, не жалел коней и, бывало, загонял их до смерти. За павших лошадей поставщики получали установленную компенсацию. Однажды Николай, заглянув в документы, увидел, что, следуя из Варшавы в Петербург (тысяча верст), он заморил аж 144 лошади. Царь очень удивился. «В следующий раз он дал себе труд самому сосчитать загнанных лошадей. За весь путь он насчитал таких десяток или около того, а в счетах придворной конторы показано было потом почти до двух сотен. На его вопрос о причине такой разницы в цифрах действительной и бумажной опытные люди спокойно ответили, что не все лошади падают непременно при самой остановке, а дышат еще несколько времени, но все-таки околевают через несколько часов. Так как поверять такие показания не было никакой возможности, потому что в падении лошадей были заинтересованы все прикосновенные к этим делам лица и все, разумеется, поддерживали друг друга, то поневоле пришлось помириться с этим явлением и платить за полные сотни будто бы павших лошадей».
Из истории известно, что одолеть коррупцию можно двумя способами: или жесточайшим террором, или полноценным общественным контролем. Первое в России XIX века было невозможно, второй же способ Николаю Павловичу казался страшнее любой коррупции.
Главная государственная забота
Поскольку империя была военная, львиная доля государственных ресурсов тратилась на содержание вооруженных сил. Можно сказать, что в эту эпоху армия и была Россией.
Еще с петровских времен, когда военные расходы съедали до трех четвертей бюджета, сложился порядок вещей, при котором вся страна работала на армию и фактически являлась ее придатком, ее тыловым обеспечением. (Разница с другой сверхдержавой, Англией, заключалась в том, что у британцев было наоборот: главное оружие морской империи, ее флот, использовался для выгод промышленности, торговли и капитала.)
В России же монарх и все его министры были генералами, деньги добывались для того, чтобы в первую очередь потратить их на армию, и любое государственное решение прежде всего учитывало интересы и потребности колоссального военного организма.
Парад. 1846 г. А. Ладумер
Один из парадоксов николаевской империи заключался в том, что при общем курсе на отрицание всяческих новшеств, во времена быстрого технического прогресса не реформировать армию было невозможно – она неминуемо стала бы отставать, проигрывать в боеспособности потенциальным оппонентам. Столкнувшись с этой проблемой, Николай остался верен себе. Он ограничивался разнообразными реорганизациями и «косметическими ремонтами». Никаких коренных реформ не произошло.
Государь был убежден, что их и не нужно. У этой уверенности было два резона: воспоминание о недавнем триумфе над Наполеоном, когда русская армия оказалась первой в Европе, и победы в новых войнах – с персами, турками и поляками.
Но с 1814 года военное дело в Европе повсеместно перестраивалось и в кадровом, и в техническом, и в оперативно-тактическом отношении.
Профессиональная армия, состоящая из солдат, пожизненно приписанных к службе, уходила в прошлое. В мирное время (а Венская система принесла континенту длительный мир) отрывать от производительного труда много здоровых мужчин и тратить на них огромные деньги стало нерентабельно. Кроме того, профессиональная армия с трудом пополняется во время войны – слишком много времени требуется для подготовки новобранцев. Поэтому в Европе все больше стран переходили к другой системе, когда в мирное время армия поддерживалась в сжатом виде, но обладала большими мобилизационными резервами. Молодых мужчин стали призывать на относительно недолгий срок, давали им необходимые воинские навыки и затем возвращали к мирным занятиям. Учили солдат при этом не шагистике, а тому, что пригодится в бою.
Соответственно менялись и представления о военном искусстве. Прежняя линейная тактика, когда войска действовали сомкнутым строем, теперь считалась устаревшей. Вчерашние резервисты маневрировать колоннами-шеренгами и не смогли бы. Рассыпной строй, инициативность, меткая стрельба – вот чему теперь обучали солдат, скажем, французской армии, которая в тридцатые-сороковые годы проходила боевую школу в Алжире.
Кроме того, очень модернизировалось вооружение. На смену гладкоствольным ружьям с их плохой прицельностью и невеликой дальностью выстрела приходили винтовки. Сомкнутый строй устарел еще и потому, что был очень уязвим для винтовочного огня. Атакующая колонна издалека попадала в зону обстрела и несла слишком большие потери, прежде чем могла ударить в штыки.
А русская армия по-прежнему в основном уповала на рукопашный бой. По сравнению с тактикой Александровской эпохи произошел даже некоторый регресс.
В 1820-е годы соперничали две боевые школы: одна, как ее иногда называли, «ермоловская», делала главный упор на боевую подготовку солдат, другая, «аракчеевская», больше уповала на дисциплину и следовала классической прусской традиции. Победила вторая, апологетами которой были Дибич и военный министр Чернышев. Инициативный солдат, умеющий действовать в одиночку, николаевской армии был не нужен.
Попытки решить проблему удешевления армии в мирное время и быстрого пополнения в военное предпринимались, но в совершенно недостаточном объеме. В 1834 году срок солдатчины сократили с двадцати пяти лет до двадцати плюс пять лет «бессрочного отпуска» (то есть нахождения в резерве); в 1839 году действительную службу убавили еще на один год – до девятнадцати лет, в 1851 году – до пятнадцати.
Комплектовалась армия по старинке, рекрутскими наборами – ежегодно брали семь душ с каждой ревизской тысячи, около 45 тысяч человек. Это позволяло постоянно держать под ружьем самую большую в мире армию. Николай любил повторять: «У меня миллион штыков», и по документам действительно Россия имела 1 150 000 солдат. Но только на бумаге. В армии, как во всей стране (и даже еще хуже), процветали очковтирательство, приписки и казнокрадство. Всякий самостоятельный командный пост – полк, батарея, гарнизон – давал начальнику возможность почти бесконтрольно пополнять свой карман. Когда грянет настоящая большая война, окажется, что годных к бою войск катастрофически мало, а резервы взять неоткуда – разве что набрать необученных ополченцев.
Проекты заменить рекрутский набор призывом военнообязанных время от времени обсуждались, но при существовании крепостного права были нереализуемы.
Почти не развиваясь, русская армия все время находилась в движении – ее постоянно переобмундировывали, перефасовывали, перетасовывали. Николаевские новшества в основном сводились к тому, что менялась структура: число батальонов в полку, количество солдат в батальоне, штатное расписание и прочее. Штиблеты заменили на сапоги; вместо красивых киверов ввели еще более красивые каски; пехотинцам, а затем и военным инженерам дозволили носить усы и бакенбарды, ранее разрешенные только кавалеристам, – примерно такими были николаевские военные реформы.
Очень большие средства тратились на восстановление флота, который при Александре находился в запущенном состоянии. Чтобы противостоять главному сопернику, Британии, империи требовалось много боевых кораблей. Эта задача тоже решалась по-николаевски: с опорой главным образом на количественные параметры и без сомнительных новшеств.
В 1827 году учредили Морское министерство, а год спустя еще Морской штаб при Его Императорском Величестве. Поскольку штаб был «при его величестве», этот орган стоял выше. Им долгие годы руководил князь Александр Сергеевич Меншиков, любимец государя и полный его единомышленник по нелюбви к новизне.
Кораблей строили много – великолепных, многопушечных, с превосходным парусным вооружением, но флоты технологически передовых стран, прежде всего Англии и Франции, в это время массово переходили на паровую тягу. В России же к «уродливым» военным пароходам относились скептически. Самый затратный и быстро развивающийся из флотов империи, Черноморский, перед войной имел только шесть боевых пароходов – из общего числа в полторы сотни вымпелов. Этого было достаточно, чтобы сражаться с турецкой эскадрой, но не с англичанами и французами, которые в паровом судостроительстве уже переходили ко второму поколению кораблей – не колесному, а винтовому.
Русским придется затопить своих парусных красавцев у входа на Севастопольский рейд, чтоб туда не вошли коптящие небо вражеские суда. Ни на что лучшее николаевский флот не пригодится.
Николаевская стабильность
Опора престола
То, что тайная полиция при Николае Первом обрела особенное значение в системе власти, новым явлением для России, конечно, не являлось. Всякий раз, столкнувшись с внутренними потрясениями или ожидая их, «ордынское государство» пристраивало к четырем обязательным опорам еще и эту, чрезвычайную.
Иван IV, искореняя оппозицию, учредил корпус опричников. Петр I, побуждая страну к невероятному напряжению сил, создал сразу несколько параллельных надзирательно-репрессивных структур. В 1730-е годы, когда сакральность династии зашаталась и требовалось ее укрепить через страх, опиралась на Тайную канцелярию Анна.
Но Николай сделал тайную полицию ключевым элементом всей государственной конструкции. И в последующие времена, как бы ни менялся режим и как бы ни переименовывались спецслужбы, их сверхвлиятельность в России будет неизменной.
Побудительным толчком к возвышению тайной полиции было ощущение опасности, возникшее у царя после шока 14 декабря.
Я уже писал о записке Бенкендорфа, поданной через несколько недель после восстания. Речь в этом историческом меморандуме шла о необходимости государственной полиции и учреждении корпуса жандармов как гарантов безопасности существующего порядка. Николай Павлович инициативу одобрил, но внес характерную корректировку. Вместо министерства полиции он создал особое отделение при собственной канцелярии, и это придало новому институту самый высокий статус. По всем делам, хоть отдаленно касавшимся вопросов государственной безопасности (на практике и шире), губернаторы должны были докладывать не министру внутренних дел, а императорской канцелярии, то есть самому государю.
Корпус жандармов появился несколько позднее, в 1836 году. Оба поста – и главы Третьего отделения, и шефа жандармов – занял верный Бенкендорф, тем самым превратившись в самого могущественного чиновника империи. То же положение будут занимать и преемники графа.
В ведение Третьего отделения входили полицейские дела, финансовые злоупотребления, надзор за подозрительными лицами, слежение за раскольниками и сектантами, контроль над тюрьмами, бдение за подозрительными иностранцами, сбор статистических сведений, цензура и доклад государю обо всех мало-мальски примечательных происшествиях.
Функции Жандармского корпуса отчасти пересекались с этой деятельностью, но в большей степени сосредотачивались на присмотре за исполнительной властью и «закону противных поступках» всяких «злоумышленных людей».
Жандармы. А.В. Висковатов
Россия делилась на пять жандармских округов (к 1843 г. – на восемь); каждый округ подчинялся генералу. Округа состояли из территориальных отделений (две-три губернии), возглавляемых штаб-офицерами. На эти должности должны были назначаться лица благонадежные, отличавшиеся обхождением, имевшие связи в обществе, с помощью чего им было легче следить за настроением умов.
В дальнейшем двойная структура государственной полиции – одна сугубо политическая, другая контролирующая – почти всегда будет сохраняться (не в последнюю очередь для того, чтобы они присматривали друг за другом).
В николаевскую эпоху Россия превратилась в полицейское государство, то есть в страну, где власть контролирует все сферы жизни полицейскими методами, при помощи специальных органов, фактически имеющих особый внеправовой статус.
Одновременно с созданием и развитием новой полиции формировалась новая государственная идеология, за соблюдением которой эти органы должны были надзирать.
Новая идеология
Главный посул этой доктрины был заявлен еще в манифесте от 13 июля 1826 года (в связи с приговором по делу декабристов): «Все состояния да соединятся в доверии к Правительству. В государстве, где любовь к монархам и преданность к престолу основаны на природных свойствах народа; где есть отечественные законы и твердость в управлении, тщетны и безумны всегда будут все усилия злонамеренных… Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершенствуются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления». Монарх заверял подданных: «Мы не имеем, не можем иметь других желаний, как видеть Отечество Наше на самой высшей степени счастия и славы, провидением ему предопределенной». Счастие же – это когда «каждый может быть уверен в непоколебимости порядка, безопасность и собственность его хранящего, и, спокойный в настоящем, может прозирать с надеждою в будущее».
Неколебимость порядка и предсказуемость будущего, то есть гарантированная стабильность – так сформулировал Николай свое видение российской идиллии.
Программу, призванную осуществить этот идеал, разработал главный идеолог империи Сергей Семенович Уваров (1786–1855).
Это был человек высокоученый, в 25 лет – просвещенный попечитель Петербургского учебного округа и академик, в 32 года уже президент Академии наук. Знаток античности, любитель литературы, завсегдатай общества «Арзамас», он со временем делался всё большим консерватором и врагом всяческого вольномыслия.
Уваров отнюдь не являлся циничным карьеристом, подстраивающимся под воззрения верховной власти. Это был убежденный сторонник и даже поэт самодержавной идеи. Он считал, что Россия еще слишком «юна и девственна», чтобы вкусить свобод. «Надобно продлить ее юность и тем временем воспитать ее, – писал он. – Если мне удастся отодвинуть Россию на пятьдесят лет от того, что готовят ей теории, то я исполню свой долг и умру спокойно». Одним словом, то был классический «государственник», относящийся к народу как к дитяти, а себя считающий наставником, который «знает как лучше». Эта позиция кое-как работала в восемнадцатом веке, при просвещенном абсолютизме, но в девятнадцатом веке, в эпоху частного предпринимательства, ни к чему хорошему привести не могла.
Сергей Уваров. Вильгельм Голике
В 1832 году Уваров представил государю записку, где говорилось, что для благоденствия, развития и даже просто выживания России необходимо придерживаться «трех великих государственных начал»: национальной религии, самодержавия и народности. Позднее этот трехчлен стал называться «Самодержавие-Православие-Народность».
Тут задавалась альтернатива революционной триаде «Свобода-Равенство-Братство». По Уварову, для России подобная формула подходила больше.
Всё выглядело очень логично.
Самодержавие – исторически сложившаяся форма российской государственности, выстраданная многими жертвами и трудным опытом. Для счастья народу-ребенку нужны не абстрактные свободы, к которым он не готов, а отеческая забота государя, спокойные условия для развития.
Православная вера – щит от разномыслия и шатаний, высокий нравственный закон, дающий нации ощущение духовного единства.
Но с этими двумя компонентами и без Уварова было всё ясно. Объяснений требовал новый термин «народность», вводившийся впервые.
Речь шла о прямой связи государя с «простыми людьми», минуя посредничество образованной (а стало быть, зараженной европейской бациллой) прослойки. Здесь Уваров, с одной стороны, очень верно уловил коренное недоверие Николая ко всякого рода умникам, а с другой – предложил использовать веру народной массы в «доброго царя-батюшку», который лучше «бояр», чиновников и прочих угнетателей. Поэтому Николай взял себе в привычку общаться с народом в фальшиво-простецком, популистском тоне, и окружение всячески поддерживало правителя в сознании, что именно так и следует.
В записках Бенкендорфа можно прочесть описание эпизода, который должен был символизировать правильные отношения между самодержцем и народом. Событие это произошло в Петербурге во время холерной эпидемии 1831 года, когда из-за неумных действий власти люди взбунтовались и убили несколько чиновников.
Приведу умилительный фрагмент целиком.
«Государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: «На колени!» Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле. Тогда, обратясь к церкви Спаса, он сказал: «Я пришел просить милосердия Божия за ваши грехи; молитесь Ему о прощении; вы Его жестоко оскорбили. Русские ли вы? Вы подражаете французам и полякам; вы забыли ваш долг покорности мне; я сумею привести вас к порядку и наказать виновных. За ваше поведение в ответе перед Богом – я. Отворить церковь: молитесь в ней за упокой душ, невинно убитых вами».
Эти мощные слова, произнесенные так громко и внятно, что их можно было расслышать с одного конца площади до другого, произвели волшебное действие. Вся эта сплошная масса, за миг перед тем столь буйная, вдруг умолкла, опустила глаза перед грозным повелителем и в слезах стала креститься. Государь, также перекрестившись, прибавил: «Приказываю вам сейчас разойтись, идти по домам и слушаться всего, что я велел делать для собственного вашего блага». Толпа благоговейно поклонилась своему царю и поспешила повиноваться его воле».
Так ли гладко всё прошло на самом деле, неизвестно. Граф вел свои записи в расчете, что их когда-нибудь прочтет государь. Государь прочел. Ему всё понравилось. «Очень верное и живое изображение моего царствования», – молвил его величество.
Однако идеология – не более чем руководство к действию. Государство тратило большие средства и усилия на практическое осуществление этой программы, целью которой было установление единомыслия, контроль над умами и душами подданных.
Цензура
Контроль над умами был поручен прежде всего органам цензуры. Она становится важнейшим государственным делом.
Еще до завершения суда над декабристами, 10 июня 1826 года, выходит новый цензурный устав невиданной доселе строгости. В 165 и 166 параграфах этого длиннейшего документа, например, говорилось: «Всё, что в каком бы то ни было отношении обнаруживает в сочинителе, переводчике или художнике нарушителя обязанностей верноподданного к священной Особе Государя Императора и достодолжнаго уважения к Августейшему Его Дому, подлежит немедленному преследованию; а сочинитель, переводчик или художник задержанию и поступлению с ним по законам. Запрещается всякое произведение словесности, не только возмутительное против Правительства и поставленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение».
Был учрежден комитет из трех министров (внутренних и иностранных дел, а также народного просвещения), который осуществлял общее руководство над «направлением общественного мнения согласно с настоящими политическими обстоятельствами и видами правительства» – и это помимо Главного цензурного комитета, имевшего повсюду региональные отделения.
В последующие годы устав еще несколько раз обновлялся – все время в сторону дальнейшего ужесточения. С 1828 года авторы, вызвавшие неудовольствие цензуры, стали попадать под негласный надзор полиции. В 1830 году, под воздействием европейских революционных событий, власть постановила умножить «где только можно число умственных плотин» на пути вредоносных заграничных веяний. Теперь цензура стала следить не только за публикациями политического, социального или философского толка, но и за литературными вкусами, ибо «разврат нравов» и нарушение «пределов благопристойности» тоже опасны. Потом запретили создавать новые периодические издания, а некоторые существующие закрыли. Например, в 1834 году прекратилась деятельность популярного журнала «Московский телеграф» за то, что он, по словам Уварова, «не любит России».
Периодическая печать была подозрительна прежде всего своей массовостью и сравнительной дешевизной, а чтение среди малоимущих слоев общества не поощрялось. Поэтому начинается наступление на недорогие книжные издания и публичные библиотеки.
Цензурная система всё разрасталась и разрасталась, множилось количество ведомств, призванных следить за содержанием появляющихся публикаций. К концу царствования правом досмотра книг и статей были наделены несколько десятков учреждений, всякое в своей области – вплоть до Комиссии по строительству Исаакиевского собора и Управления конозаводства.
Цензура стремилась контролировать любые проявления живого чувства, даже идеологически похвальные. В 1847 году вышел запрет на «возбуждение в читающей публике необузданных порывов патриотизма», ибо всякая необузданность может быть опасна и «неблагоразумна по последствиям». Пример подобного рвения подавал сам император, собственноручно вычеркнувший из благонамереннейшего стихотворения Тютчева «Пророчество» упоминание о том, что константинопольский собор Софии снова станет христианским, а русский царь – всеславянским. Ибо не дело поэтов рассуждать о политике.
После 1848 года началась уже совершенная цензурная вакханалия, доходившая до абсурда. Вышел, например, запрет упоминать в печати о запретах в печати. В феврале появился комитет по ревизии цензуры, который в апреле переформатировался в «Комитет для высшего надзора в нравственном и политическом отношении за духом и направлением всех произведений российского книгопечатания». В руководство вошли высшие сановники империи, а председатель генерал Бутурлин прославился тем, что вознамерился удалить из акафиста Покрову Богоматери строки «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных», внезапно приобретшие революционное звучание. Вскоре комитет отправит в ссылку М. Салтыкова-Щедрина и И. Тургенева и совершит множество иных подобных подвигов. Одним из первых мер нового послениколаевского правительства станет упразднение этого одиозного учреждения.
Образование
Но цензура всего лишь охраняла общество от плевелов, а надо ведь было и взращивать полезные злаки. Правительство имело очень ясное представление о том, в чем состоит правильное воспитание и правильное образование подрастающих поколений. В манифесте 13 июля 1826 года, довольно коротком, новый государь счел необходимым объявить: «Да обратят родители всё их внимание на нравственное воспитание детей. Не просвещению, но праздности ума, более вредной, нежели праздность телесных сил, – недостатку твердых познаний должно приписать сие своевольство мыслей, источник буйных страстей, сию пагубную роскошь полупознаний, сей порыв в мечтательные крайности, коих начало есть порча нравов, а конец – погибель».
Всей системой просвещения стал ведать граф Уваров, автор похвальной идеологической концепции, и оставался на этом ответственном посту целых 16 лет. «Каким искусством надо обладать, чтобы взять от просвещения лишь то, что необходимо для существования великого государства, и решительно откинуть все, что несет в себе семена беспорядка и потрясений?» – писал он государю. И давал ответ: «Приноровить общее всемирное просвещение к нашему народному быту, к нашему народному духу», то есть втиснуть всё просвещение в треугольник самодержавия-православия-народности.
Государство, во-первых, установило строгий надзор над преподаванием и преподавателями в казенных учебных заведениях – сделать это было легко. Но меры простирались шире. Нельзя было оставить без присмотра и частное образование. Оно тоже теперь регулировалось свыше. Во избежание проникновения иностранной заразы содержать частные пансионы дозволялось только российским подданным. С 1833 года негосударственные школы вообще разрешалось открывать только там, где «не представляется возможности к образованию юношества в казенных учебных заведениях».
Иностранцев ныне допускали к преподаванию по особому разрешению. Даже в домашние учителя теперь можно было брать лишь тех, кто имел на то соответствующее «одобрительное свидетельство».
Но одного надзора за преподаванием показалось недостаточно. Уваровская реформа образования строилась на принципе сословности: чем ниже сословие, тем меньше ему полагалось знать. Смысл ограничения разъяснялся в высочайшем рескрипте: «Чтобы каждый вместе с здравыми, для всех общими понятиями о вере, законах и нравственности приобретал познания, наиболее для него нужные, могущие служить к улучшению его участи и, не быв ниже своего состояния, также не стремился через меру возвыситься над тем, в коем по обыкновенному течению было ему суждено оставаться».
На практике это означало, что крепостные могли учиться только в начальных школах, в средние учебные заведения (гимназии) и тем более в университеты имели право поступать лишь представители свободных сословий, но и там существовал своего рода имущественный ценз: такое образование стоило очень дорого (в университетах плата доходила до 50 рублей серебром в год).
Программа гимназий была пересмотрена в сторону архаичности – так называемого «классического образования», делавшего упор на изучение древних языков, требовавшее прежде всего зубрежки.
Под ударом оказалось женское образование. Им стало ведать Четвертое отделение императорской канцелярии. Целью провозглашалось воспитание «добрых жен, попечительных матерей, примерных наставниц для детей, хозяек» – и только. В женских учебных заведениях теперь делали упор на практические занятия, рукоделие и прочее. Эта установка входила в противоречие со всем духом русской культуры, которая еще со времен Екатерины ориентировала девиц благородного звания на высокие помыслы и утонченные чувства. Погасить эту энергетику, подхваченную и многократно усиленную литературой, к тому времени уже великой, казенными усилиями было невозможно. Запретный плод всегда сладок, и на смену поколению «пушкинских Татьян» шло поколение «тургеневских барышень».
Больше всего тревог у правительства, конечно, вызывал главный источник знаний – университеты. Им был дан новый устав, призванный «сблизить наши университеты, бывшие доселе только бледными оттенками иностранных, с коренными и спасительными началами русского управления». Спасительность заключалась в том, что повсеместно вводился военизированный стиль управления, университетами заведовали специальные чиновники-попечители, студентов обязали носить мундиры и шпаги, соблюдать почти армейскую дисциплину, при нарушении которой виновных отдавали в солдаты.
Высочайше утвержденный образец формы студента Московского университета
Государственная паранойя, наступившая в 1848 году, болезненней всего ударила по университетам. Возник даже проект полного их закрытия. Тут уже не выдержал даже отец всей этой системы граф Уваров – он подал в отставку. Университеты закрыты не были, однако там начались вовсе чудеса. Про нового министра П. Ширинского-Шихматова говорили, что он поставил просвещению шах и мат. По мысли князя, университетское преподавание следовало основывать «не на умствованиях, а на религиозных истинах в связи с богословием».
В 1849 году прекратили читать лекции по государственному праву, в 1850-м и по философии, ибо содержание этой науки неопределенно, а последствия изучения непредсказуемы. Одновременно последовал запрет на приглашение иностранных ученых и научно-учебные поездки за границу.
К концу царствования Россия вообще оказалась почти за «железным занавесом», поскольку получить паспорт стало очень трудно по процедуре и неподъемно дорого даже для людей среднего достатка. С 1851 года выездной документ подорожал впятеро – до 250 рублей.
Империя как могла баррикадировалась от зловредных иноземных влияний.
Главная религия
Став частью сакраментальной триады, православная вера была вознесена (или опущена?) до ранга религиозной политики. Сама церковь при этом никаких дополнительных полномочий не приобрела – наоборот, заняла еще более подчиненное положение. Обер-прокурором Святейшего Синода был назначен лейб-гусар Протасов, дослужившийся на этом мирном посту до чина генерал-адъютанта. По сути дела, Синод превратился в министерство, действовавшее исключительно административными, а иногда и полицейскими методами.
Государственную религию возвышали главным образом за счет принижения всех других вероисповеданий. Как уже говорилось, тяжело приходилось католикам – из-за «польского вопроса» и евреям – из-за их упрямой обособленности.
Но больше всего императора, нетерпимого ко всякому неповиновению, раздражали не инородцы, а коренные славяне, подрывавшие «ненарушимость прародительской православной веры» – униаты, старообрядцы, сектанты.
С униатами правительство поступило просто, по-военному. В 1837–1838 гг. обер-прокурор Протасов с генеральской решительностью приказал собрать петиции от униатских священников о воссоединении с русской церковью. Организатором «кампании» был униатский архиерей Иосиф Семашко, давний сторонник возвращения греко-католической церкви в лоно русского православия. В следующем году в Полоцке собрали представителей, которые без лишних церемоний отреклись от унии 1596 года с Римом и обратились к Синоду и государю с прошением о принятии в лоно официальной церкви. Синод в просьбе не отказал, император одобрил, и 1600 приходов Литвы и Белоруссии вмиг стали православными. На бумаге сугубо административный акт выглядел торжеством православия. В николаевском бюрократическом царстве этого было вполне достаточно.
Много труднее пришлось с раскольниками, значительная часть которых отказывалась иметь какие бы то ни было отношения с «антихристовой церковью». По тогдашнему обыкновению для решения проблемы царь создал секретный комитет, центральный орган которого включал в себя министра внутренних дел, а в местные отделения непременно входил представитель Жандармского корпуса. Из этого уже явствовало, что методы вразумления и просветления будут не проникновенными.
На протяжении царствования раскольники подвергались всё более суровым гонениям. Сначала им воспретили открывать новые молельни и ремонтировать старые. Потом запрет распространился на старообрядческие больницы и дома призрения. С 1838 года дети беспоповцев, не признававших церковного брака, стали считаться незаконнорожденными, а их матери – «женщинами распутного поведения». Это означало, что мальчиков забирали в кантонисты, а девочек в приюты и там крестили по православному обряду. К подобному психологическому давлению прибавлялось полицейское: старообрядцев арестовывали за неповиновение, осуждали на ссылку и каторгу. В последние годы правления Николая таких приговоров выносилось в среднем более пятисот ежегодно.
Другой жертвой государственной борьбы за монополию православия в среде славянского населения стали члены религиозных сект. Это движение, вызванное разочарованностью в официальной церкви и в земной жизни, не сулившей человеку из низов ничего хорошего, получило широкое распространение. С точки зрения Николая, «отпавшие от православия» были духовными бунтовщиками и подлежали искоренению. В 1841 году вышел высочайший указ, в котором царь торжественно обещал защитить «ненарушимость прародительской православной веры». Во исполнение этого намерения всех «схизматиков» поделили на три категории: «вреднейших», «вредных» и «менее вредных». К последним были причислены «поповцы», то есть раскольники, имевшие священников, а стало быть, признававшие хоть какую-то власть. «Беспоповцы» считались просто «вредными», если они молились за царя и признавали церковный брак. К «вреднейшим» отнесли радикальных «беспоповцев» и сектантов, отвергавших государство: духоборцев, молокан, хлыстов, скопцов, «жидовствующих», иконоборцев и прочих.
Первые две категории надлежало ограничивать и сокращать, с представителями третьей обходиться как с преступниками. Тайных сектантов вылавливали, явных (например, живших общинами духоборцев или молокан) ссылали подальше от православных местностей, чтоб не сеяли соблазн, или же забривали в солдаты.
Подобными мерами подавить «религиозную» оппозицию можно было только на бумаге. Раскольники давно привыкли к преследованиям, ужесточение лишь вызывало подъем фанатизма. Вновь появились случаи массового протестного самоубийства, как в старинные времена.
Старообрядческий лубок, осуждающий распущенность
Самое кровавое произошло в 1827 году в Саратовской губернии в деревне «нетовцев» (одно из направлений в беспоповстве). Крестьяне договорились умереть, «чтобы уготоваться царства небесного». Историк раскола А. Пругавин пишет: «И вот, в назначенный день, начинается резня. Крестьянин-нетовец, Александр Петров, является в избу своего соседа и единоверца, Игнатия Никитина, и убивает его жену и детей; затем с топором в руках он отправляется в овин, где его ждали лица, обрекшие себя на смерть: крестьяне Яков и Моисей Ивановы с детьми. Они ложатся на плаху, а Александр Петров рубит им головы топором. Покончивши с ними, Петров идет к крестьянке Настасье Васильевой: здесь на помощь ему является Игнатий Никитин, семью которого только что пред тем умертвил Петров. В то время, как Никитин убивал в овине Васильеву и ее товарок, Авдотью Ильину и Матрену Федорову, Александр Петров перерезал детей Васильевой. Свершив тройное убийство, Никитин бросил топор, лег на плаху и просил Петрова отрубить ему голову. Петров не замедлил исполнить эту просьбу. Затем он отправился к снохе своей, Варваре Федоровой, и начал убеждать ее подвергнуться смерти, причем сообщил ей, что дети ее уже убиты им в овине. Варвара бросилась в овин, чтобы взглянуть на трупы своих детей; следом за ней отправился и Петров. Здесь, среди человеческих трупов, плавающих в крови, стояла толпа нетовцев, ожидая «смертного часа»… Всего погибло, таким образом, тридцать пять человек».
В Поморье целым скитом сожглись «филипповцы», 38 человек, когда к ним явилась комиссия по борьбе с расколом.
В Пермской губернии крепостной проповедник Петр Холкин убедил односельчан уйти от гонений в лес и «запоститься» до смерти. Ушли с семьями. Когда голод стал невыносим, всех женщин и детей зарубили топорами, чтобы не мучились. Но мужчины умереть не успели – их нашли и отправили на каторгу.
Об эксцессах борьбы за чистоту веры подцензурная пресса не писала, и с внешней стороны Россия выглядела монолитом, прочно стоящим на треножнике сильной власти, сильной веры и народной покорности.
Цена стабильности
Как обычно бывает при репрессивных полицейских режимах, жестоко подавляющих малейшее возмущение, в эти примороженные годы не было политических заговоров и подпольных организаций. На поверхности русское общество выглядело апатичным, нисколько не затронутым революционными настроениями. Немногие нарушители идиллии из привилегированного сословия сразу попадали под надзор Третьего отделения и затем изолировались. С простонародьем власть разговаривала исключительно языком палки – отсюда и обидное прозвище Николая.
Император был человеком глубоко верующим, любил порассуждать о христианском милосердии и заявлял себя противником смертной казни. Даже повешение пяти декабристов выглядело «высокомонаршим милосердием» – ведь суд приговорил «осужденных вне разрядов» к четвертованию. После 1826 года смертная казнь в России формально не применялась, преступников приговаривали к порке. Осужденного по несколько раз прогоняли через две шеренги солдат, которые исполняли палаческие обязанности. Каждый должен был ударить несчастного шпицрутеном, длинным ивовым прутом, непременно до крови. Тысяча шпицрутенов считалась легким приговором. Для летального исхода вполне хватало шести тысяч, а могли назначить и двенадцать. По сути дела, с человека живьем сдирали кожу.
Сквозь строй. И. Сакуров
Не какой-нибудь Герцен, а сам начальник штаба Жандармского корпуса Дубельт в своем дневнике сетует: «Шпицрутены через 6 тысяч человек есть та же смертная казнь, но горшая, ибо преступник на виселице или расстрелянный умирает в ту же минуту, без великих страданий, тогда как под ударами шпицрутенов он также лишается жизни, но медленно, иногда через несколько дней и в муках невыразимых. Где же тут человеколюбие? Я сам был свидетелем наказания убийцы покойного князя Гагарина, его били в течение двух часов, куски мяса его летели на воздух от ударов, и потом, превращенный в кусок отвратительного мяса, без наималейшего куска кожи, он жил еще четыре дня и едва на пятый скончался в величайших страданиях».
Количество людей, умерщвленных или искалеченных этой «христолюбивой» экзекуцией, никто не подсчитывал, потому что жертвы, как правило, принадлежали к низшим сословиям и при тотальной цензуре подобные сведения до широкой публики не доходили.
Несмотря на всемерное «закручивание гаек», две широкие волны народных мятежей по стране все же прокатились – оба раза из-за чрезмерного административного рвения местных властей, спешивших отчитаться перед начальством.
В 1830–1831 годах на Россию обрушилась эпидемия холеры, погубившая не менее 100 тысяч человек (в числе умерших были великий князь Константин Павлович и фельдмаршал Дибич). Несчастье усугубилось мерами, которые принимались властями для локализации заболевания. И без того возбужденных, напуганных обывателей насильно блокировали в карантинах, волокли здоровых в больницы, без объяснений подвергали непонятным медицинским процедурам.
Российские власти совершенно не умели общаться с населением, никак не могли освоить эту науку и, кажется, не считали это необходимым – во всяком случае не учились на ошибках. Всего несколькими месяцами ранее драконовские меры, принятые севастопольским губернатором при одном только слухе о чуме в Турции, вызвали всегородской бунт, в ходе которого и сам губернатор, и еще несколько начальников были убиты. По этому случаю государь даже восстановил смертную казнь, поскольку город был военный: зачинщиков расстреляли. Но при распространении холеры администрация повсюду вела себя точно так же – и с теми же последствиями. Поскольку проблемная территория была много шире, чем в Севастополе, шире разлились и беспорядки. В Петербурге царю пришлось самому разговаривать с буйной толпой (вспомним рассказ Бенкендорфа). В других местах приходилось и стрелять. Хуже всего вышло в Старой Руссе, где были сосредоточены военные поселения. Тамошние жители умели обращаться с оружием. Их восстание длилось целых десять дней и было кровавым. Сначала толпа убивала командиров, чиновников и лекарей. Потом прибыли каратели, и началась расправа. Три тысячи человек были сосланы, две с половины тысячи прогнаны сквозь строй – причем сто пятьдесят от наказания умерли.
Но эпидемия – случай чрезвычайный. А в 1840 году в разных регионах около полумиллиона человек восстали по поводу совершенно нелепому. Государственные, то есть лично свободные крестьяне вдруг получили распоряжение сеять на общественных землях картофель. Идея диверсифицировать сельскохозяйственное производство принадлежала графу Киселеву и сама по себе была совершенно здравой – при неурожае зерновых новая пищевая культура спасла бы население от голода. Но вместо терпеливых разъяснений и поощрений власть, как обычно, действовала грубым принуждением. Поднялись целые губернии. Ярость крестьян прежде всего обрушилась на низовых исполнителей (которые действительно были больше всех виноваты). Государство наказало крестьян с максимальной жестокостью. Гремели выстрелы, свистели шпицрутены. Людей забивали до смерти, но волнения не стихали, и в конце концов принудительную посадку картофеля в 1843 году пришлось отменить.
Одним словом, пресловутая стабильность была одной видимостью. Маркиз де Кюстин дал николаевской России очень точное определение: «У русских есть лишь названия всего, но ничего нет в действительности. Россия – страна фасадов». И далее у него же: «В народе – гнетущее чувство беспокойства, в армии – невероятное зверство, в администрации – террор, распространяющийся даже на тех, кто терроризирует других, в церкви – низкопоклонство и шовинизм, среди знати – лицемерие и ханжество, среди низших классов – невежество и крайняя нужда».
Даже заезжий иностранец, не знавший языка и проведший в стране всего два с половиной месяца, разглядел то, чего не видел всемогущий правитель, глубоко уверенный в том, что его держава – храм спокойствия средь европейских бурь и что за такую благодать не жалко никакой платы.
Экономика
Конкурируя с другой империей, Британией, в политическом отношении и первенствуя в континентальной Европе за счет пресловутого «миллиона штыков», в смысле экономическом Россия великой державой не являлась. Более того: за время правления Николая I ее позиции здесь все время ухудшались.
Отставание усугублялось по двум причинам – внешней и внутренней.
Во-первых, как раз в этот период на Западе стремительно развивались промышленность и торговля. Повсеместно происходила индустриализация, переход к преобладанию промышленности над сельским хозяйством. Быстро повышались технологичность и производительность труда, рос частный денежный капитал, население перемещалось из деревень в города, активизировалась торговля, убыстрялись и удешевлялись коммуникации.
В Англии промышленная революция, собственно, уже и заканчивалась. К 1830-м годам эта страна превратилась в огромный завод, где было сосредоточено всё тогдашнее машиностроение, 80 % добычи угля и половина производства металла. Экономика развивалась со средним темпом 3,5 % в год (в прежние века рост бывал заметен лишь в масштабе десятилетий). В 1851 году, когда в России торжественно открылось паровозное сообщение между столицами, на небольшом острове работало уже 10 000 километров железных дорог.
После окончательного изгнания архаичных Бурбонов стала быстро расти и экономика Франции, еще одного российского врага в будущей войне. Темпы были пониже английских, в среднем 2,5 % в год, но и это для середины девятнадцатого века считалось очень высоким показателем. При Луи-Филиппе и в особенности при Луи-Наполеоне Франция превратилась в государство буржуазии. Здесь двигателем роста в первую очередь являлись банки и рынок акций. Частный капитал отлично приспосабливался к конъюнктуре. Например, будучи не в состоянии конкурировать с Англией в главных тогдашних отраслях, металлургической и ткацкой, французы поначалу сосредоточились на производстве всякой «штучной» продукции, требующей высокого мастерства. Затем английское правительство совершило ошибку: запретило экспорт машин, чтобы ослабить конкурентов, – и Франция стала успешно развивать собственное машиностроение, а это привело к строительству новых предприятий. За тридцать лет выплавка железа увеличилась втрое, добыча угля – на 350 %, хлопчатобумажная промышленность – вчетверо.
В экономике капиталистические механизмы работали много лучше, чем самодержавные.
Полувоенная промышленность
Всякая армия зависит от своего тылового обеспечения. То же относится и к военной империи. Величие, держащееся на одних штыках, в девятнадцатом веке прочным быть не могло. Времена, когда Чингисхан смог завоевать пол-мира, потому что монгольские лошади умели выкапывать копытами сухую траву из-под снега, канули в прошлое.
Российская экономика николаевского времени страдала целым комплексом тяжелых проблем.
Самой злокачественной была проблема структурная: главным инвестором и заказчиком в промышленности являлось государство. Развивались только те отрасли, которые оно стимулировало. Поэтому сплошь и рядом производство получалось не прибыльным, а затратным и ложилось бременем на государственный бюджет. Из-за такого положения дел в индустрии, во-первых, перекашивались все пропорции: развивались прежде всего предприятия, обслуживающие армию и флот. Во-вторых, страдала производительность. Протекционистские меры не столько защищали отечественную промышленность, сколько оберегали ее косность. Наконец, значительная часть поступающих из казны средств бестолково расходовалась или попросту разворовывалась. Поэтому к середине века Россия, например, утратила первенство в железнорудной области и скатилась на восьмое место, хотя государство всегда вкладывалось в эту отрасль всей своей мощью. Страдало, конечно, и качество продукции – даже военной. Армейские склады были переполнены устаревшим оружием, с верфей сходили корабли, срок службы которых в среднем составлял только 12 лет, и так далее.
Другой проблемой была узость рынка рабочей силы. Почти всё трудоспособное население жило в деревнях, и значительная его часть, будучи крепостными, не могла свободно мигрировать.
Третья большая проблема состояла в дефиците частных денег. У российского промышленно-торгового сообщества, очень ограниченного в правах и возможностях, не имелось достаточно средств, чтобы по-настоящему развернуться.
В эпоху, когда Европа индустриализировалась, Россия оставалась страной аграрной. Но и сельское хозяйство велось по старинке. В земледелии сохранялось средневековое трехполье (яровые – озимые – пар), урожаи увеличивались лишь за счет распашки новых земель, производительность оставалась очень низкой. При том что 90 % населения выращивало злаки, экспорт зерна был невелик (чуть больше 1 млн тонн в год). Четыре пятых хлеба съедалось, и его вечно не хватало.
Промышленное производство тем не менее увеличивалось, но в значительной степени за счет мелких крестьянских приработков: барщина становилась все более невыгодной, и многие помещики переводили крестьян на оброк. Современный исследователь Л. Муравьева пишет, что в промышленности вклад кустарных промыслов составлял 400 миллионов из 550 миллионов рублей – это 72,7 %!
Некоторым предприимчивым крестьянам удавалось разбогатеть, и они начинали строить уже настоящие фабрики, но это было скорее исключением из правил. Частный бизнес сможет себя по-настоящему проявить лишь в постниколаевскую эпоху, когда индустриальная революция с опозданием придет и в Россию.
В 1851 году во всей империи работало только 19 заводов, производивших машины и станки. Даже паровые двигатели, повсеместно распространенные в Европе, пока были редкостью.
Из «мирных» технологичных отраслей лучше всего развивались самые выгодные: сахарная, писчебумажная и в особенности текстильная. Относительная близость среднеазиатского сырья, огромный спрос, быстрый возврат инвестиций, использование вольного труда и, главное, невмешательство государства вывели хлопчатобумажную промышленность в лидеры – ее объем вырос в 30 раз.
Но это, пожалуй, единственное, чем могла похвастаться отечественная индустрия в середине столетия.
Коммуникации
В девятнадцатом веке первоочередное значение приобретают пути сообщения, по которым можно было бы быстро и недорого перемещать товары. Еще в предыдущем столетии началась прокладка шоссейных дорог, в западноевропейских странах потратили огромные средства на создание водоканальной системы. В новом столетии появились железнодорожные дороги на паровой тяге. Их было долго, дорого и трудно строить, зато потом перевозка грузов и пассажиров многократно убыстрялась и удешевлялась. Произошла настоящая транспортная революция.
Новая затея человечества, как всегда, оказалась выгодной для капиталистической экономики и разорительной для государственнической. В Европе из-за потребности в рельсах и топливе резко пошло вверх производство стали и угля, стали возникать акционерные компании, обогащаться банки. Железнодорожное строительство подтолкнуло к развитию все отрасли тяжелой промышленности.
Точно так же развивалось новое паровое кораблестроение. В морской торговле с ее колоссальными расстояниями скорость доставки имела особенное значение. Не зависящие от силы и направления ветров пароходы делали земной шар более компактным, а заморские товары менее дорогими.
В Россию западные транспортные новинки приходили по одному и тому же сценарию. Сначала их игнорировали, потом начинали понемногу экспортировать, наконец приступали к собственному производству – и оно всегда оказывалось ужасно затратным, медленным, отстающим.
К железным дорогам, которые на Западе появились еще в 1800-е годы (сначала на конной тяге), в Петербурге долго относились как к европейской блажи. Для российских условий самым рентабельным считался водный транспорт. На протяжении восемнадцатого века государство с огромными расходами рыло каналы, строило шлюзы. В николаевские времена правительство по инерции еще продолжало гидротехническое строительство. Волгу, Балтику и Белое море соединили водными системами. Но затем, оглядываясь на Европу, решили последовать ее примеру – и не только из экономических соображений.
Для обширной военной империи большой проблемой была переброска войск. В первые же годы николаевского царствования их пришлось посылать то далеко на восток, против персов и турок, то далеко на запад, против поляков. Именно военная потребность, а вовсе не коммерческая, побудила правительство наконец взяться за железные дороги.
В 1842 году торжественно учредили Департамент железных дорог. Прокладывали их мучительно, с привлечением подневольного труда и неизбежными жертвами, с гигантскими дырами в бюджете, с казенным воровством. Коротенькую экспериментальную Царскосельскую дорогу, появившуюся в 1838 году, можно не учитывать – она всего лишь соединяла летнюю и зимнюю резиденции его величества, а первая по-настоящему важная магистраль, связавшая обе столицы, открылась только через четверть века после восшествия Николая на престол.
Строительство в общем-то невеликой 600-километровой трассы было самым грандиозным предприятием царствования. Вместе с изыскательскими работами процесс растянулся почти на десять лет. При проектной стоимости в 43 миллиона рублей из-за нераспорядительности и лихоимства дорога официально обошлась в полтора раза дороже, а сколько она стоила на самом деле, ведали лишь «Бог да Клейнмихель». В строительстве постоянно участвовали 50–60 тысяч человек – в основном крепостные крестьяне, которых пригоняли против воли, по договоренности с их владельцами. Оплата за рабский труд считалась оброком. Многие работники пытались бежать – их ловили и пороли. Из-за скверной организации смертность была высокой. «Жили в землянках, боролися с голодом, мерзли и мокли, болели цингой, – скорбно пишет Некрасов и вопрошает: – А по бокам-то всё косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?» Общее число жертв никто не подсчитывал, но, судя по сохранившимся фрагментарным данным, цифра была пятизначной.
Для сравнения эффективности «самодержавного менеджмента» с частнопредпринимательским вспомним, что скоро в США за шесть лет будет проложена Трансконтинентальная магистраль, которая была впятеро длиннее и строилась в несравненно более жестких условиях, вдали от населенных мест. Обошлась эта железная дорога ненамного дороже клейнмихелевского детища – в 60 миллионов долларов (курс тогда был примерно 1,3 рубля за доллар).
Николаевская железная дорога. Фотография середины XIX в.
К 1855 году в империи будет меньше тысячи километров железных дорог (во Франции – пять с половиной тысяч, в Германии – шесть тысяч). Это еще одна, не последняя по важности причина поражения в Крымской войне.
Гораздо активнее прокладывали дороги с твердым покрытием для гужевого транспорта – шоссе. Здесь не требовалось металла, вагонов и паровозов, хватало тачек и лопат, а мобилизация рабочей силы проблемой не являлась.
Шоссейные трассы соединили три главных города империи – Петербург, Москву и Варшаву. Самая длинная магистраль протянулась от Москвы до Иркутска. В общей сложности к концу царствования в России было уже 8,5 тысячи километров дорог, которые осенью и зимой не превращались в трясину. Но до осажденного Севастополя обозы и полки потащатся по колдобинам, медленным ходом. Подкрепления союзникам из далекого Лондона будут прибывать быстрее и с меньшими потерями.
Что же касается парового водного транспорта, то, хотя первый отечественный пароход спустили на воду еще в 1815 году, настоящее производство началось лишь с открытием Сормовского судостроительного завода (1849 год).
Торговля
Тот же принцип, что в промышленности, главенствовал и в российской коммерции. В основном она развивалась в тех областях, где на помощь приходило государство – допустим, ограничивало иностранную конкуренцию высокими таможенными тарифами. В целом же, поскольку империя обращала больше внимания на внешнюю торговлю, чем на внутреннюю, последняя находилась на уровне, мало соответствовавшем эпохе, когда в Европе повсюду стали главенствовать товарно-денежные интересы и отношения.
Объем экспортно-импортных операций, находившихся под контролем государства, все время возрастал. В целом за первую половину столетия экспорт увеличился вчетверо, а импорт (за счет потребности в машинах) даже впятеро, но правительство старалось соблюдать активный баланс и достигало этого административными, протекционистскими методами.
Вывозила страна почти исключительно сельскохозяйственную продукцию: лен, пеньку, сало, зерно. При этом хлеб шел за границу не потому что его было слишком много, а за счет внутреннего недопотребления – собственное население хронически голодало.
Главным партнером и по экспорту, и по импорту была Англия, первая торговая держава мира. Она покупала у России сырье, а продавала индустриальную продукцию. Никаких конкурентоспособных товаров российская промышленность не производила.
На внутреннем рынке за исключением импортных товаров и хорошо развивавшейся текстильной торговли тоже доминировала сельскохозяйственная продукция. Как и в прежние времена, самым массовым способом торговли оставался лоточно-коробейный, но начали проявляться и новые тенденции. Капитализм, хоть и ущербный, пробивался всюду, где не мешало государство.
Благодаря некоторому улучшению транспортной инфраструктуры, активнее заработали ярмарки. Их число увеличилось, и сами они стали крупнее. Самая большая, Нижегородская (бывшая Макарьевская) превратилась в огромное предприятие, где за шесть недель ежегодного торга оборачивались десятки миллионов рублей.
Еще быстрее развивалась магазинная торговля, поскольку этот удобный для контроля вид коммерции поощряло государство. Оно строило в столицах и больших городах гостиные дворы и торговые ряды.
Самые успешные купцы, накапливая капиталы, начали вкладывать лишние деньги в производство. Это явление, отчасти вызванное узостью рынка, расширяло его ассортимент и объем, а также способствовало общему росту промышленности. К концу Николаевской эпохи 90 % купцов первой гильдии были предпринимателями. Новое торгово-промышленное сословие также пополнялось за счет оборотистых помещиков, сумевших приспособиться к духу времени, и некоторых предприимчивых крестьян (их называли «крепостными капиталистами»).
Стали возникать первые акционерные товарищества, в торговых городах появлялись товарные биржи, проводились мануфактурные и сельскохозяйственные выставки.
Но это движение могло бы быть намного масштабнее и активнее, если бы не два серьезных негативных фактора.
Главной бедой была очень низкая покупательная способность населения. Нищие крестьяне совсем не имели лишних денег, часто жили только натуральным хозяйством и всё, что могли, не покупали, а изготавливали сами.
Нижегородская ярмарка. Гравюра из «London Illustrated News»
Другим тормозом было само государство. С одной стороны, оно мешало развитию частной инициативы своей подозрительностью ко всему новому, коррумпированностью бюрократии, слабостью судебной системы. С другой – не помогало там, где могло бы: плохо поддерживало внутреннюю торговлю кредитом. Частные банки находились под фактическим запретом, а монополист, Государственный Коммерческий банк, основные свои средства расходовал на помощь разоряющимся помещикам.
Российской торговле не хватало спроса, оборотных капиталов, свободы – в общем, более или менее всего.
Финансы
Финансовая система империи при Николае испытала на себе как сильные, так и слабые стороны самодержавной модели.
На первом этапе, примерно до 1840 года, меры по дисциплинированию бюджетной политики давали вполне ощутимые результаты. Расходы поддерживались в примерном соответствии с расходами, рубль «слушался» приказов. Относительное благополучие денежного хозяйства было особенно заметно по сравнению с беспорядком, установившимся в конце предыдущего царствования.
При Александре проблему бюджетного дефицита решали не мудрствуя: сколько не хватало денег, столько печатали ассигнаций. К 1825 году этих необеспеченных обязательств накопилось почти на 600 миллионов рублей. Из-за недоверия к «бумажным» деньгам в стране существовало два курса – для серебряного рубля и для ассигнационного. Эту разницу признавало и государство, приравнивая серебряный рубль к 3,5 бумажным (на практике платили и больше). Это подрывало престиж денежной единицы, вводило путаницу в расчеты, плодило всякого рода злоупотребления. Копился и внешний долг, превысивший 100 миллионов рублей (разумеется, серебряных – за границей бумажные были никому не нужны).
Санацией государственных финансов занялся министр Е. Канкрин, хоть и генерал-от-инфантерии, но грамотный экономист. В соответствии с духом эпохи и политическими взглядами императора он не изобретал ничего революционного, а действовал по «государственнической» логике.
Помимо подушного налога, увеличивать который до бесконечности при крестьянской нищете было невозможно, у бюджета существовал давний надежный источник дохода – «питейные деньги». Но и этот ресурс очень оскудел из-за государственной монополии на виноторговлю. Спиртное продавали казенные люди, думавшие не о прибыли, а о том, как бы побольше украсть.
Канкрин предложил «приватизировать» продажу вина – продавать лицензию коммерсантам, которые платили бы установленный сбор прямо государству. Ничего новаторского тут не было, такое практиковалось и прежде, но мера сработала. Лицензии продавались раз в четыре года, их стоимость все время повышалась. Доход казны за 30 лет увеличился в четыре раза. Конечно, это означало, что народ стал больше пить, но об этом тогда не думали.
Другой оздоровительной мерой графа Канкрина была отмена ассигнаций. Вместо них ввели кредитные билеты, которые при желании обменивались на серебро один к одному.
Это очень укрепило национальную валюту, упорядочило взаиморасчеты и на время обеспечило российским финансам стабильность.
Но рублевый ренессанс продлился недолго. Поддержание статуса сверхдержавы требовало все новых и новых затрат. Собственных средств на это у государства не хватало. Десять лет, до 1840 года, Канкрин продержался без внешних займов, но затем пришлось их возобновить. К концу николаевского царствования долг иностранцам будет почти втрое больше, чем при Александре Первом.
Николаевский кредитный билет
Но и этого было недостаточно.
Все дороже и дороже обходилась ненасытная железная дорога. А с 1848 года резко возросли военные траты, и прежде немаленькие.
Венгерская кампания стоила государству займа в тридцать пять миллионов. Крымская – еще одного, уже в пятьдесят.
Пришлось печатать кредитные билеты так же, как раньше печатали ассигнации. Снова «поплыл» курс. К 1855 году государственный долг по кредитным билетам достиг 356 миллионов, а суммарная задолженность правительства по внешним и внутренним обязательствам докатилась до астрономической суммы в 1,2 миллиарда. При любителе жесткой дисциплины Николае финансовая система в конце концов оказалась в несравненно худшем состоянии, чем при неорганизованном Александре.
Российское государство надрывалось, поддерживая свою военную мощь. В 1850 году оно тратило на армию и флот 57 процентов бюджета. Главный геополитический соперник Англия обходилась 28 процентами.
В конечном итоге в этом и состояла основная причина провала николаевской финансовой политики.
Социальная структура
В середине девятнадцатого века после новых приобретений Российская империя занимала территорию в 18 миллионов квадратных километров, на которой проживали почти 70 миллионов человек.
При этом естественный рост населения происходил медленно, в среднем 1 процент в год. Средняя продолжительность жизни была короткой, всего 30 лет – верный признак социального неблагополучия. Женщины рожали много, в среднем по семь-восемь раз, но четверть младенцев не доживала до года и больше половины детей – до пяти лет. Мешали приросту населения и тяжелые условия, в которых существовало подавляющее большинство народа. Крепостная деревня всё больше впадала в нищету. Насколько несвободные крестьяне жили хуже свободных, видно по демографии. За последние 25 лет крепостного права вольное сельское население увеличилось на двадцать с лишним процентов, а помещичьих крестьян осталось столько же.
Кроме того, рост замедлялся из-за эпидемий, частых неурожаев (на николаевское тридцатилетие пришлось четырнадцать голодовок) и, конечно, из-за того, что сотни тысяч мужчин, фактически пожизненно взятых в солдаты, не обзаводились семьями.
Но жизнь сословий и различных групп складывалась неодинаково. Сколько государство ни пыталось всякими охранительными мерами удержать социальный баланс, перемены все же происходили, и немалые.
Дворяне
Привилегированное сословие по-прежнему составляло сотую долю россиян. К 127 тысячам «благородных фамилий» принадлежали 600 тысяч потомственных дворян и 300 тысяч личных. Ко второй категории относились младшие офицеры и невысокого ранга чиновники, выбившиеся из низов, – свой статус они по наследству не передавали и обладать живым имуществом не могли. Но и потомственные дворяне далеко не все имели собственных крестьян, а 70 % помещиков считались мелкопоместными, то есть владели менее чем двадцатью «душами» (в среднем – семью). Без службы просуществовать на такие средства было невозможно. По-настоящему богатых семейств в России набиралось примерно четыре тысячи. Зато они владели половиной всех крепостных. Помещичьему сословию принадлежала значительная доля главного национального богатства аграрной страны – треть всех земельных угодий.
Но имущественное положение российского дворянства при Николае все время ухудшалось. Происходило это из-за низкой производительности подневольного труда, оскудения почв, неумелого хозяйствования – и постоянно возрастающих потребностей, удовлетворять которые было не на что. Единственным источником для неслужащего помещика получить дополнительные средства был заклад имения. К середине 1850-х годов две трети поместий были заложены и перезаложены. Общая сумма задолженности превышала 400 миллионов рублей.
Отношение императора к сословию, являвшемуся опорой престола и главным поставщиком кадров, было двойственным.
С одной стороны, Николай очень пекся о «чистоте» дворянства, боясь, что оно размоется и превратится в «третье сословие». Стараясь сохранить и даже повысить престиж «благородного звания», царь старался затруднить доступ к нему для плебеев. Минимальный чин, с которого служащий становился потомственным дворянином, значительно повысился. В восемнадцатом веке в армии для этого было достаточно получить первый офицерский чин, а с 1845 года требовалось дослужиться уже до майора (VIII класс). Чиновникам и вовсе приходилось дожидаться V класса (статского советника).
Но и с таким, приподнятым дворянством монархия делить власть не желала. Как в свое время его отец, Николай попытался вернуть созданную Екатериной самодержавно-дворянскую модель управления в старинную форму чистого самодержавия. Царь рассматривал государство как свою единоличную собственность, а не как «корпорацию», и «миноритарии» ему не требовались. Николаевская система нуждалась в дисциплинированных слугах – но и только. Царь воспринял 14 декабря как урок: чем больше дворяне о себе будут понимать, тем больше с ними будет проблем.
Всюду где можно избегая реформ, Николай не упразднил дворянских выборных учреждений, но уменьшил их значение. Теперь все эти губернские и уездные собрания со своими предводителями не имели никакой административной власти и ничего не контролировали. По закону 1831 года дворянские органы самоуправления могли только собирать деньги на что-нибудь одобренное начальством, а также подавать прошения властям «о нуждах и пользах». Кроме того, собрания теперь были подчинены министерству внутренних дел. От екатерининской идеи соправления мало что осталось.
Нечего и говорить, что российскому дворянству всё это мало нравилось. Консервативные слои сетовали на материальное оскудение и недостаточное почтение, передовые уходили во внутреннюю оппозицию. Дворянская опора престола при Николае заметно подрасшаталась.
Основной класс
Главной болезнью общества был «крестьянский вопрос» – потому что крестьяне составляли абсолютное большинство населения и жили очень плохо. Для государства это прежде всего означало, что из-за бедности они платили мало податей.
Класс-кормилец делился на две основные группы, примерно равные по численности: крестьяне лично свободные (государственные и удельные) и крестьяне помещичьи. С первой категорией проблем тоже хватало, но особенно тяжелым грузом на стране висело крепостное право, не давая ей нормально развиваться.
Николай Первый отлично это сознавал и все годы своего правления ломал себе голову, как бы крестьян освободить. Помимо соображений прагматических (крепостничество во всех смыслах вредило экономике) эта система вступала в противоречие с идеологическим курсом на «народность». Никакие подданные не должны были принадлежать частным владельцам – только государству и государю.
Но в еще большей степени николаевской идеологии противоречила идея о том, что кого-то можно сделать более свободным – и вообще затеять какие-то глобальные изменения в сложившемся порядке. Парадокс заключался и в том, что в девятнадцатом веке осуществить общественные реформы без участия общества было уже очень трудно. Император же считал любые высказывания подданных о государственных материях чем-то совершенно недозволительным.
В результате дискуссия по «крестьянскому вопросу» велась исключительно на уровне бюрократическом и – чтобы не будоражить общество – келейно, в излюбленных Николаем секретных комитетах.
С государственными крестьянами было проще, и здесь произошли некоторые осторожные, но важные перемены, руководил которыми министр государственных имуществ граф Киселев, самый дееспособный из николаевских помощников.
«Свободное сельское сословие» являлось свободным только по названию. Государственных крестьян (а это в 1830-е годы была примерно треть всего российского населения) по приказу свыше могли переписать в военные поселенцы или передать в удельное ведомство. Далеко не у всех этих хлебопашцев имелись земельные наделы, многие жили батрачеством.
Преобразования, устроенные Киселевым, сильно улучшили положение. Во-первых, все государственные крестьяне получили собственную землю. Во-вторых, государство устроило вспомогательные кассы, дававшие хозяевам льготные ссуды, и зерновые склады для экстренной помощи при неурожае (а в конце сороковых недороды случались три года подряд). В-третьих, государственные крестьяне получили зачатки самоуправления – право избирать сельские и волостные управы (хотя на практике выборные считали себя представителями не народа, а начальства). В-четвертых, в деревне начала осуществляться программа первичного образования – создавались крестьянские школы. Правда, масштабы этого просветительства пока были очень скромными: к концу Николаевской эпохи в сельских школах по всей стране насчитывалось только 110 тысяч учеников. Но сравнивать нужно с тем, что было прежде: двадцатью годами ранее в российской деревне грамоте обучалось полторы тысячи детей.
Результаты ограниченной крестьянской реформы сказались сразу же. В этом секторе сельского хозяйства почти совершенно исчезло батрачество, повысились производительность и урожайность. Ощутила разницу и казна. Улучшившееся благосостояние государственных крестьян вдвое сократило объем недоимок, и сбор податей возрос на 20 процентов. Косвенным, но не менее важным последствием было активное включение выходцев из этой среды в торгово-предпринимательскую деятельность.
В жизни частновладельческих крестьян сопоставимых по значению сдвигов не произошло. Правительство лишь сделало несколько шагов в сторону смягчения крепостничества: окончательно прекратило публичные торги людьми, запретило разлучать семьи (что провозглашалось и раньше), а также отбирать у крестьян их земельные участки.
С 1839 года заседал синклит из высших сановников, который должен был придумать, нельзя ли освободить крепостных, не разрушив государственного строя. Этот орган в конспиративных целях именовался «Комитетом о повинностях в казенных имениях западных губерний», все его дискуссии велись в тайне. Граф Киселев предлагал дать крестьянам свободу, но землю оставить за помещиками, которые поделятся ею с бывшими крепостными на правах неотчуждаемой аренды с возможностью дальнейшего выкупа. Другие считали эту осторожную идею слишком радикальной и настаивали, что «увольнение» крестьян должно осуществляться только по согласию помещика.
Наконец после двухлетних споров Комитет выработал компромиссное «Положение об обязанных крестьянах». Крепостных предлагалось освободить, но землей наделять по усмотрению помещиков. Государь сначала начертал на резолюции «Исполнить», а затем свое решение отменил. Всё осталось по-прежнему.
Продажа крепостных. Н.В. Неврев
Аргументация его величества, изложенная в протоколе итогового заседания Комитета, достойна цитирования, ибо отлично передает причину высочайших метаний.
«Нет сомнения, что крепостное право в нынешнем его у нас положении есть зло, для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к оному теперь было бы злом, конечно, еще более гибельным. Блаженныя памяти император Александр I, в намерениях коего в начале его царствования было даровать свободу крепостным людям, впоследствии сам отклонился от сей мысли, как еще совершенно преждевременной и невозможной в исполнении. Его величество также не изволит никогда на сие решиться, считая, что если время, когда можно будет к тому приступить, вообще весьма еще далеко, то в настоящую эпоху всякий помысел о сем был бы лишь преступным посягательством на общественное спокойствие и благо государства. Пугачевский бунт доказал, до чего может достигнуть буйство черни».
В последующие годы обсуждалось еще несколько проектов освобождения – все с тем же результатом. А после 1848 года, когда в Европе начались революции, любые упоминания о какой бы то ни было свободе окончательно вышли из моды и дискуссии по крестьянскому вопросу прекратились.
Социальные изменения
И все же в социальном смысле эта «подмороженная» эпоха не была статичной. В структуре населения происходили постепенные метаморфозы. Менялись численный состав и общественно-экономическое значение различных групп населения. Появлялись целые прослойки, прежде не существовавшие.
Россия еще только подступалась к промышленной революции, но уже началась трудовая миграция из деревни в зарождающиеся индустриальные центры. За тридцать лет городское население империи выросло в два с лишним раза: с 4,5 % в 1825 году до 9,2 % в середине 1850-х. Увеличилось и количество городов. Раньше их насчитывалось шестьсот, теперь – тысяча. Правда, большинство оставались маленькими, одноэтажными и деревянными. В этом отношении мало что изменилось по сравнению с Александровской эпохой. Зато появился четвертый город-«стотысячник» (кроме Петербурга, Москвы и Варшавы) – быстро развивающаяся Одесса. Но в Европе городское население росло несравнимо быстрей. В 1850 году в Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве и Одессе суммарно проживали миллион сто тысяч человек – вдвое меньше, чем в одном тогдашнем Лондоне.
Бывшие посадские, низший городской слой, теперь назывались мещанами. Их было примерно 4 миллиона, две трети всех горожан. Мещане платили подушную подать, поставляли рекрутов, могли быть подвергнуты порке и привлечены к отбыванию трудовых повинностей.
Купцы играют в шашки. И.С. Дощенников
Купеческое сословие оставалось немногочисленным – всего 180 тысяч человек. Делилось оно на три гильдии. Подушной налог купцы не платили и от телесных наказаний были освобождены, но эти привилегии стоили денег. За членство в третьей гильдии платили 100 рублей в год, во второй – 800, в первой – 2200. Поэтому три четверти купечества были приписаны к низшему разряду.
Как уже говорилось, более состоятельные представители торгового сословия начинали вкладываться в собственное производство, одновременно становясь промышленниками. Новая группа россиян-предпринимателей пополнялась также за счет предприимчивых помещиков и «торгующих крестьян». Иногда в капиталистов превращались и самородки из числа крепостных, потом выкупая себя у хозяев за немалые деньги. (Например, основатель династии текстильных фабрикантов Савва Морозов заплатил помещику за вольную 17 тысяч – при среднерыночной цене за «душу» в сто рублей.)
Государство, стремившееся распределить всех подданных по ранжирам, пыталось ввести в быстро расширяющемся, важном сословии своего рода «табель о рангах». Крупный фабрикант и коммерсант мог получить звание мануфактур-советника или коммерции советника. Но это были личные отличия, к тому же предназначенные только для предпринимателей. Однако сословная империя нуждалась в фиксации всего промежуточного сословия, образовавшегося между народной массой и элитой. Для «среднего класса», к которому также причислялись чиновники невысоких рангов, образованные люди недворянского происхождения и дети священников, вводятся два «состояния»: личное и потомственное почетное гражданство. Почетные граждане получали те же права, что купечество старших гильдий. Поначалу к этой категории было причислено всего несколько тысяч человек, но с развитием капитализма и постепенным распространением образования количество почетных граждан будет увеличиваться. К концу девятнадцатого столетия их станет несколько сот тысяч.
Другим новым – пока еще не классом, а лишь зародышем класса – были рабочие, трудившиеся на промышленных предприятиях (таковых к середине века в стране имелось уже около 15 тысяч). Российских рабочих этой эпохи «классом» называть еще рано, поскольку в основном это были крепостные крестьяне-отходники, отправлявшиеся за оброком в города. Большинство не отрывались от сельской жизни и при первой возможности к ней возвращались. Государственные крестьяне нанимались на фабрики и мануфактуры реже, поскольку после киселевской реформы все они имели собственную землю, но при большом количестве взрослых сыновей семьям все же приходилось искать дополнительные источники дохода, чтобы платить подати.
При всей своей аморфности и нефиксированности армия наемного труда в пятидесятые годы была уже довольно многочисленной. Л. Муравьева приводит цифру в полтора миллиона человек (в 1825 году было 200 тысяч). Еще в 1835 году царь забеспокоился по поводу большого количества вольнонаемных, то есть самостоятельно живущих, а стало быть, трудноконтролируемых подданных. Выступая на Московской промышленной выставке, Николай предупредил заводчиков, что на них лежит ответственность за их работников, которые «ежегодно возрастая числом, требуют деятельного и отеческого надзора, без чего эта масса людей постепенно будет портиться и обратится наконец в сословие столько же несчастное, сколько опасное для самих хозяев». Пророческого дара для такого предсказания не требовалось. В Европе рабочий класс в это время уже сформировался и представлял собой главную угрозу для существующего порядка.
Зарождается в эти времена и еще одна важная категория населения – так называемые «разночинцы», образованные люди недворянского происхождения. Их пока немного, к концу царствования (по данным Л. Муравьевой) только 24 тысячи, но в неграмотной стране каждый просвещенный человек заметен. Эти выходцы из мелкого чиновничества, из духовного сословия, отчасти из крестьянства учат и лечат, пишут книги и статьи, занимаются искусством. Две изначально разнородные социальные группы – образованные плебеи и обедневшие дворяне – начинают сливаться в сословие людей, зарабатывающих на жизнь своими знаниями: интеллигенцию.
К рабочим и ученым умникам николаевское государство относилось с опаской, ожидая от них неприятностей. Однако было сословие, которому правительство покровительствовало и всячески его развивало: казачество.
Времена, когда буйная порубежная вольница доставляла самодержавной монархии хлопоты, ушли в прошлое. Империя научилась управлять самоорганизующейся военизированной прослойкой, которая превратилась в очень полезный и удобный инструмент – прежде всего на отдаленных, малонаселенных территориях или в «горячих точках» вроде Кавказа. Казачество само себя обучало воинскому ремеслу, само снаряжалось для службы, при необходимости быстро пополнялось резервистами, и содержать казачьи части было дешевле, чем дорогостоящую регулярную конницу.
Лояльность казаков обеспечивалась очень просто. Их щедро наделяли землей (по 30 десятин на хозяина) и позволяли существовать по собственным правилам. Казачье офицерство еще при императоре Павле получило все права дворянства. В привилегированном положении сравнительно с основной массой населения находились и рядовые казаки. Состав сословия был многонациональным – к нему приписывали и башкиров, и татар, и калмыков, и представителей сибирских народов.
Необычным пополнением для казачества стали, например, солдаты наполеоновской армии, попавшие в русский плен. Многие из них не вернулись на родину, записались в казачество и с удивительной быстротой ассимилировались – притом не только нижние чины. Дореволюционный исследователь этой любопытной темы П. Юдин пишет: «…Не желая казаться чужими среди своих одностаничников, переменили свои прежния французския фамилии на русския и таким образом затерялись в общей массе казачьяго населения так же, как утратили свои прозвища потомки французов… От Филиппа Юнкера произошла фамилия Юнкеров, дети Ларжинц совсем переменили прозвище отца и пишутся теперь «Жильцовы», а от Петра Баца произошли Бацитовы, и только потомки Вилира Сонина сохранили неприкосновенным своё имя».
Самым известным «французским казаком» станет один из завоевателей Туркестана уральский наказной атаман Виктор Дезидерьевич Дандевиль, сын наполеоновского офицера Дезире д’Андевиля.
Запись в казаки наполеоновских пленных. Н.Н. Каразин
Казацкие станицы и поселения помогли империи покорить Кавказ, колонизовать Дальний Восток, подготовить покорение Средней Азии. При Николае число казачьих войск дошло до десяти. Там проживало около двух миллионов человек – столько же, сколько мещан во всех российских городах.
Коротко подытоживая социальную картину николаевского общества, можно сказать, что по своей структуре оно плохо соответствовало запросам индустриальной эпохи: слишком много сельских жителей и военных, слишком мало денежных людей и образованных специалистов.
Общественное мнение
Новый фактор
Это уже 7-й том моей «Истории». Российскому государству, если отсчитывать его с эпохи Ивана Третьего, почти четыреста лет, но глава с подобным названием появляется впервые.
Общественное мнение в самодержавии ордынского типа – оксюморон. Мнение здесь может быть только у одного лица, а все остальные должны благоговейно внимать и склоняться. Впрочем, и в первой половине девятнадцатого века общество – в значении некоей группы самостоятельно мыслящих людей – в России пока еще микроскопично. И все же оно уже существует. Его взгляды, бывает, сильно расходятся с высочайше одобренными и при этом начинают иметь вес. Власть над телами подданных по-прежнему всецело принадлежит монарху, но власть над умами и душами от него понемногу ускользает. Сразу после Николая I, когда тотальная «ордынскость» нарушится либеральными реформами Александра II, эти скромные ростки взойдут пышными всходами.
Инакомыслие как общественное явление, а не просто индивидуальная аномалия, зародилось еще при Екатерине Великой. Первопричина была незатейлива. Предоставив дворянам вольность, императрица получила довольно большое количество образованных и в то же время праздных людей, у которых имелся досуг предаваться размышлениям. Первые проявления их интеллектуальной деятельности, зафиксированные литературными журналами восемнадцатого века, довольно косноязычны и наивны, но это движение живой, самостоятельной жизни. Через поколение-другое русская литература научится и мощно мыслить, и ярко излагать.
То, что новая, неконтролируемая государством культура в России богаче всего проявилась именно в художественной словесности, не было случайным. Отчасти это, конечно, объяснялось тем, что просвещенная императрица сама любила сочинительствовать и подавала подданным пример. Но авангардом общественного сознания писатели стали много позже, к середине следующего столетия, и дело тут вовсе не в пристрастиях Екатерины. Большой, самобытной стране требовалось самое себя понять, и тут прежде всего был необходим Логос. А в беллетристической форме литература развивалась из-за того, что всякое прямое высказывание на философскую, социальную, историческую, экономическую, религиозную тему или строго цензурировалось, или вовсе запрещалось. Поэтому русскому писателю приходилось быть и философом, и социологом, и историком, и экономистом, и проповедником. Величие русской литературы – прямое следствие этого гандикапа.
Вторым после дворянской «вольности» импульсом к зарождению свободомыслия стало новое представление о чувстве собственного достоинства. Раньше в России достоинство всегда ассоциировалось с общественным статусом и высочайшей милостью: кого власть больше ценит, тот и более достойный человек, а коли власть прикажет выпороть, это больно, но не зазорно, лишь бы потом простили. Петр Первый запросто лупил своих вельмож палкой, Шешковский кулуарно сек провинившихся кавалеров в своей Тайной экспедиции, Павел за малейшую провинность лишал дворянства и предавал порке.
Но Александр Благословенный навсегда освободил благородное сословие от телесных наказаний, да еще ввел в моду обращаться с нижестоящими (если это были дворяне) на «вы». Избавившись от страха физического унижения, российские дворяне с удивительной быстротой, за одно-единственное «непоротое» поколение выработали для себя совершенно иное представление о достоинстве. Оно стало личным, основанным на самоуважении и уважении окружающих. Разумеется, среди дворян было полным-полно Фамусовых с Молчалиными, но много стало и таких, кто считал «подличанье» (тогда это слово означало раболепство) стыдным. Роскошь держаться с достоинством мог позволить себе лишь один процент населения, но производителем культуры и носителем общественного мнения поначалу и было только дворянство.
Итак, первым плодом общественного созревания стало появление сильной литературы. Прежде всего это проявилось в поэзии. Она в России и была старше прозы. Стихи по-русски писали уже лет сто, со времен Кантемира. Но первые по-настоящему крупные национальные поэты, Пушкин с Лермонтовым, едва возмужав, стали писать и прозу, а публика жадно ее читала. Феномен великой русской литературы возник за какие-то двадцать лет. В 1820-е годы о ее существовании в Европе еще не догадываются, а в 1840-е годы Пушкина, Лермонтова и Гоголя уже переводят на иностранные языки.
Но важнее была ментальная революция, которую переживало в те годы российское общество. Все мало-мальски образованные люди читали, а многие стали писать сами. Литературные произведения бывают востребованы, когда они затрагивают темы, живо волнующие читателя, – больные темы. В николаевской России самой больной темой были несвобода и социальное неравенство. Неудивительно, что свободолюбие и социальность очень скоро стали доминантами отечественной словесности – и так останется навсегда, потому что в России вечной константой будут государственный произвол и народное страдание.
Цвет русской литературы 1832 года на одном портрете: Крылов, Пушкин, Жуковский и Гнедич. Г.Г. Чернецов
К николаевскому времени восходит и другая извечная черта русской литературы – явная или латентная оппозиционность по отношению к власти.
Первоначально этого противостояния не было. Карамзин и Жуковский не фрондировали, а были вполне искренними лоялистами. Но после расправы над декабристами, после цензурных строгостей тридцатых годов и репрессий сороковых годов для уважающего себя писателя верноподданничество становится чем-то неприличным.
Хронический антагонизм между выразителями общественного мнения, писателями, и государственными институтами был инициирован и спровоцирован самой властью. Родоначальник этой хронической контроверсии – Николай Первый. Его страх перед свободным словом постепенно разросся до параноидальных размеров. В конце царствования будут выносить смертные приговоры за чтение вслух письма литературного критика к беллетристу!
Суровая до абсурдности цензура ставила литературу в очень жесткие условия. Но нет худа без добра. Это постоянное давление и страх репрессий придавали русской словесности особенную гибкость и эмоциональную интенсивность, а главное – гарантировали ей жадное внимание читателей, готовых угадывать скрытый смысл, улавливать нюансы и даже менять свою жизнь под воздействием какого-нибудь романа. В России девятнадцатого века сформировалась количественно небольшая, но лучшая в мире читательская аудитория. Это она в мрачные, безвоздушные николаевские времена создала великую литературу.
Арбитр вкусов
Художественные интересы и предпочтения Николая Павловича имели самое прямое отношение к путям развития отечественной культуры. В дальней исторической перспективе это влияние даже ощутимей, чем административные деяния императора – потому что культура долговечнее политики.
Самому Николаю несомненно казалось, что он полностью управляет культурным процессом. Вкусы царя были так же определенны и жестки, как все прочие его воззрения. Но культурная политика государя давала совсем не те результаты, на которые он рассчитывал. Парадоксален будет и общий итог николаевских усилий: Россия утратит величие как держава, но обретет величие как важный очаг мировой культуры.
Царь с подозрением относился и к сочинительству, и к сочинителям – очевидно, из-за невозможности контролировать творческие порывы этой недисциплинированной публики. Однажды при царе сказали, что И.С. Тургенев прекраснейший человек, и его величество заметил: «Насколько литератор может быть прекрасным человеком. Лучшие из них ничего не стоят». Когда фельдмаршал Паскевич после смерти Пушкина написал царю: «Жаль Пушкина как литератора, в то время, когда его талант созревал, но человек он был дурной», государь ответил: «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю».
Если говорить о литературных вкусах, больше всего Николаю Павловичу нравились сочинения Нестора Кукольника – это был автор надежный и благонравный. В судьбе Пушкина и Лермонтова царь сыграл роковую роль. Не на пользу пошло высочайшее внимание и нервному Гоголю. «Прекраснейший» Тургенев при Николае посидел на гауптвахте и потомился в ссылке. Достоевский был приговорен к расстрелу и угодил на каторгу. Все эти личные драмы не помешали (а может быть, и помогли) русской литературе возвыситься.
Прохладно относился Николай и к музыке [за вычетом военных маршей и торжественных гимнов], ибо никогда нельзя с определенностью сказать, о чем и для чего она сочинена. Однако же именно в эти годы родились и обрели любовь к музыке будущие великие композиторы, ни один из которых, согласно духу тогдашнего времени, не предназначался к служению Эвтерпе: Чайковского готовили в правоведы, Мусоргского записали в гвардейские подпрапорщики, Римского-Корсакова – в гардемарины, и так далее.
Потомкам можно лишь поблагодарить Николая Павловича за то, что он так мало покровительствовал литературе и музыке.
Тем же искусствам, которые император любил, повезло меньше. Скажем, его величество почитал себя знатоком архитектуры и градостроительства, лично утверждал все мало-мальски значимые проекты. В результате российские города наполнились единообразными казенными зданиями стандартной желто-белой окраски. Под этот высочайше одобренный стиль подлаживалось и частное домостроительство. Увы, российская архитектура великой так и не станет.
Николай неплохо рисовал и покровительствовал художникам, но отдавал предпочтение большим многофигурным полотнам батальной, религиозной или придворной тематики. Ему, например, ужасно понравилось гигантское, во всех отношениях достохвальное полотно Александра Иванова «Явление Христа народу» – своего рода монумент эпохи. Академия художеств получала щедрое содержание, была приписана к министерству двора – и надолго стала оплотом мертвого официального искусства. Самобытная живопись мирового значения в России возникнет еще не скоро, лишь в следующем столетии.
Не повезло и национальному театру – потому что царь был увлеченным театралом и постоянно навязывал русской Мельпомене свои вкусы. Повсеместно возводились пышные театральные здания, оплачивались дорогостоящие постановки, лучшие актеры получали жалованье от государства, но в драматургии кроме комедии «Ревизор», насмешившей его величество, ничего значительного не появилось. Первая пьеса А. Островского «Свои люди – сочтемся» угодила под запрет (а драматург – под надзор полиции). Русскому театру тоже придется подождать, пока власть станет любить его менее прилипчиво.
Однако, как уже было сказано, в стране, лишенной всех других способов высказывания, первоочередное общественное значение приобрела литература. Николай не был полностью лишен читательского вкуса, он предпринимал попытки приручить талантливых писателей, но получалось плохо. Причина, конечно, заключалась в том, что царю были «нужны не гении, а исполнители». Гении же исполнителями быть не умеют, даже если очень хотят (случай Гоголя).
Николай на строительных работах. Михай Зичи
Тезис об оппозиционности Пушкина обычно опровергают, цитируя два его верноподданнических стихотворения «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», но степень культурной ценности этих трескучих произведений определяется тем, что никто их для собственного удовольствия не заучивает и не декламирует. Если же за официозную лирику брался поэт среднего дарования, получалось совсем нехорошо – например, у Жуковского, когда «певец Светланы» решил возликовать по поводу взятия Варшавы:
Пробуждай, вражда, измену! Подымай знамена, бунт! Не прорвать вам нашу стену, Наш железный Русский фрунт!В пьесе главного российского драматурга Кукольника «Князь Скопин-Шуйский», сплошь состоящей из восклицательных знаков и поминаний «Святой Руси», герой нескладно, но политически грамотно возглашает:
Да знает ли ваш пресловутый Запад, Что если Русь восстанет на войну, То вам почудится седое море, Что ветер гонит на берег противный!В Николаевское время определится повторяющийся сюжет российской культуры: официоз получает мощную правительственную поддержку и с треском проигрывает свободному творчеству – как художественно, так и идеологически.
Общество в период репрессий
Первая реакция общества на царствование, начавшееся с арестов и казней, была естественной. Общество закоченело и, цитируя Герцена, «при первом ударе грома, разразившегося над его головой после 14 декабря, растеряло слабо усвоенные понятия о чести и достоинстве». Вольные разговоры в салонах прекратились. По свидетельствам современников, во многих домах жгли запрещенную литературу, письма и дневники.
Свободная мысль не остановилась (такого в природе не бывает), но некоторое время ее транслировали только одиночки, сплошь люди пишущие. По опубликованным много позднее дневникам и запискам видно, что иные внешне совершенно безобидные люди наедине с бумагой оценивали происходящее вполне критически. Но находились и отчаянные головы вроде Петра Чаадаева, имевшего мужество или неосторожность высказывать свои идеи публично.
П. Чаадаев. Шандор Козина
В 1836 году московский журнал «Телескоп» по недосмотру цензора опубликовал первое «Философическое письмо» этого бывшего гусарского офицера, хорошо известного в свете, – вернее перевод с французского оригинала. (Автор получил воспитание в докарамзинские времена, когда русский язык еще не вошел в моду.) Рассматривая историю цивилизации, Чаадаев очень кисло оценивал вклад России и общий уровень ее развития. «С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды». Во всем этом ощутим комплекс национальной неполноценности, но подобное умонастроение в любом случае полезнее официозного патриотизма, ибо побуждает думающего человека размышлять о том, как улучшить свою родину.
Трудно было придумать что-то более несвоевременное, противоречащее духу эпохи. Автора объявили сумасшедшим и заперли под замок. Цензора выгнали. Издателя Надеждина напугали так, что он никогда больше вольной словесностью не занимался, а превратился в исправного чиновника министерства внутренних дел.
К недозволительным разговорам государство относилось еще непримиримее, чем к писательству. Всякий кружок, даже самый травоядный, вызывал у Третьего отделения подозрение в заговоре. Под особым присмотром находились университеты, и один из них, Московский, менее других пострадавший от реакционных гонений в двадцатые годы, долгое время оставался островком относительного свободомыслия. Но и надзирали за ним с пристрастием.
В 1827 году был разгромлен кружок братьев Критских, где всего лишь велись пылкие юношеские разговоры о борьбе с тиранией. Участники поплатились тюремным заключением и солдатчиной.
В 1831 году неуравновешенный молодой человек Николай Сунгуров втянул два десятка студентов в туманные разглагольствования о создании тайного общества. Все были схвачены, инициатор умер на каторге.
В кружке Александра Герцена и Николая Огарева в конспирацию не игрались, а всего лишь читали и обсуждали современные политические теории, но расправа была такой же безжалостной. В 1834 году участников арестовали. Одни отправились в ссылку, другие – в каземат. Двое умерли. Герцен впоследствии писал: «За одну дурно скрытую слезу о Польше, за одно смело сказанное слово – годы ссылки, белого ремня [солдатчины], а иногда и каземат; потому-то и важно, что слова эти говорились и слезы эти лились. Гибли молодые люди иной раз; но они гибли, не только не мешая работе мысли, разъяснявшей себе сфинксовую задачу русской жизни, но оправдывая ее упования».
Избежал прямых репрессий лишь кружок Николая Станкевича, сторонившийся политики и занимавшийся исключительно высокими материями: «Богом, правдой и поэзией». В тридцатые годы общественная дискуссия сжалась до размеров этого узкого сообщества интеллектуалов, которые придерживались очень разных взглядов, но самим своим существованием, своими спорами поддерживали и развивали движение национальной мысли. Сам Станкевич умер двадцати семи лет, но из его собеседников в последующие годы сложилась чуть ли не вся палитра русского идейного искательства – от анархиста М. Бакунина до ультраконсерватора М. Каткова.
В спорах между членами кружка зародилась и потом выплеснулась в общество первая российская публичная полемика, развернувшаяся на рубеже сороковых годов – между «западниками» и «славянофилами». Является ли Россия органической частью Европы и, стало быть, должна следовать тем же путем? Или ее положение настолько уникально, что чужой опыт неприменим, а надо вырабатывать собственные формы развития? (Дискуссия эта, собственно, с тех пор так и длится, не снижая своего накала.) Казалось бы, вторая точка зрения должна была найти одобрение у Третьего отделения как истинно патриотическая, но правительство наблюдало за «славянофилами» с таким же неодобрением, как за «западниками». Тут сказывалась особенность государственного единомыслия, которое не поощряет самодеятельности даже внутри высочайше одобренного дискурса. Более того, слишком инициативные патриоты всегда были власти подозрительны – не перехватят ли они лозунг «народности», не пойдет ли народ за ними? К тому же русские «славянофилы» слишком многое себе позволяли: высказывались за отмену крепостного права и свободу слова. Опасаться, впрочем, пока было нечего. Политического контекста в полемике не усматривалось, и круг заинтересованных ею лиц оставался невелик.
Точной такой же бурей в стакане воды могло бы остаться одно сугубо литературное происшествие 1847 года. Известный писатель Николай Гоголь опубликовал сборник эссе «Выбранные места из переписки с друзьями».
Ничего особенно реакционного в многословных рассуждениях Гоголя о любви к отечеству и о величии православия, собственно, не было. Общий пафос сводился к неоригинальной идее, что надо усовершенствовать нравственное качество людей, а не замахиваться на государственные институты, которые в России очень даже неплохи. «Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей… – сентиментальничал недавний автор «Ревизора» и «Мертвых душ». – Одним словом, чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей: слышно, что Сам Бог строил незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспешествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу, и останавливать только на пути к злоупотреблениям».
Некоторые гоголевские пассажи, конечно, выглядели диковато: «Учить мужика грамоте затем, чтобы доставить ему возможность читать пустые книжонки, которые издают для народа европейские человеколюбцы, есть действительно вздор… Деревенский священник может сказать гораздо больше истинно нужного для мужика, нежели все эти книжонки».
Но в общем и целом сегодня эти многоречивые сентенции могут быть интересны разве что исследователю причудливой внутренней эволюции литератора, разочаровавшегося в литературе (Гоголь тут был не первый и не последний).
Известный критик Виссарион Белинский напечатал в журнале отрицательную рецензию, сильно выхолощенную цензурой, но все равно резкую. Писатель неосторожно ответил критику личным письмом, что очень удивлен таким отзывом, ибо ничего дурного в виду не имел. Тогда Белинский – тоже в письме, то есть неподцензурно, – доходчиво и откровенно объяснил писателю, а заодно и всему обществу, чем ему так не понравились «Выбранные места».
«Неистовый Виссарион» обрушил на бедного Гоголя всю мощь и страсть своего публицистического дарования – и позаботился о том, чтобы копия письма попала к публике. Текст читали вслух, обсуждали, спорили.
С исторического расстояния реакция «передового общества» на этот обмен эпистолами может показаться неадекватной, но в тогдашней воспаленной атмосфере верноподданническое высказывание признанного литературного кумира было воспринято как предательство. «Предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да и выгодно), только продолжайте благоразумно созерцать его из вашего прекрасного далека: вблизи-то оно не так прекрасно и не так безопасно…» – обличал живущего в Италии прозаика находившийся в Германии критик. Некоторые пассажи письма звучали чеканным манифестом: «Россия видит свое спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиэтизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и соре, – права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и справедливостью, и строгое по возможности их исполнение».
«Выбранные места из переписки с друзьями»
В России немногие осилили книжку Гоголя, но все мало-мальски просвещенные люди зачитывались ответом Белинского. При этом нужно понимать, что круг этот был количественно очень невелик. Пообсуждали бы и забыли. Но в Европе ширилось революционное движение, российская власть очень нервничала, боялась крамолы – и решила воспользоваться этой камерной историей для акции устрашения.
Общая фабула репрессий Николаевской эпохи типична для режимов, сделавших ставку на «закручивание гаек»: чем меньше реальной угрозы, тем суровее преследования. Эскалация происходила на протяжении всего тридцатилетия.
От репрессий к террору
Современников приговор по делу декабристов привел в трепет. За четверть века, прошедшие после Павла I, дворянское общество отвыкло от репрессий. «Повешенные повешены; но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна», – сокрушался Пушкин. Однако вооруженный мятеж с намерением устроить государственный переворот и истребить царскую фамилию, стрельба и кровопролитие – это потрясение такого масштаба, что окончательный вердикт таким уж драконовским не выглядит. Поражение революции или военного переворота в любой стране повлекло бы не менее, а возможно, и более суровую кару.
Проявленной строгости оказалось вполне достаточно, чтобы в дальнейшем никаких хоть сколько-то значимых тайных обществ или цареубийственных замыслов не возникло. Но государство словно раскаивалось в том, что недосажало и недонаказало. При полном отсутствии сопротивления сильно расплодившимся органам тайной полиции приходилось все время преувеличивать или вовсе выдумывать политические преступления.
Эта гнусная тенденция сломала немало судеб, причем жертвами чаще всего становились люди, выбивавшиеся из заурядности и тем самым уже подозрительные.
22-летний московский студент Александр Полежаев сочиняет шуточную поэму «Сашка», пародию на «Евгения Онегина». Там среди всякой фривольной чепухи есть совсем не шуточные строки:
А ты, козлиными брадами Лишь пресловутая земля, Умы гнетущая цепями, Отчизна глупая моя! Когда тебе настанет время Очнуться в дикости своей? Когда ты свергнешь с себя бремя Своих презренных палачей?Дальше – невероятно – юного сочинителя доставляют прямо к царю, и тот личным распоряжением сдает поэта в солдаты. Полежаев промучается под «белым ремнем» много лет и сгинет.
Певца национального пессимизма, доморощенного философа Чаадаева совсем как Чацкого записывают в сумасшедшие (опять-таки по приказу царя), но времена уже не александровские, и «искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок» возможности нет. Чаадаеву прописали домашний арест с ежедневными визитами доктора – это первый в отечественной истории опыт карательной психиатрии.
Поэта-самородка и художника Тараса Шевченко, выбившегося своим талантом из крепостных, сдают в солдаты за то, что он писал стихи об Украине и по-украински, а с такими стихами, по мнению шефа жандармов князя Орлова, «в Малороссии могли посеяться и впоследствии укорениться мысли… о возможности Украине существовать в виде отдельного государства». Высочайший вердикт был сослать опасного человека в дальний гарнизон «с запрещением писать и рисовать, и чтобы от него ни под каким видом не могло выходить возмутительных и пасквильных сочинений».
Я называю лишь самые громкие имена, но арест по доносу за недозволенные разговоры, запись в солдаты, бессудная ссылка (в том числе по личному распоряжению императора) были самым обычным делом.
А в 1849 году на волне всевозможных строгостей, призванных оградить Россию от революционной заразы, правительство затеяло большой судебный процесс, какого не бывало со времен декабристов – на сей раз по совершенно пустяковому поводу.
Дома у молодого чиновника Михаила Петрашевского проходили еженедельные собрания, «пятницы», где гости вели разговоры о литературе, философии, новых идеях и прочем. Никакого заговора не существовало и в помине, да при очень пестром и широком круге участников это было бы и невозможно. Но власть по своему обыкновению на всякий случай присматривала за умниками. Некий Иван Липранди, в далеком прошлом декабрист и пушкинский приятель, а ныне сотрудник тайной полиции, чутко улавливая дух времени, подал начальству записку, в которой утверждал, что петрашевцы составляют «всеобъемлющий план общего движения, переворота и разрушения». Даже управляющий Третьим отделением Дубельт в эту чепуху не поверил, но государю обнаруженный «заговор» пришелся очень кстати.
Было арестовано около сорока человек. Никаких действительных преступлений за ними не обнаружилось, и главным пунктом обвинения было публичное чтение письма Белинского или недонесение о распространении подобных сборищ. Военный суд вынес двадцать один (!) смертный приговор. 22 декабря 1849 года осужденных вывели на расстрельный плац и объявили о замене казни на каторгу в самую последнюю минуту. Поручик Николай Григорьев от потрясения лишился рассудка. Остальным, в том числе молодому военному инженеру Федору Достоевскому, изуродовали жизнь.
Казнь петрашевцев. Б.В. Покровский
Дело было окружено таинственностью, повсюду распространялись панические слухи о каком-то чудовищном революционном комплоте. Для этого, собственно, всё и затевалось.
Как известно, репрессивный режим отличается от террористического тем, что первый карает действительных своих противников, а второй – кого придется, для запугивания. В последние годы правления Николая Первого этот фатальный рубеж был преодолен. Общество боялось и вздохнуть. Казалось, спокойствию империи ничто не угрожает.
Катастрофа
Огромные усилия, затраты и жертвы, на которые шла империя, чтобы поддерживать статус сверхдержавы, пошли прахом, когда разразилась большая европейская война – первая после сорокалетнего затишья. По сути дела столкнулись две исторические формации, две государственные системы, две хозяйственно-экономические модели, два мобилизационных механизма. Крепнущий капитализм вступил в борьбу с ветшающим абсолютизмом и побил его на территории, где последний считал себя сильнее – на полях сражений. Восточная война (1853–1856), как ее называют в зарубежной историографии, продемонстрировала, что для политического величия одной военной силы в современном мире уже недостаточно.
Причины войны
Но изображать этот конфликт как столкновение прогрессивного мира с архаично-реакционным ни в коем случае нельзя – скорее как схватку крепнущего хищника с дряхлеющим. Обе стороны мотивировали свою воинственность высокими нравственными соображениями: Россия якобы защищала угнетенных турецких христиан, союзники якобы спасали бедную Турцию от иностранной агрессии. Но настоящей причиной был спор за гегемонию, за передел зон влияния.
В середине девятнадцатого века вовсе не Россия являлась лидером по части аннексий и захватов. Ее территориальные приобретения в причерноморском регионе были очень скромны и локальны по сравнению с тем, как развернулась другая сверхдержава – Британия, ведшая непрестанные колониальные войны.
Англичане пытались завоевать Афганистан, военной силой утвердились в Китае, завершили покорение Индии, захватили плацдарм для будущей экспансии в Нигерии, послали войска в Индокитай. Стратегический курс на доминацию во всей Азии, так называемая Большая Игра, требовал контроля и над Турцией, где интересы двух великих держав напрямую сталкивались.
Но в отношениях с турками Лондон действовал умнее Петербурга. Царское правительство угрожало и давило, британцы применяли «мягкую силу». В 1838 году они заключили с Константинополем соглашение о свободной торговле и наводнили Турцию своими товарами. Неконтролируемый импорт окончательно подорвал и без того слабую местную экономику. Османская империя оказалась в полной зависимости от английского капитала, при этом не испытывая к англичанам такой враждебности, как к русским. Более того – Британия стала восприниматься в Стамбуле как защитница от русской угрозы.
Николай был уверен, что англичане с их смешной маленькой армией никогда за оружие не возьмутся и всегда предпочтут договориться миром. Но после азиатских побед в Британии набирала силу «партия войны», требовавшая жесткой линии в отношениях с «жандармом Европы». Лидер этого движения лорд Пальмерстон писал: «Политика и обыкновения российского правительства всегда состояли в том, чтобы увеличивать напор там, где другие державы проявляют безволие или недостаток твердости, но пятиться повсюду, где оно сталкивалось с решительным сопротивлением, дабы подождать следующего удобного случая».
В опасном для России направлении двигалась и Франция, к которой Николай привык относиться с пренебрежением.
Постепенно оправившись от урона, понесенного в Наполеоновских войнах, Франция стремилась вернуть статус великой державы. В тридцатые и сороковые годы она завоевала Алжир и стала засматриваться на Ближний Восток, к которому с другой стороны подбиралась и Россия. В начале пятидесятых годов Франция к тому же еще и провозгласила себя империей.
Ностальгия по былому величию, жажда реванша за 1814 год были очень распространены во французском обществе. Над страной по-прежнему висела тень Наполеона.
Лидером бонапартистов стал племянник покойного императора принц Луи-Наполеон. Это был ловкий политик, хорошо освоивший методы популизма. Умело играя на националистических чувствах и щедро раздавая обещания лучшей жизни, он сначала стал президентом республики, затем диктатором, а в 1852 году, по результатам плебисцита, и императором – то есть прошел точно по тем же ступеням, которые полувеком ранее привели на трон его дядю. Новый французский монарх назвал себя Наполеоном Третьим (Наполеоном Вторым бонапартисты считали никогда не правившего сына великого завоевателя).
Царь Николай обращался со свежеиспеченным императором презрительно, отказываясь именовать его общепринятой между монархами формулой «господин брат мой». Так к столкновению геополитических интересов прибавилась еще и личная вражда. А Луи-Наполеон был амбициозен и мечтал о полководческой славе.
Англия и Франция соединились в своем противостоянии с Россией. Последняя же как раз в это время растеряла своих традиционных союзников.
Пруссию царь антагонизировал вмешательством во внутригерманские дела. С Австрией после 1849 года вел себя как с должницей – ведь он силой штыков сохранил юному Францу-Иосифу закачавшийся трон. Но в политике благодарность – фактор ненадежный. Вене очень не нравилось, что русские тянут на себя балканское лоскутное одеяло. В Австрии только ждали удобного случая, чтобы положить этому конец.
Уверенный в собственном всемогуществе, окруженный льстецами и очковтирателями, Николай делал ошибку за ошибкой.
Самой роковой из них стало ложное представление о том, что пришла пора приступить к окончательному решению балканского вопроса, что довольно надавить посильнее – и проблема разрешится (то есть регион полностью перейдет в зону российского влияния).
Конечный план состоял в том, чтобы договориться с Англией (Николай считал равным партнером только ее) о разделении мира. Египет, Крит и всё западное Средиземноморье пусть берут себе британцы, а Россия будет «покровительствовать» четырем православным странам – Молдавии, Валахии (Румынии), Болгарии и Сербии, которые получат полную независимость от Турции. С Константинополем царь собирался разговаривать языком силы.
Трудно было придумать более неудачный момент для эскалации международного напряжения. Война становилась неизбежной.
Силы сторон
Русский император ошибался не только в дипломатических расчетах, но и в оценке своего военного потенциала.
Британская армия действительно была не очень грозной. Ее общий списочный состав (за исключением колониальных войск) не превышал 70 тысяч человек, из которых в заморскую экспедицию могли отправиться максимум 25 тысяч. Однако незадолго перед войной британских пехотинцев стали массово вооружать современными винтовками и активно обучать прицельной стрельбе по дальним мишеням. Это совершенно изменит тактику боя.
Чудо военной техники пароход «Герцог Веллингтон». Гравюра середины XIX в.
Революция произошла и в интендантском снабжении. Английская промышленность научилась производить консервы, что облегчило и улучшило пищевое довольствие солдат, а стало быть, понизило потери от болезней.
Но главной силой Британской империи, конечно, был ее флот. Он теперь в основном состоял из паровых судов, которые быстрее пересекали большие расстояния и свободно маневрировали в сражении. Самый крупный корабль, винтовой «Герцог Веллингтон» был настоящей махиной: 6000 тонн водоизмещения, 130 орудий, 1100 матросов. Еще важнее было то, что с таким флотом англичане могли в сжатые сроки перекинуть на другой конец континента большие контингенты войск, а затем обеспечить их бесперебойное снабжение.
Второй по размеру и качеству флот был у Франции, но эта держава к тому же содержала внушительную армию. В боевых частях числилась четверть миллиона солдат, еще двести тысяч – в запасных. Армия накопила боевой опыт в затяжной алжирской войне. Французское интендантство, полевая медицина и транспортная служба не имели себе равных. Особенно хорош был офицерский корпус. В отличие от русских, да и британцев, низкое социальное происхождение еще с наполеоновских времен перестало быть препятствием для карьеры. Наверх пробивались не самые родовитые, а самые способные. Более двух третей офицеров выслужились из рядовых солдат. В будущей войне французская военная машина станет для русских главным противником.
Третий участник альянса, Турция, несмотря на все реформы, сильной армии так и не завела. Османское войско было многочисленным, 165 тысяч солдат, но по организационным и боевым качествам отставало от запросов эпохи.
Но то же, в общем, можно было сказать и о российских вооруженных силах.
Флот, почти сплошь парусный, годился только для боев с турками. Больших паровых кораблей в нем не было. Ни на Черном море, ни на Балтике русские не осмелятся дать англичанам и французам ни одного сражения. Главное же – отечественные корабли не смогут помешать врагу доставить и высадить в ключевом пункте войны огромный десант.
Знаменитая николаевская армия тоже была грозна больше на бумаге. Уже говорилось, что при колоссальном штатном составе она могла отправить на фронт не так уж много боевых частей и обладала очень скудными резервами. Снабжение и санитарное обеспечение были плохо устроены и подточены казнокрадством. Тактика почти не продвинулась со времен Наполеоновских войн. В сражении колонны двигались сомкнутым строем, офицеров можно было различить издалека, и вражеские стрелки будут выводить метким огнем их из строя еще в самом начале боя, а без командиров не приученные к инициативности солдаты станут мало на что способны. На огневую подготовку в николаевской армии по норме отводилось только десять зарядов на человека в год, поэтому стреляли из рук вон плохо. Да и ружья были нехороши. Во второй половине сороковых ввели новое капсюльное ружье, но опять гладкоствольное, ограниченной дальности. Нарезные винтовки имело лишь 5 % пехотинцев (у французов – треть, у британцев – больше половины). Отставание по стрелковому вооружению станет одной из главных причин будущих поражений.
Зато русские солдаты были наряднее, намного лучше маршировали, оглушительно приветствовали начальство и лихо ходили в штыковые атаки – правда, под прицельным огнем добегут до врага немногие.
Война с Турцией
Непосредственный повод для войны был странный – спор о том, кто должен распоряжаться ключами от вифлеемской церкви Рождества Христова.
По Кучук-Кайнарджийскому договору 1774 года ключи находились у православной общины. Наполеон III, желая угодить Ватикану, стал добиваться, чтобы привилегия была передана католикам. Турецкие власти, владевшие Палестиной, некоторое время метались между претендентами и в конце концов уступили требованию Франции. Николай вознегодовал за веру и оскорбился за империю. Появился предлог припугнуть Турцию и добиться от нее всех нужных политических уступок под угрозой войны.
В итоге из-за ключей от христианского храма переубивают и перекалечат друг друга сотни тысяч людей, в основном христиан.
События развивались быстро.
В декабре 1852 года французы получили заветные ключи. В феврале 1853 года в Константинополь на военном судне прибыл чрезвычайный посланец Николая светлейший князь Меншиков с ультиматумом: ключи вернуть, а заодно отдать под покровительство царя всех православных, проживающих на турецких территориях (это была примерно треть населения Османской империи). Прямым вмешательством во внутреннюю политику Турции было требование отставки враждебного России министра иностранных дел. Кроме того, Константинополь должен был вступить в тайный союз с Россией против Франции.
Для пущей убедительности к границе был придвинут армейский корпус.
Турки, конечно, испугались, но меньше, чем рассчитывали в Петербурге. Причина неожиданного упрямства заключалась в том, что и Англия, и Франция обещали султану поддержку – обеим державам обострение конфликта было кстати, особенно Наполеону III.
Ключи еще куда ни шло, но на тайный союз с Россией и на унизительное переподчинение своих подданных другому государству турки не соглашались. Меншиков грозился, что срок ультиматума три недели, а потом он отбудет обратно, и пусть Порта пеняет на себя. В результате князь просидел в турецкой столице два месяца и вынужден был вернуться ни с чем.
Турция в медвежьих объятьях. Английская карикатура
После этого у Николая не оставалось иного выбора, кроме как перейти от угроз к действиям. Он разорвал дипломатические отношения и в середине июня 1853 года ввел в Дунайские княжества 80-тысячную армию. Война при этом объявлена не была. В манифесте говорилось: «Признали Мы необходимым двинуть войска Наши в Придунайские княжества, дабы доказать Порте, к чему может вести ее упорство» – то есть простодушно признавалось, что Турции выкручивают руки с применением насилия.
И опять в Константинополе испугались недостаточно, потому что рассчитывали на заступничество европейских держав.
В Вене действительно собралась международная конференция с участием Англии, Франции, Австрии и Пруссии. Участники выработали компромисс, который мог бы спасти разваливающуюся меттерниховскую систему европейской безопасности: Россия выведет из оккупированной зоны свои войска, а за это получит некое туманное право покровительствовать турецким православным подданным и столь же неопределенные гарантии контроля над палестинскими святынями. Примирительный тон документа объяснялся тем, что Пруссия, а вслед за ней и Австрия не захотели дальнейшего обострения (хотя и в этих двух странах имелись сильные антирусские партии). Но англичан такой оборот не устраивал. Они отправили к берегам Турции эскадру, а их константинопольский посол убедил султана потребовать изменений в предполагаемом русско-турецком договоре. Редактура была малосущественной, но Абдул-Меджиду хотелось сохранить лицо. Николаю же, кое-как еще готовому считаться с консолидированной позицией Европы, учитывать мнение турок показалось совсем уж унизительным для столь великого государя и столь великой державы.
Царь в резкой форме отказался от дальнейших уступок. Турция тоже отступать больше не могла. В конце сентября 1853 года она потребовала вывести русские войска с занятой территории и, не получив ответа, через несколько дней объявила войну.
Николай выпустил манифест, в котором объявлялось, что раз «меры дружеского убеждения» оказались бесполезны, Турции придется ответить за оскорбления.
Военные действия начались сразу же на суше и на море.
К Босфору тем временем подошла объединенная англо-французская эскадра – для демонстрации своей обеспокоенности и для наблюдения.
Если бы русская армия подтвердила свою грозную репутацию и быстро разгромила турок, возможно, союзники и не решились бы ввязываться в конфликт, но такого не произошло. События развивались по худшему для России сценарию.
Сначала, в ноябре, Черноморский флот под командованием вице-адмирала Нахимова при Синопе уничтожил всю турецкую эскадру, что вызвало волну паники в Европе и очень усилило антироссийские настроения в Англии и Франции. А затем оказалось, что «медведь» опасен, но не так уж страшен. Русские сухопутные войска долго пытались переправиться через Дунай и никак не могли преодолеть упорное сопротивление противника. Удалось это лишь в марте следующего 1854 года, но состарившийся Паскевич действовал слишком медленно и не смог взять крепость Силистрия.
Получалось, что русский флот неплох, но его не опасались. Зато знаменитая русская армия, которой в Европе только и боялись, не так уж и сильна.
И Франция с Англией заговорили с Петербургом по-другому.
Международная изоляция
В декабре 1853 года, сразу после Синопа, четыре державы – Англия, Франция, Австрия и Пруссия – выступили с осторожным заявлением, увещевая царя не нарушать целостность Турции. Упоенный победой Николай, конечно, это предложение проигнорировал.
Но дальнейших успехов Россия не добилась, время работало против нее, и уже в конце февраля англичане и французы заключают военный союз с Турцией. Вопрос о войне был уже решен и в Лондоне, и в Париже. Коалиция направила в Петербург ультиматум: немедленно отвести войска. Всем было понятно, что этого не произойдет. По истечении назначенного срока обе европейские державы объявили войну.
Общественное мнение, которое в Европе, в отличие от России, имело значение, отнеслось к этому шагу с одобрением. Все устали от «жандарма», всем хотелось поставить царя Николая на место.
И это было только начало. В конце марта бывшие российские союзницы, Австрия и Пруссия, объявили о единстве с Англией и Францией. Петербург потребовал от Вены и Берлина хотя бы гарантий нейтралитета – и получил отказ. Это была настоящая политическая катастрофа.
Пруссия, впрочем, вела себя довольно сдержанно, но Австрия, имевшая собственные интересы на Балканах, проявила неожиданную агрессивность. В июне 1854 года Вена внезапно предъявила ультиматум с требованием немедленно очистить Дунайские княжества. Австрийская армия сосредоточилась у границы, готовая применить оружие. В это время английский флот уже нападал на русские порты, а союзная армия готовилась к транспортировке. Россия не могла допустить открытие еще одного фронта.
Проклиная австрийское вероломство, царь уступил Вене и приказал войскам отойти. Это было страшным ударом по престижу империи. Австрийцы оккупировали спорную территорию сами, но этим их участие в конфликте не исчерпалось. Не разрывая отношений с Петербургом окончательно, они до самого конца войны держали у русских рубежей мобилизованную армию и тем самым оказывали коалиции колоссальную помощь. Испытывая постоянную нехватку резервов на основном фронте, в Крыму, Николай будет вынужден главные силы группировать на западе, чтобы удержать Австрию от нападения. В Царстве Польском и на Днестре русских войск окажется вдвое больше, чем близ Севастополя, на который обрушится удар англо-франко-турецкой армии.
Вскоре к коалиции присоединится еще одна участница – Сардиния, которой Луи-Наполеон пообещает за это помощь в объединении Италии. Сардинский корпус, 15 тысяч солдат, примет участие в осаде Севастополя. Это событие будет иметь не столько военное, сколько политическое значение: европейская солидарность в борьбе с ненавистным «жандармом».
Конечно, это был не бой в одиночку с «двунадесятью языками», как в 1812 году, но всё же абсолютная изоляция перед лицом враждебного мира.
Николай, всегда лично руководивший дипломатией, нагромоздил много ошибок и на этом поприще.
Не верил, что англичане сговорятся с французами, – ошибся.
Не верил, что Турция осмелится воевать, – ошибся.
Не верил, что европейцы возьмутся из-за Турции за оружие, – ошибся.
Про Вену говорил: «Что касается Австрии, то я в ней уверен» – опять ошибся.
В политическом смысле конфликт был проигран еще до того, как началась настоящая большая война.
Технологическая война
Эту войну назовут первой современной или первой технологической. По многим параметрам она стала предвестницей грядущих мировых макровойн.
Воевали по большей части не в открытом поле и не маневренно, а позиционно, в окопах и укреплениях. Иногда ожесточенные бои шли за крошечный клочок земли. Впервые главную роль играли технические рода войск: артиллеристы и инженеры. Кавалерия, от которой доселе чаще всего зависел исход сражения, оказалась на третьестепенных ролях.
Стороны использовали множество новых изобретений.
На море господствовали паровые корабли. В небывалых по масштабу артобстрелах участвовали ракетные батареи. Союзники провели из тыла на позиции железную дорогу и проложили по морскому дну 380-километровый кабель, установив электротелеграфное сообщение с Парижем и Лондоном. В результате приказы и информация через весь континент будут передаваться быстрее, чем в Севастополь из Петербурга.
Наконец, это первая война, которую освещали фронтовые журналисты, а стало быть за нею почти «в реальном времени» могло наблюдать общество. Репортер «Таймс» Уильям Рассел отправлял в редакцию статьи, которые, как положено, прославляли молодцов в красных мундирах, но в то же время обращали внимание британцев на проблемы и дефекты – и эти недостатки исправлялись. Фотограф Роберт Фентон делал снимки, позволявшие увидеть, как война выглядит на самом деле.
Отечественная журналистика при цензурных строгостях и отсутствии общедоступного телеграфа (у русских был только оптический, низкой проходимости) не могла соперничать с иностранными коллегами по оперативности, зато брала качеством. Севастопольские очерки молодого артиллерийского поручика графа Л. Толстого вошли в золотой фонд мировой литературы.
Войн, собственно, было две. На одной, кровавой, солдаты палили из ружей и пушек, кто-то наступал, кто-то оборонялся, там бывали локальные победы и поражения, но истинная судьба противостояния решалась на войне невидимой, в которой столкнулись финансовые, экономические, промышленные, социальные и политические системы. В конечном счете победила сторона, у которой было больше ресурсов и которая ими лучше распоряжалась.
Но генералам и монархам, во всяком случае Николаю Павловичу, казалось, что участь войны определяется правильно составленной диспозицией.
Кампанию 1854 года с учетом появления новых грозных неприятелей царь спланировал осторожно. Речь о «кресте над Святой Софией» уже не шла. От похода на Константинополь отказались. Главным театром считался бессарабский. Туда и были стянуты основные силы. Государь планировал отбить натиск врага, а затем перейти в наступление. «Август и сентябрь полагаю я, что с пользою употребятся для решительного удара, то есть для овладения Силистрией, а быть может, и Рущуком», – писал он.
Фотография Р. Фентона из Крыма
Но в августе и сентябре у русских будут совсем другие заботы.
Инициатива все время принадлежала противной стороне. Сначала, в июне, французы с англичанами действительно высадились в турецкой Болгарии, и казалось, что Николай верно угадал главный фронт. Но намерения союзного командования были иными. Пользуясь полным господством на море, маршал Сент-Арно вознамерился перебросить армию в Крым, чтобы уничтожить базу российского флота в Севастополе. План этот отчасти объяснялся еще и тем, что в Крыму у русских было не так много сил, а Севастополь являлся крепостью только со стороны моря. С суши его можно было захватить почти беспрепятственно.
В начале сентября близ Евпатории была осуществлена величайшая в тогдашней истории десантная операция. Более шестидесяти тысяч солдат, 130 орудий, тысячи лошадей, огромное количество грузов были на глазах у русских дозоров переправлены с 389 кораблей на берег. По свидетельству очевидцев, издали союзная эскадра выглядела как огромный промышленный город, задымивший все небо своими фабричными трубами.
Война пришла на российскую территорию.
Крымская эпопея
Высадка продолжалась целых шесть дней, но ее прикрывали дальнобойные орудия боевых кораблей, и помешать русские не могли. К тому же они плохо подготовились к подобному развитию событий. Главнокомандующим в Крыму был царский любимец светлейший князь Меншиков – тот самый, что безуспешно добивался от султана покорности. Надо отдать светлейшему должное: он один из первых догадался, что главный удар будет нанесен именно по Крыму, добровольно вызвался защищать этот уязвимый участок и даже приступил к фортификационным работам, но в Петербурге гораздо больше опасались за Балтику и Бессарабию, поэтому сил у Меншикова было меньше, чем у маршала Сент-Арно. Да и полководческими талантами князь не отличался.
Александр Сергеевич Меншиков (1787–1869) был, можно сказать, потомственным фаворитом, правнуком петровского соратника. Николай ценил и уважал князя за острый ум и за еще более острый язык, за несомненную честность и за личную храбрость – Меншиков был несколько раз ранен, участвуя в разных сражениях, в том числе в Бородинском. Кроме того, это был убежденный, а не конъюнктурный консерватор-государственник, полностью разделявший взгляды императора. Меншиков прошел обычный для его поколения путь от очарования либерализмом до полного в нем разочарования. В молодости, при Александре, Александр Сергеевич участвовал в составлении проекта об отмене крепостного права; в николаевском секретном комитете по крестьянскому вопросу это был один из самых упорных противников освобождения.
На должности морского министра Меншиков тоже был консерватором, что не пошло на пользу русскому флоту. По старинке воевал он и в Крыму, не учитывая того, что со времен Бородина тактическое искусство совершенно переменилось.
Стянув все наличные войска, русский главнокомандующий дал сражение высадившемуся десанту, едва тот вышел из-под прикрытия морской артиллерии. Несмотря на удобство позиции (русские войска расположились на высотах, позади реки Альма), удержать врага не получилось. Наступая, французы и англичане открывали огонь с 800 метров, и русские с их бесполезными на такой дистанции гладкоствольными ружьями еще до столкновения несли большие потери. Пушечный огонь по атакующим оказался не слишком действенным, потому что они двигались не сомкнутыми колоннами, а цепями. В результате наступающие по открытой местности союзники потеряли вдвое меньше людей, чем обороняющиеся, и Меншикову пришлось отступать. Желая сохранить свою потрепанную армию от блокирования, он отошел не к Севастополю, а вглубь полуострова. Путь на еще не укрепившийся город был открыт. До него оставалось всего два перехода. Казалось, участь кампании решилась в одном-единственном сражении.
Но союзники совершили серьезную ошибку. Вместо того, чтобы идти прямо на город, они обогнули его по дуге и вышли к морю с другой стороны. Им представлялось опасным атаковать город, защищаемый пушками Черноморской эскадры, имея в тылу недобитую русскую армию, и хотелось избежать лишних потерь. Казалось, Севастополь все равно обречен, его сдача неизбежна, достаточно только подождать. А ждать лучше рядом с удобной Балаклавской бухтой (в 15 километрах к югу от города), куда корабли будут доставлять провизию и боеприпасы.
Если командование русской армии на протяжении всей войны было весьма слабым, то и союзники в этом отношении не блистали. В царских войсках по крайней мере существовало единоначалие, приказы могли быть нехороши, но они исполнялись. Французы же с англичанами часто не могли между собой договориться, спорили, ссорились, ревновали. Пост главнокомандующего являлся скорее номинальным. Каждая армия повиновалась собственному начальнику, а они еще и постоянно менялись.
У французов алжирский ветеран маршал Сент-Арно, бывший военный министр, был тяжело болен и в конце сентября скончался. Командование принял генерал Канробер. Потом, после ряда неудач, его сменил генерал Пелиссье – всё на протяжении нескольких месяцев. Англичанами, у которых главным достоинством считались старшинство и выслуга лет, сначала руководил вялый лорд Раглан, получивший первый офицерский чин еще во времена Трафальгара. Когда он умер (как пишут во всех энциклопедиях, «от дизентерии и депрессии»), место занял столь же тусклый генерал Симпсон, а затем генерал Кодрингтон, до Крымской кампании никогда не воевавший.
Верховное командование по обе линии фронта соперничало между собой по числу ошибок, нелепостей и недоразумений, что выливалось в лишние человеческие потери. Иногда возникает ощущение, что каждая сторона изо всех сил старалась поскорее проиграть войну – а другая ей упорно мешала, из-за чего севастопольская мясорубка всё прокручивалась и прокручивалась.
Историки всех стран-участниц много пишут о героизме, и его в Крыму действительно было с лихвой. Когда солдатам требуется проявлять героизм, это верный признак того, что ими скверно командуют. Некомпетентность начальства приходится компенсировать жертвенностью подчиненных. У хорошего полководца всё работает, как часы, потери минимальны, неожиданностей и критических ситуаций не возникает. Севастопольская же сага была сплошной критической ситуацией – для всех.
Затопление флота. И.А. Владимиров
Русским приходилось полагаться на героизм и самоотверженность еще больше, чем союзникам, потому что к бездарности командования присовокуплялась плохая организация снабжения, очень архаичная и подточенная коррупцией.
Безусловным подвигом, например, была скорость, с которой слабый севастопольский гарнизон с помощью мирных жителей возвел по всему внешнему сухопутному периметру земляные укрепления для защиты брошенного армией города.
Корабли Черноморского флота пришлось затопить еще и потому, что пушки и экипажи понадобились для обороны с суши. В роковые дни конца сентября – начала октября 1854 года Севастополь спасло то, что распоряжался здесь не Меншиков, а флотский начальник вице-адмирал Владимир Корнилов, деятельный и для очень пожилой николаевской военной элиты довольно молодой. «Должно быть, Бог не оставил еще России; конечно, если бы неприятель прямо после Альминской битвы пошел на Севастополь, то легко овладел бы им», – записал Корнилов в своем дневнике и не упустил предоставленного судьбой шанса.
План союзников заключался в том, чтобы не штурмовать город, ввязываясь в уличные бои, а принудить его к сдаче мощной бомбардировкой. К 5 октября французы и англичане наконец закончили подготовку и открыли огонь с суши и моря, выпустив за шесть часов 50 тысяч снарядов. Русские ответили 20 тысячами выстрелов. Подобной артиллерийской дуэли в мировой военной истории еще не бывало. Поскольку силы были неравны, выстояла русская оборона исключительно за счет героизма. Геройски погиб и Корнилов, который, будучи вынужден подавать защитникам пример храбрости, появлялся в самых опасных местах и в конце концов был смертельно ранен французским ядром.
За ночь убитых и раненых унесли, разбитые пушки заменили, земляные укрепления восстановили. Наутро союзники поняли, что осада быстро не закончится.
И вскоре героизм пришлось проявлять уже им.
Через неделю, получив подкрепления, русская армия попыталась деблокировать Севастополь, нанеся удар по Балаклаве. Добиться желаемого результата не удалось, не хватило сил, но из-за плохого управления британская армия вписала в свою историю два подвига, которыми гордится до сих пор.
Сначала в английской позиции по оплошности образовалась прореха, через которую русская кавалерия могла прорваться к Балаклаве. На пути казачьей лавы оказался шотландский пехотный полк. Чтобы закрыть брешь, ему пришлось вытянуться в две шеренги. Полковник сказал: умрите на месте, но не отступайте. Бравые солдаты повиновались. Спасли их только нарезные винтовки, позволившие вести огонь еще издали. После трех залпов казачья атака захлебнулась. Выражение «тонкая красная линия» с легкой руки корреспондента «Таймс», прославившего этот малозначительный эпизод, в английском языке стало нарицательным. Оно означает держаться до последнего при неблагоприятных обстоятельствах.
Не менее знаменит катастрофический бросок легкоконной бригады, которая из-за путаницы в приказах, вопреки всем законам тактики, понеслась по открытому пространству штурмовать русскую батарею и была изрешечена картечью. В одном из самых известных произведений всей английской поэзии Альфред Теннисон прославил нерассуждающую готовность настоящих героев выполнять даже идиотские приказы начальства:
Не им рассуждать почему, Их дело – погибнуть в дыму. Шестьсот поскакали вперед, В долине их Смерть заберет.Союзники стали готовиться к генеральному штурму, но этот план нарушила новая попытка Меншикова сорвать блокаду, предпринятая одиннадцать дней спустя у Инкерманских высот. Русские потерпели тактическое поражение и понесли тяжелый урон (выбыло 12 тысяч солдат), но в стратегическом отношении бой получился скорее успешным: штурм не состоялся. Из-за этого осаждающим пришлось зимовать на позициях – в палатках и бараках. Болезни и скверные санитарные условия унесли больше жизней, чем русские пули и ядра. Более опытные французы пострадали меньше, но британцы и в особенности турки умирали тысячами. (Подсчитано, что у англичан три четверти безвозвратных потерь произошло из-за болезней.) К тому же в середине ноября на союзный флот обрушилась страшная буря, утопив полсотни кораблей и повредив большинство остальных.
«Тонкая красная линия». Роберт Гибб
И тем не менее союзная армия снабжалась и содержалась намного лучше русской, притом что город не был отрезан от тыла. Противник обложил только южную часть города, а с севера Севастополь прикрывала армия, и дорога до Симферополя оставалась свободной.
Но обозы и подкрепления еле тащились, сначала увязая в осенней грязи, потом утопая в снегах. В это время союзники постепенно обустраивались. Суда бесперебойно доставляли им все необходимое, железная дорога подвозила на позиции новые пушки и снаряды. Редактор вполне благонамеренного журнала «Москвитянин» Михаил Погодин в это время писал: «Мы не воображали, чтобы в Крым могло когда-нибудь попасть иностранное войско, которое всегда-де можем закидать шапками… а там явилось сто тысяч, которых мы не можем выжить… Кто мог прежде поверить, чтоб легче было подвозить в Крым запасы из Лондона, чем нам из-под бока, или чтоб можно было строить в Париже казармы для Балаклавского лагеря? [имелись в виду разборные бараки – еще одна новинка той войны]».
Черноморский театр военных действий в войне 1853–1856 гг. М. Романова
В результате, несмотря на все лишения, к весне осаждающая армия не ослабела, а существенно усилилась – и численно, и технически. К маю 1855 года у союзников в Крыму было уже 200 тысяч солдат и более пятисот осадных орудий.
В конце марта Севастополь был подвергнут второй массированной бомбардировке. На сей раз она продолжалась больше десяти дней и сопровождалась вылазками пехоты. На город обрушилось 165 тысяч снарядов. Но разрушения были недостаточными, а сопротивление не ослабевало, и на генеральный штурм союзники опять не решились.
Третья бомбардировка 22–24 мая получилась более успешной, и осаждающие подобрались совсем близко к Малахову кургану, главному опорному пункту обороны. Теперь они наконец отважились на приступ. Наполеон III торопил своих генералов, чтобы битва состоялась именно 6 июня (по западному стилю), в сороковую годовщину Ватерлоо. Если бы тогдашние противники в такой день победили общего врага, это выглядело бы прекрасным символом для всей Европы. Как обычно бывает на войне, когда политические соображения превалируют над тактическими, расплачиваться за юбилей пришлось солдатам. Штурмовать еще не сломленный гарнизон было рано. За свою поспешность союзники очень дорого заплатили, потеряв десять тысяч человек. Это было крупное поражение, которое надолго отбило у них охоту к подобным предприятиям.
Они поменяли стратегию, истощая защитников каждодневной канонадой. Преимущество в артиллерии и особенно в боеприпасах гарантировало, что потери севастопольцев будут в несколько раз выше. Так и происходило.
Ежедневно гарнизон терял по несколько сотен человек, а обстрел все усиливался. 28 июня пал севастопольский комендант адмирал Павел Нахимов. Госпитали были переполнены ранеными. Истощенная страна не могла компенсировать такие потери – ее промышленность не справлялась с военными заказами, транспортных средств не хватало, иссяк запас обученных резервов. Как в Отечественную войну, объявили призыв ополченцев и набрали 360 тысяч ратников, но в Крым попали лишь 17 тысяч – такова была логистика у тогдашних мобилизаций.
К середине августа стало ясно, что падение Севастополя – вопрос недель. Безнадежного Меншикова убрали еще в феврале, однако новый главнокомандующий Михаил Горчаков не мог исправить ситуации. Силы были явно неравны.
16 августа Горчаков пошел ва-банк: предпринял наступление в пойме реки Черная, на северном конце блокадной дуги. В случае успеха можно было бы опрокинуть всю вражескую линию. Предприятие было отчаянное и ничем хорошим не закончилось. Русские войска под сильным огнем волна за волной атаковали численно превосходящего и хорошо укрепившегося на высотах противника. Героизма было проявлено очень много. Генералы лично водили полки в атаку и погибали один за другим. Потеряв убитыми и ранеными больше 8 тысяч солдат, которых так не хватало на севастопольских редутах, Горчаков отступил.
Севастополь пал. Вот то, что досталось победителям. Фото Дж. Робертсона
Сразу же после этого стартовала новая затяжная бомбардировка, она почти без перерывов длилась три недели. Ряды защитников таяли день ото дня. Наконец 7 сентября 1855 года пал Малахов курган, господствовавший над городом, и русские войска ушли из южной, разрушенной части Севастополя на другую сторону бухты по понтонному мосту.
Одиннадцатимесячная осада стоила жизни 100 тысячам русских и 130 тысячам европейцев, к чему нужно еще прибавить турецкие потери, точно не подсчитанные, но очень значительные.
Некрымские участки Крымской войны
За этой большой войной в истории закрепились странные названия – Восточная, хотя велась она не только на востоке, или Крымская, хотя пушки грохотали не только на этом полуострове.
Самым знаменитым и кровавым эпизодом, конечно, была борьба за Севастополь, но заняла она лишь треть всего времени.
Даже и на Черном море с падением этого города боевые действия не закончились. У русских оставалась кораблестроительная база в Николаеве, и союзники не могли считать свою задачу окончательно исполненной, пока не взят и этот порт.
В октябре 1855 года англо-французская эскадра приблизилась к крепости Кинбурн, охранявшей доступ к николаевским верфям, подвергла ее сильной бомбардировке и понудила к сдаче. Но пробиться к самому Николаеву корабли не смогли, потому что фарватер оказался заминирован (тоже техническое новшество этой войны), а десант попал под огонь береговых батарей. Экспедиция не удалась.
На другой стороне Черного моря, кавказской, воевали дольше всего – с 1853 года до 1856. Русским здесь было легче, потому что приходилось иметь дело только с турками. Зато и сил у наместника Воронцова все время не хватало. Он должен был держать заслон против Шамиля и обходиться без подкреплений из центра. Турки располагали трехкратным численным преимуществом и на первом этапе наступали, одержав несколько малозначительных, но зазорных для имперского престижа побед. Однако взять Тифлис не смогли, и в кампании 1854 года к наступлению перешли уже русские. Они вторглись на турецкую территорию и подошли к главной крепости региона Карсу, но осадить его по недостатку сил не решились и отошли.
В следующем году Воронцова сменил энергичный Николай Муравьев, уже бравший Карс в 1828 году. На этот раз крепость легко не далась. Она выдерживала осаду целых полгода, превратившись в своего рода турецкий Севастополь. В сентябре 1855 года русские попытались взять Карс штурмом, потеряли семь тысяч солдат и отступили. В это время в глубоком русском тылу, близ Сухума, высадился большой турецкий десант, чтобы идти на Грузию с севера. Правитель Абхазии князь Шервашидзе, генерал русской службы, повел себя двусмысленно – значительная часть его подданных была настроена в пользу турок. С учетом того, что незадолго перед тем пал Севастополь, а затем и Кинбурн, положение русских во всем Черноморском регионе выглядело отчаянно.
Но в конце ноября измученный голодом Карс сдался, и абхазский плацдарм утратил свое значение. Турецкий корпус уплыл обратно, и активные боевые действия на Кавказе закончились – скорее в пользу русских.
Имея огромный флот, Британия доставляла России неприятности повсюду – и на западе, и на севере, и на Дальнем Востоке.
Это был принцип медвежьей охоты, когда собаки наскакивают на зверя со всех сторон, и он не знает, куда повернуться.
Еще в самом начале войны вражеские корабли появились в Белом море и зачем-то подвергли бомбардировке Соловецкий монастырь.
Но больше всего царь Николай, конечно, опасался за Балтику.
Два главные крепости Кронштадт и Свеаборг были блокированы сильной английской эскадрой, к которой присоединились и французские корабли. Летом 1854 года союзный десант захватил Аландские острова. Летом 1855 года огнем с моря был разрушен Свеаборг.
Морские диверсии предпринимались главным образом для того, чтобы, оберегая Петербург, русские держали на этом направлении побольше войск. План сработал. Лучшие полки, в том числе гвардия, вместо того, чтобы отправиться в Крым, всю войну простояли на Балтике.
Война достигла и Тихого океана, находившегося тогда в центре британских экономических интересов. Эскадра контр-адмирала Прайса попыталась захватить единственную русскую военную базу в этом регионе, Петропавловск-Камчатскую крепость. В конце лета 1854 года в пустынном крае загрохотали пушки. Нападение было отбито, но при вражеском господстве на море удерживать крепость русские не могли. В следующем году они сами уничтожили укрепления и ушли с полуострова.
Итоги войны
Неизвестно, сколько продлилась бы эта злосчастная для России война, проживи Николай I дольше. Царь был упрям и самолюбив, жертвы его не страшили, и в конце концов бои шли только на границах империи. В патриотической прессе поминали о том, что в 1812 году враг дошел до самой Москвы – и то победили.
Но в феврале 1855 года «железный император» умер, по его собственному выражению, «оставив команду» наследнику в неважном состоянии. Уже в следующем месяце начались переговоры о мире. Однако выдвинутые союзниками условия показались России слишком суровыми: сократить Черноморский флот, разоружить Севастополь и отказаться от посягательств на целостность Порты. Первые два требования были унизительны, последнее подразумевало полный отказ от покровительства славянским народам. В июне 1855 года, после того как штурм Севастополя провалился, в Петербурге несколько воспряли духом. Переговоры были прерваны.
Но к концу года ситуация для России сильно ухудшилась. И тут последовал новый удар – опять со стороны формально нейтральной Австрии. В декабре она предъявила ультиматум: если Россия не примет условий мира, Вена примкнет к коалиции. К этой позиции присоединилась и Пруссия.
Расширять войну у России никакой возможности не было. Пришлось уступить и согласиться на кондиции еще более тяжелые, чем те, что были отвергнуты полгода назад.
По Парижскому договору, подписанному в феврале 1856 года, Россия вовсе отказывалась от Черноморского флота, больше не претендовала на покровительство турецким православным, да еще отдавала часть Бессарабии. Последнее условие для империи, давно уже никому не уступавшей своих территорий, было особенно тяжелым. Из сверхдержавы, еще недавно диктовавшей свою волю всему европейскому континенту, Россия спускалась до уровня второстепенного государства, ниже Британии, Франции, Австро-Венгрии и даже Пруссии, которая скоро превратится в Германию.
Силы страны были подорваны. И главной проблемой для империи являлись не людские потери (хоть и очень значительные – 150 тысяч смертей), а полный финансовый крах. Россия была разорена. В общей сложности военные расходы составили 800 миллионов рублей. Государственный долг достиг колоссальных размеров. Это обрекало бюджет на многолетний дефицит. Из-за неконтролируемой эмиссии обрушился рубль. Пройдет сорок с лишним лет, прежде чем национальная валюта вновь станет конвертируемой.
Но нет худа без добра. Тяжкое поражение преподало стране ценный урок, пусть оплаченный очень дорогой ценой. И наверху, и внизу всем стало ясно, что по-прежнему существовать невозможно. Необходимы реформы – кардинальные и быстро.
Заключение. Зигзаги «ордынскости»
Если посмотреть на описываемый период с точки зрения «ордынской» теории, картина получается парадоксальной. В первой половине XIX века страна словно экспериментирует сама над собой, то убавляя, то повышая градус «ордынскости».
Александр пытается создать либеральное государство, жители которого будут уже не бесправными слугами престола, а гражданами. Николай делает резкий поворот в другую сторону и отбирает часть прав даже у привилегированного сословия. При этом империя – удивительно! – достигает небывалого величия при царе-либерале и утрачивает это положение при царе-государственнике. В 1856 году ее международный вес оказывается ниже, чем был в XVIII веке, не говоря уж о 1814 годе. Получается, что укрепление самодержавных «столпов» не усилило, а ослабило Россию?
Но загадок здесь нет.
Исторически «ордынская» модель государства выказывала самые лучшие свои качества – сплоченность, хорошую управляемость, готовность к жертвам, высокую мобилизационную способность – в периоды тяжелых испытаний. Поэтому отечественные войны ей всегда удавались лучше, чем завоевательные. Русские плохо дрались с Наполеоном в 1805–1807 годах и превосходно в 1812-м, потому что вражеское вторжение мобилизовало все ресурсы большой, сильной страны.
При Николае же все войны были окраинными, имперскими, и подобного отклика в народе не вызвали. Сказался и негативный эффект долгого европейского мира. Дело в том, что государство «ордынского» типа всегда плохо развивается в мирное время. Слишком много внутренних факторов, тормозящих эволюционные процессы. Учредив систему европейской коллективной безопасности и, сколько было возможно, ее сохраняя, империя сама себе навредила. В других странах ширилась индустриальная революция, росла экономика, формировалось современное общество, а российская власть тратила свои силы на то, чтоб всё оставалось по-прежнему. Государство отставало, гнило, дряхлело. Сильным и монолитным оно выглядело только с фасада, да в докладах, подаваемых на высочайшее имя.
Внутри никакого единства не было. Недовольные помалкивали или перешептывались, потому что поднимать голос было опасно, но к концу николаевского царствования пресловутое ощущение, что «так жить нельзя», пронизывало общество снизу доверху. Сам наследник престола великий князь Александр Николаевич, не осмеливавшийся перечить властному родителю, очень хорошо понимал, что жесткий «государственнический» курс для страны вреден и опасен. Да и трудно было этого не понимать на фоне военных поражений и экономического коллапса.
В оппозиции к власти оказалась и значительная часть дворянства. После александровских вольностей при Николае оно чувствовало себя ущемленным. Единственным оправданием для диктатуры могут быть громкие победы. Когда же они сменяются поражениями, все перестают понимать, из-за чего они живут хуже, чем могли бы. Для военной империи, которой являлась Россия, после Крымской войны вопрос встал еще жестче. Если Россия хотела сохраниться на карте, ей нужно было поменять всё: сословную систему, экономику, вооруженные силы, законы, управление.
За долгие годы жесткого «государственнического» управления элита успела забыть, что в свое время разочаровалась в либерализме. Ранние александровские времена теперь вспоминались, как золотой век.
России предстоял новый зигзаг в метании между Сциллой и Харибдой: от тотального «завинчивания гаек», доведшего страну до убожества, к их стремительному «развинчиванию», чреватому революционным хаосом, – и потом обратно.
Следующий том будет называться «Реформы и контрреформы».
Сноски
1
Не делала особенной чести репертуару г-на Скриба (фр.).
(обратно)


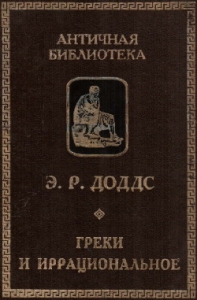

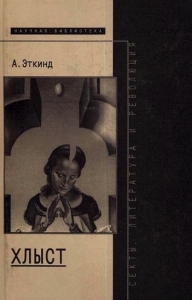

Комментарии к книге «Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный», Борис Акунин
Всего 0 комментариев