Кэтрин Мерридейл Каменная ночь. Смерть и память в России XX века
© Catherine Merridale, 2000
© К. Полуэтова-Кример, перевод на русский язык, 2019
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО “Издательство Аст”, 2019
* * *
От автора
Я не смогла бы написать эту книгу без поддержки многих людей в России и Украине: уцелевших в гуманитарной катастрофе советского периода, солдат, милиционеров, врачей, социальных работников, священников, монахинь, заведующих похоронными бюро, гражданских активистов, – которые отвечали на мои вопросы, помогали избавиться от ошибок и заблуждений и искренне интересовались тем, как продвигается моя работа. Невозможно словами выразить мое восхищение их мужеством и теплотой.
Я в неоплатном долгу перед своей подругой, этнографом Еленой Строгановой, которая была моим научным ассистентом. Мое исследование было бы невозможно без ее скрупулезной профессиональной работы. Она сопровождала меня практически во всех путешествиях, хлестко комментировала экономическую ситуацию в провинции, заводила друзей на каждом шагу и терпеливо разбиралась с бюрократическими проблемами. Благодаря ей работать над проектом было значительно проще, и все предприятие стало выглядеть куда менее мрачно и безрадостно.
Множество других друзей и коллег на пространстве бывшего Советского Союза помогали мне советом и идеями. Особенно я хочу поблагодарить Сергея Панарина за его изобретательность и поддержку проекта с самого его зарождения, а также Оксану Бочарову, Валерия Михайловского, Андрея Попова, Владимира Школьникова, Алексея Смирнова, Ольгу Васильченко и Ольгу Зубец. Я также в большом долгу перед сотрудниками Всероссийского центра изучения общественного мнения и особенно перед Алексеем Левинсоном за помощь в проведении некоторых интервью. Среди тех, кто помог мне встретиться с ветеранами войны и другими уцелевшими, я не могу не отметить Илью Альтмана и всех, кто работает с ним в московском Центре и Фонде “Холокост”, Вадима Ионовича Фельдмана в Киеве, представителей Российского Союза ветеранов и сотрудников реабилитационного центра “Солнечный” в Зеленограде. Я признательна сотрудникам общества “Мемориал” за их невероятное великодушие и душевную щедрость, и особенно хотела бы поблагодарить Валерию Оттовну Дунаеву из московского отделения “Мемориала” и Вениамина Викторовича Иофе и Ирину Резникову из петербургского филиала.
Мой исследовательский проект состоялся при официальной финансовой поддержке со стороны Российской академии наук, и я хотела бы выразить признательность сотрудникам РАН за их помощь, в частности Владимиру Давыдову и Людмиле Колодниковой. Я также благодарна сотрудникам многих архивов и библиотек, в которых мне посчастливилось побывать. Нередко их сотрудникам приходится работать в условиях, далеких от идеальных, справляясь с серьезной нагрузкой. Учитывая эти непростые обстоятельства, я была тем более поражена широтой знаний, точными рекомендациями относительно источников и технической поддержкой, которую оказали мне эти люди. Эта книга многим обязана компетентности архивистов и библиотекарей, помогавших мне в работе.
Я бы не смогла довести этот проект до конца без щедрой финансовой поддержки и возможности взять продолжительный отпуск для проведения исследования. Фонд Джона и Кэтрин Макартуров Common Security Forum оплатил два года академического творческого отпуска в Бристольском университете, тем самым избавив меня от всяких проблем и предоставив такие условия для работы, о которых можно было только мечтать. Стипендиатом исследовательской программы я была с 1996 по 1998 год. Я также бесконечно благодарна лично Эмме Ротшильд, координатору фонда, которая с самого начала, когда я еще только обсуждала с ней свой замысел, горячо поддержала мой проект. Во время пребывания в Кембридже мне также посчастливилось получить исследовательский грант от Колледжа Робинсон. Я благодарна колледжу, который стал мне домом между моими поездками в Россию, его ректору и моим коллегам, другим стипендиатам, общение с которыми обогатило меня новыми идеями.
Оставшиеся – и немалые! – расходы, связанные с проведением исследования, были покрыты благодаря щедрому гранту Британского совета по экономическим и социальным исследованиям и Британской академии с ее программой научного обмена с РАН. Я признательна каждой из этих организаций за их поддержку. Спасибо моим друзьям и коллегам в Англии, с которыми сам процесс написания этой книги оказался куда менее трудным: я не могу представить ее без них. Больше всех как автор этого текста я обязана тем, кто читал каждый вариант, тем, чья творческая изобретательность и оригинальность мысли оставили свой отпечаток в каждой законченной мною главе. Мой литературный агент Питер Робинсон с самого начала понял мой замысел и на протяжении двух трудных лет терпеливо увещевал меня реализовать задуманное.
Кроме того, Питер нашел двух замечательных издателей, которые взялись подготовить мой проект к публикации. Нил Белтон, мой редактор в издательстве Granta, выудил самые лучшие фрагменты из еще совсем сырых черновых версий рукописи и проработал окончательный вариант текста с поразительным мастерством и сдержанностью, не навязывая свою точку зрения и уважая авторскую волю. Его профессионализм и компетентность многому научили меня как историка на каждом этапе работы. В Соединенных Штатах Венди Вульф, мой редактор в издательстве Viking, горячо поддержала идею издания рукописи, которую она к тому времени даже не видела, сопроводила финальный ее вариант блестящими комментариями и, как опытный кормчий, с присущими ей юмором и решительностью вела мой текст через все этапы редактирования.
Помимо редакторов и моего литературного агента, рукопись прочли, сопроводив комментариями, еще три человека: Ира Кацнельзон, Стив Смит и Дерек Саммерфилд. Каждый из них – настоящий знаток в своей области, каждый многому меня научил. Но больше всего я благодарна им за наши беседы, за то, что помогли мне увидеть написанное мной, за интеллектуальное товарищество и виртуозную критику. Тим Коул, Йен Коллинз, Джилл Гловер, Дэвид Гуд, Клэр Макорт, Николя Миллер, Кэтрин Рот и Линда Сандерс в важнейшие моменты работы прочитали и высказали свое мнение по поводу отдельных частей этой книги. Я также признательна Джоанне Брук, Джудит Шапиро, Джонатану Стайнбергу и Деборе Том за то, что еще в 1993 году они помогли мне начать думать о работе горя, о переживании утраты и с тех самых пор не уставали подталкивать меня к тому, чтобы писать и говорить на эту тему. Я благодарна Фонду Гарри Франк Гуггенхайм за приглашение выступить самой и послушать других в серии практических семинаров, которые проходили с 1995 по 1997 год и были посвящены темам смерти, травмы и насилия. Я хотела бы также выразить признательность своим коллегам и студентам в Бристольском университете, которые в течение нескольких лет терпели мое отсутствие – физическое и духовное, а затем радушно встретили меня после возвращения из длительных поездок.
Подобная книга обычно не обходится без посвящения, а в последнее время практически общим местом стали посвящения, адресованные жертвам Сталина. Мне подобная самонадеянность кажется нелепой и неуместной. Но у меня нет выбора. Коль скоро я начала эту книгу с попыток осмыслить смерть, понять, что означали и означают для общественного сознания и культуры в России смерти миллионов жертв советского режима, я заканчиваю ее, будучи в долгу перед этими мертвыми.
И только пыльные цветы, И звон кадильный, и следы Куда-то в никуда. И прямо мне в глаза глядит И скорой гибелью грозит Огромная звезда. Анна Ахматова. РеквиемПредисловие
Город Медвежьегорск существует благодаря железной дороге. Если от Санкт-Петербурга отправиться на север, то примерно через 12 часов приедешь в Медвежьегорск. Железная дорога практически все время идет на северо-восток, лишь изредка отклоняясь, чтобы обогнуть озера и болота. С первым дыханием осени, которое чувствуется здесь уже в середине сентября, эта болотистая местность становится временным пристанищем для тысяч гусей и диких лебедей, ненадолго останавливающихся здесь по пути на юг, на зимовку, и оглашающих округу своим гомоном. Но леса хранят почти гробовое молчание. Единственный крупный город на пути сюда – Петрозаводск, столица Карелии – расположен на западном берегу Онежского озера. Если вы проезжаете эти места днем, то вам удастся мельком увидеть его, огромное, как внутреннее море, сияющее холодным металлом сквозь сосны и лиственницы. Сам Медвежьегорск лежит на его северной оконечности, и летом бабушки с маленькими внучатами заполоняют берег, нежась в хлопчатобумажных панамах под драгоценными лучами северного солнца. Одни утверждают, что здешняя вода обладает целебными свойствами. Другие указывают на ржавеющие остовы кораблей, тут и там торчащие из озера на мелководье, и сбивчиво говорят о химикатах и о поруганной дикой природе России. Красивым Медвежьегорск никак не назовешь.
Редкий турист заезжает в этот город. Большинство продолжает свой путь на север. Дальше вверх по той же ветке железной дороги, после еще одного озера, раскинулось Белое море; оно привлекает туристов, интересующихся монастырями древности или тюрьмами нового, советского времени. Если вы продолжите свое путешествие на поезде – а раз вы сели в него на вокзале в южной части Санкт-Петербурга, значит, к этому времени уже успели провести в пути целых два дня, – то приедете в портовый город Мурманск. Когда-то преуспевающий центр военно-морского флота, Мурманск, как и другие арктические города, в 1990-е годы оказался в совершенно бедственном положении в результате развала прежней экономической системы. В пути вы вряд ли встретите много иностранных туристов. Однако вам выпадет удовольствие провести время в компании местных жителей, большинство из которых регулярно ездит этим маршрутом.
Русские, безусловно, вправе считаться одними из самых опытных в мире железнодорожных путешественников на большие расстояния. Их приготовления к поездке не могут не вызывать восхищения. Если вы присоединитесь к попутчикам, вас в любое время дня и ночи угостят сваренным вкрутую яйцом, солеными огурцами, колбасой, теплой водкой и сладким черным чаем. Вскоре выяснится, что окна в большей части старых советских железнодорожных вагонов не открываются. Но разговор всегда будет оживленным. На этом маршруте, скорее всего, будут обсуждать цены, зарплаты, произвол московских властей и надвигающуюся нехватку горючего для отопления. Практически обязательно хотя бы один из ваших попутчиков нет-нет да упомянет Брежнева или Сталина, и начнется дискуссия о преимуществах коммунистической системы.
Мы предприняли наше путешествие в конце октября 1997 года. В том году зима наступила рано, даже в Петербурге уже выпал первый снег. За городом, особенно по мере того как мы продвигались все дальше на север, снег полностью поглотил пейзаж, укрыл лес пушистым ковром, и даже зеленые кроны сосен стали ослепительно белыми. Мы покинули город в полночь и теперь с поздним восходом солнца очутились в совершенно другом мире. За окнами лежало утихшее Онежское озеро. “Как в сказке, да?” – прошептала одна из моих соседок по купе. При других обстоятельствах это замечание показалось бы банальностью. Но сказавшая это женщина, педиатр лет тридцати, пыталась удержать навернувшиеся на глаза слезы. Трудно найти подходящие слова, когда цель твоей поездки – братская могила, где похоронены убитые бабушка и дедушка, которых ты никогда не знал. Не существует общественных норм, регулирующих то, как следует вести себя перед лицом утраты, которая так и не была должным образом пережита и вовремя оплакана. “Знаете, их туда в одних рубашках привезли, им, наверное, было так холодно. И очень страшно, да?” Мурманчанин, который тоже ехал в нашем купе, сунул ноги в пластиковые шлепанцы и исчез в коридоре. Его голова была занята большим инженерным проектом, и он уже достаточно наслушался наших неуместных разговоров. Когда речь идет о смерти, русские могут становиться неожиданно закрытыми.
Мы остановились в единственной на многие километры вокруг гостинице – разваливающейся ледяной коробке советского образца на окраине Медвежьегорска. Когда все собрались, оказалось, что нас около восьмидесяти человек. Конечной целью нашего путешествия был сосновый лес рядом с Сандармохом, карельской деревней, название которой звучит странно даже для русского уха и до которой от города можно за 45 минут добраться на автобусе. 27 октября 1937 года, то есть равно 60 лет назад, сюда привезли первую группу обреченных на смерть заключенных. Ночью они проследовали в южном направлении через печально известную соловецкую тюрьму. Руководил операцией Михаил Родионович Матвеев, капитан НКВД, которому к концу недели нужно было выполнить расстрельную квоту. Перевозили заключенных не поездом, а баржами и грузовиками, под покровом ночи, чтобы у жителей Медвежьегорска, случись им поинтересоваться непривычным оживлением на дороге, не возникало ненужных вопросов, хотя вряд ли кому-то из них пришло бы в голову дать волю языку. В первой партии обреченных были и мужчины, и женщины, некоторые из них оставили в лагере маленьких детей. Узников попарно сковали цепями, и им действительно было очень страшно и очень холодно, потому что их заставили сбросить сапоги и теплую одежду. Им сказали, что делается это в целях обеспечения безопасности. За некоторое время до этого произошел неприятный инцидент, в результате которого был легко ранен охранник. Теперь уж таких проблем точно не будет. В ту ночь и в течение нескольких следующих ночей на просеке раздавалось эхо выстрелов и ударов кирок и заступов. К 4 ноября здесь были убиты 1111 человек.
Вопреки обычной практике, это место больше никогда не использовалось для расстрелов. Все ямы и бугры, которые могли бы выдать историю этой просеки, в 1950-е были скрыты от глаз рядами специально высаженных молодых сосенок. Местные жители знали о том, что здесь произошло, но постарались, по крайней мере наяву, забыть об этом как можно быстрее. В скором времени никто уже не знал наверняка, в какой именно части леса обитали призраки убитых. Мне говорили, что захоронения повсюду, что леса полны трупов. Тут были кости финских солдат и русских партизан, могилы времен Гражданской войны и затерянные погосты прежних обитателей этих мест, религиозных общин, крестьянских поселенцев, дезертиров. Хотя местные и не любили это обсуждать, большинство из них считало, что секретное захоронение, то самое, “сталинское”, было в паре-тройке километров в другом направлении. Затем летом 1997 года археолог и два историка из Санкт-Петербурга нашли настоящее место. Они привели туда мэра города. Тот пришел в ужас, рассказал, что мальчишкой ходил сюда с отцом за грибами и, конечно, знать не знал и помнить не помнил об истории, скрывавшейся у него под ногами. Правда о ней стала для него настоящим шоком. Потрясение и чувство вины оказались отличной мотивацией. В провинциальной России образца 1997 года только это, а еще чудо могло объяснить появление асфальтированного подъезда для наших автобусов, сделанного всего за две с половиной недели.
Братская могила в Сандармохе не первое подобное захоронение, обнаруженное спустя много лет. С конца 1980-х годов непрофессиональные историки и археологи-любители смогли определить месторасположение десятков подобных могильников на всей территории бывшего Советского Союза. Каждый раз это заставляет принимать важные решения. Эти могилы не памятники древности – в них прах отцов и дедов живущих ныне людей, многие из которых всю жизнь надеялись, что однажды смогут зачерпнуть горсть земли с могилы предков. Большинство этих людей так и умрут, не узнав наверняка, где именно покоятся тела их родителей. Единственный способ удостоверится в том, чьи кости находятся в конкретном захоронении, – найти документы НКВД, датированные временем расстрела. Протоколы существуют, но они относятся к разряду документов, которые выудить из архивов бывшего КГБ сложнее всего. Те, кто видел эти протоколы, не спешат делиться подробностями. “Мы не можем показывать их семьям. Потому что если они смогут прочитать об убийстве, то им придется узнать и о том, что произошло с узниками до расстрела. Пусть лучше думают, что их родителей только расстреляли”, – сказал мне один из правозащитников. В архивах есть списки расстрелянных и карты захоронений, но, несмотря на эпоху гласности, именно непрофессиональные археологи рассказывают правду о сталинизме.
Даже простой, казалось бы, вопрос о численности жертв вызывает затруднения. Историки и демографы уже не первое десятилетие спорят о масштабе сталинских преступлений и о цифрах российских потерь в двух мировых войнах. Это важнейшая дискуссия, хотя сам предмет ее не может не вызывать ужаса. Однако даже точно установить число убитых, упокоившихся в одном братском захоронении, часто не так-то просто. Одни родственники не хотят, чтобы прах тревожили. Просят, чтобы мертвых оставили покоится с миром, ведь это последняя дань уважения, которую им еще можно воздать. Другие полны решимости зафиксировать каждое преступление и намерены производить раскопки в местах массовых захоронений и пересчитывать жертвы. После этого, обещают они, погибшие наконец удостоятся нормального погребения, которого они были лишены полвека назад.
Нетрудно понять такую одержимость материальными доказательствами преступлений прошлого и точными цифрами потерь в стране, в которой ложь – обыденное дело. Но даже сами подсчеты не так просты, как можно было бы представить. Тела, сплетенные в один клубок, успели разложиться, и скелеты невозможно разъять, отделить один от другого. Не стоит полагаться и на пересчет черепов, потому что большая их часть была если и не размозжена, то повреждена пулями палачей, а хрупкие кости легко крошатся. Кроме того, разбитые черепа были особенно легкой добычей для собак и крыс, разорявших неглубокие могильники. Чтобы сегодня пересчитать останки жертв, придется взять несколько больших ящиков (тут в ход идут такие же короба, в каких крестьяне обыкновенно хранят картошку). В эти ящики и рассортировывают кости: в один кладут черепа, в другой реберные кости, а конечности, если их можно идентифицировать, еще в два или три ящика. Закончив, пересчитывают тазобедренные кости и делят получившееся число на два. В большинстве случаев число получается четырехзначное.
Те, кто обнаружил кости в Сандармохе, в итоге решили оставить их в земле. Этот случай особый, потому что на руках у них уже были поименные списки жертв. Захоронение было так хорошо задокументировано, поскольку и сам капитан Матвеев в конце концов был осужден и расстрелян. В сюрреалистическом мире сталинского террора его преступление было охарактеризовано как излишнее рвение, все те же “перегибы на местах”. На суде, который состоялся в 1939 году (фрагменты стенограммы этого процесса были опубликованы), Матвеев признался в убийствах и с необычайной подробностью описал всю процедуру умерщвления жертв[1]. Ему было поручено ликвидировать некоторое количество заключенных с Соловков, что он и исполнил. В то же самое время и с той же оперативностью и сноровкой он организовал убийство других заключенных из тюрем и пересыльных лагерей под Ленинградом. Он не задавал вопросов по поводу распоряжений, которые получал, и не любопытствовал относительно заявленной вины поэтов, писателей и музыкантов, судьбы которых были вверены ему. Некоторые из них обвинялись в создании национальных центров сопротивления. Среди этих людей были видные политические деятели с Украины и из сегодняшней Беларуси, а также лидеры татарского и цыганского народов. Остальные по большей части принадлежали к интеллектуальным кругам, включая, например, нескольких епископов.
Решив оставить расстрелянных покоиться с миром, те, кто обнаружил захоронение, столкнулись с проблемой увековечивания памяти погибших. Они были не первые, перед кем встал этот вопрос. Большая часть была волонтерами общества “Мемориал” – организации, которая посвятила десять лет обнародованию правды о сталинских преступлениях и увековечиванию памяти их жертв. Но без некоторой дипломатии в этом деле все равно не обойтись. Одна из довольно распространенных проблем заключается в том, что не все расстрелянные в лесу были русскими и исповедовали православие. Православные верующие хотели бы увидеть церковь, возведенную на каждом месте захоронения убиенных мучеников. Но некоторые из этих переплетенных скелетов, которые уже никогда не разъять, принадлежат католикам, лютеранам, евреям или мусульманам. Существуют планы строительства нескольких часовен на урочище. В День памяти, проведенный в этом месте 27 октября 1997 года, здесь уже возвышались два больших креста, установленных рядом. Один из принимавших участие в их установке рассказал мне, что появление здесь даже этих крестов вызвало трения и полемику. К счастью, спор о том, какой крест выше: католический или православный, – был улажен в последний момент специальным наблюдателем, работавшим в присутствии свидетелей с каждой стороны.
Церемония открытия мемориального кладбища была спланирована с большой тщательностью[2]. Предполагалось, что прозвучит приветственная речь, а затем представители главных организаций, занимающихся увековечиванием памяти жертв политических репрессий, присоединятся к церковным и политическим лидерам и сфотографируются рядом с входом на расстрельный полигон. Многие местные объединения жертв политических репрессий заказали по такому случаю траурные венки, и пока мы ждали начала церемонии, они не без гордости сравнивали свои венки с чужими. Человек, который четыре или пять дней добирался до Сандармоха на поезде с Урала, попросил, чтобы его сфотографировали рядом с его печальным подношением. Он принес полутораметровый овальный венок из искусственной зелени с вплетенной белой лентой и пурпурными и белыми пластиковыми лилиями. Любуясь венком, мы никак не могли решить, стоило ли вместо лилий предпочесть вслед за остальными красные искусственные розы. Венки были настолько дорогими, насколько эти пенсионеры вообще могли себе позволить: каждый стоил сотни тысяч подорванных инфляцией рублей. Это общество, которое ценит незыблемость и долговечность. Поэтому пластиковые цветы стоят здесь в два раза дороже настоящих.
Если вам не привыкать к сборищам советского образца под открытым небом, вы сможете привыкнуть и к тому, чтобы стоять и наблюдать за людьми, чьи сердца и разум полностью отключены от того действа, в котором они собираются активно участвовать. В советское время было общеизвестно, что качество хорошего общественного мероприятия определяется качеством угощения, бутербродов и водки, следовавших за официальной частью. Что-то подобное было разлито в воздухе и в то утро – что-то лживое или, по крайней мере, заряженное нетерпением было в этих корпулентных мужчинах в костюмах и меховых шапках, готовящихся произносить в мегафон публичные речи. Здесь были и церковные иерархи, и члены горсовета, и местные политики, и даже представители Думы. Присутствовали и активисты-правозащитники, и интеллектуалы из СМИ, и представители правительств недавно обретших независимость Украины и Беларуси. Но чего бы они ни ожидали от этой церемонии, они не были готовы к тому, что случилось дальше.
Когда первый выступавший собирался начать свою речь, какая-то женщина в черном шерстяном платке вдруг зарыдала, заломив руки, в нескольких метрах от трибуны. Она бросилась на обледеневшую землю, за ней последовала другая, следом – третья. Звук, производимый ими, был нездешней, иномирной поэзией погребального плача. Сто лет назад такое оплакивание сопровождало каждую смерть и продолжалось несколько дней. Похороны не были торжественными и тихими. То, что мы слышали, не было возрожденной традицией. Карелия – далекий край, и здесь есть женщины, которые так и не научились вести себя чинно и сдержанно, как подобает советским людям, скорбящим около семейной могилы. Они оплакивали своих потерянных отцов; они рассказывали, как много лет искали могилы дорогих им людей. Гости из города смущенно покашливали и оглядывались в поисках охраны. В конце концов кто-то увел женщин, и толпа сомкнулась на том самом месте, свое право на которое заявили эти женщины.
Некоторые из речей, произнесенных в тот день, были позднее опубликованы, и их тексты, без сомнения, подшиты в специально заведенную по этому случаю папку каким-нибудь сотрудником органов из Москвы. Конечно, публичное признание существования этих захоронений и осуждение массовых расстрелов официальными представителями государства было чрезвычайно важным шагом. С середины 1990-х годов раскаяние в отношении прошлого стало составляющей общественного сознания. Теперь публичное порицание сталинских зверств не так прямолинейно и безусловно, каким оно было десятилетием ранее. Волна публичного покаяния спала, и сейчас уже многие сожалеют о смерти коммунизма сталинского образца. Политические деятели, взявшие на себя труд приехать на север в этот день и показавшие свою солидарность с этим событием, пошли на определенный риск, а вовсе не искали дешевой политической популярности.
Но даже выступавшие, несмотря на все их принципы и убеждения, не могли точно отразить дух события, свидетелями которого мы стали. Прежде всего их речи были обращены в настоящее и будущее. Однако главные скорбящие были полностью сфокусированы на прошлом. В то время как политики говорили о необходимости действовать и обещали приложить все усилия для того, чтобы сделать общество более нравственным, семьи, приехавшие в Сандармох из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, тихо, но воодушевленно праздновали, как бы странно это ни прозвучало. Их поиски завершились. 27 октября станет в их жизни памятной датой. Многие плакали. Но их слезы, как и их объятия и молитвы, были следствием того чувства, которое теперь всецело завладело ими, – облегчения, освобождения от боли, успокоения.
Однако самое острое внутреннее противоречие официальной церемонии заключалось в том, как эта публичность сочеталась с глубоко прочувствованной интимностью, приватностью семейной скорби. Любое горе – дело сугубо личное, но те потери, которые понесли жертвы Сталина, стали скрытым, частным, даже можно сказать тайным переживанием. В течение полувека и вплоть до падения коммунистического режима семьи справлялись с такого рода утратами уединенно и обособленно, не афишируя их. Некоторые скрывали свою боль от всех, включая собственных детей, из страха испортить жизнь себе и им. В конце концов, было просто-напросто небезопасно оплакивать смерть врага народа, и даже само по себе подобное родство могло скомпрометировать. Масштаб массовых убийств, для обозначения которых до сих пор используется эвфемизм “репрессии”, так и не был признан властями. Поэтому отдельным жертвам было нетрудно считать, что их участь стала исключением из правил, следствием особого проклятия.
Даже в конце 1980-х, когда в рамках горбачевской политики гласности материалы о прошлом печатались в государственных газетах, население страны, привыкшее скрывать непарадные, “стыдные” части своего опыта, не до конца верило в то, что ночь закончилась и наступил рассвет. Одна из женщин, расшифровывавших интервью, которые вошли в эту книгу, уроженка Сибири, призналась мне, что плакала в процессе. Она была поражена, обнаружив, что и у других семей были истории, очень похожие на ее собственную. По ее словам, вместо того чтобы продолжать стыдиться родни, она начала выяснять новые подробности о своих неразговорчивых родителях, о беглянке-бабушке и деде, сибирском шамане, без вести пропавшем в 1930-е годы. Люди с подобными семейными историями не забывали их. Они вовсе не обязательно переставали горевать о случившемся. Но свою боль они по большей части скрывали от посторонних. Для большинства родственников расстрелянных в Сандармохе завершение этой истории стало своего рода окончанием тайного диалога.
Когда толпа разошлась, я отправилась бродить по урочищу с фотоаппаратом, пытаясь разобраться в частных ритуалах, которые разворачивались здесь в то время, как политики произносили свои речи. Прежде мне уже доводилось видеть подобные места. Власти часто скрывали братские могилы, высаживая деревья на местах захоронений. В местности, поросшей неухоженным лесом и кустарником, только странная правильность рядов молодых сосенок может навести на мысль о том, что это специально высаженные деревья. Но когда здесь обнаружили могильники, эти леса перестали быть ничьей территорией. Сегодня здесь можно увидеть приметы всевозможных погребальных традиций, отражающих разные верования, связанные со смертью и уцелевшие в современной России. Деревья украшены знаками молчаливого горя. Эти знаки лежат на земле, разбросанные среди символических меток, которые заменяют собой надгробные камни. Люди изобрели свои собственные, самодельные символы памяти. Какими бы кустарными и даже несуразными ни были эти поделки, принесенные сюда скорбящими, в молчании мемориального леса, ставшего местом преступлений НКВД, они, неподвластные времени, бередят душу и не отпускают.
Приехавшие в Медвежьегорск оплакать расстрелянных привезли с собой большую часть своих памятных поминальных знаков. Организаторы в тот день обеспечили разве что воткнутые в землю в произвольном порядке деревянные столбики, каждый из которых был увенчан двускатной крышей. Те, кто придумал поставить эти столбики, предусмотрительно не добавили к ним крестовину из страха обидеть атеистов и верующих нехристианских конфессий. Не предполагалось, что этими столбиками будут отмечены реальные захоронения (их истинное расположение в первоначально вырытой траншее даже невозможно было точно установить), но людям, казалось, нужен был какой-то клочок земли. Они обустраивали эти крошечные участки с поразительной изобретательностью. К концу того морозного дня каждый столбик был украшен, в основном цветами и свечами. Почти на всех были закреплены фотографии. Отовсюду глядели молодые и пожилые лица героев Гражданской войны в военной форме, женщин в льняных платьях, молодых партийцев, чей идеализм ничуть не потускнел, хотя все то, во что они верили, теперь рухнуло. Некоторые прикрепили к своим столбикам копии судебных протоколов и приговоров, некоторые – копии официальных извещений, где спустя пятьдесят лет сообщалось, что их отцы, матери или мужья были убиты. Хотя лед успеет уничтожить эти бумажные свидетельства еще до прихода весны, многие из них были бережно завернуты в полиэтиленовые пакеты или заклеены скотчем. Поскольку в России по традиции считается, что делиться едой нужно и с мертвыми, все вокруг было завалено пирожками, хлебом и яблоками. К некоторым столбикам были привязаны леденцы, под крышей одного или двух примостились баночки с вареньем.
Подобного рода поминальные обряды практически не подчиняются никаким системным правилам. Дело не только в уникальности этого события. Все погребальные ритуалы в современной России соединяют в себе личную изобретательность, возрожденную религию, современную практичность, суеверия и обломки других практик, в которых можно найти все что угодно, от дохристианских обрядов до рационализма советского периода и мистицизма в духе нью-эйдж. До 1917 года русские похоронные ритуалы могли считаться одними из самых оригинальных в Европе и, как это ни парадоксально, живых. Две революции – советская, одержавшая полную победу спустя почти два десятилетия после 1917 года, и антисоветская (ее сложнее обозначить каким-либо идеологическим ярлыком), что началась в конце 1980-х и не закончилась до сих пор, – оставили отпечаток на частных и публичных ритуалах. Эти исторические и социальные катаклизмы не могли не затронуть, хотя бы поверхностно, верования и обряды, связанные со смертью, и даже сам смысл и значение, которыми наделяются смерть и мертвые в этой культуре.
Первые признаки грядущих перемен, включая антиклерикализм и растущий интерес к науке, стали очевидны еще до падения царизма. Промышленное развитие и урбанизация бросили вызов традиционным религиозным верованиям не только в России, но и во всем мире, а царская Россия в последние десятилетия своего существования мучительно переживала еще и свою собственную трансформацию. Но настоящий вихрь обрушился на страну после того, как большевики взяли власть. Их революция обещала новый мир, и это обещание сбылось как в результате их преднамеренных действий, так и в силу того, что империя переживала кризис, ее экономика лежала в руинах, а терпение у народа было на исходе. Когда это ожесточение вылилось в Гражданскую войну, приоритетом большевиков стали защита своей революции и сохранение власти. В процессе были практически уничтожены и старый уклад, и многие бытовавшие в нем ценности и верования.
Церковь стала одной из первых мишеней большевистской кампании. Глубокая неприязнь большевиков по отношении к ней частично объясняется тем, что некоторые церковные иерархи активно им противостояли, используя свое влияние, для того чтобы поддерживать контрреволюционные настроения. Однако далеко не все священники были вовлечены в политику. Большевистская атака на религию была также частью идеалистического плана, согласно которому мир богов и святых должен был уступить место миру, основанному на рациональности. Для тех, кто намеревался создать нового советского человека, церковь с ее учением и ритуалами была пережитком прошлого, препятствием, которое необходимо сокрушить, чтобы расчистить дорогу лучшей, построенной по научным законам жизни.
Борьба с религией происходила волнообразно, чередуясь с периодами передышки, и иногда большевики даже не удосуживались искать замену религиозным обрядам. Тем не менее через несколько лет советская власть решительно смела если не верования, то по крайней мере хитросплетение ритуалов, окружавших смерть. Церкви были закрыты, а на месте кладбищ были разбиты парки и устроены спортивные площадки. Большевики арестовывали священников, преследовали верующих, срывали или запрещали отправление религиозных служб и обрядов. Был дан старт новым образовательным кампаниям, призванным рассказать детям о достоинствах атеизма. Плакаты, уличные парады и даже новые церемонии – все вместе они должны были пропагандировать идею рационалистического безбожия.
Коммунистическая партия отслеживала результаты своей работы. Призванные ею для этих целей исследователи собирали данные о том, как слабеет вера, как все больше людей вступает в партию и все меньше становится тех, кто следует религиозным предписаниям и соблюдает церковные обряды, и какие решения люди принимают относительно крестин, венчаний и похорон. До сих пор остается неясным, отражала ли полученная статистика реальные изменения в области индивидуального, сокровенного верования, а не желание дать “верный” ответ на вопрос, зафиксировать собственное протестное настроение или, возможно, выиграть очки в семейном споре (религия была причиной раскола в семьях, она разобщала и народ, и партийное руководство). Церковь, до этого пребывавшая на периферии общественной жизни, вернула себе утраченное место в народном сознании в конце 1980-х, когда Горбачев провозгласил перестройку и политику гласности, и сегодня миллионы людей утверждают, что даже в годы гонений на церковь, когда они не могли открыто исповедовать свою веру, следуя церковным обрядам, они никогда не отказывались от нее, что, конечно, невозможно доказать или проверить.
Когда я впервые начала думать об отношении русских к смерти, меня больше всего интересовал именно этот аспект: разрушение старых ритуалов и изобретение новых. Меня заинтриговала сама идея современной революции, попытавшейся создать совершенно новый тип человека. Начав собирать материалы о первых инициативах большевиков в этой области, о Союзе воинствующих безбожников и об Обществе развития и распространения идеи кремации в РСФСР, я думала, что история, которую я пишу, представляет собой исследование идеологии, пропаганды и мировосприятия. Смерть, а точнее, окружавшие ее ритуалы и верования играли здесь роль своеобразной лакмусовой бумажки. Внимательно изучив, как люди хоронили и оплакивали друг друга, я могла измерить то влияние, которое имела на общество власть большевиков. Хорошо известно, что обряды, связанные со смертью, особенно стойко противостоят изменениям.
Листая в архиве хрупкие листки, напечатанные через копирку, я все больше убеждалась в жестокости большевиков. Их идеализм и революционный пыл, дававший им силы в борьбе за власть, со временем стали все более вымученными и натужными. Их кампания против обрядности выродилась в вандализм. Их неприязнь по отношению к церкви, пусть и ставшей к тому времени раздутым анахронизмом, зачастую носила вульгарный, истерический характер. Пропагандируемый ими унылый, неприглядный атеизм был внутренне противоречив, непоследователен и вызывал множество сомнений и нареканий. В первое десятилетие после захвата власти большевикам удалось даже создать свой собственный суррогатный культ мертвых. Забальзамированный труп Ленина был выставлен в самом центре новой столицы, а Красная площадь, которую советская власть использовала для проведения парадов, стала усыпальницей.
Однако история научного атеизма – всего лишь одна из нитей в исключительно богатом узоре. Культура смерти в России была и остается поразительно живой. Эта живость – важный момент, и ее история сама по себе могла бы стать интересной темой этой книги. Большинство людей в России – родители, дети, друзья – не относятся к смерти легко, не выработали к ней привычки, по крайней мере не больше, чем любая другая группа людей, и, несмотря на все исторические пертурбации, для них до сих пор очень важны музыка на похоронах, земля, в которую хоронят, поминовение, годовщины смерти и траур. Обо всем этом стоит сказать особо, потому что до сегодняшнего дня история отношения к смерти в России по большей части оставалась в тени. Вместо того чтобы размышлять об обрядах и переживании горя, авторы большинства трудов по истории советской России рассматривают смерть с точки зрения политики и демографии. О ней рассуждают в терминах масштабной катастрофы, включающей войны, репрессии, массовый голод, говорят о насилии над народом, о той традиции, которая делает Россию уникальной, а ее историю – исключительной.
Идея преемственности и особенно повторяющегося насилия занимает уже не первое поколение историков, специализирующихся на изучении России. Уолтер Беделл Смит, бывший американским послом в СССР в конце 1940-х годов, написал предисловие к новому переводу путевых дневников маркиза де Кюстина, посетившего Россию за сто лет до него, в 1839 году. Это предисловие как нельзя лучше иллюстрирует подобный взгляд. “Я мог бы взять не одну страницу дневника [де Кюстина] и, заменив в них имена и даты столетней давности на актуальные, послать Государственному департаменту в качестве собственных официальных донесений”, – пишет Смит. Другими словами, он не видит ничего зазорного в том, чтобы распространить описание российской аристократии, оставленное де Кюстином в XIX веке, этой “абсолютной монархии, ограниченной убийством”, на послевоенное сталинское государство, не считает необходимым вносить в этот взгляд никакие коррективы[3]. В 1999 году авторы газетных репортажей о войне в Чечне высказывали схожие соображения: мол, русский медведь вновь рыщет в поисках добычи[4]. Убийство мирного населения описывалось как самый свежий вопиющий эпизод в длинной и по большей части однообразной традиции варварства.
Действительно, масштаб насилия, страдания и людских потерь в истории России XX века так велик, что возникает большой соблазн предположить, что перед нами общество, деформированное из-за какого-то внутреннего сбоя, причудливого дефекта обычаев, культуры или географического расположения. Но подобное предположение – чистой воды увертка, выдающая нежелание задуматься по-настоящему. В конце концов, гораздо труднее представить себе другую правду: люди, жившие и умиравшие в России и в Советском Союзе в XX веке, были ничуть не меньше нас склонны страдать и скорбеть, и их история насилия была порождением не особой национальной эксцентричности вроде любви к шпику, а определенного стечения событий и обстоятельств. Эта правда также приводит в замешательство, потому что несет в себе неудобные выводы: страдание в России всегда причинялось насильственно и поэтому могло быть предотвращено; это страдание не было уникальным или исключительным, а значит, никакой сторонний наблюдатель не может позволить себе роскошь упиваться собственной добродетельностью, уверовав в то, что уж его-то обществу навсегда гарантирован иммунитет против насилия такого масштаба. У русских людей были и до сих пор есть собственные соображения относительно значения этих смертей, а также ответные реакции на историю насилия, не всегда совпадающие с моими, но, несмотря на культурное и историческое своеобразие, они принадлежат к тому же роду человеческому.
С 1914 по 1953 год насилие, голод и эпидемии унесли более 50 миллионов жизней. Половина этих смертей приходится на потери в одной только Великой Отечественной войне. Люди погибали в городах под бомбежками и в пылавших деревнях, умирали от голода в осажденном Ленинграде, тонули на баржах, перевозивших беженцев и эвакуированных. Некоторые погибли от рук своих же. Практически не было семьи, которую бы не затронула какая-либо из катастроф: война, голод, высылка, эпидемии или политические репрессии, – а аресты и расстрелы продолжались и во время войны. Некоторые просто не выдерживали обрушившегося на них груза потерь и бедствий. В стране остались регионы, где до сих пор находят непогребенные останки погибших. Для многих война была самой высокой точкой в череде личных испытаний, каждый раз круто переворачивавших жизнь и зачастую включавших тяжелые утраты. Первое из этих испытаний в истории любой семьи могло быть датировано или 1914 годом, началом последней войны российского царя, или 1904 годом, когда Россия вступила в войну с Японией, или еще раньше, например 1891 годом, когда миллионы крестьян стали жертвами одного из самых масштабных случаев массового голода в истории царской России.
Долгие годы наше представление обо всем этом было затуманено: советское правительство старалось скрыть большую часть информации и отрицало людские потери. При жизни Сталина в самом Советском Союзе катастрофические бедствия практически не обсуждались публично. Например, несмотря на опустошительный голод 1932–1933 годов, который испытали на себе десятки миллионов человек, по крайней мере пять миллионов из которых погибли, на протяжении 1930-х годов слова “массовый голод” и “недоедание” были запрещены к упоминанию в сообщениях прессы по всей советской империи. Практически не освещался и послевоенный голод 1946 года, жертвами которого стали десятки тысяч человек. Впоследствии, вплоть до крушения коммунистической системы в России, подлинный масштаб советской трагедии неизменно преуменьшался. Статистика, имевшая отношение к демографическим потерям, была сфальсифицирована или спрятана. В 1937 году были засекречены результаты целой переписи населения, а посвященные в них госслужащие – арестованы и расстреляны. Первая обязанность историографии в этих обстоятельствах не без основания заключалась в том, чтобы привести в порядок цифры, задать некие рамки, внутри которых можно было бы составлять мнение о других вопросах. Однако статистика – всегда только часть такого рода истории. На самом деле, споры вокруг нее давали легкую возможность убежать от гуманитарного измерения того, что эта статистика отражала.
Идеология и большая политика – еще один способ избежать столкновения с реальностью конкретных человеческих жизней, стоящих за абстрактными цифрами потерь. Они же отчасти объясняют, почему действие этих массовых смертей на общественное сознание и политику остается неясным. Особенно деструктивную роль в попытках объективно оценить гуманитарную ситуацию в Советском Союзе идеология и политика сыграли в период холодной войны. Оба идеологических лагеря занимались подсчетом жертв с обеих сторон в полемических и пропагандистских целях, отстаивая сравнительные достоинства и заслуги советской системы или ее западного антагониста. Советское правительство и само использовало данные о продолжительности жизни и состоянии здоровья населения в качестве индикатора преимуществ коммунизма как жизненного уклада. Это была циничная, безжалостная политика, основанная на манипуляции, еще одно выражение общего пренебрежительного отношения режима к отдельной человеческой жизни, к правде. Однако, со своей стороны, критики Кремля эпохи холодной войны проглотили наживку. Они тоже сосредотачивались на цифрах, нередко преувеличивая их, как будто история человеческих потерь и страдания и без того не была достаточно мрачной, как будто следовало сделать ее еще мрачнее, чтобы на контрасте с ней ярче засиял демократический капитализм.
Какой бы подход к работе с этим материалом я ни выбрала, приходится признать, что тень подобной идеологической аргументации неизбежно ляжет на эту книгу. Не существует идеологически не заряженного способа отрефлексировать эти массовые смерти и тем более внимательно изучить, как эти смерти подействовали на конкретных людей: родственников, соседей и наследников убитых. Могу лишь сказать, что с самого начала мною двигало не желание развернуть очередную идеологическую атаку на советскую систему. В конце концов, холодная война закончилась. Я прежде всего хотела и хочу разобраться в мире идей и представлений. Те вопросы, которые я задавала, беседуя с пережившими репрессии, войну, голод, не могли быть поставлены в начале 1980-х. Моя работа стала возможной благодаря краху советского режима секретности и государственного контроля. Но из-за этого политического катаклизма те вопросы, которые я должна была поставить, – вопросы, касающиеся человеческих историй, а не когда-то всепоглощающей и ныне проигранной битвы, – не начинаются формальной идеологией и ею не заканчиваются.
А значит, перед вами не еще одна великая “Черная книга”. В тех историях, которые я должна рассказать, будет много того, что покажет общество царской России, а затем советской и постсоветской России с самой темной стороны, – в конце концов, в смерти вообще мало привлекательного. Но было бы в высшей степени несправедливо по отношению к прогрессивно мыслящим россиянам, с их надеждами и идеализмом, достоинством и храбростью, оставить без внимания их историю потерь из страха узнать нечто, что можно из этой истории узнать. Было бы неправильно уступить право написать эту историю тем, кто стремится упростить ее с некоей иной целью. История России все еще имеет самое прямое отношение к тому, что заботит и волнует современный мир. Однако нельзя обсуждать большую политику советского и постсоветского периода, не говоря о людях и их памяти, о людской боли и стойкости, о жестокости, травме, сострадании, горечи и скорби.
Получается, что, начав работу над этим проектом с идеи революционной культуры, я пришла к исследованию массовой смертности и выживания. Это книга о революционной трансформации, а точнее, о множественных трансформациях, порожденных сменяющими друг друга революциями, последняя из которых, как я уже сказала, еще продолжается. Но это также история мировоззрений, культуры и самоощущения, которые определяют то, как народ оплакал, вынес и отрефлексировал миллионы и миллионы смертей, сменяющие друг друга волны репрессий и насилия. Книга частично построена на интервью, а это значит, что она переполнена голосами. Безусловно, революционная идеология и главным образом революционный коллективизм повлияли на эти голоса, но свое воздействие на них оказали и экономические изменения, произошедшие в стране, и война, и мирное время, и средства массовых коммуникаций. Родительский опыт, потеря супруга и одинокая жизнь после, процесс старения – все это тоже, пусть и по-другому, сформировало эти голоса.
Любой, кому когда-либо приходилось собирать устные свидетельства, знает, какую сумятицу они вносят даже в самое тщательно спланированное исследование. Вы приходите с четко поставленными вопросами, аккуратно напечатанными на бумаге, а уходите с рассказами, диалогами, длинными отступлениями от темы, смехом, новыми телефонными номерами, фотографиями и в слезах. Но этот хаос разрастается еще больше, если вашим предметом оказывается смерть. Для начала никто, включая вас, берущего интервью, не знает, что она такое на самом деле, и мало кто хочет надолго останавливаться на этой теме. И в этом случае груз пережитых потерь, пусть и скрашенных храбростью, великодушием, историями побега, вспышками юмора и даже проявлениями сверхъестественного, обрушивающийся на слушателя, тоже окажется чрезмерным, так что сам слушатель едва ли не с презрением взглянет на те слишком наивные вопросы, что вы заготовили. Тем не менее, поскольку это предисловие, я хотя бы перечислю их, так как именно с этих вопросов я начала свою работу, несмотря на то что в дальнейшем им и суждено было измениться; и, стремясь уловить непредсказуемое, личное, те фрагменты, что не укладывались в картину целого, неупорядоченность частных мировоззрений и паттерны, из которых складывается социальная история, я не просила людей придерживаться исключительно этих вопросов, и только их.
Одной из отправных точек для меня была мысль о культурной преемственности, о том, что человеческая жизнь в России на протяжении всей истории, как правило, стоила недорого. Чтобы подвергнуть это предположение критическому анализу, я обратилась к последним десятилетиям существования Российской империи, политике правительства в отношении смертности, в особенности смертности среди бедноты, а также массового голода, самоубийств и государственных репрессий. Я изучала похороны и то, какие обряды и манипуляции проводились с телами мертвецов, принадлежавших при жизни к разным социальным слоям. Я пыталась вычленить те социальные привычки, которые могли бы объяснить попустительство насилию, и исследовала, каким образом воспринимали насилие дети, ведь часто они гибли первыми или лишались родственников, а во взрослом возрасте нередко и сами прибегали к насилию, пытаясь выжить во время голода или войны.
Беседуя с тремя поколениями выживших, с теми, кто ухаживает за ними сегодня, и с теми, кто заботился об умирающих в прошлом, – например, с фронтовыми медиками, прошедшими Великую Отечественную войну, с психологами, работавшими с политзаключенными, со священниками, монахинями и медсестрами, с партийными агитаторами и пропагандистами, – я фиксировала их рассказы о смертях и воспоминания о насилии вплоть до наших дней. В попытках проследить историю похоронного обряда я исследовала архивы муниципальных органов власти и погребальных контор, документы церковных организаций, агитационные памфлеты и мемуары. Я разговаривала с могильщиками, распорядителями на похоронах и сотрудниками бюро ритуальных услуг и на этом этапе вновь обращалась к священникам, а также к людям, ведущим поисковую работу на месте массовых расстрелов и захоронений.
В силу того что проблема культурной преемственности и трансформации достаточно сложна, даже если не добавлять ей еще одного измерения – кросс-культурного сравнения, я пыталась придерживаться разговора об истории русской ментальности, хотя история имперского народа и тем более история самой протяженной материковой империи не может быть все время ограничена этими рамками. В общем и целом фокус на России означал, что в поле моего внимания будут находиться похоронные обряды, принятые в обществе, которое в идейном плане вплоть до революции 1917 года пребывало под сильным влиянием православной церкви (или в оппозиции к ней), в обществе, мир которого был сформирован мощной традицией представлений о грехе и божьей каре, об искуплении, осуждении на муки вечные или бессмертии. В этой книге я мало внимания уделила национальным меньшинствам и сектам и не рассматривала эволюцию религиозной веры и сомнений в ней среди неправославных религиозных общин, включая самые влиятельные из них, такие как мусульманская, еврейская и лютеранская. Мои путешествия за пределы России – как реальные, так и интеллектуальные – дали мне возможность исследовать культуру и историческую судьбу других восточных славян, в частности народов Украины и Беларуси, которые в XIX и XX веках были неразрывно связаны с судьбой и культурой России.
Размышления о жестокости и травме дались мне тяжелее, и не только из-за мрачности самих этих тем. Если не изучать конкретные случаи, не удастся оспорить вышеупомянутую концепцию об особом влиянии истории ожесточения на отношение русских к смерти и насилию, к которой можно подойти с позиций психиатрии и социальной психологии, а также через исторические изыскания. Невозможно утверждать, что в определенный момент люди действовали, руководствуясь уникальными исторически специфическими мотивами, если не проанализировать эти случаи, иначе результатом вашего исследования станет полное небрежение деталями. Большинство тех, с кем я говорила, ограничились именно этим, заявляя, что русские жестоки от природы, что их отношение к смерти заложено генетически, что это наследие татаро-монголов, проклятие сурового климата. Самоуничижительный расизм такого рода – дело в Москве самое обыденное, но подобные представления можно обнаружить и в работах зарубежных исследователей. Я решила деконструировать этот ворох измышлений и предположений (надеюсь, что мне удалось оспорить некоторые из них), но процесс этот не был приятным; часть свидетельств, приведенных здесь, читать будет непросто.
Очевидной отправной точкой для понимания современных культур насилия, особенно в автократии, должно быть государство. Та ценность, которой правительство наделяет человеческую жизнь, имеет прямое влияние на уровень смертности. Взять хотя бы самые банальные примеры: устройство системы здравоохранения или методы ведения войны. Все это будет определять то, как горевание, переживание утраты и скорби выражено в публичных церемониях. Также государство может потворствовать некоторым видам преступлений – в России оно иногда напрямую к ним подстрекало – и с помощью секретности создавать мир, в котором нет возможности для протеста.
Эти сюжеты можно расследовать по документам, бесстрастно иллюстрировать графиками и таблицами. Однако куда более щекотлива проблема ценностей самих граждан. Государство может писать о демографических потерях, его лидеры приучаются спать спокойно, несмотря на то что замешаны в кампании, которая в лучшем случае провалилась, некоторые из них упражняются в намеренном подавлении определенных воспоминаний, однако населению приходится воочию видеть смерть, иметь дело со страхом, болезненными утратами, бедностью, гневом, местью, памятью. Прежде чем предполагать, что в этом обществе к смерти относятся легко, воспринимают ее как должное, необходимо исследовать духовный мир его граждан. Продвигаться в своих размышлениях об этих проблемах мне помогало обращение к архивам и в очередной раз к мемуарным свидетельствам. Я также прослушала сотни автобиографических рассказов. Я говорила и с теми, кто профессионально оказывает помощь людям, которые, предположительно, подверглись жестокому обращению, а также с российскими философами, размышляющими о смерти, и с людьми, воевавшими, убивавшими или мечтавшими убивать.
Травма – обратная сторона ожесточения. Сегодня западные нарративы, в которых речь идет о ситуациях эмоциональной перегрузки и насилия, прежде всего о геноциде, как правило, исходят из того, что у людей, ставших свидетелями чудовищных преступлений или переживших что-либо ужасное, годами не зарубцовываются психологические шрамы (и неважно, оставило ли пережитое шрамы физические). Иногда приходится слышать, что травма может передаваться от родителей к детям. Одни из лучших текстов на эти темы – и конечно, самые сильные и волнующие – были написаны о Холокосте и нацистских лагерях; они исследуют проблематику памяти, душевных ран, свидетельства и смены поколений. Когда я задумалась о том, какую цену – в человеческом смысле – заплатила в XX веке Россия, то прежде всего я стала читать именно эту литературу: мемуары, очерки, заметки, а также научные исследования.
Однако Холокост был уникальным историческим событием, и хотя рефлексия уцелевших жертв, а также их потомков, унаследовавших груз этого исторического опыта, еще долгие годы будет влиять на то, как мы думаем о насилии и утратах, история каждой страны должна подсказывать свою собственную интерпретацию. Я попыталась определить, что бы это могло значить в случае России. Ее демографические катастрофы имели целый спектр причин: войны, голод, репрессии, – и каждая из них оказала свое воздействие. Процесс растянулся на несколько поколений и занял более пятидесяти лет. Палачи и жертвы часто менялись местами, так что невозможно с уверенностью говорить об этической стороне дела, однозначно отделить добро от зла. Даже память была непоследовательной и противоречивой, ведь смысловое значение множества смертей со временем изменилось, особенно после падения коммунистического режима, и до сих пор не утихает острая полемика о том, что представляет собой героизм и кого следует считать героем, какого рода жертвы заслуживают награды и какого рода убийства невозможно оправдать и простить.
Большинство русских отвергают саму идею морального ущерба, вреда, нанесенного психике: умственного расстройства, травмы, – что является центральной темой литературы о Холокосте. Сомнения есть даже у психологов и врачей, а тем из них, кто принадлежит к старшему поколению, получившему образование при Сталине, эта концепция и вовсе чужда и непонятна. Они не могут осмыслить, что такое эта травма, и не понимают того особого места, которое это понятие занимает в западном представлении о насилии и его последствиях. Я попыталась исследовать причины этого непонимания. Частично ответ состоит в том, что даже тема душевной болезни, психического расстройства в России остается по большей части табуированной. Однако нельзя исключать также и того, что этот диагноз и сама мысль о необходимости лечения, прорабатывания последствий травматического переживания настолько чужды российскому способу думать о жизни, смерти и потребностях личности, что понятие психологической травмы действительно нерелевантно для российского сознания, настолько же чужеродно ему, как завезенная из-за границы техника, которая глохнет и ломается сибирской зимой.
Эту гипотезу не так-то легко проверить. Получить ответ, который хочешь услышать, несложно. Слова способны вводить в заблуждение, ассоциативный ряд, возникающий в иностранном языке, может оказаться совсем иным, и даже молчание допускает неоднозначное толкование. Например, некоторые западные психоаналитики связывают молчание с травмой, называя его отрицанием. Однако в Советском Союзе молчание было осознанно выбранной стратегией, и цели преследовались прежде всего политические. Карьера часто зависела от умения человека держать секреты при себе. Первый российский психиатр, главврач одной из московских больниц, которая обсудила со мной эту тему, была живым тому свидетельством. Я спросила ее, насколько распространена среди ее пациентов травма и посттравматическое стрессовое расстройство. Ее реакция была мгновенной. Она уверила, что в этой больнице лежат пациенты только с синдромом Альцгеймера: все они люди весьма преклонных лет, и если они и были ранены чем-то в прошлом, то в большинстве своем это были физические раны, в том числе переломы и травмы головы, полученные ими во время войны. Она еще могла понять церебральные нарушения, физические увечья (многие психиатры ее поколения немало узнали об этом в послевоенные годы), но она не признавала диагноза “посттравматическое стрессовое расстройство”.
Врач была настолько категорична и обижена, что я решила спасти беседу, поинтересовавшись ее мнением относительно природы еще одной психиатрической проблемы: шизофрении. В этот момент советское самообладание покинуло ее, и она закрыла лицо руками. Она готова была расплакаться. Нервно поглядывая на свою изумленную коллегу, она рассказала, что и сама родилась в сталинском лагере. Обычно она об этом не говорила и еще никогда не рассказывала об этом незнакомому человеку. Теперь же она поведала мне о том, как этот опыт повлиял на определенные стороны ее жизни. Кроме того, она признала, что многие больные, содержавшиеся в больнице, пострадали подобным же образом. Через пару дней она нашла несколько человек из числа пациентов, которые были готовы поговорить со мной. По их словам, они страдали от депрессии, страха, навязчивых мыслей и чувствовали себя одинокими. Надави я на них или реши я направить их воспоминания в определенную сторону, я могла бы заставить их рассказать мне истории, которые я затем классифицировала бы как свидетельство посттравматического стрессового расстройства. Однако почти в каждом случае – и уж точно в истории самого врача – привычку отмалчиваться, выработанную на протяжении жизни, можно с одинаковой легкостью объяснить как постоянно ощущаемой угрозой государственного насилия – ареста или увольнения, – так и психологическим отрицанием. Их истории можно рассказать по-разному, и причины их психологического нездоровья, как справедливо настаивала врач, необязательно были напрямую связаны с травмой, пережитой ими в далеком прошлом.
Очень немногие уцелевшие по своей воле излагают истории своих жизней как истории страдания (эта риторическая стратегия роднит их с выжившими в катастрофах в других странах и культурах). Собственно, они вообще не горят желанием описывать самые темные эпизоды своего прошлого, а если и соглашаются поговорить о них, то часто используют неестественные, абстрактные, лишенные эмоций слова и выражения. Одни делают это из стыда – у многих довольно неоднозначное прошлое, не укладывающееся в простые схемы. Однако другие в этом столь политизированном обществе всю жизнь использовали молчание, потому что это было единственным рациональным выбором. Еще они научились рассказывать свои истории таким образом, чтобы те утешали и успокаивали, а не мучили их. Практически каждый раз в этих рассказах всплывают одни и те же темы. Вам говорят: русские сильные, моя мать была героиней, моя собственная жизнь сложилась невероятно удачно. Если уважительно выслушивать все это, попивая чай, а еще лучше – угощаясь пирогами и рассматривая семейные фотографии, хозяева останутся довольны, а вы увидите, как очередной человек обошелся с фактами, которые разговоры, по крайней мере подобного рода, не могут изменить.
Если вы хотите выяснить больше – а практически всегда что-то остается невысказанным, – придется решить для себя вопрос об ответственности. Некоторых людей нетрудно спровоцировать на то, чтобы они пересмотрели свое прошлое, нетрудно шокировать и вывести из равновесия. Иногда достаточно показать им фотографию. Зачастую даже простой уточняющий подробности рассказа вопрос – какого цвета был пиджак, как пахло пшеничное поле, что выражало лицо умирающего ребенка – способен выжечь путь в самую суть рассказа. Но я по-прежнему не уверена, имеют ли право простые посетители вторгаться в частную жизнь этих людей. Рассказы тех, кто стал свидетелем истории, имеют огромное значение. Те, кто способствовал совершению злодеяний, и те, кто пассивно мирился с любым насилием, с готовностью отрицают преступления прошлого. Российское прошлое и без того уже достаточно долго отрицается. Секретность была частью системы, приведшей к массовым потерям, в том числе ко многим потерям военного времени. Злодеяния, которые остались неизученными, имеют куда больше шансов повториться. Однако решение о том, чтобы оставить свидетельство или воздержаться от него, должно быть личным выбором тех, кто выжил, кто пострадал, мирных граждан. Некоторые и спустя полвека предпочитают держать свои воспоминания при себе, и неважно, называют они их травматическими, болезненными или просто кошмарными.
В любом случае травма – далеко не единственная издержка смерти и насилия. Те, кого я встретила в России, конечно, используют другие слова, для того чтобы описать ту цену, которую им пришлось заплатить за свой опыт. Более чувствительные из них с готовностью признают, что некоторые всю жизнь страдали из-за того, чему им довелось стать свидетелями. Практически в каждом случае эмоциональный ущерб был усугублен нуждой и мытарствами, которые отчасти были прямым результатом потери близких, лишения собственности или ссылки и выселения. Многие были склонны видеть в психологическом страдании непозволительную роскошь, чуждую их миру, в котором были и холод, и голод, и неотступный страх. Последние годы советской власти не повысили благосостояния неквалифицированных рабочих и тех, кого обстоятельства обрекли на жизнь в провинциальных городах. Но если уж на то пошло, постсоветская реальность оказалась еще тяжелее. Лишь немногие россияне разбогатели в результате экономической реформы. Пожилые люди (а большинство уцелевших жертв репрессий и катаклизмов – люди преклонных лет) столкнулись с трудностями такого масштаба, который редко встретишь в других развитых странах.
Большинство говорили о выживании, справедливо замечая, что общество в целом не распалось и не разрушилось. Они самостоятельно нашли способы справиться со своими потерями – человеческими и материальными – и в известной степени гордятся своей стойкостью, видя в этом, помимо всего прочего, нечто специфически российское, и во многих отношениях они правы. Советский Союз был изолирован от остального мира, поэтому решения, выработанные этими людьми, целиком и полностью выросли из одного набора культур и представлений. В силу того что советская власть долгие годы ограничивала публичные проявления религиозной веры и отправление обрядов, начиная с 1920-х годов люди вынуждены были самостоятельно вырабатывать стратегии и способы справляться с тем огромным объемом хранившейся под спудом боли, который выпал на их долю. То, как по-разному люди украсили “могилы” своих расстрелянных родственников на урочище Сандармох, наглядно свидетельствует об их разобщенности, об атомизации горя и всего трагического опыта, переживаемого поодиночке. Традиция погребальной культуры не единственная традиция, прерванная советской властью. В то время как одни смерти, например гибель героев, увековечивались со всеми почестями, другие, менее идеологически “правильные” случаи потерь и утрат вообще невозможно было коллективно обсуждать на протяжении большей части XX века. Это молчание иногда было источником страдания: кому-то была остро необходима возможность совместного, общего разговора и переживания горя. Молчание оставило некоторые убийства неотомщенными. Даже тех, кто предпочитает не обсуждать прошлое, возмущает тот факт, что злодеяния, совершенные государством, а также несчастные случаи и даже природные катастрофы долгие десятилетия оставались незамеченными. Однако необходимо подчеркнуть, что молчание жертв отнюдь не подразумевает их слабость.
Я говорила об этом с одним из организаторов церемонии в Сандармохе, Валерией Оттовной, в тот вечер, когда мы под руку шли с урочища. Эта женщина производит сильное впечатление: в свои неполные семьдесят она заведует социальным снабжением в московском отделении “Мемориала”, ежедневно выслушивая жалобы пожилых людей. По ее словам, по большей части проблемы, с которым они к ней обращаются, просты и вызваны материальными трудностями. Кто-то не может платить за квартиру, у кого-то не хватает денег даже на еду. Когда в декабре я пришла к ней на работу, она раздавала резиновые сапоги толпе пенсионеров, которые были чрезвычайно рады такому подарку. Люди пытались заполучить сапоги своего размера, началась давка. Но Валерия Оттовна со всем справилась. Она человек щедрый, но твердый. Однако, оказавшись в Сандармохе, она рыдала несколько часов. Глядя на скорбящих родственников с фотографиями и свечами, она сказала: “Эти люди счастливчики, я всю жизнь ищу и до сих пор не знаю, где похоронена моя мама. Ее забрали. Она была учительницей. Скажите, ну что такого она могла натворить?”
Такое горе ничем не утешить. В конце концов, сама суть этой книги – зияющее отсутствие, утрата. В ее центре – молчание, а не ответы. Валерия Оттовна не просила жалеть ее и не хотела, чтобы я вела с ней пустые разговоры о ее страдании. Слова были бы слишком простой реакцией. Бывают тексты о психологической боли, в которых сквозят снисходительность и покровительственное отношение, замешанное на самоутверждении. Они подразумевают, даже если и не формулируют это напрямую, что ужасные вещи, происходящие где-то еще, требуют от тех, кому в жизни повезло больше, благотворительности и помощи. Может быть, мы могли бы предложить совет, а может, у нас есть что-то материальное, вещественное, но и то и другое можно отдать задешево, особенно не задумываясь. Небольшой дар в одно мгновение решает проблему – нашу проблему, – устраняя дискомфорт и ощущение тревоги и беспокойства.
Но если мы действительно задумаемся о смерти, это нас вряд ли удовлетворит. Всегда находится что-то, что отвлекает наше внимание: архитектура могилы, крестьянская наивность, похороны мафиози, абсурдность эпитафии. Но если мы остановимся на самой сути этого вопроса, если взглянем на него – на смерть – в упор, не отводя глаз, то не увидим ничего. Наши ответы, наши реакции на смерть ничем не лучше, чем то, что изобретено и создано другими, для того чтобы наполнить содержанием – достоинством, красотой, коллективным смыслом – реальность, которая находится за гранью нашего понимания. Я спросила Валерию Оттовну, чего бы она хотела, чего она ждет от меня, от моей книги, от любого, с кем я могу связаться, кого я могу знать. Она ответила совершенно в своем духе. Накануне вечером, немного выпив, она прервала коллективное обсуждение трупа Ленина, которое мы вели, и напомнила нам всем, что “искать мести” означает пожертвовать целостностью своих моральных принципов. “Скажи им, что мы хотим сопереживания. Попроси, чтобы попытались понять”, – ответила она.
Уже больше четырех зим снег укрывает могилы Сандармоха. Деревянные опознавательные знаки, вероятно, начали гнить. Скоро деревенские жители начнут пользоваться часовней, и большинство из них и не задумаются о ее изначальном предназначении. Кости останутся лежать в земле непотревоженными. Немногие из тех, кто приехал в Сандармох в октябре 1997 года, смогут когда-либо повторить это путешествие. Но каждый, кто был там в тот день, стал свидетелем. Свидетельствование – задача не из легких, так что я подозреваю, что она никогда не будет выполнена до конца. Это, безусловно, тяжкий груз и ответственность. Но это и привилегия.
Люди, согласившиеся рассказать свои истории для этой книги, не просто предложили мне ключи к прекрасной, но полной мучений и страданий культуре. Почти всем им довелось увидеть такой кромешный ужас и мрак, с которым, я надеюсь, мне никогда не придется столкнуться. Их реакции на пережитый кошмар не обязательно были однообразно унылыми. Они были очень личными, индивидуальными, непосредственными, жизненно необходимыми им. Я знаю, что трудно оценить их по достоинству. Даже просто перевод их слов – перенос их в другой социальный контекст, наполненный всей сложностью различных ассоциаций, – подразумевает изменение, вырывание из первоначального контекста, утрату гармонии, темпоритма. Однако последние выжившие стареют и уходят из жизни, и их рассказы – пусть это лишь фрагменты истории, бесконечно преломленные в изменяющемся свете идеологии и общественных трансформаций, – необходимо сохранить. Эти рассказы – живые, яркие свидетельства, и они показывают, что есть множество способов думать о смерти, что обычаи и верования могут подвергаться гонениям и тем не менее уцелеть и что существует немало вещей, которые необходимо попытаться понять.
Глава 1 Тот свет
Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас”, – писала Ахматова в 1922 году[5]. Поколения русских людей описывали свое бесстрашие схожим образом – как некое общее свойство, уникальную черту своей культуры, доблесть, порожденную страданием и взращенную глубинным, коллективным вдохновением. Некоторые писатели считали источником этого качества сам русский пейзаж: леса, степи, снега, необъятное северное небо. Другие связывали его с почвой, с глиной или суглинком, с той “самой милой, горькой землей, где я родился”[6]. По мнению многих, эту душевную несгибаемость выковали именно горькие невзгоды и испытания. Но практически каждый, говорящий о мистической составляющей русскости, о славянской душе, помещает эту искру всепоглощающего русского пламени в сердце каждого человека в самую гущу народную, средоточие самых простых людей. В 1941 году, в разгар самой трудной блокадной зимы, обращаясь к воображаемой соседке, обыкновенной жительнице Ленинграда, Ольга Берггольц писала:
Дарья Власьевна, твоею силой будет вся земля обновлена. Этой силе имя есть – Россия. Стой же и мужайся, как она![7]Через века, наполненные насилием: войнами, иностранными вторжениями, многократными случаями массового голода и стихийных бедствий, – проросла, дав пышные цветы, концепция мистического национального существования России. Изоляция СССР способствовала укреплению этой идеи в XX веке, и она дожила вплоть до того времени, когда другие общества повели разговор о глобальной культуре. Стороннему наблюдателю идея существования духовной общности нации может показаться абсурдной и даже вредной. В конце концов, на территории России проживает множество различных этнических групп, считающих ее своим домом. Само по себе население России представляет собой некий гибрид, сложившийся в результате торговли, завоеваний, миграции и смешанных браков на самом большом материке планеты. Но это дела не меняет. Идея мистической твердости и выносливости продолжает владеть многими умами, да и саму русскую душу даже в наше время часто описывают как своего рода генетическую характеристику вроде светлой кожи. В литературе бытует мнение о том, что суть этой выносливости парадоксальна и противоречива. Западных либералов на протяжении многих столетий изумлял русский шовинизм, однако у парадокса всегда должна быть оборотная сторона, и в данном случае это стоицизм и поэзия, подлинное свидетельство стойкости, а также исключительно близкое знакомство со смертью. Не об этом ли писал Александр Блок в 1918 году?
Россия – Сфинкс! Ликуя и скорбя, И обливаясь черной кровью, Она глядит, глядит, глядит в тебя И с ненавистью, и с любовью!..[8]Мощный образ, предложенный Блоком, подразумевает определенную преемственность: в своем стихотворении он обращается к скифам, древним воителям из южных степей. Однако элементы, из которых складывалось отношение русских людей к страданию и смерти, с течением времени претерпевали изменения. Даже вернувшись в годы детства Блока, пришедшиеся на конец XIX века, мы окажемся в обществе, стоявшем на пороге своего распада. Странный, практически неузнаваемый мир. Большинство образованных русских людей того времени без труда смогли бы назвать его основные черты. Одной из них была религия – православие. Другой – самодержавие, абсолютная власть царя. В обоих случаях эти столпы старого мира поддерживали ощущение единства, коллективности, соборности, связанных с идеей Святой Троицы, единства, вбирающего в себя множества. В XIX веке крестьяне называли самих себя “православными” с той же готовностью, что и “русскими”. До революции православие было официальной религией примерно 94 процентов этнических русских. Царь правил по дарованному свыше праву, и расстояние, отделявшее его от Бога, едва ли превышало ту пропасть, что лежала между простым народом и монархом.
Спустя столетие рухнул советский режим, и миллионы русских попытались хотя бы частично вернуть себе этот мир. Они искали утраченное единство, определенность и несомненность, а также воображаемое достоинство и благородство. Десятки тысяч из них снова обратились к православной церкви, а некоторые даже заговорили о том, чтобы возродить монархию. Вернулись к почитанию дискредитированных символов аристократии: орла, трехцветного флага, некоторых патриотических святых – тех, что расправляются с драконами, скача на гарцующих лошадях, – и массово устремились в церкви. Таким всепоглощающим было страстное желание оставить конфликты позади, обрести непреходящую идентичность и воссоединиться с воображаемой версией прошлого! Как будто бы и вправду можно разорвать нить истории и заново соединить два ее оборванных конца – дореволюционный fin de siècle[9] и постсоветский ренессанс, срастив, связав их воедино через целое столетие советского социализма.
И все-таки именно исчезнувший мир владел мечтами тех, кто стоял с зажженными свечами в темной церкви, наблюдая, как прихожане кланяются в унисон, и растворяясь в богатстве песнопений. Как и всякое убежище от настоящего, дореволюционная Россия, какой ее представляли себе праправнуки, была фантазией. XIX столетие не было золотым веком национального единства и не было лишь почвой, из которой суждено вырасти истории XX века, истории Советской России, даже несмотря на революцию, ставившую целью заново изобрести и переосмыслить культуру. Это было время стремительных изменений, время тревог и множества взаимоисключающих возможностей. Его будущее не было предопределено.
Живых свидетелей того времени не осталось. Скудны даже письменные источники, которыми мы располагаем: мемуары и письма, официальная статистика, старательные заметки знатоков древностей и этнографов, редкие рассказы путешественников. Современному читателю или исследователю зачастую не вполне понятны цели и задачи, стоявшие перед авторами этих документов, так что, обратившись к этим источникам из дня сегодняшнего, легко упустить из виду все то, что было настолько очевидно для людей того времени, что даже не оставило письменного следа, а считывалось современниками между строк. Смерть еще не была вотчиной медицины, коей ей предстояло стать в дальнейшем; процессы похорон и траура по умершему были вполне вещественными компонентами перехода души в иной мир, и пламя геенны огненной полыхало все так же ярко. Из этого мира можно раздобыть отдельные артефакты, но для того, чтобы вообразить себе его весь, представить, как обитавшие в нем люди думали о себе, каким было их мировосприятие, ценности и табу, потребуется серьезное усилие. На самом деле даже концепция собственного “я”, концепция индивидуума, наделенного правом выбора и чувствами, вполне могла привести в замешательство многих представителей того самого другого поколения.
Письменные источники предлагают череду отдельных образов. Например, пособия, изданные в конце XIX века, со всей скрупулезностью описывают официальный православный взгляд на природу жизни и смерти. Они рисуют картину рая и ада, сообщая нам о том, что, по мнению верующих, должно произойти с их душами, и напоминают современным им читателям о грехе, богохульстве, роли христианских таинств и молитвы. Однако, чтобы понять, что имели в виду авторы этих источников, необходимо выйти за пределы текста и представить себе мир, в котором религиозное сознание не было исключением или проявлением эксцентричности, мир, в котором церковь была озабочена не столько сокращением паствы, сколько борьбой с тем, что ей виделось ересью, заблуждениями и суевериями. Повсеместно встречались пассивные верующие, многие сомневались в некоторых аспектах усвоенного ранее катехизиса, однако у большинства русских людей конца XIX столетия вера была так прочно укоренена в сознании, что превратилась в своего рода рефлекс, не зависящий от формальных догм, в набор метафор и образов, описывающих процессы умирания, смерти и загробной жизни так, как будто бы не существовало никакой иной обоснованной космологии.
В силу того что эти метафоры не мои и не мною придуманы, я, как любой новообращенный, вынуждена начинать с самого базового “учебника”. В этом смысле один из самых вразумительных и ясных – всеобъемлющий труд монаха Митрофана “Загробная жизнь. Как живут наши умершие и как будем жить и мы после смерти по учению православной церкви, по предчувствию общечеловеческого духа и по выводам науки”, впервые опубликованный в 1880 году[10]. Митрофан объясняет, что русское православие – религия, которая всегда основывалась на надежде. Праздником, формирующим самую суть этой веры, была и остается Пасха, а не Рождество. Христос православия – это Христос, воцарившийся на троне, окруженный святыми и ангелами, воскресший Господь во славе, возглавляющий торжественные церемонии, а не изломанная фигура на кресте и даже не хрупкий младенец Иисус. Смерть попирается бесконечно и неизменно, и человеческие души как фрагменты божественного разделят это бессмертие в том случае, если им удается избежать вечных мук ада. Ад – единственная альтернатива спасению и жизни вечной в царствии небесном. Православным так же трудно представить себе чистилище, как смириться с идей существования другой правды (точнее, других правд – именно так, во множественном числе), иных оттенков смысла, смириться с возможностью торга на пути к духовному откровению. Их литургия прекрасна, но она умышленно создана таинственной и непостижимой, чтобы быть принятой безоговорочно и без лишних вопросов.
В этой системе смерть является не концом жизни, а моментом перехода, практически перерождением. “Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего (рабы Твоея), идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная”, – говорится в православной молитве об усопших[11]. Эти слова утешения отзываются эхом еще одного аспекта веры – благоговейного трепета. В этой религии смерть и божья кара не были одомашнены и приручены, и хотя истинно верующие знают, что смерть служит преддверием жизни вечной, даже они могут сомневаться в том, что этот переход окажется мирным и безмятежным. Смерть часто толкуют как начало путешествия, совершаемого на лодке или на санях, запряженных тройкой диких лошадей, так что мысль о том, что душе предстоит отправиться в путь, наводит ужас: ведь это расплата и испытание.
Митрофан подробно изложил этапы этой одиссеи, описав их с географической буквальностью и снабдив подобием “расписания” в реальном времени. Его книга объясняет, что душа остается на земле три дня и три ночи и что за это время она наведывается в места, где провела большую часть того времени, что было отмерено ей на земле. Путешествует она не в одиночестве, а в сопровождении ангела-хранителя, однако его общество совсем не обязательно сулит отраду и утешение. Этот ангел не просто милосерден, он не эдакая добрая фея. Его задача – открыть изумленной душе подлинный смысл ее земных поступков и решений, какими бы ужасными они теперь ни казались. Молитвы, которые в этот период скорбящие воздают за упокой души, должны быть искренними, потому что немногим дано бесстрашно созерцать подобного рода правду, явленную им напрямую, без обиняков. Другой авторитетный источник объясняет, что православная погребальная служба – это “не ритуал, а духовная подпитка живой человеческой души, отлетевшей от смертного тела, духовный акт, утверждающий бессмертие души во Христе, проявление людской заботливости о душе в тот момент, когда она входит в мир иной”[12].
Через три дня после смерти, в тот день, который ко времени Митрофана уже более века использовался для погребения, душа возносится на небеса, чтобы встретиться с Богом. В упрощенном изложении за этим следует еще одно откровение: мимолетное видение рая, где душа проводит шесть дней, и куда более длительный осмотр ада. Когда Мирофан писал свою книгу, он уже вынужден был противостоять некоторому общественному скепсису в отношении самой идеи осуждения на вечные адские муки и подозрению, что вертела и вилы в руках чертей могут оказаться вполне аллегорическими. Вот почему от его описаний веет древним ужасом. Православный верующий не размышляет о загробной жизни с блаженным спокойствием, и самое пугающее событие из всех ожидает каждого смертного всего через сорок дней после кончины. Это момент персонального суда, когда все, что душа узнала во время своего путешествия, становится непреложной истиной, когда душа начинает сталкиваться с последствиями тех действий, о которых она, возможно, предпочла бы забыть, когда душа оказывается перед лицом реальной перспективы быть обреченной на муки вечные до скончания веков.
Но есть и утешения, и старые книги перечисляют их все. Конечно, истинно верующие вроде святых и мучеников спасутся. А что касается всех остальных, то пока существует этот мир, каждый свершающийся суд имеет временную силу. Лишь Страшный суд, всеобщая расплата за грехи, когда мертвые восстанут во плоти, будет бесповоротным и непреложным. Поэтому даже в глубинах ада несчастные души грешников могут начать искупать свои грехи. За них могут молиться не только святые и мученики, но и ныне живущие, так что в обязанности каждого человека входит молиться за умерших, соблюдать церковные праздники в память о них, а также следить за судьбой конкретных душ, собираясь не только на сами похороны, но и на поминальные молитвы, которые читаются на девятый и сороковой день после кончины и каждый год в годовщину смерти.
На этом этапе даже в книге монаха Митрофана граница между формальной доктриной и обычаем истончается. Душа православного верующего может не принадлежать этому миру, но она, безусловно, возвращается на землю, проклятой или спасенной, и сохраняет вещественные отношения с почвой, особенно со своей собственной могилой. Некоторые говорят, что души возвращаются в определенные дни, среди которых ночь перед пасхальным воскресеньем, Радоница (или Радуница, второй вторник после Пасхи), Троица и День Всех Святых. Другие добавляют, что во время подобных визитов душа принимает материальную форму (поэтому важно, чтобы тело было похоронено целиком, а не кремировано, потому что это нарушит процесс телесного воскрешения), что она моется, ест, пьет, что семья и друзья могут поговорить с ней и передать вместе с ней послания другим усопшим, отошедшим в мир иной гораздо раньше, или просто воспользоваться присутствием этой души для молитвы. В XIX веке люди верили, что такие возвращающиеся души шли по стопам куда более древних духов, среди демонов, обитавших в лесах, на болотах и у ручьев, или в компании призраков. Но с призраками Митрофан мириться был не намерен: в березовой роще вокруг его церкви никаких рыскающих демонов не было. Однако читатели его книги, как это вообще свойственно людям, вполне могли верить в несколько вещей одновременно: бросали в гроб копейку, чтобы умерший на том свете мог заплатить паромщику за переправу, а затем на отпевании в церкви исповедовали каноническую веру.
Религиозные убеждения были настолько неотъемлемой частью жизни, что многие документы не останавливаются на них специально, считая их обстоятельством само собой разумеющимся и предпочитая сосредотачиваться на трудностях сбора средств, борьбы с безнравственностью или улаживания местных конфликтов[13]. И напротив, философия и притязания самодержавия, другой важнейшей опоры российской культуры XIX столетия, несоразмерно более подробно представлены в опубликованных текстах, газетах, официальных документах и мемуарах. Сегодня нам может быть нелегко представить, что власть царя воспринималась как дарованная свыше, особенно если задуматься о вполне конкретных людях, облеченных этой властью, но это именно тот случай, когда оказываются полезными источники, особенно те из них, где рассматриваются вопросы, связанные со смертью и похоронами. Царские министры изо всех сил стремились поддержать представление о божественном происхождении властной иерархии, особенно в те тревожные месяцы переходного периода, который следовал за кончиной любого монарха. Их послание обществу было кристально ясным: царь не обыкновенный смертный или просто мирской властитель, нацию объединяют кровь и почва, священная российская земля, но также ее сплачивает и скорбь, а Господь должен хранить следующего царя, когда тот принимает тяжкое бремя абсолютной власти во имя своего страждущего народа.
Последним царем, скончавшимся до революции, был Александр III. Из описаний горя, в которое погрузилась страна, а также того ритуала, который двор посчитал подходящим для похорон самодержца, вырисовывается политический взгляд на Россию XIX столетия, дополняющий духовность Митрофана и его собратьев по монашеству. В данном случае акцент был сделан на государственной власти, неравенстве, почтении к умершему, а также на таинственности правителя, который и после смерти остается блюстителем и защитником своего народа. Церкви здесь отведена всего лишь роль трагического хора. В центре всеобщего внимания находится само тело почившего самодержца как воплощение мистического национального единства и царской власти, дарованной свыше.
Александр III скончался в четверть третьего пополудни 20 октября 1894 года. Перед смертью он находился в царском дворце в крымской Ливадии под наблюдением врачей, которые в течение нескольких недель боролись с последствиями заболевания почек, погубившего Александра в довольно раннем возрасте – в 49 лет. Санкт-Петербург узнал о его смерти спустя пять часов, когда на стенах публичной библиотеки на Невском проспекте появилось объявление в черной траурной кайме. По всей столице России, в каждой ее церкви зазвонили колокола, и этот печальный, неумолимый перезвон не смолкал всю ночь. Люди ринулись к библиотеке, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на официальное извещение, и за несколько минут перед Казанским собором, в котором должна была пройти первая заупокойная служба с хором Мариинского театра, образовалась очередь[14]. Все церкви в ту ночь были забиты людьми: в дурманящем облаке ладана и свечного дыма били поклоны печальные фигуры, некоторые рыдали. Весь город, вся страна погрузилась в траур, облачившись в предписанные черные одежды, заказав поминальные венки и отменив посещения театров и концертов ради церковных служб и молитв. Полноценный общенародный траур продолжался три месяца.
Само тело почившего царя оказалось в центре общественного внимания. Поскольку православие традиционно придает огромное значение материи, связи между душой и смертной плотью, в этой традиции практические сакральную важность обретают ткани, кости, волосы и мышцы человеческого тела[15]. Возможно, поэтому, а возможно, в силу того, что в момент политического престолонаследия сам факт смерти предыдущего монарха следовало сделать как можно более ясным и прозрачным, на первых страницах главных газет почти сразу же были опубликованы подробности о болезни скончавшегося царя, а также заключение патологоанатома. Так, 29 октября “Санкт-Петербургская газета” потчевала своих читателей на завтрак описанием каждого из жизненно важных органов Александра III, и любопытствующие могли узнать в подробностях о жировых отложениях и о газах в желудке.
Тело самодержца подверглось бальзамированию (причем не слишком успешно; впоследствии эту процедуру большевики повторят с телами Ленина и Сталина), а затем было выставлено для целой серии длинных церемоний прощания. Его путешествие из Ливадии, сначала на плечах императорских гвардейцев, а затем в убранном бархатом гробу в вагоне специального поезда, заняло две недели. По пути следования кортеж останавливался для прощания в провинциальных городах – в Симферополе, Харькове, Курске, Орле и Туле – и довольно надолго задержался в Москве, где в Архангельском соборе Кремля состоялась панихида. Когда траурная процессия достигла наконец Санкт-Петербурга, на теле царя уже явственно заметны были следы гниения[16].
Описания физического недуга и смерти (но не разложения, оно оставалось в тайне) были делом вполне традиционным и отнюдь не были призваны изобразить царя обыкновенным смертным. Николай II, провозгласивший свое желание править милостью божьей (и не ссылаясь в своем намерении более ни на кого), через два дня после смерти отца говорил о почившем правителе как о “Государе, безвременно отошедшем в вечность”, чья забота о родной земле, “которую Он любил всею силою Своей русской души и на благоденствие которой Он полагал все помыслы Свои, не щадя ни здоровья Своего, ни жизни”, будет хранить нацию и после его кончины[17]. Новый царь, человек не такой сильный и уверенный в себе, как его предшественник, по крайней мере разделял приверженность своего отца институту данного свыше самодержавия. Его наставник Константин Победоносцев писал: “Истина есть нечто абсолютное, и только абсолютное может быть основанием жизни человеческой. Все остальное не твердо, все остальное исчезает в колеблющихся образах и очертаниях, стало быть не может служить основанием”[18]. Царь не был ограничен соображениями политического свойства. Его власть имела отчасти божественную природу, и страна должна была верить в то, что связь между самодержцем и народом мистическая, духовная и неоспоримая.
В глазах тысяч потенциальных читателей изданий вроде влиятельной “Санкт-Петербургской газеты”, не опускавшейся до сплетен и всего того, что редакция посчитала бы проявлением более низменного, вульгарного вкуса, сохранение самодержавия было как делом врожденной склонности, преданности и привычки, так и важным догматом веры. Многих читателей из числа состоятельных горожан занимали не только мистические аспекты будущего России. Они состязались и в том, чей венок богаче, и в том, кто больше накупит столового серебра, выпущенного в память о почившем императоре. В 1894 году в моде были большие металлические венки, увитые цветами, которые, в свою очередь, были инкрустированы драгоценными камнями: самые приличные газеты перечисляли их стоимость и вес наряду с именами наиболее щедрых дарителей. Смерть царя обернулась и благоприятными возможностями для бизнеса; особенно подфартило тем, кто торговал траурной одеждой, которую предписывалось носить целый год и каждая деталь которой, обязательная при дворе, была прописана в специальном положении[19]. Уже 21 октября, на следующее утро после кончины Александра III, газеты запестрели рекламными объявлениями об услугах портных и купцов, торговавших тканями, а в витринах магазинов в каждом городе страны были выставлены фотографии покойного царя, задрапированные траурным крепом.
К утру 1 ноября, когда должно было состояться погребение Александра III, казалось, все жители Петербурга высыпали на улицы города. Но монархия не единственный институт, чей статус призвана была подтвердить последующая церемония. Процессия, следовавшая за гробом от Николаевского вокзала к Петропавловскому собору, состояла почти из двухсот секций, каждой из которых было отведено особое место. Во главе процессии, конечно, шествовал собственный Его Величества конвой, но следом знаменосцы несли знамена и гербы каждого крупного города империи и городов поменьше, политических учреждений, официальных сословий (крестьянства, мещанства и купечества) и иностранных союзников. Присутствовали даже представители добровольных объединений, таких как Русское музыкальное общество, Российское общество садоводов, Императорское минералогическое общество, Императорское общество любителей древней письменности и Императорское историческое общество. Между зданиями, затянутыми траурным сукном в соответствии с установленным двором регламентом, медленно шествовали десятки отдельных групп и объединений, каждое со своим уставом, каждое под флагом, тем самым неосознанно утверждая Российскую империю как пространство иерархии, православия и автократии. Толпа, наблюдавшая за процессией, ждала этого зрелища еще с ночи, расположившись на ночлег вдоль пути следования погребального шествия, благо погода оставалась теплой не по сезону. На следующий день газеты единодушно заключили, что “столица никогда еще не видывала ничего подобного”.
Траурная процессия под звон колоколов держала свой путь к последнему приюту Александра III, но были в столице и те, кто считал всю церемонию, как и самодержавие в целом, фарсом, оскорблением человеческого достоинства, анахронизмом, который следовало искоренить и уничтожить. То были революционеры, чьи тексты со всей тщательностью перлюстрировались сотрудниками Третьего отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, чьи передвижения регулярно отслеживались и фиксировались и чьи идеи, серьезные или не очень, ретроспективно оказались важными, потому что наследники этих людей уже в следующем поколении захватили контроль над империей от имени всего народа. Но были и другие виды убеждений, многие из которых никогда не были письменно зафиксированы или, по крайней мере, не зафиксированы теми, кто их разделял.
Мы не многое можем сказать о том, как именно большинство людей в России переживали кончину царя. Не то чтобы газеты совсем игнорировали простой народ, но только не предпринималось никаких специальных усилий для того, чтобы собрать отклики на происходящее или запечатлеть народные церемонии прощания. Почти 80 процентов населения России принадлежало к крестьянскому сословию, а это значит, что в 90-е годы XIX столетия крестьян было более 96 миллионов человек. При царизме у этих людей не было практически никакого политического влияния, а после 1917 года большевики посчитали их отсталыми, темными, потенциально ненадежными. Эти люди оставили о себе мало письменных свидетельств. До 1920-х годов большинство крестьян были неграмотными, так что в основном все имеющиеся свидетельства написаны людьми других сословий. Тем не менее именно взгляды, верования и мировосприятие крестьян легли в основу общераспространенного в стране представления о смерти, а в эпоху революционных перемен и внедрения новых идей, ритуалов и научных ценностей крестьянская вера оказалась самой живучей. Некоторые ее аспекты – фрагменты, осколки, сложенные воедино уже в ином контексте, – уцелели, и на этом основываются представления о смерти их правнуков.
Религиозная картина мира в сознании крестьян не опиралась ни на священников, ни на формальные структуры, ни на письменные тексты, поэтому ее трудно было оспорить со стороны тем, кто не принадлежал к этой замкнутой системе. Это отчасти объясняет, почему многие писатели XIX века, впервые открывая для себя деревенскую культуру, воспринимали крестьянские верования как нечто первородное и типично российское.
Мысль о том, что национальный дух наиболее ярко воплощен в простом народе, оказалась привлекательной для определенного рода романтиков, которых приводили в замешательство изменения в области технологий и общественного устройства. Люди подобного умственного склада занимались собиранием крестьянских пословиц и поговорок, веря, что в них содержится ключ в тайный мир и та исчезающая мудрость, которую людям образованным, но лишенным повседневного контакта с землей дано завистливо узреть лишь мельком.
Это томление по крестьянской мудрости не было исключительно проявлением ностальгии, да и викторианская концепция фольклора, народной культуры эту тоску тоже не объясняет. В глазах писателей вроде Льва Толстого, стремившихся возродить свой распадающийся мир через поиски его настоящей, подлинной души, крестьяне представали источником всего самого чистого, достойного наибольшего восхищения в русской духовности. Одной из тем, которую неизбежно затрагивали подобные духовные поиски, была смерть. Как водится, моральное разложение и сложность, присущие городской жизни, противопоставлялись простоте жизни сельской. Перед лицом смерти любимого человека представитель образованного сословия с большой вероятностью ощущал “разрыв и духовную рану”, а собственную смерть переживал как нечто мучительное и непостижимое, принуждавшее к тяжелым философским раздумьям. Простой человек, обыкновенный русский мужик, напротив, прямо смотрел смерти в глаза и уходил из жизни как капля воды, которая “растет, сливается, и сжимается, и уничтожается на поверхности, уходит в глубину и опять всплывает. Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез”[20].
Толстой и во многих последующих своих сочинениях будет обращаться к теме простоты крестьянского существования, противопоставляя ее бесплодной рациональности. Именно крестьянин Фоканыч помогает измученному Левину, одному из самых привлекательных героев романа “Анна Каренина”, справиться с отчаянием и преследовавшими его мыслями о самоубийстве. Секрет Фоканыча в том, что он “правдивый старик”, “для души живет. Бога помнит”, живет “по правде, по-божью”. Эта жизненная философия отличалась характерной простотой и подана была мимоходом, по случаю, однако в душе искушенного интеллектуала “произвела действие электрической искры”[21]. Жизнь и смерть, выраженные так ясно и прямо, внезапно становятся для Левина, а косвенно и для Толстого, чем-то, с чем можно примириться, что можно вынести. Толстому вторит Солженицын: “ [Крестьяне] принимали смерть спокойно”. И далее: “Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут ‹…›. Не только не оттягивали расчет, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребенок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегченно, будто просто перебирались в другую избу”[22].
Фольклористы XIX века убедились, что простота крестьянского мировосприятия, по которой они истосковались, могла прекрасно сосуществовать с крестьянской поэзией, например со странным ритмом похоронного плача, причитания, или очарованием басни и эпической легенды. 70-е и 80-е годы XIX века стали временем рождения российской этнографии[23]. Общество стремительно изменялось, и изменения эти сопровождались растущей тревогой о том, что подлинно русские ценности могут исчезнуть, раствориться. Каждый год, как только дороги становились проходимы для путешествия, некоторые состоятельные исследователи отправлялись теперь в экспедиции вглубь страны. Другие посылали вместо себя своих слуг или нанимали местных агентов. Один из таких исследователей, князь Вячеслав Николаевич Тенишев, имел в своем распоряжении целые команды корреспондентов на местах, состоявших из священников, врачей или случайного местного служащего, которые писали ему из провинции со всей страны. Его бумаги, хранящиеся в сотнях темно-синих папок и составляющие целый отдельный архив в Санкт-Петербурге, отражают самые разнообразные стороны религиозной жизни, от венчаний до похорон. Были и другие энтузиасты старой культуры, например Елпидифор Васильевич Барсов, который отучился в Петербургской духовной академии и планировал принять сан, а в свободное время собирал народные сказки и поэзию. Так, летом 1867 года, будучи в Петрозаводске, Барсов коротал длинные вечера в крестьянской избе, записывая причитания под диктовку народной поэтессы, сказительницы Ирины Андреевны Федосовой[24]. В 1872 году Барсов с большим успехом опубликовал в Москве первую часть своего исследования – “Плачи похоронные, надгробные и надмогильные”[25].
Однако и у собирания народного творчества, к которому фольклористов подталкивала тревога о его судьбе, и у проповедей Толстого и его последователей был один изъян. Как и другие тексты своего времени, они были посвящены лишь избранным аспектам большого целого. Этнографов главным образом интересовала практика и обычай. Они не умели должным образом говорить о ментальности. Большая часть их работ описывала деревенское благочестие – поэтичность, причудливость, замысловатость этого мира, в худшем случае – жадность и безалаберность его представителей. У большинства собирателей фольклора мотивация была в прямом смысле слова консервативная: они хотели законсервировать, сохранить то, что научились ценить.
В отличие от этнографов реформаторы того времени были далеки от того, чтобы воспевать мир крестьянства. Например, Максим Горький, который на рубеже веков пешком странствовал по России, в 1922 году писал о деревенской жизни с куда меньшим восхищением, приводя в поддержку своих слов и мнение одного фольклориста: “По природе своей [крестьянин] не глуп и сам хорошо знает это. Он создал множество печальных песен, грубых и жестоких сказок, создал тысячи пословиц, в которых воплощен опыт его тяжелой жизни. ‹…› Историк русской культуры, характеризуя крестьянство, сказал о нем: «Множество суеверий и никаких идей». Это печальное суждение подтверждается всем русским фольклором”[26].
С Горьким согласен и архитектор Александр Пастернак, обнаруживший, что единственное лето, проведенное в деревне Сафонтьево в шестидесяти с лишним километрах от Москвы, сполна познакомило его с “нищетой захудалой русской деревни во всей ее неприглядности, однако еще не самой худшей из плохих”, “с самой жалкой, мыслимой еще нищетой (еще более нищетой духа), тупейшей покорностью почти рабской судьбе, полным и беспросветным мраком безнадежности и ужасающей, чудовищной грязью, самим крестьянством, увы, не ощущаемой”[27]. Пастернаку не удалось разглядеть никакой скрытой, тайной мудрости в “курных избах, продымленных, почерневших… крытых соломой”, утопающих в “мокром, жидком навозе, никогда не убираемом и устилавшим всю площадь двора”. Напротив, он злился, видя “покорное безволие” крестьян и “полное равнодушие к своей нищете и грязи”. “Мне казалось, – пишет он, – что в этом явном равнодушии раскрывало себя полное уничтожение последних ощущений себя человеком”[28].
Следовательно, у стороннего гостя жизнь крестьян могла с одинаковой вероятностью вызвать негодование и пробудить ностальгию. Еще больше усложняло дело то, что речь шла не о едином крестьянском мировоззрении, а о тысячах самых разнообразных ментальностей. Отличия и разнообразие в рассказах крестьян, стиле речи и даже во взглядах на насилие, наказание, смерть и загробную жизнь сформировались вследствие больших расстояний между поселениями, многообразия климатических и ландшафтных условий, а также особенностей исторического развития различных регионов России. Все эти оговорки и альтернативные гипотезы, подстерегающие каждого, кто отправляется в мир русского крестьянства на поиски истоков воображаемой российской нации, русской души, легко упустить из виду, поддавшись завораживающему очарованию определенного рода русской поэзии. Многоликость также служит мощным контраргументом против куда более мрачного тезиса о преемственности, согласно которому причина чудовищного кровопролития русского XX века – некий культурный изъян или сбой, наследие варварства. При более изобретательном взгляде на этот потерянный мир к данному вопросу следует подойти совсем с другой стороны, взвесив ту ценность, которой для деревенских жителей обладали ритуал, вера, общий язык горя. Здесь нельзя не спросить о том, какую цену эти мужчины и женщины, связанные традициями и географией и так зависящие от семьи и почвы, готовились заплатить за потрясения XX века. Однако для того чтобы иметь основания и полномочия отвечать на этот или любой другой вопрос о крестьянской культуре России, нужно самому поездить по стране.
Даже в последние годы Российской империи путешествие по провинциальной России было затеей не из легких. Уже было построено некоторое количество железнодорожных путей (в том числе немало одноколеек), самые важные из них соединяли две столицы – Санкт-Петербург и Москву. К концу XIX века были проложены и железные дороги, ведущие на юг страны, к Черному морю и Кавказу. До Западной Сибири железнодорожное сообщение дотянулось к 90-м годам позапрошлого века, а начиная с 1904 года путешественник, готовый переправиться на другой берег озера Байкал на пароме, мог доехать на поезде до тихоокеанского побережья и Владивостока. Тем не менее до деревень добраться по железной дороге было, как правило, невозможно. У того, кто хотел увидеть типичные домохозяйства и обыкновенную крестьянскую жизнь, выбор был невелик: сойти из поезда на провинциальном полустанке, вероятно, представлявшем собой не больше чем продуваемую всеми ветрами платформу, и ожидать запряженную лошадьми повозку, которая повезла бы его дальше.
Когда в 1916 году свежеиспеченный доктор Михаил Булгаков отправился в деревню Никольское Смоленской губернии, его вознице потребовались целые сутки, чтобы преодолеть расстояние в 50 километров, отделявшее местную станцию от съемной квартиры Булгакова. Сельские дороги утопали в грязи, пейзаж был невыразителен и уныл. Булгаков и его кучер добрались до деревни, вымокнув до нитки и “окостенев от холода”. Пока возница пытался спустить ему с повозки распухший от дождя чемодан, Булгаков “в злобном отчаянии думал”: “Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лютую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленною смертью, валишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять и шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом”[29].
Однообразие русского пейзажа способно была ввергнуть в панику того, кто привык к городским улицам и зданиям, газовым фонарям, запруженным людьми магазинам и шуму людской толпы. Практически каждый, кто оказывался в российской провинции, упоминает темень, сырость и холод, отдававшийся болью в теле. Как правило, городскому визитеру стоило убрать привычную одежду подальше и позаимствовать у крестьян тулуп, валенки и шапку на меху. Одно сукно, пускай даже из превосходной шерсти, едва ли способно было защитить от пронизывающего ветра, а по деревенским тропам можно было пройти только по колено в снегу, в более же теплое время года – по колено в грязи. Плохая погода и непроходимые дороги большую часть года удерживали от путешествия даже самого настойчивого путника: он чувствовал себя немного в западне, пленником огромного пространства степи, распростертой под открытым небом. Максим Горький был одним из тех, кто считал, что пейзаж сыграл роль ограничителя людского воображения: “Безграничная плоскость, на которой тесно сгрудились деревянные, крытые соломой деревни, имеет ядовитое свойство опустошать человека, высасывать его желания. Выйдет крестьянин за пределы деревни, посмотрит в пустоту вокруг него, и через некоторое время чувствует, что эта пустота влилась в душу ему. Нигде вокруг не видно прочных следов труда и творчества. ‹…› Вокруг – бескрайняя равнина, а в центре ее – ничтожный, маленький человечек, брошенный на эту скучную землю для каторжного труда. И человек насыщается чувством безразличия, убивающим способность думать, помнить пережитое, вырабатывать из опыта своего идеи!”[30]
Определение “каторжный”, которое Горький дал крестьянскому труду, было справедливо в его время и осталось таковым на многие годы после его смерти. Однако к началу XX века важная реформа уже успела изменить и правовой статус крестьян и во многом изменила их мечты и виды на будущее. До 1861 года крестьяне Российской империи были крепостными, собственностью своих помещиков или государства и, подобно скоту, находились в их полном распоряжении. “Манифест об отмене крепостного права” и “Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости”, даровавшие крестьянам свободу, стали свидетельством огромного сдвига в государственном мышлении и готовности правительства пойти на не менее огромный риск, потому что царские министры боялись революции. Кроме того, “Манифест” и “Положение” навсегда изменили самоощущение крестьян. Однако экономические возможности бывших крепостных едва ли изменились к лучшему, потому что они обязаны были выкупать землю, которую они обрабатывали, по цене, рассчитанной таким образом, чтобы возместить их бывшим владельцам убытки, понесенные при потери живой собственности. На практике так называемый выкуп с финансовой точки зрения оставался совершенно неподъемным. Крестьяне были обременены долгами, доведены до нищеты, обречены на непрерывный труд и по-прежнему привязаны к земле.
Эта земля была так важна, потому что играла практически сакральную роль в жизни крестьянина. Вопреки утверждению Максима Горького, российские крестьяне вовсе не были “опустошены”, лишены желаний, “насыщены чувством безразличия” по отношению к собственной нищете, однако заботы, поглощавшие их внимание и вдохновлявшие их, существенно отличались от тех, что занимали выросших в городе сторонних наблюдателей. Тогда как у городских гостей, наблюдавших неосушенные топи и грязь по колено, эта мысль могла вызвать сомнения, крестьяне верили, что любая земля, возделываемая человеком, принадлежит ему по праву, ниспосланному свыше. Точнее сказать, земля принадлежала общине, “миру”, членами которого являлось большинство крестьян, потому что частная собственность была практически неизвестна. На самом деле мир крестьян был устроен согласно своей особой логике, и хотя в ходу здесь были некоторые слова, которые могли быть знакомы и городским чужакам, не принадлежавшим этому сообществу, ценности и цели были совершенно иные, а в понятия правды, равенства и справедливости вкладывалось особое значение, отвечающее местным задачам и потребностям[31].
Базовой ячейкой любой деревни был не индивид, а домохозяйство, и именно от этого сообщества зависело как социальное устройство в целом, так и то, как именно каждый человек воспринимал свое место в нем. За пределами домохозяйства именно мир распределял землю, мир мог дать любому человеку разрешение отправиться на поиски фабричной работы, и зачастую именно мир выносил местные решения по вопросам безопасности и правосудия. Подчиненность члена крестьянской общины этой группе воспроизводила общее иерархическое устройство российского общества. Эта система, по крайней мере до определенной степени, защищала слабых и была консервативной, но она не была столь вредоносной, развращающей и деградирующей, какой видели ее многие реформаторы.
Патриархат, царивший в домохозяйстве, отличала двойственность. Обычно женщины занимают подчиненное положение в крестьянских сообществах, однако дореволюционная Россия являла собой в этом смысле случай совершенно вопиющий. Тогда как мужчины обращались к другим мужчинам на миру как к “брату”, женщины были лишены самых базовых человеческих прав. Считалось само собой разумеющимся поколачивать жен, это было “полностью законным и естественным”, хотя, когда дело касалось “пахоты, сева, сгребания сена или жатвы”, та же самая жена считалась ровней и должна была работать на равных с мужчиной. Согласно крестьянской поговорке, “курица не птица, баба не человек”[32]. Однако сама по себе концепция патриархата не до конца выражает статус женщины в этой культуре, потому что именно женщины по большей части брали в свои руки руководство ситуацией, когда в семье кто-нибудь умирал, именно они оплакивали покойника и пели, создавая своего рода поэзию, именно на их плечах лежала ответственность за то, чтобы передать семейные традиции через поколения своим дочерям.
Таковы были общие черты крестьянского мира, однако тип земледелия, распределение рабочих обязанностей и многие другие черты и детали местной культуры разнились в зависимости от климата, географии и типа почв. Крестьянские хозяйства в черноземной полосе России, регионе с одними из самых плодородных в Европе пашен, главным образом производили зерно, в основном пшеницу, что обусловило высокую плотность населения и даже перенаселенность. Зерно было главным продуктом земледелия и в других областях страны (примерно 90 процентов обрабатываемой земли было отведено под зерновые), однако за пределами черноземной полосы ротация сельскохозяйственных культур была более разнообразной: здесь сажали больше картошку и рожь и меньше пшеницу, доходы земледельцев были ниже, зимы – суровее, расстояния между полями и деревнями – куда больше. В некоторых поселениях, особенно в расположенных вдоль железных дорог или в достаточной близости от города, что делало выгодной торговлю, люди зарабатывали, выращивая капусту, делая творог и сметану, торгуя на рынке яблоками и огурцами[33]. Другие деревни славились долгой традицией ремесленничества, и семьи там отправляли сыновей в долгий путь на заработки в Петербург, Иваново или Подольск, то есть в любой город, предлагавший работу мужчинам из этой местности, готовым стать лекальщиками, слесарями-инструментальщиками, строителями, бондарями, кирпичниками или путейцами. Возможность заработка в городе могла стать проверкой на прочность для глубоко укоренившихся идей и представлений, бытовавших в деревенской среде, а также причиной распада традиционной модели семьи. Крестьянское общество последнего десятилетия XIX века не назовешь статичным и застывшим.
Но несмотря на все происходившие изменения, посторонний наблюдатель мог полагаться на устойчивость и неизменность одного элемента крестьянской жизни: религии. Церкви и колокольни по-прежнему оставались самыми заметными достопримечательностями и ориентирами на открытых российских просторах. В некоторых областях путнику приходилось шагать много верст весь день напролет до ближайшей церкви, не говоря уже о том, чтобы встретить священника. Население росло с такой скоростью, что некоторые поселения появились совсем недавно, а помещики были слишком бедны, чтобы финансировать строительство еще одного общественного сооружения[34]. В других областях страны группы крестьян-раскольников, включая старообрядцев, а также приверженцев хилиазма и других сект, основывали свои собственные молельни и следовали верованиям, которые недвусмысленно отвергали значительную часть господствовавшей в обществе религиозной практики[35]. И все же мало можно было найти мест, где посреди маковых лугов и лиственничных лесов линию горизонта не нарушали бы знакомые силуэты деревянных церквей, купола которых, крытые лемехом внахлест, отражали солнце подобно чешуе коричневого карпа. В некоторых деревнях встречались и крепкие кирпичные церкви, а в иных были даже собственные бронзовые колокола, тяжелые и очень дорогие, как правило, переданные в дар общине местной зажиточной семьей.
Переступив порог даже относительно бедной церкви, человек попадал в совершенно особый мир. Послания этого мира росписями покрывали стены, западали в душу и память прихожанина под загадочными взглядами святых икон, отражались в блеске металла, бронзы или меди (в убранстве городских церквей, как правило, использовалось золото). Святой престол, самое святое место во всем храме, обыкновенно возводили из дерева и подчас украшали весьма причудливой резьбой; самые важные иконы, кресты и алтарь облачались в вышитые льняные рушники (божники). На тех, кто привык к грязи, отсыревшей шерсти и соломе, блестящий металл и огонь свечей способны были произвести самое сильное, возвышенное впечатление, даже не будь в церкви икон, фресок, песнопений и молитв, читаемых на старославянском языке. В глазах крестьянина позапрошлого столетия (то есть до начала большевицкой антирелигиозной кампании, которая сделала церковь частью контркультуры) церковь была насквозь коррумпированным институтом, иерархической системой, построенной на интригах и постоянно тянувшей из всех деньги, досадным источником всевозможных запретов и ограничений. Но вместе с тем именно церковь была хранительницей трансцендентного: пришедшие в храм на службу могли узреть проблеск вечности в клубах фимиама и в акапельном пении священника и хора.
Но это была, по крайней мере, половина правды. В деревнях религия была частью повседневной жизни – потребность осенить себя крестом была такой же естественной, как и потребность чихнуть, – но едва ли то же можно сказать о церкви как институте, построенном на формальной догме[36]. В то время как Митрофан писал свои слова утешения для столичных верующих, разумевших грамоте, крестьянам приходилось выживать в мире, который нельзя было назвать ни радостным, ни милостивым. Зло было вполне реально, грех был везде и во всем – природные бедствия служили тому подтверждением. А значит, бедные православные христиане (то есть “крестьяне”) должны были неуклонно блюсти и защищать свои интересы, что они и делали с суровой деловитостью.
Факторы, более всего влиявшие на крестьянскую экономику и определявшие разницу между хорошим годом и годом голодным, были неподвластны воле человека. Их невозможно было предвидеть или предсказать. Главным из них была погода[37]. Засуха могла полностью уничтожить урожай, измельчив плодородную почву в пыль. Впрочем, на благополучие крестьянина могло повлиять все что угодно: болезни скота, наводнение в амбаре, поздние заморозки или летний град. Таким непрочным и хрупким было это существование, что вера крестьян была сосредоточена на земле, судьбе и своей общине. В их верованиях не было ничего магического или суеверного. Все дело было в благочестии и набожности, потому что крестьяне почти поголовно веровали в Бога, и их верования были основаны на не требующем доказательств здравом смысле, обеспечивая защиту от напастей. Помимо всего этого, верования крестьян были единственным способом предсказать результаты сева или жатвы, которые, естественно, были в руках божьих.
В формальных церковных догмах крестьянским заботам уделено не слишком много внимания. Хотя деревенские священники, случалось, понимали проблемы крестьян, потому что и сами, как и их прихожане, были земледельцами и кормились тем, что работали на земле и взымали плату (иногда в неденежной форме) за любую оказываемую ими услугу, однако те идеи, которые предлагали их молитвенники, были плохо совместимы с семейным заботам их паствы, здоровьем домашних животных и ежедневным сражение против сверхъестественных сил, приносящих несчастье, так называемой нечистой силы. Дело усугублялось еще и тем, что многие священники слишком отождествлялись с народом, слишком часто пропадали в кабаке или на базаре, слишком много внимания уделяли бесконечным нуждам своих собственных больших семейств[38].
Семен Канатчиков, росший в Московской губернии в последнее десятилетие XIX века, вспоминал, как в его гимназию наведывался “широкоплечий длинноволосый священник из соседней деревни”. Каждую пятницу после обеда, возвращаясь с близлежащего базара домой, этот “корифей” заходил в школу и проводил урок Закона Божьего. По воспоминаниям Канатчикова, он был слегка глуховат, говорил невнятно, просил их читать молитвы и заставлял переводить отрывки из Евангелия с церковнославянского на русский. Регулярные выволочки, которые он устраивал ученикам, должны были способствовать усвоению науки[39]. Но с образовательной точки зрения это было прогрессом. Предыдущие поколения учащихся не осваивали ничего, помимо самых базовых основ православного вероучения. По словам одного исследователя, “наиболее трудные для понимания христианские доктрины, такие как Троица, оставались неусвоенными”[40].
Таким образом, крестьянская религия включала в себя элементы, не упомянутые формальной доктриной, например ритуалы, связанные с предсказанием смерти или способами избежать ее, а также целую галерею местных святых-покровителей, духов и демонов. Крестьянская религия наделяла свою вселенную куда большей конкретностью, чем ее более “культурная” или общепринятая городская версия, а кроме того, она куда крепче была укоренена в общине. Семьи состояли как из здравствующих ее членов, так и из усопших. Деревни не забывали о так называемых чистых покойниках, об отцах или предках, а после похорон позволяли покойникам воссоединиться со своими детьми через землю[41]. Хотя эта земля была освящена церковью и ограничена оградой кладбища, сама по себе она была не менее важна, чем те молитвы, которые мог прочитать священник. Огромным несчастьем считалось быть похороненным в чужой земле, и тот, кому предстояло уйти из деревни, предполагал, что его тело после смерти привезут в родные края. Некоторые из тех, кто в свое время покинул деревню, хранили сосуды с родной землей, чтобы впоследствии ее могли рассыпать на их могиле, а возвращающиеся с войны солдаты по широко распространенной традиции привозили с собой землю с полей сражений для тех семей, что потеряли в этих боях близких. Земля могла годами храниться, прикрытая тряпицей, подле иконы, пока не уходили из жизни вдова убитого солдата или его мать, и тогда эту сбереженную землю перемешивали с землей на их могилах.
Сами могилы были местом чрезвычайно важным, по сути, общественным пространством. Они были отмечены деревянными крестами, а иногда – деревянными столбами, увенчанными крышей-навесом и смахивающими на крошечную голубятню. Под этой крышей должна была найти приют возвращающаяся на могилу душа. Возле могил можно было сидеть и разговаривать – люди верили, что разговоры эти происходили в формате диалога, а не монолога, – можно было послать сообщение давно умершим родственникам и попросить душу помолиться за вас на другом свете, где подобная молитва была бы более действенной и эффективной. Разговоры с мертвыми могли состояться в любой день, но некоторые дни были особенными. Среди этих особенных дней были Масленица, когда первый блин традиционно предлагали мертвым, три или четыре Родительских субботы во время Великого поста, второй вторник после Пасхи (Радоница) и четверг седьмой недели после Пасхи (Семик, или Русалкин Великдень), когда было принято поминать “заложных” покойников и служить панихиду по всем тем, кто не получил отпевания при погребении. В каждый из этих дней кладбища заполнялись людьми, которые приходили навести порядок на могилах своих родственников, и все разговоры вращались вокруг семьи, живых и мертвых ее членов. Посещение могил и обмен воспоминаниями сопровождали каждый уход из жизни. Церемонии поминовения, поминки, устраивали на девятый и сороковой день после кончины, что отражало то самое церковное “расписание”, упомянутое выше, – первое опасное путешествие, которое душа предпринимает, знакомясь с адом, и следующий за ним день суда.
У правила, предписывавшего хоронить “чистых” покойников в освященную землю, было очень мало исключений. Одно из них было продиктовано крестьянской логикой. Некоторые люди опасались, что священник на самом деле осведомитель и может донести на покойного в “высшую инстанцию”. Они были уверены, что те непонятные слова, которые священник бормочет у могилы или записывает под видом молитв, чтобы затем положить их в гроб, были перечнем грехов умерших, адресованным священником самому Господу. Чтобы избежать подобного предательства, многие уговаривали друзей похоронить их в лесу до прихода священника. Еще одним способом был обычай класть в гроб “взятку”: шкалик водки или деньги. Иногда умирающие с последним своим вздохом решали взять себе другое имя. Ведь ангелы пользовались списками, в которые были внесены христианские имена всех грешников, находившихся под их покровительством. Полагали, что недавно переименованный человек будет таким же безгрешным в глазах Господа, как новорожденный младенец[42].
В каждом элементе крестьянского ритуала можно обнаружить идеи, почерпнутые из повседневной жизни. Еда и питье имели особенно важное значение. За похоронами следовала общинная трапеза; священнику частично платили водкой; на поминках всегда делились едой. Погребальную трапезу обычно устраивали в доме покойного, однако другие церемонии, которые проводили на могилах, легко оборачивались своеобразными пикниками. Мертвые не были бесплотными: им требовалась настоящая еда, а не цветы, так что родственники вместе ели яйца (символ второго рождения), мед (чтобы подсластить жизнь вечную), пирог из дрожжевого теста, и даже от водки не отказывались. Такая общинная трапеза обходилась недешево. Добрая часть погребальных расходов уходила на то, чтобы принимать и угощать родственников, гробовщиков, могильщиков и особенно священника, а так как последний обычно требовал денежный аванс до проведения отпевания и панихиды, то, если случалось несколько смертей одна за другой, вся деревня могла погрязнуть в долгах[43]. К счастью, финансовое бремя, как и сам траур, ложилось на плечи всех членов семьи, включая дальних родственников, а иногда и на всех членов мира.
Следовательно, можно сказать, что церковь и ее учения были вписаны в более мощную систему верований, опирающуюся на семью. В каждой избе были иконы и лампада; священник мог прийти в дом, если нужно было прочитать особые молитвы, однако души умерших всегда были где-то неподалеку, а кладбище обладало некоторыми свойствами, которые не были предписаны формальными церковными правилами. Более того, подчас оно использовалось совсем не по назначение, что церковью официально порицалось. Например, летом в жаркое послеобеденное время скот, бывало, забредал на погост и щипал траву между крестов и могильных холмов. Иногда, когда в деревне случались праздники, на огороженном пространстве кладбища могли заночевать торговцы, приносившие с собой водку, пиво и пироги[44].
Российские этнографы подчас называли крестьянскую веру образцом двоеверия и объясняли, что в ней сочетаются элементы христианства с пережитками язычества. Но это объяснение упускает из вида динамизм этой веры, то, как она приспосабливалась к изменяющимся обстоятельствам даже в медленно меняющемся сельском мире. Например, согласно традиции, в сложенные руки умершего перед погребением вкладывали листок с молитвой, обращенной к Господу или святому Петру, с просьбой о милосердии. К концу XIX века этот листок стал известен как “документ покойника”, а в XX веке в некоторых случаях вместо него в руки вкладывали настоящий паспорт. Школьников, умиравших в подростковом возрасте, иногда хоронили вместе с их аттестатами или сертификатами о сданных экзаменах, а подчас и с их странными дорогостоящими книгами[45]. Эти новые предметы дополнили те, что люди традиционно хранили, чтобы потом они были положены вместе с ними в гроб. Например, заплетенные женские косы, напоминавшие о временах замужества, или маленькие острые камешки, функция которых сводилась к тому, чтобы напоминать покойному о его грехах, когда он, преодолевая боль, бредет к Высшему суду[46].
Больше всего крестьяне боялись, что покойник утащит за собой на тот свет и других людей. Имелось огромное число обрядов, призванных предотвратить подобное, например, предписания относительно размеров гроба (он должен был быть настолько маленьким, чтобы помимо покойника в него невозможно было поместить никого другого) или указания непременно закрывать мертвецу глаза, чтобы он не мог ни на кого взглянуть и поманить живого человека за собой. Но страшнее всего была так называемая нечистая сила. Нельзя было сказать, что именно представляла собой эта нечисть: считалось неблагоразумным даже поминать ее вслух, но она всегда была где-то неподалеку, а во времена кризисов, таких как чья-то смерть, влияние нечистой силы вселяло особенный страх.
Любая неосторожность была чревата гибелью. Когда человек умирал, тело обмывали в избе на специальной доске, а мыло и воду быстро выливали в каком-нибудь дальнем, захламленном углу двора, который не использовался в хозяйственных целях[47]. Избу нужно было вымести. Николай Михайлович Бородин, который вырос на Дону на Украине на первое десятилетие XX века, вспоминал смерть своего прадедушки: “Пол в доме сразу подмели, а пыль похоронили во дворе. Мой двоюродный дед рассказал мне, что это было нужно для того, чтобы не дать покойнику ночью вернуться из своей могилы. Это объяснение повергло меня в ужас, и, обнаружив недостаточно хорошо выметенный угол, я начал энергично чистить его, тщательно собирая всю пыль, чтобы похоронить ее во дворе”[48]. Во избежание появлений призрака, тело усопшего могли выносить в церковь через открытое окно или даже через специально проделанное отверстие в кровле, а не через дверь дома, в котором умерший жил. Смысл этого обычая заключался в том, чтобы запутать дух усопшего, затруднив призраку обратную дорогу в прежний дом.
Обычаям и заклинаниям не было конца, и хотя они несколько отличались в разных концах страны, в их основе лежал вполне практический взгляд на то, что может понадобиться душе умершего и что она может сделать неправильно. Еще одним пространством, которое подметалось с особенной тщательностью, была баня. Люди верили, что мертвые приходят попариться перед главными праздниками, например перед Пасхой, и в преддверии их прихода баню специальным образом готовили и на всю ночь отдавали в полное распоряжение призраков. Местные жители старались держаться от этого места подальше, потому что считалось что с каждым, кто по неосторожности или беспечности окажется свидетелем возвращения мертвых, услышит их вопли и песни или увидит, как они веселятся, произойдет несчастье[49]. Собственно, баня была излюбленным прибежищем нечистой силы, которая также обитала на болотах, в лощинах и лесных чащобах.
Говоря о загробной жизни, обыкновенно использовали выражение “на том свете”, произнося его небрежно как нечто само собой разумеющееся, будто речь шла о прозаическом географическом направлении. Небеса обычно представлялись зеленой лужайкой, усыпанной маленькими домиками. В более овеществленном раю, изобретенном в XIX столетии, была и церковь, но построена она была из пирогов, крыта блинами, с полами из пряника[50]. Ад, как правило, представлялся раскаленным, и, следуя визуальному канону икон и фресок, в нем полыхало пламя. Страшный суд, как можно заключить из самого термина, неизменно вселял страх и ужас. На иконе XVIII века, которая в настоящее время находится в Казанском соборе в Санкт-Петербурге, изображен Господь в сонме ангелов, в руках у него весы. Святые смиренно стоят по одну сторону, а грешники – коих, как всегда, большинство – с тревогой ожидают суда по другую сторону. Огромный змей угрожающе свивается рядом с ними, в то время как они сгрудились на весах; черные рогатые и волосатые черти насаживают своих “товарищей” на вилы, когда те кубарем катятся вниз с облаков. Изобретательные крестьяне развили этот сюжет. Верили, например, что женщина, решившая прервать беременность, в аду должна будет питаться плотью и жевать кости младенца[51].
В эпицентре этой драмы была душа, хрупкая и боязливая, которую всегда описывали как бледную субстанцию, похожую на куклу – копию человека, такую же нежную, как новорожденный ребенок. Некоторые представляли душу крылатой, вылетающей из тела человека вместе с его последним вздохом[52]. На иконах, изображающих мученичество, душа зачастую предстает более молодой и миниатюрной версией умирающего святого, чье тело она готова покинуть. На распространенном изображении Успения Пресвятой Богородицы душа Девы Марии представлена в виде младенца, покоящегося в оберегающих ее объятиях сына – инверсия классической иконы Богоматери с младенцем. Душа – отличительная примета человеческого существа. У животных души не было, хотя для медведей иногда делалось исключение[53]. Обладание душой свидетельствовало о сопричастности человека божественному, однако это могло быть сомнительной привилегией. Ни один погребальный плач, ни одна крестьянская песня не описывают путешествие души навстречу Страшному суду как увеселительную, приятную прогулку, и исход этого путешествия кажется неизменно предрешенным. Традиционное религиозное стихотворение, песня, которую учили дети и которая исполнялась на похоронах и рядом с могилами, описывает последний плач души.
Ты прости прощай, тело белое, Тело белое многогрешное. Как тебе, телу, во сырой земле лежать. “А меня, душу, на суд зовут, На суд зовут ко Господу. Где душам будет разделение: Душам праведным – мир селения, А душам грешным – мука вечная, Мука вечная, бесконечная”. И пришла душа на восток солнца. Там стоят раи, и все заперты, В них сидят души все спасенные, “А мне, душе, здесь места нет”. И пошла душа заплакала, На закат солнца шла рыдаючи, Там стоят ады, и все отперты, В них сидят души грешные, “И мне, душе, тут место есть”, Пошла душа и застряла там, Находилась она, намытарствовалась[54].В деревне смерть была настолько зримой и настолько привычной – зачастую ее жертвами становились люди молодые, в самом расцвете сил, – что все деревенские жители от мала до велика хотя бы однажды становились ее свидетелем. Даже те, кто никогда в жизни пальцем не дотронулся до настоящего покойника, безусловно, хотя бы раз да играли в смерть. Так, похороны “понарошку” зачастую были одним из элементов празднования в святочные дни. Хотя обычно роль “покойника” исполнял вполне здоровый молодой человек, иногда объектом водевильной ламентации и всеобщего веселья становился самый настоящий покойник[55]. Похоронные ритуалы все еще встречались и на некоторых свадьбах; женщины могли оплакивать символическую “смерть” невесты, покидавшую свою семью ради семьи своего мужа[56]. Дети так же охотно играли в смерть, как и в дочки-матери, а маленькие девочки помогали пожилым женщинам готовить покойника к похоронам. Девочек к тому же заставляли учиться импровизировать, упражняясь в исполнении похоронного плача. Этот навык упоминался в обсуждении возможного брака: молодая женщина, не обладавшая подобным умением (а понадобись оно ей, времени обучиться ему у нее не было бы), считалась такой же неполноценной, как и та, что не умела прясть или стряпать.
Похоронные плачи были поэзией, музыкой причитания, построенной на тончайших, воздушных повторениях и жестком следовании шаблону. В них всегда воспроизводились определенные слова. К примеру, горе всегда было горьким, умерший сын – храбрым и красивым, а вдовы обречены на безутешное одиночество и тяжкий труд[57]. Главная тема плача проходит по тексту через импровизированные строки, которые описывают жизнь покойного от колыбели до могилы – ламентация также выполняла функции некролога – и уточняют положение усопшего в семье, состоявшей из нескольких поколений и множества родственников. Оплакивание могло начаться сразу же после смерти покойного. Погребальные плачи были громкими, довольно зловещими и лишенными гармонии. Церковь официально осуждала эту практику, и обычно единственными спокойными моментами во всем процессе ухода из жизни и погребения умершего были те, которыми руководил священник[58].
Слова этих погребальных плачей, а также детские песенки и сказки формировали крестьянские представления о смерти как таковой. Церковь пыталась убедить паству в том, что смерть – друг, а не враг, однако обычай неизменно предписывал бояться смерти и избегать ее. Наименее отталкивающие изображения представляли смерть в виде женщины или ангела в форме человеческого скелета, завернутого в плащ с капюшоном, спустившихся с небес по божьему наставлению, чтобы затребовать себе свои жертвы. Крестьяне верили, что падающие звезды и были теми самыми ангелами, которые в сиянии низвергались с небес в поисках добычи[59]. Смерть могла обернуться и птицей, обычно соколом, но также могла принимать темный облик существа, привычного к обитанию в уединении болот и топей, лесов и далеких холмов[60]. В песнопениях женщин смерть представала закатом, погасшей звездой, снегом, падающим в огонь, морозом, уничтожившим дерево, водой, расколовшей огромный камень[61]. Другой комплекс образов изображал смерть колесницей, запряженной птицами и лошадьми, а иногда лодкой, которые неизменно увозили душу прочь, туда, где ее ожидал Страшный суд.
Время радости настало, Я в восторге себя зрю. Мое сердце встрепетало, Из очей слез токи лью. Прощай, мир весь со страстями И со прелестью, навек, И со всеми суетами – Я от вас уже … [слово утрачено] И за все леса и речки Я от вас уже удаляюсь, И сказать могу навеки: В прелестный мир не возвращусь. Где согласен, там вселюся, До кончины буду жить. Нежель в мире веселиться, Ум и страсти удалить. Там пещера темновата, Заставляет слезы лить, Что не та царем полата Может душу веселить. Место всякаго напитка Ключевая там вода Течет быстро без избытка, А имею навсегда[62].Эти ритуалы рассказывают нам о крестьянской жизни и о ценностях крестьян, о том, как простые русские люди понимали факт смерти. Это мир, который вскоре будет вдребезги разрушен переменами, резкими и насильственными. Вначале Первая мировая война, которую имперская Россия вела против Германии, затем революция и, наконец, ожесточенная Гражданская война расколют обособленный мир российского крестьянства, частично уничтожат его сакральные пространства, бросят вызов его богам. Воздействие этих событий, особенно в контексте глубоко переживаемого горя, невозможно осмыслить без представления о том, что именно людям предстояло потерять. Слишком просто было бы предположить, что они каким-то образом вынесли все то, что выпало на их долю, просто потому, что очерствели, окаменели душой. Однако верно и то, что крестьянские ценности также оказали свое влияние на характер насилия в начале XX века. Именно крестьяне были пехотинцами на фронтах каждой войны, которую Россия вела в XX веке; когда они перебирались в города, они, по крайней мере на время, уносили деревню с собой; а внутренние распри и соперничество, бытовавшие в их среде, усугубили жестокость насаждаемой сверху сталинской революции. Крестьянская культура была богата самыми разнообразными ресурсами. Было бы непростительным упрощением сказать, что система сталинских лагерей была создана в деревенском кабаке, но вопрос об истоках этой системы поднимается так часто, что его необходимо исследовать подробнее. В “Архипелаге ГУЛАГ” Солженицын задается вопросом: “Это волчье племя – откуда оно в нашем народе взялось? Не нашего оно корня? Не нашей крови? Нашей”[63].
В России XIX века смертность была очень высокой, и крестьянские семьи куда чаще, чем представители других сословий, наблюдали смерть вблизи, в том числе и детскую смерть[64]. Тела “чистых” покойников не сразу выносились из избы: кто-то из местных деревенских должен был омыть и обрядить умершего, положить тело на стол, потом помочь семье отнести его сначала в церковь, а затем на погост. Мертвые были членами относительно статичного общинного мира, и поэтому нельзя сказать, чтобы они моментально исчезали из памяти без следа. Это не значит, что к смерти относились как к чему-то само собой разумеющемуся – в конце концов, смерть была врагом – или что жизнь обыкновенно стоила дешево. На самом деле смерть могла дать соседям возможность проверить на прочность свою солидарность.
Однако солидарность подразумевает и наличие тех, кого группа исключает из своих рядов. Даже самые базовые ритуалы красноречиво рассказывают об аутсайдерах. Крестьянская жизнь не была идиллией, состоящей из массовых гуляний на залитых солнцем лугах, или сказок, рассказанных возле домашнего очага. Среди бед, одолевавших провинциальную Россию, наиболее остро стояли проблемы нищеты и невежества, которые в сочетании с фундаментальным сопротивлением переменам (особенно если инициатива исходила от реформаторов из города) сформировали мир закрытый, исполненный подозрительности, подчас намеренно слепой. Во всех своих расчетах и размышлениях крестьяне четко проводили границу между “своими” и всеми остальными, чужаками, которых редко наделяли коллективным прозвищем, так ужасна была сама мысль о том, чтобы навлечь на себя их гнев.
Нравственные нормы, регулировавшие взаимоотношения крестьян, отличались немалой жестокостью. К тем, кто в крестьянской среде хоть как-то отклонялся от общепринятых представлений, относились как к прокаженным, само их присутствие грозило погибелью. Практика деревенских самосудов напоминала самые кровавые обычаи европейского Средневековья. Например, женщин, подозреваемых в колдовстве и ворожбе, заживо сжигали в их избах, а воров, особенно конокрадов, как правило, пытали до смерти: методично ломали позвоночник, избивали, выжигали клейма на лицах или отрезали конечности[65]. Разделение на “своих” и “чужих” продолжалось и в смерти, и после нее. Предрассудки навсегда исключали из общины тех, кто умер “плохой” смертью: некрещеных или неисповедовавшихся, преступников, самоубийц и тех, кого подозревали в том, что они навлекают несчастье[66]. Самоубийц, которых, к слову, было не так уж и много в русской деревне, не полагалось хоронить на кладбище. Считалось, что они были слугами дьявола (поговаривали, что сам черт скачет на самоубийцах по ночам, как на лошади), что их грех навлечет проклятие на всю деревню и что их вечные муки не облегчить молитвами[67].
А кроме того, в воображении крестьян Россия XIX века кишела вурдалаками. Об их присутствии говорили их козни – русские вампиры не сосали у своих жертв кровь, а предпочитали насылать неурожай, чуму на скот и другие заурядные виды злоключений и напастей. Вурдалака также можно было распознать по состоянию его трупа при эксгумации. Средства борьбы с ними были безжалостны и жестоки. Вплоть до XX века тела таких покойников хоронили, отрубив предварительно голову и конечности, чтобы не дать им выйти из могилы, или крепко связав или переломав им руки и ноги[68]. Некоторых хоронили, вонзив им шипы под язык, другим, перед тем, как зарыть их в землю, в рот или сердце втыкали осиновый кол. “Вампиров” сбрасывали в реки, болота и овраги, а во времена голода или мора их тела выкапывали, чтобы методично искалечить труп или просто перезахоронить его от греха подальше на безопасном расстоянии от деревни и местной церкви[69].
Обезображивание покойников или живых нечестивцев после смерти как наказание продолжалось и на том свете. Православные верили – а крестьяне трактовали это именно так, – что душе, которой не слышно молитв благочестивых верующих и тело которой не покоится в освященной земле, не дано спастись от вечных мук. Кроме того, было важно захоронить тело целиком, потому что все то время, пока смертная плоть разлагалась на земле, она оставалось все той же плотью, которой в конце концов в день всеобщего воскрешения из мертвых предстояло вновь одеть душу[70]. Это верование было таким сильным, что святым, чьи тела были повреждены (многие были мумифицированы, но со временем стали очень хрупкими), иногда приделывали протезы конечностей, новые руки и ступни. В силу тех же причин убийцы иногда вырезали своим жертвам глаза и разбивали лица, чтобы помешать им в дальнейшем (то есть перед Божьим судом) свидетельствовать о преступлении или о том, кто его совершил[71]. Эта буквальная реакция на религиозное учение, по мнению Максима Горького, в жестокие годы Гражданской войны помогает понять крестьянскую склонность к зверским методам расправы, среди которых, например, было вспарывание брюха. Горький утверждал, что крестьяне отчасти научились пыточному искусству из средневековых житий святых и мучеников[72].
Трупы мелких преступников, подозреваемых в кражах лошадей, чудаков и уродцев, людей с различными отклонениями и психическими заболеваниями намеренно и показательно обезображивались для устрашения и в назидание живым. Сообщение из Пензенской губернии, написанное в 1899 году, повествует о судьбе “гермафродита Василия – Вассы”. У ребенка, которого считали девочкой, по мере взросления начали формироваться мужские половые органы. В докладе пояснялось: “Она становилась сильнее, и родители ежедневно избивали ее”. Какое-то время девочка была развлечением для всех местных зевак, в нее тыкали пальцем, ее едва терпели и шептались ей вслед, куда бы она ни шла. В конце концов вся деревня подтолкнула ее к самоубийству. Девушке было семнадцать лет. Ее похоронили в яме в глухом, безлюдном месте, над ее могилой не читали молитв, потому что боялись, что она накличет несчастья – нечистую силу – на остальных жителей деревни[73].
Эти истории образуют своего рода строительные леса – защищая устную историю, Пол Томпсон вслед за Майклом Андерсоном называл ее “кривобоким, пустым остовом-рамкой”[74], – но так как мы не можем поговорить с живыми представителями того мира, некоторые ключевые аспекты крестьянской идентичности навсегда останутся для нас неизвестными и непостижимыми. Проблема заключается в том, что неграмотное крестьянское общество так никогда и не было должным образом понято и осмыслено теми внешними исследователями, которые его описывали со стороны, не будучи сами частью этого мира. Горевание по умершему ребенку, например, до сих пор можно интерпретировать по-разному. Этнографы сообщают, что детей хоронили под порогом, что по ним не служили панихиды и что матери должны были перекреститься и пробормотать: “Бог дал, Бог и взял”[75]. Социолог в Москве, которую я спросила об этом обычае, объяснила мне: “Вы должны понимать, что Россия была и до некоторой степени все еще остается устаревшим демографическим режимом. Это означает, что детская смертность не имеет такого уж большого значения и что в действительности смертность как таковая остается высокой. Смерть одного ребенка не имеет значения, потому что детей всегда с избытком. Совсем как в Африке”[76].
Все это легко говорить, но тезис, высказанный социологом, не до конца объясняет, почему матерей, потерявших ребенка, предостерегали от того, чтобы давать волю слезам, – из страха ли навредить его отлетающей душе, из страха ли обречь эту душу на страдание по безутешной матери или же из страха, что нечистая сила внезапно похитит жизни еще живых. Нельзя было и выставлять тело ребенка для прощания, потому что слезы пришедших непременно огорчат его и, возможно, навсегда привяжут его душу к земле[77]. Таким образом, этот обычай прочитывается двояко, позволяя нам рассуждать о высокой детской смертности или об относительно низкой (с экономической точки зрения) важности ребенка[78]. Однако все это оставляет нас в полнейшем неведении относительно горя и его частного переживании.
Бедные, полные тревоги женщины часто жалуются состоятельным чужакам на то, как тяжело им растить своих детей. Иногда они даже говорят, что детей у них слишком много и что хорошо было бы отдать хотя бы одного в чужую семью, чтобы легче было прокормить остальных. Маленькие дети, пока не вырастут, не могут продуктивно трудиться, а значит, не вносят заметного вклада в сельскую экономику. То же можно сказать и о пожилых, если они перестали пользоваться уважением, – вот почему некоторые крестьяне пытались сговориться со священником о том, чтобы похоронить своих стариков побыстрее и подешевле, особенно если смерть случалась в разгар сбора урожая[79]. Эти общие замечание справедливы, но ни демография, ни обычай, ни даже экономические соображения не способны объяснить иррациональной привязанности матери к данному конкретному ребенку, к первенцу, к “младшенькому”, к везунчику, к самому слабенькому, к тому самому, кого из всех своих детей она надеялась спасти[80]. Вот и донесение из Пензенской губернии не говорит нам ровным счетом ничего о том отчаянии, которое втайне, в четырех стенах своего дома, возможно, переживали родители гермафродита Вассы, хмуро толкуя о своей дочери и том проклятии, которое их постигло. Родители и другие родственники самоубийцы обыкновенно умоляли священника разрешить похоронить тело в освященной могиле[81]. Безусловно, эта культура содержала в себе предпосылки для проявления необычайной жестокости, особенно когда люди испытывали страх или когда чувствовали, что их обвели вокруг пальца, а иного способа поквитаться с обидчиком или восстановить справедливость у них не было. Однако в этой культуре были и другие ресурсы. Ее дальнейшая траектория отчасти зависела от материальных перспектив и общественного благополучия, от того, сулило ли будущее страх или уверенность и безопасность, репрессии или гражданский мир.
“Что может быть универсальнее смерти? – вопрошают антропологи Ричард Хантингтон и Питер Меткалф. – ‹…› и при этом какой невероятный диапазон реакций она провоцирует ‹…› разнообразие культурных реакций есть мера универсального влияния смерти. Но эту реакцию не назовешь произвольной: она неизменно глубоко осмысленна и выразительна”[82]. Российская погребальная культура, безусловно, была отмечена и осмысленностью, и выразительностью. Крестьянский способ обращения со смертью не единственный, бытовавший в царской России, но, несомненно, самый распространенный. Его смысловое наполнение было амбивалентным и противоречивым, но в важности его ритуалов никакой амбивалентности не было. Образы и понятия, которыми пользовались крестьяне, говоря о горе и утрате, показывают взаимосвязанность жизни и смерти, общины, сообщества и места в доиндустриальном дореволюционном мире.
Как бы ни повернулась история, крестьянская культура неминуемо обречена была измениться. Существуют свидетельства того, что к концу XIX столетия эта трансформация уже началась, и процесс продолжился бы, даже если бы не произошла революция. Урбанизация, массовая грамотность, возможность путешествовать, телевидение, появление свободного времени и туризм в любой стране мира наступают на доиндустриальный мир, разъедая его. Однако ключевую роль здесь играет скорость происходящих изменений и то, как именно они происходят: есть ли у представителей различных поколений возможность рассчитывать время, договариваться, налаживать коммуникацию, есть ли у них опция сохранить какой-то аспект прежней культуры лишь до поры до времени, а другой – возможно, навсегда. Именно это и стало наиболее болезненным аспектом революции и того смещения общественных и культурных пластов, которые она за собой повлекла, – намеренного разрушения знакомого духовного мира, набора верований и практик и даже священных мест, куда люди отправлялись (во что бы они ни верили), когда их постигало несчастье или умирал любимый человек. Люсьен Февр писал о предшествующей социальной дислокации: “Жизнь перестала заглядываться на смерть, чтобы узнать свои виды на будущее”[83]. Однако смерть по-прежнему давала семье возможность горевать и носить траур (даже если семья не знала, как сложить воедино ламентацию прошлого), выжившему – объяснять свое собственное везение, а свидетелям – разбираться со своими тревожными снами.
Глава 2 Культура смерти
Хотя никто точно не знает, как именно это устроено, большинство из нас согласятся с тем, что существует некоторая связь между культурой России и высокой смертностью в стране. В середине 1990-х годов средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужчин составляла примерно 58 лет. В начале 1990-х годов Россия была одной из немногих развитых стран мира, в которой продолжительность жизни фактически снижалась как для мужчин, так и для женщин (хотя последние обычно умирают не так рано)[84]. Эксперты говорили о кризисе в области национального здоровья, масштаб которого (если попробовать оценить его с учетом снижающейся продолжительности жизни) означал, что гражданское население в России умирало раньше срока или во всяком случае раньше, чем можно было ожидать в стране с и так уже достаточно высоким уровнем смертности, причем эти потери среди гражданского населения были выше, чем потери обеих сторон в чеченской войне. Так, статистика за один год (1992/1993) показала сокращение продолжительности жизни на три года для мужчин и на год и десять месяцев для женщин. Трудно дать точную цифру, однако эксперты в области демографии предполагают, что в общей сложности с 1989 до конца 1994 года кризис повлек за собой около одного миллиона трехсот тысяч так называемых избыточных смертей, то есть смертей, превышавших прогнозируемый уровень смертности, которые при “нормальных” или более благоприятных условиях можно было бы предотвратить[85]. Наиболее острая фаза этого кризиса длилась примерно восемнадцать месяцев – с 1992 по 1994 год, и с тех пор эту тенденцию удалось переломить. Однако картина остается мрачной, особенно если рассмотреть ее в сравнительном контексте. В Западной Европе мужчины в среднем доживают до 73 лет, и даже в странах бывшего Варшавского договора среднестатическая продолжительность жизни мужчин составляет 63 года[86].
С момента начала сбора статистики не было ни одного года, когда демографы не отмечали бы этого разрыва в продолжительности жизни между Россией и остальной Европой. В конце XIX века средняя продолжительность жизни в России была около 32 лет, тогда как во Франции она составляла 47 лет[87]. Уровень смертности, измеряемый через общий коэффициент смертности (количество смертей на тысячу жителей), может совсем иначе проиллюстрировать тот же факт. На рубеже XIX и XX веков во всем мире характер смертности отражал трудности борьбы с болезнями до появления современных лекарств и эффективных программ охраны здоровья населения. Для сравнения: сегодня общий коэффициент смертности варьируется почти от 9 случаев на тысячу человек в США до 18–21 случая на тысячу в наиболее безнадежных регионах развивающихся стран мира[88]. К началу Первой мировой войны даже самые преуспевающие страны Европы не достигли подобных показателей. Однако в общем и целом уровень смертности снижался. Например, во Франции коэффициент смертности упал с 22,4 случая на тысячу человек (средний показатель для четырехлетнего периода с 1876 по 1880 год) до 19,2 случая на тысячу человек (средний показатель за аналогичный период с 1906 по 1910 год)[89]. В те же годы и Россия могла похвастаться снижением уровня смертности: с 38 случаев на тысячу жителей в начале 1870-х годов к первому десятилетию XX века (1900–1913) коэффициент смертности упал до 28, продолжая, однако, оставаться самым высоким в Европе[90].
Для объяснения российской плачевной статистики выдвигалась масса гипотез. Современные расчеты – например, те, что были сделаны математиком Владимиром Школьниковым, – отличаются взвешенностью и осторожностью: они структурированы по возрастным когортам и рассматривают, в частности, точный показатель распространенности насильственных смертей среди молодых мужчин, относительную вероятностью того, что тот, кто не умер от сердечно-сосудистого заболевания, позднее умрет от рака, или сравнительную эпидемиологическую ситуацию во Франции и США. Основные выводы, к которым приходит Школьников, действуют отрезвляюще: недавний кризис в области состояния здоровья населения в России явился результатом как долгосрочных, так и краткосрочных тенденций. Среди последних следует отметить личные привычки, из которых складывается культура: пищевые привычки, употребление алкоголя, курение, – а также социальные проблемы, например плачевное состояние системы здравоохранения и некачественное жилье. Что до краткосрочных тенденций, то речь шла о резком увеличении числа насильственных смертей в начале 1990-х годов, в том числе самоубийств. Растущий уровень преступности, страхи относительно будущего и нищета – вместе все эти факторы создали ситуацию, при которой в момент одного из важнейших исторических переломов в истории России абсолютный размер ее населения фактически сокращался.
Несмотря на большой объем статистической информации и обширные, подробные данные, которыми могут пользоваться современные демографы, точные причины недавнего кризиса остаются до конца невыясненными. Смертность в предшествующие десятилетия, не говоря уже о XIX веке, представляет собой еще более трудную для понимания проблему. У российских демографов конца XIX и начала XX веков не было доступа к полной или точной информации о предмете. Даже те заболевания, от которых умирали жители исследуемых территорий, подчас были обозначены в весьма сомнительных, малоупотребимых или расплывчатых терминах. Записи актов гражданского состояния, фиксировавшие смерти, составлялись на основании самых что ни на есть сырых, приблизительных отчетов: они не полны и освещают ситуацию только в части империи (например, в них не были включены данные по Сибири)[91]. Приходской священник, часто обладавший лишь зачаточными познаниями в области медицины и вооруженный верой в волю божью, которая практически не оставляет места научному взгляду на мир, подчас оказывался единственным человеком, который мог на месте засвидетельствовать смерть, заполнив все нужные бумаги. Среди объяснений причин смерти, которым отдавали наибольшее предпочтение эти господа, нередки упоминания судорог и смерти от старости. Некоторые другие заболевания в их перечнях больше смахивают на моровую язву из мифов и легенд. Среди регулярно встречающихся диагнозов, например, несколько видов тифа различных цветов, с пятнами или без, и недифференцированные лихорадки и горячки[92]. Демограф, который наблюдал, как в один из вечеров я, вооружившись словарем, сражаюсь с этими диагнозами в архиве, расхохотался: “Англичане, может, от них и не умирают, но это не значит, что таких болезней не существует”.
Конечно, его комментарий был всего лишь шуткой, однако он куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Еще одной особенностью российской смертности, заметной также начиная с XIX столетия, кажется национальная или этническая компонента. В 1916 году на эту проблему обратил внимание один из основоположников российской демографической науки Сергей Александрович Новосельский. Он обнаружил, что по каждому из изучаемых параметров показатели российского православного населения в империи Романовых хуже, чем показатели по другим этническим и религиозным группам, особенно в сравнении с католиками, лютеранами и евреями[93]. У православных русских была ниже продолжительность жизни, их дети умирали чаще и раньше, а повзрослев, с большей вероятностью погибали от насильственных причин или преждевременно гибли от болезней. Гипотезы, который Новосельский выдвинул для объяснения этих этнических особенностей смертности были спекулятивными и довольно отрывочными, что применимо и ко всем последующим попыткам истолковать этот феномен. Согласно одной его гипотезе, у евреев мог быть врожденный иммунитет к туберкулезу, поскольку многие их поколения вынуждены были проживать в городах[94]. Лютеране, в свою очередь, вероятно, не страдали запойным пьянством. Владимир Школьников предполагает, что из-за определенных особенностей питания, принятых среди русского православного населения, а также из-за особенностей ухода за матерями и детьми, младенцы в этой группе населения были более слабыми. Однако ни у Школьникова, ни у других демографов до сих пор нет окончательного ответа на этот вопрос. Очень тонкая грань отделяет демографические реалии от культурных обобщений и расизма, и Школьников чрезвычайно осторожен в своих выводах[95].
Выводы, к которым приходят демографы, как правило, основаны на длинных циклах – прогнозах относительно здоровья человека в течение всей жизни и на протяжении жизни двух или более поколений, отголосках одного периода высокой смертности на показателях рождаемости и смертности, проявляющихся через двадцать, тридцать, сорок лет, в следующих поколениях[96]. Однако важно отличать подспудные тенденции, которыми оперируют демографы, от различных видов культурной преемственности, которые занимают историков. Столкнувшись лицом к лицу с хроникой насилия и смерти в истории России – насилия, совершенного как государством, так и отдельными людьми, – легко прийти в отчаяние и списать все это на странности российской идентичности: на обесценивание человеческой жизни, климат, культуру, на “здесь все всегда было именно так, а не иначе” и так далее[97]. Постсоветский россиянин с готовностью подпишется под этими словами и будет ворчать об азиатской традиции или наследии татаро-монгольского ига. Нередко ссылаются и на отсталость России, констатируя, что страна вечно обречена плестись в хвосте у Запада, бесконечно прибегая к модернизационным или репрессивным мерам в отношении самых отстающих, люмпенизированных граждан, описывая Россию как место, в котором по-прежнему притаились средневековый фатализм и его неизбежная попутчица – жестокость.
Подобными теориями хорошо развлекать себя долгими зимними вечерами, однако они едва ли годятся в качестве исторического материала. Они не учитывают специфические особенности каждого отдельного периода в истории страны, изменения в культурном укладе, произошедшие после двух революций, а также роли, которые на протяжении истории играли невежество, месть или страх. Эти теории также упускают из виду кратковременные периоды улучшения, инноваций и реформ, дававшие и либералам, и утопистам все основания мечтать и надеяться, что их мир стоит на пороге трансформации. Демографическая история России в XX веке отнюдь не была одним беспросветным кошмаром.
В России конца XIX века демография – и социальные науки в общем и целом – все еще была в новинку. Первопроходцы этих наук пытались не только понять российское общество – они считали своим долгом и обязанностью это общество улучшить. Выпускники девяти российских университетов представляли собой крошечное меньшинство в империи. Они сравнивали Россию с Западной Европой, для того чтобы учиться у нее, чтобы доказать необходимость проведения реформ в России, ссылаясь на успешный опыт подобных реформ в Европе, и потому что верили, что Россия не была исключением из правил, а являлась частью европейской системы социального и экономического развития. В их представлении смертность в Российской империи была высокой, потому что, как сформулировал Новосельский, “русская смертность, в общем, типична для земледельческих и отсталых в санитарном, культурном и экономическом отношении стран”[98]. Но все это можно было преодолеть. Основной подход российских демографов был либеральным; решение лежало в плоскости просвещения и образования и было вопросом инвестиций, регулирования трудовых отношений и распространения карболового мыла.
Именно так реформаторы обращали общественное внимание на остро стоящую проблему городского и деревенского жилья: на отсутствие чистой воды, на повсеместное невежество относительно базовых санитарно-гигиенических мер предосторожности. Лишь позднее революционное правительство объявит все это делом второстепенным по сравнению с основной проблемой, симптомом, а не причиной. Ленин и его соратники осознавали, что общественный кризис последних лет правления дома Романовых, усугубленный политической ситуацией в стране, в конце концов потребует политического решения. Как заметят позднее работники сферы здравоохранения большевистской России, реформаторы оказались бессильны перед зияющей пропастью экономического неравенства. Они даже не могли указать на неравенство в системе, которая лишила большинство населения империи права голоса в какой-либо части политического процесса, потому что в обществе, снизу доверху пронизанном цензурой, подобное фрондерство могло окончиться не просто неодобрением, а арестом[99].
У правительства Российской империи, бывшей по сути своей авторитарной монархией, были все возможности взяться “сверху” за вопросы, касающиеся охраны здоровья, высокой смертности и насилия. В сменявшие друг друга составы министерств входило разное число реформаторов. Дело было не в отсутствии информации о реальном положении дел и не в отсутствии альтернатив. В конце концов, вдумчивый консерватор мог бы обратить свой взор на Берлин времен правления Бисмарка, чтобы увидеть реализованные реформы, благодаря которым существенно улучшилось состояние здоровья населения. Эти реформы одновременно укрепили монархию и заткнули рты критикам слева. Однако Россия пошла другим путем. Автократию отличал высокомерный консерватизм – самодовольный, надменно равнодушный и примитивный. Церковь как важнейший институт и участник общественных процессов оказалась еще менее просвещенной. Она выступала с осуждением того, что называла “реформаторской горячкой”, и сторонилась общественной деятельности, считая, что это отвлекает человека от его священного предназначения. Обер-прокурор Священного синода и советника двух последних российских царей Константин Победоносцев заявлял: “Благо тому человеку, в ком зажжется на ту пору искра любви и ревность о жизни духовной… ‹…› Подлинно, он осияет светом страну и сень смертную, он воскресит умерших и поверженных, спасет души от смерти и покроет множество грехов… Оттого-то русский человек так охотно и так много жертвует на церковное строение, на созидание и украшение храмов. Как криво судят те, кто осуждает его за это рвение, а таких голосов слышится уже ныне немало. Это щедрое рвение приписывают то к грубости и невежеству, то к ханжеству и лицемерию. Говорят: не лучше ли было бы употребить эти деньги на «образование народное», на школы, на благотворительные учреждения? И на то, и на другое жертвуется своим чередом, но то жертва совсем иная, и благочестивый русский человек со здравым русским смыслом не один раз призадумается прежде, чем развяжет кошель свой на щедрую дачу для формально образовательных и благотворительных Учреждений”[100].
Однако было бы недостаточно поставить на этом точку, увенчав наш рассказ пафосным росчерком уместного в данном случае отчаяния и безысходности, потому что имперская Россия была страной внутренне разобщенной, обращенной против самой себя. Вдали от императорского двора и в особенности внутри небольшого класса представителей свободных профессий зрела осознанная и заявленная готовность посвятить себя переменам в обществе, даже если речь шла об облегчении человеческих страданий в одном отдельно взятом городе, в одном уезде. И эта преданность делу в либеральных кругах начинала изменять культурный ландшафт. Судьба тех либералов хорошо известна: их благие намерения провалились, а самих их без остатка пожрала революция, требовавшая немедленных и тотальных перемен. Однако даже зная все это, было бы несправедливо ретроспективно лишать этих людей их места в истории. Ведь подобно тому, как советская медицина в 1960-е и 1970-е годы постепенно, без лишних фанфар и победных реляций, улучшила качество жизни последующего поколения, чтобы два десятилетия спустя увидеть, как все ее завоевания пусть и временно, но утеряны, врачи, чиновники и учителя в царской России накануне Первой мировой войны своими усилиями начали формировать новое представление о жизни и смерти.
Реформы, запустившие этот процесс, были начаты вслед за отменой крепостного права в 1861 году. В них не было ничего эффектного и впечатляющего, однако земства, или выборные органы местного самоуправления, основанные после 1864 года, взяли на себя ответственность за решение наиболее насущных местных проблем, среди которых было развитие и благоустройство сельских областей, охрана общественного здоровья и образование[101]. Начиная с 1860-х годов каждое земство само устанавливало для себя программу действий, что на практике означало, что некоторые из них делали очень немного, тогда как другие – например, Полтавское земство, одним из первых создавших полномасштабную систему местной медицинской помощи, – брали на себя самые серьезные обязательства. Остро стояла проблема финансирования, особенно учитывая то, насколько обширным был круг задач, которыми занимались реформируемые земства, а кроме того, положение земств было неизменно шатким ввиду их слишком узкой социальной базы. Главные адресаты их заботы, крестьяне, по конституции не имели возможности избирать членов земства или как-либо влиять на них. Консерваторы в имперском правительстве также относились к земствам с большим подозрением, ведь многие по-прежнему опасались, что чрезмерная информированность – даже если речь шла всего лишь об информированности относительно частоты заболеваемости свинкой в стране – может стать той искрой, из которой вспыхнет мятеж[102].
Земства не имели отношения к революционным кругам. Более того, их появление совпало с периодом разлада и перегруппировки сил внутри революционного движения, когда лишь в сознание фанатичных сторонников террора не начали закрадываться сомнения относительно эффективности радикальной повстанческой тактики. “Хождение в народ”, воплощавшее мечту о пробуждении политического самосознания крестьян и привлечении их к революционному движению, которая захватила воображение целого поколения радикальных студентов в 1870-е годы, оказалось миссией крайне неблагодарной. Загоревшись фантазиями о крестьянской душе и свойственном ей “нутряном” социализме, молодые активисты отправлялись в деревню, с тем чтобы раздуть пламя стихийного бунта “снизу”[103]. Многих из них крестьяне без лишних церемоний сдавали в местную полицию. И хотя законодательные акты, сопровождавшие отмену в России крепостной зависимости, обманным путем лишили крестьян той земли, которую они обрабатывали из поколения в поколения, очевидно, что не у этих серьезных юношей и девушек в черных пальто и очках, пришедших в село, искали мужики ответов на свои вопросы. Врачей простой народ тоже встречал без особенного доверия. Тем более поразительно, что в обществе, где к любому авторитету относились с подозрением, скромный, но вдохновленный большими целями труд этих людей и поддерживавших их представителей реформируемых земств имел такие масштабные последствия.
Постепенно растущая осведомленность о причинах и способах предотвращения заболеваний стала сказываться на работе местных властей. Действуя в атмосфере всеобщей подозрительности и преодолевая сопротивление среды, местные власти сталкивались с противодействием в самых неожиданных местах. Вечной проблемой была стоимость реализации их инициатив. Согласно докладу Министерства внутренних дел 1905 года, захоронение мертвых тел на кладбищах в крупных населенных центрах представляет собой серьезное финансовое отягощение для органов государственной власти. Тем не менее к 1914 году забота о состоянии кладбищ и принятие мер по обеспечению скорейшего захоронения инфицированных трупов помогли снизить заболеваемость тифом и не только[104].
Однако у этого улучшения состояния общественного здоровья была и оборотная сторона. В глазах бедных слоев населения в Москве и Санкт-Петербурге новые правила разрушали то глубоко личное, неопосредованное переживание смерти, которое издавна сопровождало в этой культуре траур и скорбь по умершим. Реформа здравоохранения, а также урбанизация и растущая грамотность населения в конце концов нанесли серьезный удар по традиционному пониманию смерти и связанным с ней поминальным обрядам. Например, в тех случаях, когда смерть наступала от инфекционного заболевания, новые правила запрещали использование открытых гробов; а тем, кто не мог себе позволить приобрести участок на одном из популярных церковных погостов, теперь приходилось совершать долгий путь до кладбищ, расположенных не менее чем в часе езды от центра города. К 1905 году двадцать тысяч трупов ежегодно перевозили по железной дороге из рабочих районов Санкт-Петербурга до кладбищ на окраинах города. Если уж не при жизни, то после смерти бедных держали на расстоянии. Отдельной строкой в распорядительных документах был прописан запрет проносить гробы мимо Зимнего дворца[105].
Задача, стоявшая перед либералами, была бы сложной в любом политическом контексте. Те, кто пессимистически смотрит на русскую культуру, указывая на долгосрочные проблемы России, не так уж и неправы. Эпидемиологическая ситуация в стране оставляла желать лучшего, а среди широких слоев населения бытовали искаженные представления о способах предотвращения и лечения этих заболеваний. В случае болезни люди в первую очередь обращались к молитве, а не к лекарствам, и на формирование подобной безотчетной реакции куда большее значение оказали, конечно, Откровения Иоанна Богослова, а не официальная медицина. Другие стороны русской жизни были не менее губительны. Главным убийцей был алкоголь, в основном водка, хотя не из-за объема потребления как такового, а из-за обычая пьяных кутежей, предписывавших по определенным случаям напиваться в стельку. Показатели потребления спиртного на душу населения в дореволюционной России были даже ниже, чем в сопоставимых с ней странах Европы, таких как Германия, Франция и даже Бельгия. Однако разрушительные последствия имел не столько уровень потребления, столько то, что и как именно пили: по большей части водку, а не менее крепкие напитки вроде вина или пива; причем, как заметил Александр Герцен еще в середине XIX века, каждый стакан опустошался “залпом”, в один глоток. А кроме того, основной объем выпитого приходился на несколько определенных дней, таких, например, как свадьбы, поминки и похороны, а также на некоторые церковные праздники. В российских городах нередко можно было увидеть пьяного, валяющегося в сугробе, а насилие, вызванное пьянством, было настоящим бедствием, хотя и ставшим привычной частью деревенской и городской жизни. В целом к концу правления Романовых уровень смертности из-за потребления алкоголя в Российской империи был в четыре-пять раз выше, чем в Западной Европе[106].
Помимо этого, деревенская Россия была особенно уязвима перед лицом природных катаклизмов. Отмена крепостного права не дала крестьянам возможности свободно покидать свою деревню. Большинство крестьян все еще принадлежали миру, общине, и коллективный долг, грузом лежавший на их плечах, привязывал их к земле и к примитивной, неподдающейся реформированию системе: деревянные орудия труда, средневековый севооборот, необходимость приспосабливаться к бедной, истощенной или неосушенной почве. Община принимала решения от лица всех ее членов, и она же распределяла среди них земельные наделы, причем в теории распределение должно было происходить в соответствии с индивидуальными потребностями. Система трехпольного земледелия, бытовавшая в России, напоминала о Европе до огораживания, при этом во многих областях трехполье функционировало в самых экстремальных климатических условиях. Усугубляло ситуацию и то, что наиболее плодородные области российской империи были и самыми густонаселенными. Согласно переписи 1897 года, например, плотность населения на Украине составляла 100 человек на квадратную версту[107]. К началу XX века население царской империи увеличивалось каждый год на 1 миллион 600 тысяч человек, что создавало постоянно увеличивающуюся нагрузку на сельскохозяйственное производство[108]. Неурожай, падение закупочной цены на зерно, эрозия почв, падеж скота – любое из этих несчастий могло означать разницу между выживанием и обнищанием.
Над деревнями в черноземной полосе на юге страны, на Украине и в Поволжье, производившими зерно, постоянно нависала угроза неурожая. Озимые, посаженные в сентябре, могли вымерзнуть в сухую зиму, если выпадало недостаточно снега, чтобы укрыть их от заморозков, которые подчас случались и в мае, а засуха могла уже к июлю иссушить почву так, чтобы похоронить надежды на неплохой урожай, которые сулил весенний сев. Крестьяне привыкли голодать. Голод посещал эти края с регулярностью раз в три-четыре года. Однако события 1891 года, когда летняя жара уничтожила посевы в самых густонаселенных областях юга России на тысячи и тысячи верст, обернулись невиданным доселе бедствием. Свыше 30 миллионов человек проживали на территориях, охваченных голодом[109]. Те, кто еще мог хоть как-то передвигаться, добирались до железнодорожных станций или провинциальных городов, просили подаяния, умоляли нанять их на работу. Чиновник в Орловской губернии записал, что страждущие молились. В конце концов, удалось спасти лишь детей… Только у грабителей и ростовщиков было вдоволь еды[110].
В 1892 году вслед за голодом пришел тиф, а затем и холера, и эти болезни всего за несколько месяцев распространились от Астрахани и Каспийского моря до голодающих степных деревень[111]. Точное число жертв голода и эпидемий остается неизвестным (считается, что только от холеры скончалось чуть меньше полумиллиона человек[112]), однако совокупная статистика, собранная Новосельским, свидетельствует о том, что население заплатило за эти бедствия ужасную цену. По его подсчетам, в 1892 году общий коэффициент смертности в России вырос до 41 случая на тысячу человек[113]. По своему обыкновению государь и министерства сделали ничтожно мало для помощи страждущим. Даже те государственные служащие, в чьи обязанности входил сбор статистики убыли населения, подчас изображали отстраненность и беспристрастность перед лицом кризиса: в должностной переписке, обмениваясь вопросами с коллегами, чиновники прибегали к эвфемизмам вроде “аномального сокращения населения”[114]. Официальные источники не торопились отправлять материальную помощь в пострадавшие районы, и, как правило, эта помощь заключалась в предоставлении возвратных ссуд. В итоге жертвам голода оставалось рассчитывать лишь на благотворительные усилия небольшого по численности, но глубоко возмущенного происходящим российского среднего класса[115].
Тогда как в провинции свирепствовали голод и тиф, в городах бытовали другие болезни, а также насилие, которое здесь было более распространенной причиной смертности, чем в деревнях. Говоря о насилии, нельзя не упомянуть и о самоубийствах, хотя в то время они все еще были относительной редкостью. Экономический рост спровоцировал глубокие социальные и культурные перемены, которые постепенно стали проявляться в том, как люди работали, жили и умирали. Заводы и фабрики некоторых отраслей промышленности, в особенности текстильной, по-прежнему располагались неподалеку от сельской местности, черпая отсюда рабочую силу: иногда целые деревни, включая женщин и детей, были рекрутированы для работы на этих предприятиях. Однако благодаря двум крупнейшим инвестиционным бумам, один из которых пришелся на последнее десятилетие XIX века, а второй случился накануне Первой мировой войны, к 1914 году изменился архитектурный облик крупных городов – Санкт-Петербурга, Москвы, Одессы и Баку, изменились и их рабочие районы. Население этих городов росло как на дрожжах и между 1897 и 1914 годами удвоилось. По железной дороге, на возах торговцев и пешком в города из провинции потянулись молодые мужчины – неквалифицированные, часто голодные, не готовые к той жизни, которая им предстояла. Они поселялись в битком набитых бараках, но были рады обрести кров. Работали они сменами по десять-двенадцать часов, “пробуя на зуб” эту новую для себя реальность и свое место в ней и нередко заражаясь революционными идеями.
По большей части эти люди самостоятельно перебирались в город. Женатые мигранты, как правило, не брали с собой жен, так что их рабочие контракты, к которым они изначально относились как к временному эксперименту, запросто могли растянуться на многие годы, оборачиваясь длительной разлукой с семьей. Например, перепись населения 1897 года показала, что в то время как 52,9 процента рабочих-мужчин, проживавших на тот момент в Москве, были женаты, только 3,8 процента из них жили вместе со своими женами[116]. Внедрение регулирования трудовых отношений в сфере промышленности шло медленно, хотя под давлением рабочих петербургских ткацких фабрик, забастовавших в 1896 году, правительство вынуждено было пойти на уступки и законодательно ввести одиннадцати с половиной часовой рабочий день[117]. Несчастные случаи на производстве и болезни были обычным делом, и домашний быт рабочих мог быть ничуть не менее опасней любой работы: заводские районы плохо снабжались питьевой водой, и по большей части это были слабо освещенные, перенаселенные кварталы, задыхающиеся в чаду фабричных выхлопов[118].
В силу этих причин именно молодые мужчины составляли диспропорционально большую категорию в статистике смертности в новых промышленных центрах. Главными виновниками высокой смертности среди рабочих были туберкулез и тиф: накануне Первой мировой войны около четверти всех умерших в Петербурге молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет скончались от одной из этих болезней[119]. Детализированная статистика по различным полицейским округам крупнейших городов могла бы выявить связь между городской бедностью и смертностью, однако демографы не могли говорить об этом публично, хотя вся собранная ими первичная информация вполне недвусмысленно свидетельствовала именно о такой причинно-следственной связи. Тогда как уровень смертности в богатых районах Москвы, Петербурга или Киева был значительно ниже, чем в целом по стране, в трущобах, располагавшихся по соседству, он зашкаливал. В 1870 году коэффициент смертности в самом престижном районе Петербурга составлял менее 17 эпизодов на тысячу человек, в то время как в некоторых кварталах рабочей окраины Нарвская застава он был, по крайней мере, в три раза выше, то есть был чрезвычайно высоким: 50 смертей на тысячу человек[120].
Смерти молодых мужчин-горожан были тем более поразительны, что в деревнях самыми забитыми и притесняемыми были женщины: именно они получали недостаточное питание, зачастую работали куда больше, чем другие члены патриархального домохозяйства, и потому нередко умирали, не достигнув тридцатилетия[121]. Но самыми ужасающими были показатели детской смертности. За последние полвека благодаря развитию и распространению базовой профилактической медицины, включающей ведение беременности и программы иммунизации населения, удалось добиться снижения младенческой смертности по всему миру. Например, по данным на 2000 год в странах Субэкваториальной Африки из тысячи родившихся младенцев 103 умирали в первый год жизни. В 1996 году самые ужасные показатели младенческой смертности в мире были в Афганистане: там фиксировалось 165 смертей на тысячу младенцев в возрасте до года[122]. Однако если сравнить эти показатели со статистикой из развитых стран Европы конца XIX века, то они не покажутся такими уж страшными. В те времена в Германии, например, коэффициент младенческой смертности составлял 163 случая на тысячу человек, а в Великобритании – 111 случаев.
Тем не менее даже со всеми оговорками царская Россия стоит во всей это сравнительной статистике особняком. Подсчет младенческих смертей не был точным: многие дети рождались и умирали до того, как сам факт их рождения мог быть зарегистрирован. Кроме того, в сельской России куда чаще, чем в аналогичных районах Европы, случались убийства новорожденных младенцев, и хотя суды обычно относились к матерям-детоубийцам со снисхождением, многие из этих женщин так и не предстали перед судом и не были изобличены[123]. Можно с уверенностью сказать, что официальные цифры детской смертности были занижены. Но даже в этом случае в целом по стране на период с 1911 по 1913 год этот показатель составлял 273 случая смерти на тысячу младенцев возрасте до года. Есть все основания предполагать, что в реальности эта цифра превышала три сотни случаев младенческой смертности на тысячу детей[124]. В некоторых местах коэффициент был почти в два раза выше, и особенно постыдная репутация в этом смысле была у детских домов в крупных городах. Другими словами, ребенок, родившийся в некоторых промышленных районах Москвы в первое десятилетие XX века, имел все шансы не дожить до своего первого дня рождения[125].
Именно в этом контексте и следует оценивать усилия и успехи земской системы здравоохранения. Слишком легко было бы свалить все неудачи на недостаточную укомплектованность врачами земской медицинской службы. С 1870 по 1910 год число врачей в стране выросло с 12 тысяч до 25 тысяч, то есть фактически удвоилось, однако и население продолжало стремительно расти и к 1897 году составляло 125 миллионов человек, так что реформаторам рано было почивать на лаврах. Дополнительным грузом на плечи врачей ложилась их изолированность, оторванность от привычной среды, которую многие из них, выпускников петербуржских и киевских университетов, учившихся в свое время у специалистов с международной репутацией, неминуемо ощущали, осев в провинциальной России и погрузившись в меланхолию. Это отчаяние хорошо отображено в литературе. Доктор Поляков, вымышленный герой Михаила Булгакова, записывал в своем дневнике: “3 февраля. Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. ‹…› Ах, как все глупо, пусто. Безнадежно! Не хочу думать. Не хочу… 11 февраля. Все вьюги, да вьюги… заносит меня! Целыми вечерами я один, один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще вижу людей. Но работаю механически”. Поляков, отправившийся в отдаленный городок для того, чтобы забыть покинувшую его женщину, становится морфинистом, употребляя морфий из собственной амбулатории. Тьма становится совершенно невыносимой, и в конце концов Поляков сводит счеты с жизнью, пустив в себя пулю[126].
Врачебная карьера самого Булгакова началась и закончилась в провинции. Он не выдержал и двух лет сначала в земской больнице села Никольское Смоленской губернии, куда он как негодный к военной службе был отправлен для замещения вакансии земского врача в сентябре 1916 года, а затем и в земской городской больницы Вязьмы, и вернулся в Киев. Чехов тоже нашел лучшее применение своим талантам на литературном, а не на медицинском поприще. Однако на каждый подобный случай приходилось несколько сот провинциальных врачей, которые каким-то непостижимым образом продолжали заниматься врачебной практикой, несмотря ни на что, и некоторые из этих врачей, например Е. Я. Заленский, позднее опубликовали свои дневники, описывавшие их рабочие будни[127]. Как и любой дневник врача, эти записи подразумевают своего рода негласный сговор между автором и читателем (представителем такого редкого в провинциальной России класса образованных людей), которому автор поверяет свои тайные мысли и впечатления о встречах с русским крестьянином, с этим диковинным представителем старого мира, колоритным, неисправимым и навеки упорствующим в своих заблуждениях. Вслед за Заленским мы попадаем в гнилую избушку, топящуюся по-черному, и тревожимся вместе с ним: как разговаривать с семьей? От “вонючего спертого воздуха” кружится голова, как и доктор, мы брезгливо морщимся от смрада и при виде вшей. Когда наши глаза привыкают к темноте, посреди “жалкой внутренности избы” мы можем различить силуэт врача, который склонился над стариком, лежащим на грязной постели, и мы вполне разделяем его профессиональную ярость перед лицом суеверий, его досаду и отчаяние, когда жена старика в очередной раз предпочитает “лечить” больного молитвами и ворожбой, отвергая медицинские знания Заленского и его лекарства. Икона в красном углу не способна никого защитить или вылечить от болезни, а в университетском курсе по фармацевтике никогда не упоминались в качестве лечебных препаратов ни жир, ни травы. Другой бы писатель воспользовался этим материалом главным образом для развлечения читателя, однако в руках Заленского и в контексте российских реалий он красноречиво свидетельствует о том, что за всеми рассказанными врачом историями стоят идеалы общественного служения.
Науку, которой служили врачи царской России, можно точнее всего определить как социальную медицину: они боролись с болезнями, влиявшими на судьбы целых сообществ людей. В своем исследовании, посвященном истории русской медицины, Нэнси Фриден писала: “Российские врачи заняли определенную социальную позицию… приоритетной сферой приложения своих сил они видели здоровье и благоденствие населения… По большей части они состояли на государственной службе, и в их каждодневные задачи входила забота о всеобщем благосостоянии, а в центре внимания были общественные нужды”[128]. К сожалению, именно эта связь с государством компрометировала российских врачей в глазах их пациентов-крестьян. Последние с готовностью отождествляли находившихся на государственном довольствии медиков с ненавистными “властями”, в числе которых также были полиция и налоговая инспекция. На местном уровне православная церковь совсем не способствовала установлению более продуктивных взаимоотношений между врачами и крестьянством, потому что с подозрением относилась к рациональному мышлению и сомневалась в том, насколько морально идти наперекор божьей воле. Доктор не был ни братом, ни барином, ни попом, писал Заленский, и именно это, по его словам, делало врачей враждебными и чуждыми крестьянству. Больницы тоже внушали простому народу ужас. В распространенной молитве, которую крестьяне бормотали, ожидая прихода врача, они возносили хвалу Иисусу и просили его уберечь их от больниц. В деревнях шептались, что в больницах не дают никаких лекарств, просто режут, режут – могут отрезать ногу или руку, а “лучше бы помереть цельным куском”. Ходили даже слухи, что больницы служили фабриками по переработке человеческого жира[129].
Холера – болезнь, в которой, как в фокусе, наиболее остро сошлись все эти предрассудки. В июне 1892 года слухи о вспышке холеры ввергли в панику небольшой городок Хвалынск Саратовской губернии. Люди начали рассказывать друг другу истории, услышанные от тех, кто жил ниже по течению реки. Опасались, что полиция готовится заключить народ под стражу, и были преисполнены убеждения, что местные врачи вступили в сговор с группой иностранцев и подкуплены “морить жалких православных”. “И нас уж продали, – заголосил народ, – строят бараки, заготовили гроба, нарыли могил, закупили известки и крючьев, чтобы таскать народ”[130]. Заезжие гости привозили в город слухи о карантинных судах на Волге, команды которых состояли сплошь из мертвецов, холерных бараках в Саратове, заваленных гробами, и о все еще дергавшихся телах, которые тем не менее были освидетельствованы как покойники[131].
Горожане не преминули найти козла отпущения в лице старшего санитарного врача Молчанова. Накануне рокового дня Молчанов в течение нескольких часов обсуждал холерные бунты в Саратове с коллегами-врачами и местными санитарными попечителями. В разгар дискуссии Молчанову вручили анонимную записку, автор которой предупреждал его о том, что против него готовится заговор и что если доктор не покинет город в тот же час, то его могут убить. Однако, вместо того чтобы спасаться бегством, Молчанов и его коллеги попросили защиты у местных сил охраны правопорядка, распорядившись хорошенько спрятать оружие, и издали информационный листок, разъясняющий, какие санитарные меры необходимы для борьбы с холерой. Врачи оптимистично обещали, что никого против воли в больницах держать не станут. Это был храбрый поступок, однако 30 июня по городу разнеслись слухи, что вода в бассейнах, снабжавших город водой, окрасилась в кроваво-красный цвет, и к вечеру того же дня тысячи разгневанных жителей высыпали на улицы города. Хвалынск требовал крови доктора Молчанова.
Молчанов решил сам обратиться к возмущенной толпе, что стало фатальной и последней его ошибкой. Местный священник, отец Карманов, попытался увещевать горожан: “Братие, братие… что вы делаете? Ведь это христианин, что он вам сделал? Опомнитесь!” – но тщетно. Толпа ревела: “Не нам умирать, а вам. Чего с ними разговаривать, поднимайте их на ура, бейте!”
Бей холеру, бей жидомора, бей отравителя! – Градом посыпались удары, священников отбросили. Все слилось в оглушительный рев. В воздухе мелькали сжатые кулаки, палки и камни. Озверелые люди с бешенством били и топтали Молчанова, по временам подхватывая его на руки и с силой бросая на землю. Вдруг раздался откуда-то произведенный выстрел. Толпа моментально бросилась в стороны: все подумали, что это стреляют подоспевшие войска. ‹…› Но разбежавшийся народ скоро понял свою ошибку, в нем снова проснулся зверь, и Молчанов без труда был снова настигнут и схвачен толпою. Когда в один из следующих моментов он, полуживой, приподнялся, как бы собираясь ползти, толпа, с криками: “Жив, жив, собака, бей его!” – еще раз, уже последний, набросилась на него и окончательно добила. Наконец, когда Молчанов лежал уже без движения и жизнь совсем оставила его, некоторые из присутствующих поочередно вскакивали на него и дико топтали ногами. В издевательствах над трупом не отставали от своих мужей и женщины-матери: забыв стыд, они ругали, били, плясали кругом Молчанова, рвали одежду и царапали тело. ‹…› Не оставили в покое убитого Молчанова и на другой день: кто подойдет и швырнет в него камнем, кто плюнет или обругает[132].
Согласно сообщению, опубликованному в последнем номере журнала “Врач”, толпа изуродовала тело доктора до неузнаваемости[133]. Ни у кого не достало смелости забрать его с улицы.
Мало кто в России понимал природу холеры. Поражающее действие этой болезни было настолько ужасным, а страх, который она внушала, таким сильным, что целый город, охваченный ужасом перед эпидемией, превращался в сборище первобытных, жестоких дикарей. Убийство Александра Молчанова потрясло медицинское сообщество, однако врачи повсеместно сталкивались с противодействием, пытаясь справиться с эпидемией холеры. В одной из губерний люди надеялись защитить себя от болезни, пройдя с процессией вокруг деревни. Во главе шествия несли иконы, били в барабаны и выкрикивали: “Смерть, убирайся!” Люди пытались лечиться горькими травами и перцовой водкой, там, где ее еще можно было раздобыть после того, как пошел на спад массовый голод, а самые набожные повсеместно искали излечения и медицинского совета у священников[134].
Заленский наверняка был не единственным врачом в начале XX века, обнаружившим, что в надежде отвадить смерть многие его пациенты уповали на “лечебные свойства” замасленных обрывков бумажек с каракулями молитв или заговоров, в эффективность которых свято верили[135]. Порой ему приходилось прикладывать всю силу убеждения, чтобы выманить эти “обшмыганные” записочки из рук обладателей, цепко державшихся за них до последнего. “Во имя Отца и Сына и Святого Духа”, – начиналось одно из чудодейственных заклинаний и представляло собой путаную смесь крестьянских религиозных верований, магии и мужского шовинизма:
Невзнатко море возмутися изнедоша из него двенадцать дев простовольны праспоясыя Диофа и Чудейф и попадоша этим девам три Евангелиста Лука Марка и Иван Богослов. И спросили их что вы за девы. Мы царя Ирлуга дочери. А куда же вы идете. В человеческий мир к расы Божий. Фамина Василься тело изнурить кости изломать а когда увидим или услышим сей список то неоглетко побежим от рабы Божий Василия. Взяли эти евангелисты дубцов и били их позараз. Аминь[136].
В другой части своего дневника Заленский отмечает, что многие беднейшие крестьяне соглашались на эффективные меры против эпидемических заболеваний вроде дезинфекции одежды или безотлагательного захоронения трупов умерших только “под угрозой наказания”[137].
Несмотря на людское недоверие, земской медицине удалось существенно изменить способы лечения и представления о природе болезни, бытовавшие в народе. В августе 1892 года Чехов, на несколько месяцев оставивший литературу, чтобы принять участие в борьбе с эпидемией холеры в Московской губернии, писал Суворину: “Хорошего больше, чем дурного, и этим холера резко отличается от голода, которого мы наблюдали зимой. Теперь все работают. Люто работают. В Нижнем на ярмарке делают чудеса, которые могут заставить даже Толстого относиться уважительно к медицине и вообще к вмешательству культурных людей в жизнь. Похоже, будто на холеру накинули аркан. Понизили не только число заболеваний, но и процент смертности”[138]. Вечно подверженный тревоге и беспокойству Булгаков с удивлением обнаружил, что за пятнадцать месяцев работы сельским врачом ему удалось заслужить уважение у местных жителей, притом что одиннадцатичасовой рабочий день и постоянно растущее число пациентов абсолютно вымотали его. Позже, после окончания очередной эпидемии холеры, даже Заленский осторожно отметил, что среди более молодых людей уважение к новой земской медицине постепенно вытесняет старые способы лечения[139]. И все же до полной победы над знахарством и деревенскими суевериями было еще очень далеко. Деревня все еще с большим подозрением относилась к земским врачам. Однако слом привычного хода жизни, паника военных и революционных лет и отчаянные попытки ухватиться за прошлое перед лицом террора и ужаса после 1917 года – все это повернуло вышеописанный процесс вспять, сделав невозможным разговор о простой преемственности и неразрывности истории.
Через пятнадцать лет после опустошительного голода 1891–1892 годов, в конце лета 1906 года, на юге России снова случился неурожай. Улицы провинциальных городов – Хвалынска, Саратова, Пензы и Нижнего Новгорода – вновь заполонили голодные попрошайки. Толпы нищих собирались на железнодорожных станциях, а на пыльных площадях матери с распухшими от недоедания младенцами, сироты и беженцы безысходно ожидали спасения. Десны голодающих кровоточили из-за цинги, а их лица были изуродованы открытыми язвами и нарывами. В ту первую зиму в Крыму, пострадавшем больше других регионов, голодающим пришлось еще тяжелее из-за невозможности согреться: голод усугубился холодом, не хватало дров. Ходили слухи, что крымские татары продают своих дочерей на местных рынках, чтобы выручить денег для покупки зерна и топлива[140]. Люди умирали от голода в плодородном холмистом Северном Крыму, вдоль всего северного побережья Черного моря и в Поволжье, вверх на север по течению реки, вплоть до самой Москвы.
На этот раз добровольные организации, в том числе Красный Крест, оказались в эпицентре событий куда быстрее. Местные земства тоже приняли участие в организации мероприятий по борьбе с голодом и помощи голодающим с теми ресурсами, что были в их распоряжении. В далеком Санкт-Петербурге организация с неуклюжим названием “Центральный комитет по оказанию врачебно-продовольственной помощи населению, пострадавшему от неурожая” начала проводить заседания под эгидой Министерства внутренних дел[141]. По сравнению с почти полным бездействием правительства во время голода 1891–1892 годов, создание Комитета стало большим шагом в направлении организации скоординированной помощи голодающим. Однако большинство царских чиновников остались перекладывать бумажки в своих удобных кабинетах, да и суммы, выделяемые для борьбы с последствиями неурожая, когда речь заходила о реальных деньгах, мешках муки, молоке, колбасе для детей и тому подобном, были просто мизерными. Как всегда, местные общества милосердия были извещены о том, что все денежные переводы, которые они получат, должны считаться ссудами. В ответ добровольцы жаловались: “Для того, чтобы накормить ребенка, требуется всего пять копеек в день!” (Для сравнения: во времена хорошего урожая деревенский поп, отслуживший панихиду, мог рассчитывать на целых три рубля вознаграждения.)
В мае 1907 года газета “Биржевые ведомости” опубликовала отрывок из записей некого врача, посетившего общественную столовую в Симбирской губернии, что на Волге. Доктора сопровождала сотрудница отдела здравоохранения местного земства, начавшая обзорную экскурсию с сухих фактов: каждый день в столовой кормили от сорока до пятидесяти детей. Обычно в рационе не было мяса, зато был горячий суп, каша или чай с сахаром. Средства, которые сделали эти бесплатные обеды возможными, заканчивались, заканчивались и запаса муки, присланные из Москвы. Обеспечивать пропитанием еще и взрослых было практически нереально. По словам сотрудницы земства, если матери вообще приходили в столовую, обычно они пытались унести еду с собой, сберечь ее для детей и в результате были не в состоянии позаботиться о себе. Сотрудница, вздыхая, рассказывала: “Столько смертей, столько мух повсюду! Тут так тяжело, особенно если смотришь на детей. Самые маленькие больше даже не плачут. Они только стонут и стонут так горестно и жалостно, но почти беззвучно”.
Покидая деревню и почти рыдая, доктор оглянулась на разрушенные избы, пыль и на безмолвного, апатичного сироту, единственного уцелевшего члена семьи из десяти человек, которого она решила забрать с собой в город. “Было тихо. И повсюду вокруг виднелись новые могилы, новые кресты без надписей, покинутые, бессловесные, молчаливы”, – писала она[142]. Ее заметки и призывы других столичных гостей апеллировали к совести и всколыхнули сознание прогрессивно настроенных благотворителей в северных областях страны, однако голод все равно унес тысячи жизней крестьян в южных губерниях.
Страдающее население сельской России с одной стороны и утопающий в роскоши двор вкупе с петербуржской политической элитой, развлекавшей себя многочисленными заговорами в преддверии весенних выборов в Думу, – с другой как будто бы обитали на разных планетах. Пропасть между нищетой и богатством в дореволюционном российском обществе была такой громадной, а физическое расстояние между столицей и охваченной бедствием провинцией столь велико, что крестьяне, вероятнее всего, чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. В глазах своих бедных подданных царь был абстракцией, человеком, как будто не присутствовавшем в мире людей, вознесенным так высоко, что его участие в их повседневной жизни и помыслить было невозможно. Сам последний российский самодержец, кажется, всем сердцем разделял это представление. Несмотря на растущее давление либеральных кругов и реформирующегося среднего класса, пытавшихся обратить внимание царя на обездоленные массы, Николай II держался отстраненно. Для него куда важнее была идея духовного единства с нацией, чем приземленные заботы, сопряженные с реальным управлением страной.
Правление его началось с катастрофы, которая во всей неприглядности явила миру отстраненность и холодность нового царя. В мае 1896 года в дни торжеств по случаю коронации Николая II проходили массовые народные гулянья. Накануне, горя желанием принять участие в увеселениях, огромная толпа собралась на Ходынском поле на окраине Москвы, возможно, привлеченная рассказами о бесплатном угощении и раздачи памятных сувениров. Однако место не было должным образом подготовлено к столь массовому скоплению людей, и вскоре разнеслись слухи, что запас памятных расписных кружек и колбасы уже практически иссяк. Толпа напирала, пытаясь прорваться к ларькам с “царскими гостинцами”, началась паника. Более 1300 человек было задавлено насмерть, еще несколько сотен были покалечены. Несмотря на произошедшее, царь не отказался от своих светских обязательств, и торжества, начавшиеся концертом на Ходынском поле в присутствие императора и завершившиеся вечерним балом у французского посланника, продолжились как ни в чем не бывало[143]. Реакция Николая II на трагедию на Ходынке возмутила российское общество, и события последующего десятилетия показали, что Россия так и не простила Николаю случившегося в день его коронации.
Однако неспособность самодержавия обеспечить элементарную безопасность и сохранить человеческие жизни не исчерпывалась простой халатностью. Многие меры, целенаправленно проводимые в жизнь российским правящим классом, казалось, специально были выстроены таким образом, чтобы способствовать повышенной смертности. Дело было не в абстрактной “системе”, считавшей ниже своего достоинства совершать лишние усилия для сохранения человеческой жизни, а в modus operandi влиятельных сановников, определявших политику правительства, слепо преданных делу сохранения определенного типа абсолютной монархии, определенного статуса империи и освещенных веками правил общественного поведения. В царствование Николая II страна дважды вступала в войну – в 1904 и 1914 годах. В каждом из этих случаев участие России в военном конфликте не было вызвано необходимостью, потому что, воюя, она не защищала себя от вражеской агрессии, а, скорее, отстаивала собственное место в системе международных отношений. В обоих случаях старомодный кодекс чести, бытовавший в офицерском корпусе, и упрямое нежелание отступать дорого обошлись русской армии. Священник 33-го Восточно-Сибирского стрелкового полка и благочинный 9-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии во время Русско-японской войны о. Георгий Шавельский писал: “В массе офицерства царил взгляд, что суть военного дела в храбрости, удальстве, готовности доблестно умереть, а все остальное – не столь важно”[144].
Тот же образ мысли – небрежное, халатное отношение к гибели обычных мужчин и женщин – проявился в действиях правительства при нарастающих общественных беспорядках. В 1905 году и еще раз в 1912-м российские войска откроют огонь по гражданскому населению, лишив жизни сотни мирных граждан. Потрясенное общество, которое все меньше удовлетворяли неизменные оправдания и отговорки царя и министров, все больше погружалось в состояние глубокой апатии. Насилие сделало невозможным мирный, либеральный компромисс между обществом и властью. После расстрела рабочих на Ленских золотых приисках в 1912 году, сотрудник тайной полиции писал: “Никогда еще в обществе не было такой напряженности. Приходится слышать, как люди самым невоздержанным образом говорят о правительстве… Давненько мы не слышали, чтобы так говорили даже в самых крайне левых кругах”[145].
Русско-японская война, начавшаяся в феврале 1904 года, на первый взгляд, велась из-за территорий в Корее и Маньчжурии. Российское правительство в обычной для себя манере рассматривало эту войну как решение внутренних проблем страны. Кампания призвана была стать патриотическим зрелищем, “маленькой победоносной войной”, которой так жаждал министр внутренних дел Вячеслав Константинович фон Плеве и которая смогла бы отвлечь общество от призывных песен революционных сирен. Авантюра, затеянная Плеве, вскоре обернулась катастрофой. Война была дорогостоящим предприятием, которое дополнительным бременем легло на плечи недовольного населения. Среди потерь, понесенных страной, была и утрата – к лету 1905 года – значительной части Балтийского флота, потопленного неприятелем при Порт-Артуре, причем японские судна при этом практически не пострадали. В крупнейших российских городах кадры кинохроники во всех подробностях рассказывали о случившимся потрясенному гражданскому населению, противореча благодушному тону и самоуспокоению официальных заявлений Военного министерства. Российская пропаганда изображала японцев “только хилыми, слабыми, тщедушными подобиями обезьян, желтокожих, косоглазых и почему-то лохматых. Иначе чем «япошки» или «макаки» их не именовали. Им противопоставляли наших солдат ‹…› в виде былинных богатырей”. Однако общественное мнение провести не удалось: “Народ же прекрасно знал цену всему такому!”[146] Вся империя почувствовала на себе бремя военного позора. Как только с фронта начали просачиваться данные о первых российских потерях, горе пришло в российские семьи. К лету 1904 года начались беспорядки возле призывных пунктов и демонстрации разъяренных протестующих на всем пути следования поездов, увозивших войска за девять с половиной тысяч километров от дома на дальневосточный фронт[147].
Самому Плеве не довелось увидеть последствий своей политики. В июле 1904 года он был убит эсерами[148]. Его преемникам не удалось потушить протесты голодных рабочих, охваченных тревогой призывников, радикальных деятелей профсоюзов, либералов, интеллектуалов и сторонников введения конституционной формы правления. Когда новости о череде поражений российского оружия достигли столицы, группа рабочих под предводительством отца Георгия Гапона решила выйти на мирную демонстрацию протеста к воротам Зимнего дворца. В начале января 1905 года, когда стало казаться, что подобное шествие обернется столкновением с силами государственной власти, сам Гапон, связанный с сотрудниками тайной полиции, попытался отменить демонстрацию. Его задача состояла в том, чтобы сдержать радикальные настроения рабочих, а не разжечь их. К несчастью, самодержцу по ту сторону баррикад была абсолютно чужда сама идея умиротворения.
Шествие состоялось 9 января 1905 года. Организаторы все еще надеялись, что оно будет мирным, поэтому посоветовали участникам взять с собой иконы и кресты, внимательно следить за тем, чтобы в шеренгах демонстрантов не внедрились провокаторы и подстрекатели, и настраивали мужчин и женщин, которых выйти на шествие заставили голод и бедность, на смиренный, просительный лад. Но все было тщетно. Печально известное Кровавое воскресенье закончилось на Дворцовой площади. Конные армейские подразделения открыли огонь по рядам собравшихся напротив Зимнего дворца демонстрантов, распевавших “Боже, царя храни!”, а другие армейские части, пришпорив лошадей, направили их в самую гущу охваченной паникой толпы, рубили шашками людей, затаптывали упавших громыхавшими копытами своих коней. Даже те из демонстрантов, кто направлялся к Зимнему дворцу через Троицкий мост и по улицам, ведущим к Неве из рабочих кварталов Выборгской стороны, попали под огонь группы солдат, получивших приказ преградить им путь любой ценой. Точное число погибших в тот день неизвестно, по приблизительным оценкам оно составило от 200 до 5000 человек[149]. Эта бессердечная расправа повергла страну в ужас.
Правительство подготовилось к инициированному им самим насилию. Накануне вечером больницы получили предупреждение о том, что им следует ожидать поступления раненых. Однако масштаб кровавого побоища все равно оказался несоразмерным возможностям городской системы медицинской помощи. Тела погибших и раненых свозили в больницы, где еще оставались места. Многих доставляли незнакомые, так что семьи теряли с ранеными связь. В страхе за пропавшего ребенка или брата родственники были вынуждены ходить от больницы к больнице, умоляя измученных служащих еще раз проверить больничные записи, отчаянно борясь со страхом, что ответ на их запрос на самом деле покоится в морге. На следующий и через день больницы вывесили списки поступивших, но и они были неполными[150].
Цинизм правительства – вот от чего до сих пор леденеет кровь. Как будто сам по себе приказ открыть огонь на поражение был недостаточным свидетельством безжалостного отношения к жизням гражданского населения, правительство целенаправленно замалчивало и скрывало правду о январском побоище. В первые недели после 9 января от властей удалось добиться заявления полиции об обстоятельствах гибели некоторых демонстрантов, однако никто так и не предложил рассказать всю правду о случившемся. В ночь на 11 января тела убитых тайно собрали по всем городским моргам и по железной дороге под усиленной охраной доставили к секретному месту захоронения на Преображенском кладбище[151]. Для осиротевших семей боль утраты теперь усугубилась вечной неопределенностью. Тела так и не были по-человечески похоронены так что у родственников погибших отняли возможность поговорить с покойными возле их безымянной могилы, помянуть их традиционной стопкой водки и сваренным вкрутую яйцом, помолиться за упокой их душ, рассыпать погребальную землю. Единственная длинная братская могила, в которой нашли последнее пристанище тела жертв Кровавого воскресенья, находилась далеко от центра города: чтобы добраться сюда на неторопливом пригородном поезде, требовалось в среднем два часа. Власти надеялись, что это место не превратится в общественную площадку или публичную трибуну для политических акций и заявлений, что его удаленность затруднит регулярные посещения кладбища, которые по привычке, усвоенной с детства, все еще совершали даже городские жители, потерявшие родственников.
Кровавое воскресенье стало катализатором стачек, акций протеста и беспорядков по всей империи. Революция 1905 года – восстание, начавшееся без какой-либо формальной организации и подготовки, – вынудит Николая II пойти на серию уступок, в числе которых с большой неохотой дарованный знаменитый Октябрьский манифест. Россия получала свой парламент, Государственную думу, хотя и с ограниченными полномочиями, и в стране наконец-то должны были состояться выборы. Готовилась также аграрная реформа, в рамках которой планировалось простить долги сельских обществ по ссудам из продовольственного капитала, выдаваемых во время неурожая. Однако уступки сопровождались угрозами. Более масштабные цели набиравшей в городе ход революции – требования увеличения заработной платы и улучшения бытовых условий, попытка создания профсоюзной демократии – не были услышаны и реализованы. Манифесту суждено было стать последним словом самодержавия. Начиная с 1906 года новый премьер-министр Петр Столыпин начал восстанавливать полномочия правительства серией шокирующих карательных мер. В ответ на эсеровский террор, захлестнувший страну в первое десятилетие XX века и унесший жизни нескольких тысяч человек (в числе которых, например, было более сотни жертв неудачного покушения на самого Столыпина, включая его двоих малолетних детей), Столыпин ввел упрощенное судопроизводство для захваченных на месте преступления террористов, поджигателей, грабителей и разбойников. Он с таким энтузиазмом отправлял осужденных военно-полевыми судами за терроризм, участие в бунте и поджоги усадеб на виселицу, что веревочную петлю прозвали в народе “столыпинским галстуком”.
Столыпин начал реализовывать программу реформ, в частности, осторожную приватизацию сельского хозяйства и освобождение наиболее предприимчивых крестьян от удушающих пут сельской общины, суеверий, нужды и системы трехпольного севооборота. Его план заключался в том, чтобы дать некоторым крестьянам возможность консолидировать свои земельные наделы и возделывать их в качестве мелких землевладельцев-предпринимателей. Столыпин верил, что через несколько десятилетий подобного рода реформы в сочетании с конституционной реформой и ростом экономики смогут изменить политический пейзаж России. Однако для реализации этой схемы требовались время и гражданский мир. Столыпинская реакция на революционное насилие была продиктована патерналистской яростью, однако угроза, которую представляли для российского общества некоторые революционные группы, была в его глазах абсолютно реальной. Разочарованные тем, сколь незначительными оказались завоевания 1905 года, и одновременно приободренные тем эффектом, который возымела кампания покушений на крупных чиновников, некоторые политические силы и партии, входившие в революционное движение, не отказались от террора даже после Октябрьского манифеста. С октября 1905 года по сентябрь 1906-го 3611 царских чиновников были убиты или ранены в результате террористических акций революционеров. Отряды главных революционных партий не только позволяли себе совершать политические убийства самых высокопоставленных чиновников, но и организовывали налеты на банки и другие операции по “экспроприации” (как они это называли) средств для финансирования собственной деятельности. Приводя примеры из истории Европы, Индии и Соединенных Штатов, одна из исследовательниц российского революционного экстремизма пишет: “Насилие, обращающее на себя внимание в империи Романовых, не было исключительно российским явлением, однако нигде более оно не получило такого распространения, как в царской России”[152].
Но правительство предпочитало трактовать слово “террор” достаточно широко. Местные военно-полевые суды были уполномочены приговаривать к высшей мере наказания за самые разнообразные правонарушения, включая акты революционного насилия, убийства из мести и просто убийства, акты мародерства, подрывную деятельность и подстрекательство к мятежу, а также саботаж. Когда дело касалось государственной безопасности, суды могли быть заменены местными комиссиями или даже единственным “судьей”, заседавшим за своим столом в одиночестве с пистолетом под рукой. Публичные казни через повешение были уже не приняты, однако в эти годы смертная казнь превратилась в Российской империи в нечто вроде альтернативного способа гражданского воспитания[153]. Закон предполагал некоторые послабления для лиц младше двадцати одного года и старше семидесяти лет, к которым не применялась смертная казнь, но во всех остальных случаях он был абсолютно безжалостным. Если на момент вынесения приговора женщина ожидала ребенка, приговор приводили в исполнение спустя сорок дней после родов[154]. А тем временем церковь по-прежнему призывала к набожности, преданности царю, а церковные иерархи не считали существование смертной казни проблемой. Напротив, если что-то и беспокоило их помимо разрушительного действия прогресса, рационализма и будущего прихода Антихриста, так это упразднение публичной казни как образовательного, назидательного зрелища, столь необходимой в эпоху нравственного кризиса и морального упадка[155].
Именно на основании эпизодов подобных столыпинской реакции у историков сложилось представление о царской России как о ярком примере репрессивной государственности, как о режиме, заслужившем свою нелестную репутацию жестокостью и внедрением упрощенного делопроизводства без должного судебного разбирательства. В то время в России было немало реформаторов, которые согласились бы с подобной оценкой, и к началу XX века они успели собрать впечатляющее количество доказательств в ее поддержку. Молодой Михаил Николаевич Гернет, известный юрист-криминолог, занимавшийся уголовной статистикой и социальными аспектами преступности, составил карту, которая наглядно иллюстрировала этот тезис. Страны мира на этой карте были закрашены в различные оттенки серого, от светлого к темному, а стилизованные изображения петли, гильотины и ружья на территории каждой страны уточняли способ, которым правительства стран приводили смертные приговоры в исполнение. Среди 38 государств и колоний, по которым была известна статистика, Российская империя держала первенство по числу казненных. Если верить цифрам, приведенным Гернетом, в 1908 году здесь было приговорено к смертной казни 1959 человек, а казнено 1340 человек. Поскольку у Гернета нет статистических данных о том, сколько человек из 505 приговоренных к смертной казни в Британской Индии в 1906 году было казнено, то второе место в своей таблице он отводит Соединенным Штатам, хотя с куда более скромным результатом. В указанный год было казнено лишь 116 американских граждан[156].
Книга Гернета все же отчасти была задумана как полемическое высказывание против смертной казни, и, несмотря на красочные ссылки и иллюстрации, некоторые вопросы автор решил не затрагивать. Самым важным упущенным автором обстоятельством было то, что статистика применения российским самодержавием смертной казни была самой удручающей по сравнению с другими странами Европы лишь в определенные моменты истории[157]. Насилие, через которое часто определяют российскую политическую культуру, на самом деле было тесно связано с важнейшими поворотными моментами в истории страны. Например, с 1850 по 1862 год, до и сразу после освобождения крепостных крестьян, в России заметно выросло число повешенных. Перегибы 1906–1910 годов последовали за неудавшейся революцией 1905 года. История насилия в России, ровно как и национальная статистика в области народного просвещения или здравоохранения, отнюдь не была беспросветным мраком и ужасом. Но все вышесказанное тем не менее совсем не снимает бремя ответственности с николаевского режима. У российских самодержцев всегда был выбор, как поступить: в конце концов, они были одними из самых образованных людей Европы и, пожелай они этого, могли обратиться за помощью к превосходным политическим советникам. Именно поэтому тот факт, что выбор был сделан в пользу наиболее пагубных и разрушительных политических мер, отнюдь не лестно говорит о правительстве Николая II.
Насилие, применяемое государством, негативно воздействовало на все общество в целом. Оно толкало на крайние ответные меры не только недовольных режимом, но даже реформаторов. Для сторонников террора зрелище санкционированной властью жестокости служило пропагандистским бонусом, подтверждая самые худшие предсказания активистов революционного движения. Однако призывы к восстанию были лишь одной из многих возможных реакций в ответ на происходящее в стране. Куда более распространенной реакцией было охватившее общество немое отчаяние. Революционеры, по крайней мере, верили, что однажды дела в стране сдвинутся с мертвой точки, однако далеко не все были так оптимистичны. В 1913 году, накануне Первой мировой войны, юрист и криминалист Николай Степанович Таганцев написал страстный очерк о том, к чему приводят узаконенные убийства. В нем он убеждал читателя, что он отнюдь не противник перемен и приветствует российское XX столетие как новое, сияющее начало, сулящее избавление от невежества, варварства и беззакония, что омрачали прошлое страны. С другой стороны, писал Таганцев, “тяжело думать, а еще тяжелее чувствовать, что заря обновленного строя заалела кровавыми всполохами”[158].
Главный тезис Таганцева состоял в том, что, прибегая к насилию, государство подает дурной пример всему обществу. Проблема заключалась не столько в смерти как таковой, сколько в зрелище хладнокровного карательного убийства, убийства как воздаяния за преступление. Следующие слова Таганцева могли бы послужить более общим размышлением о смерти в России и в его время, и в наше:
Массовые гибели людей в жизни государства встречаются нередко: они неизбежны и неотвратимы, как зло природы; они необходимы или, по крайней мере, считаются необходимыми как зло государственной жизни. Землетрясения, разливы вод, какое-либо другое стихийное бедствие могут сопровождаться и часто сопровождаются гибелью тысяч и даже десятков тысяч людей. Они также леденят человеческую душу; они также несут, без разбора, страдания, увечья, смерть. ‹…› А любая современная война, даже какое-либо одно сражение с современными усовершенствованными орудиями человекоистребления ‹…› разве не унесли они безвозвратно жизнь и здоровье многих тысяч погибших во имя исполнения долга перед родиной. ‹…› А жертвы ненасытного современного Молоха – тяжелых экономических условий, нищеты? Разве не считаются тысячами, десятками тысяч эти ни в чем неповинные дети, юноши, взрослые, преждевременно гибнущие от голода и недоедания, от отсутствия здорового воздуха и питания, от привитых им социальными условиями жизни болезней и пороков и т. д. и т. п. Вот почему я и повторяю: ужасны не цифры казненных, цифры торжества смерти, сами по себе, а страшны те последствия, которые эти казни внесли в нашу государственную жизнь; так думается мне, по крайней мере, с моей юридической точки зрения[159].
Говоря о последствиях, Таганцев помимо прочего имел в виду то зрелище, которое представляли собой камеры смертников в царской России, со многими сотнями людей, ежедневно ожидавших казни, то презрение к человеческому достоинству, которое эти камеры собой олицетворяли, а также фаталистское отношение, которое простые люди демонстрировали перед лицом неограниченного государственного насилия. Однако воздействие смертной казни на состояние российского общества не было исключительно вопросом абстрактным или имеющим отношение к морали. Как юрист, выступавший за отмену смертной казни, Таганцев не мог не знать о волне убийств среди детей, прокатившейся по России с 1908 по 1914 год. Проблема заключалась в том, что детские игры в “смертную казнь”, возникшие под влиянием превалировавших в стране культурных норм, подчас выходили из-под контроля и заканчивались трагически. Так, пятилетняя девочка случайно задушила своего трехлетнего брата, после того как тот был приговорен к смерти на “суде”, который устроили дети. В других случаях школьные хулиганы-задиры разыгрывали более масштабные “судебные процессы” (иногда они называли их “военно-полевыми судами”) и приговаривали одноклассников к “смерти”. Если некоторых детей охватывала паника или хулиганы заходили в своих играх слишком далеко, “приговор” отнюдь не “понарошку” приводился в исполнение на глазах у до смерти перепуганных свидетелей[160].
Но игры в смертную казнь были не единственным увлечением школьников. После 1905 года страну охватила эпидемия подростковых самоубийств. Начиная с 1890-х годов Министерство образования хранило материалы, относящиеся к этому вопросу, однако в то время число самоубийств было в общем и целом незначительным. Так, в 1899 покончили с собой только 17 детей. Однако уже в 1908 году лишь за один месяц в Петербурге был зафиксирован 41 случай самоубийства среди школьников. Даже газеты начали поговаривать о настоящей эпидемии, пик которой пришелся на 1907–1911 годы, хотя проблема преследовала российские школы вплоть до начала Первой мировой войны. В целом в обществе господствовала точка зрения официальной церкви, согласно которой добровольный уход из жизни был свидетельством греховной слабости. Стрелявшиеся или вешавшиеся подростки были лишены “христианских принципов” или “страдали патологическими отклонениями в развитии”[161]. По словам автора статьи в “Современном обозрении”, посвященной проблеме детских самоубийств, “только осознание нашей ответственности перед Господом за наши деяния на земле, а также осознание каждым необходимости нести, не сетуя, свой крест” может спасти молодежь от саморазрушения. Другое издание утверждало, что самоубийство, ставшее модным поветрием, было свидетельством легкомысленного, безразличного отношения к жизни и смерти, а также ослабления или даже отсутствия здоровой жизненной энергии[162].
Коллекция предсмертных записок и докладов учителей, собранная самим Министерством образования, подсказывает другую интерпретацию. Возьмем, например, ученическую тетрадь для записи латинских слов, в начале которой каждая страница аккуратно расчерчена на две колонки для тщательно записанных русских слов (“люблю”, “думаю”) и их латинских эквивалентов (“amo”, “cogito”). Однако страницы с обратной стороны тетради покрыты кляксами и несвязными закорючками, каракулями виселиц, черепов и крестов. Последняя запись в той части тетради, где содержались новые слова, выведена причудливым готическим шрифтом: “Что есть Идеал?”[163] Учителя, готовившие доклад о погибшем мальчике, оказались в полной растерянности, пытаясь найти простую причину его отчаяния. Другая предсмертная записка, оставленная девочкой-подростком, завершалась вопросом: “Какой смысл может иметь жизнь, если чужие, грубые люди могут в любой момент отобрать ее у тебя?”[164]
Позднее эксперты свяжут эпидемию самоубийств с так называемым “эффектом Вертера”, общепризнанным паттерном подражания, согласно которому определенные резонансные случаи вызывают всплеск подражательных самоубийств[165]. Однако уже во времена описываемых событий знающие люди либеральных взглядов, придерживавшиеся этого более просвещенного взгляда на проблему, соглашались с тем, что недуг был свидетельством общего кризиса. Отчасти дело было в суровой атмосфере, царившей в русских гимназиях и внушавшей некоторым детям такой ужас, что, по их собственному признанию, многие предпочли бы умереть, нежели провалиться на экзамене; отчасти – в пронизанной жестокостью глубоко укоренившейся практике телесных наказаний, драк на детских площадках, дуэльных поединков[166]. В некоторых предсмертных записках упоминаются и обычные тревоги подростков: неразделенная любовь, ощущение собственной никчемности, нереализованная жажда приключений. Однако влияние политики, замешанной на конфронтации и противоборстве, оказалось всепроникающим. В некоторых школах войны молодежных группировок отражали антагонизм между различными политическими силами в стране. Существовали группы, называвшие себя черносотенцами (вслед за крайне правыми молодчиками из Союза русского народа или Союза Михаила Архангела, действовавшими в то время), которые нападали на так называемых красных. Те из студентов, кто отказывался примыкать к каким-либо группам, подвергались бойкоту и травле, в то время как противоборствующие стороны не просто враждовали и воевали, но и при любых обстоятельствах отказывались встречаться друг с другом в школе или где-либо еще[167].
Эти драмы, разворачивавшиеся в мире детей, служили клапаном, через который относительно привилегированные мальчики и девочки (а они были привилегированными, ведь они, по крайней мере, учились в школе) могли дать выход своим тревогам, порожденным насилием взрослого мира. Максим Горький без колебаний обвинил царизм и порожденное им институционное и государственное насилие в остервенении и жестокости, которые позднее омрачат революцию. В 1917 году он напишет: “Порицая наш народ за ‹…› всяческую его дикость и невежество, я помню: иным он не мог быть. Условия, среди которых он жил, не могли воспитать в нем ни уважения к личности, ни сознания прав гражданина, ни чувства справедливости – это были условия полного бесправия, угнетения человека, бесстыднейшей лжи и зверской жестокости”[168].
Но причинами этой “зверской жестокости” были не только государственная политика и бесчувственность судебной системы. В провинции по-прежнему сохранялась практика публичных порок розгами, что едва ли способствовало пробуждению в народе благодушия и миролюбия. Экономическая ситуация также порождала отчаяние, чувство незащищенности, насилие. Ярость, которая двигала группой крестьян, поджигавших помещичью усадьбу или другую собственность – в деревне это называлось “пустить красного петуха”, – была в равной степени следствием экономической и социальной неопределенности и политического неравноправия, а также исключенности из политики. Бедность, эта неотъемлемая часть крестьянской жизни, оборачивалась горечью и ожесточением из-за разбитых надежд, долгов и тех непредвиденных тревог и трудностей, которые со всей неизбежностью сопровождали мучительный поворот экономики к урбанизации и промышленному развитию. Давление тех же самых обстоятельств испытывали на себе и жители городов: в их жизнь теперь вошли конфликты между коренным населением и новоприбывшими мигрантами, недоверие и подозрительность относительно справедливости оплаты труда, страх заговоров и изменничества.
Без сомнения, самым уродливым проявлением этих трений и общественной напряженности стали погромы. Само слово “погром” имеет хождение и в русском языке, и в идише, его корневое значение – “разрушение”. Многочисленные холерные бунты XIX века, самый страшный из которых повлек за собой убийство доктора Молчанова, описывали как погром, направленный против медицины и вызывавший в воображении образы разгневанной толпы, нерационального насилия и издевательств над теми, кого толпа выбрала на роль козла отпущения. Однако чаще всего жертвами провинциального невежества, шовинизма и жестокости становились бессменные и легко распознаваемые чужаки. Если дело происходило в регионах, где евреям было разрешено проживать, то объектами нападения обычно становились именно они. У антисемитизма в российской империи была долгая история, однако погромы конца XIX и начала XX веков не были лишь выражением старинной ненависти к чужеродцам. В другие периоды истории евреи и русские, или евреи и украинцы, или поляки и белорусы могли мирно жить бок о бок. В некоторых областях империи городские культуры были построены на взаимодействии большинства – например, украинского – и крупных меньшинств, которые могли быть не только еврейскими, но и армянскими, немецкими, польскими или греческими, причем многие из этих меньшинств индентифицировались не по этническому происхождению как таковому, а по культуре или превалирующему роду занятий. У погромов были вполне конкретные причины, но, помимо этого, они были доказательством преступной халатности и соучастия отдельных должностных лиц внутри церковной и государственной иерархий.
Поэтому неслучайно все самые страшные нападения на евреев последних лет правления Романовых пришлись на период с 1903 по 1906 год, момент наибольшей общественной напряженности и брожения, вызванных унизительным поражением России в войне с Японией, долгами и нехваткой продовольствия, а также революцией 1905 года. В любом случае для нападений необходим был лишь повод, а уж у желтой антисемитской прессы всегда наготове была какая-нибудь история. Один из самых жестоких погромов того периода – кишиневская пасхальная бойня 1903 года – был спровоцирован убийством 14-летнего Михаила Рыбаченко, труп которого обнаружили в близлежащем городке Дубоссары. Мальчик пропал неделей ранее, после того как сходил с родителями в церковь. Последующее расследование выявило, что его зарезал один из его дядей, однако это не остановило распространение слухов о том, что Рыбаченко стал жертвой еврейского ритуального убийства, причем слухи активно муссировались местной антисемитской прессой. Ножевые ранения на теле убитого объяснялись легендой о якобы бытовавшем среди евреев обычае использовать человеческую кровь для приготовления мацы для Песаха. Слухи становились все более фантастическими: говорили, что на теле найденного мальчика были обнаружены надрезы, тело таинственным образом обескровлено, а рот и глаза зашиты.
Скандал совпал с празднованием православной Пасхи, так что у обывателей было достаточно времени, чтобы посудачить о происшествии. По случаю праздника в Кишинев хлынули толпы крестьян и торговцев, прибывших на традиционную уличную ярмарку. Уже днем в воскресенье 6 апреля из праздничной толпы, собравшейся после церковной службы на главной площади, полетели первые камни в окна еврейских домов и лавок. К вечеру беспорядки затихли, и ночь прошла спокойно. Но на следующий же день события приняли зловещий оборот. Развернувшаяся бойня была делом рук приехавших крестьян и рыночных хулиганов, которые быстро напились, разбушевались и начали громить еврейское имущество. Погромщики били окна, поджигали дома и базарные лавки, но в конечном счете стали охотиться за людьми: гонялись за евреями, мужчинами и женщинами, по улицам города, не обращая никакого внимания на мольбы своих жертв и вопивших от ужаса зевак. Несколько десятков мужчин и женщин были забиты до смерти[169].
Среди причин кишиневской бойни были и алкоголь, и слепая ярость, овладевшая нападавшими, однако эта история началась не на торговых улочках Кишинева и там не закончилась. Авторы реакционных памфлетов, подстрекавших к насилию, так и не были наказаны, а местные власти продолжали мириться с их деятельностью или просто закрывать на нее глаза. Сам Николай II не выступил с осуждением антисемитизма. Пометки, сделанные его рукой на документах того периода, дают все основания предполагать, что он, как и многие его советники, считал, что ответственность за произошедшее несут сами евреи. Царские чиновники могли бы действовать более оперативно. Например, они могли бы выступить с публичным опровержением хорошо известного им слуха о том, что царь лично санкционировал убийства евреев. Позднее власти так же хорошо были осведомлены о еще одном расхожем обвинении против евреев: в народе поговаривали, что те якобы продают оружие неприятелю – японцам. Мы не станем перечислять авторов многочисленных теорий заговоров, которые продолжают окутывать погромы 1903–1906 годов. Однако тот факт, что власти отказались выступить с краткими официальными заявлениями по этому поводу и произвести хотя бы несколько арестов, говорит сам за себя.
Последствия проявления такой ожесточенности и насилия еще долго давали о себе знать. Погромы продолжились и после 1917 года и стали одним из самых отвратительных воплощений экономической фрустрации, шовинизма и злобы. Во время Гражданской войны вновь заявили о себе и другие формы жестокости, многие из которых восходят к деревенским междоусобицам, ревности и подозрительности. Страдания и невзгоды, которыми обернулась Первая мировая война, а также паника, связанная с обвалом всех общественных институтов после 1917 года, в свою очередь, существенно повлияли и на первые постреволюционные годы. Было бы неверно слишком настаивать на преемственности между старым миром и новым, однако опыт, приобретенный многими русскими людьми в последние годы царского режима, оказалось не так-то просто забыть. Привычки, выработанные в этот период, и ярость, копившаяся в течение пятидесяти лет реакции, не могли просто так испариться и исчезнуть даже в пылу революции. Навыки, приобретенные на службе в полиции при одном режиме, могли найти себе применение на службе другому; солдаты, знакомые не понаслышке с казачьими нагайками и шашками, уже не могли забыть, каким действенным инструментом они были.
Последующая история будет полна трагической иронии. Одно из ее проявлений связано с тем самым кладбищем, на котором в общей могиле покоились тела жертв Кровавого воскресенья. В 1929 году советское правительство организовало здесь церемонию перезахоронения останков погибших. По этому случаю на кладбище привезли одетых в мундиры курсантов, чтобы те красивыми шеренгами встали возле ямы. Курсанты были слишком молоды, чтобы помнить о побоище 1905 года. Тела погибших эксгумировали и разложили по гробам, задрапированным алыми флагами, цвета крови жертв революции[170]. Под оружейный салют участники траурной церемонии сняли шапки. Но были и другие горевавшие, скорбевшие о более недавних утратах, которые не присутствовали на церемонии. Начиная с 1918 года Преображенское кладбище, ныне переименованное в память о жертвах 9-го января и украшенное яркими стягами, использовалось ЧК как удобное место для захоронения расстрелянных контрреволюционеров, террористов, представителей буржуазии и всех тех, кому не повезло встать у ЧК на пути[171]. Эти захоронения тоже проводились в обстановке секретности, и точную численность убитых и их имена еще предстоит установить.
Юрист Таганцев был среди тех, кто, должно быть, задавался вопросом, насколько в действительности изменилась страна после революции 1917 года. Ему было почти восемьдесят лет, он был стар и слаб и давно ушел на покой, но вернулся к делам, чтобы вновь публично выступить с прошением о смягчении участи приговоренным к смертной казни. На дворе стоял 1921 год, большевики только что арестовали его сына Владимира. Молодой Таганцев был профессором геологии, уважаемая фигура в петербургском академическом истеблишменте. Обвинения в заговоре, выдвинутые против него, были не очень вразумительными. Было неясно и то, почему именно Владимир Таганцев и небольшая группа людей, расстрелянных вместе с ним, были выбраны как показательный пример революционного правосудия. Самые страшные годы Гражданской войны уходили в прошлое, а у обвиняемых не было никаких явных связей с контрреволюционными кругами. И тем не менее, невзирая на протесты отца, в августе 1921 года молодой Таганцев был расстрелян[172]. Среди тех, кто разделил в этот день его участь, был Николай Гумилев, поэт и бывший муж Анны Ахматовой, женщины, которой суждено было пережить годы сталинского режима с отточенным как клинок, спокойным и несгибаемым мужеством. В 1919 году она написала:
Чем хуже этот век предшествующих? Разве Тем, что в чаду печали и тревог Он к самой черной прикоснулся язве, Но исцелить ее не мог. Еще на западе земное солнце светит И кровли городов в его лучах блестят, А здесь уж белая дома крестами метит И кличет воронов, и вороны летят[173].Глава 3 Дворец свободы
Сегодня эпоха большевизма кажется чужой и далекой. Даже в теперешней России революционная программа воспринимается как нечто абсурдное. Бравурные лозунги большевиков утратили свое очарование, а их идеология, провозгласившая своей целью социальную справедливость, свободу от нужды, окончание классовой борьбы и международных конфликтов и совершенствование человеческого общества на земле, кажется наивной, а возможно, и изначально обреченной мечтой. В наше время большевистская революция трактуется в лучшем случае как неудачный, плохо закончившийся эксперимент. В этой неудаче обвиняют Маркса и Энгельса, а также революционную элиту, чьи идеи, по мнению сегодняшних россиян, были выношены в европейском изгнании, в длительных пеших прогулках в Альпах, а отнюдь не на заводах и в тюрьмах царской империи. Намек вполне прозрачный: большевистское правительство было навязано стране извне, и ответственны за него должны быть не “мы”, а “они”. Это правительство не было чем-то органически присущим России, как считают сегодня многие ее граждане, это был “режим”, созданный, вероятно, иностранцами, чужаками, фанатиками, чья коллективная чуждая злая воля и породила это историческое безумие.
Подобное перетолкование прошлого в странах бывшего Советского Союза не свидетельствует ни о смещении акцентов и приоритетов, ни об открытии иной линии в дискуссии о прошлом: по сути, это полная инверсия предыдущей догмы, ее разворот на 180 градусов. Стремительность, с которой целое мировоззрение за одну ночь утратило свою силу, и то, каким полным было это развенчание, оказалось неожиданностью едва ли не для всех свидетелей этой трансформации, хотя на самом деле не должно бы было никого удивить. В конце концов, революция означает именно такого рода переворот в области языка, коммуникации и идей, а прежде всего, в области памяти, переворот, который совершается прямо перед глазами живых свидетелей даже в эпоху кинематографа и звукозаписи. И тем не менее эти резкие перемены не затронули неисследованный образ мысли, сохранившийся благодаря живучей системе социальных взаимоотношений между людьми, системе взаимной поддержки и защиты, не уничтожили многих паттернов отношения к смертности и смерти, к обрядам и загробной жизни.
То же самое можно сказать и о перевороте 1917 года. Большевистская революция никогда не исчерпывалась исключительно марксизмом, и хотя всего лишь за несколько месяцев ей удалось низвергнуть старый мир, часть привычек и верований этого мира уцелела и продолжала оказывать влияние на отдельные аспекты советской культуры на протяжении значительной части XX века. Единственной практической целью многих сторонников революции, по крайней мере на начальном ее этапе, было свержение самодержавия. Дальнейшие шаги не всегда были ясны, что уж говорить об их согласованности! В то время как миллионы верили, что вот-вот построят совершенно новую жизнь, создадут принципиально иное общественное устройство, переменам в одних сферах придавалось первоочередное значение, а другие стороны жизни были по большей части оставлены вообще без внимания.
Настоящим камнем преткновения для большевистских идеологов оказалась религия. Некоторые хотели увидеть ее полностью искорененной, но были и те, кто считал, что религия не имеет непосредственного отношения к актуальной политической борьбе. Большинство не проявляло никакого исследовательского интереса к различным формам восприятия смерти, хотя некоторые энтузиасты разрабатывали идеи преодоления смерти, переосмысления загробной жизни, рационализации захоронений, предлагали гимны, лозунги и новые формы погребальной архитектуры. В своем отношении к смерти революционное движение могло быть на удивление традиционным, в сущности практически полностью позаимствовав хорошо известную религиозную концепцию мученичества. Революционные похоронные обряды, имевшие столь огромное значение для тех, кто в них участвовал, сложились под влиянием не только иконографии европейского социалистического движения, но и буржуазной моды своего времени. Как и любой другой аспект массовой культуры того периода, эти похоронные ритуалы несли на себе печать коллективного опыта Первой мировой войны и тех образов страдания, которые можно было сделать эстетически более привлекательными лишь при помощи отсылок к героизму, мученичеству и лучшему будущему. Обращение со смертью было тем аспектом большевистской культуры, который в равной степени наследовал русской почве, вскормившей его, и научной марксистской идеологии.
Собственная интернационалистская риторика большевиков намеренно затемняла понимание реального положения дел. Русская революция изначально была призвана стать символом, примером для пролетариев всех стран, абсолютом, отмечавшим наступление новой необратимой исторической эпохи во всем мире. Польская марксистка Роза Люксембург, лидер радикального течения социалистического движения Германии, куда она переехала в 1898 году, одной из первых приветствовала революцию именно на этих основаниях. В 1918 году из своей камеры в берлинской тюрьме она писала: “Октябрьское восстание не только спасло русскую революцию, но оно также спасло честь международного социализма”[174].
В последующие годы советские историки хорошо потрудились над этим мифом. Сложное переплетение крестьянских войн и городских бунтов, национальных освободительных движений, безумных фантазий, вдохновленных милленаризмом, а также самых разнообразных кампаний и политических платформ – социалистической, феминистской, антиклерикальной, профсоюзной, демократической, – привлекавших образованных сторонников, прекрасно осведомленных о реальных социальных и экономических проблемах в стране, было упрощено и подавалось в новой упаковке “героической борьбы пролетариата и бедного крестьянства под руководством Коммунистической партии Советского Союза, партии большевиков”. В результате получился запоминающийся исторический нарратив, ставший достоянием всего человечества, а не просто очередной русской сказкой. Его основные персонажи, их цели и сюжетные коллизии были всем хорошо известны.
У большинства главных действующих лиц и событий в этой драме вполне стандартная роль: они предстают плоскими, картонными, предсказуемыми фигурами, как персонажи комедии масок или архетипические герои классической пьесы. Из всех них нам лучше всего знаком Ленин. В то время, что я пишу эти строки, вы еще можете успеть, если поторопитесь, навестить его в мавзолее. В наши дни вас уже не будут осматривать при входе солдаты, как осматривали в свое время меня, обращаясь при этом довольно бесцеремонно, пока, наконец, вы не выпрямитесь, не вынете руки из карманов и не поправите галстук. Смеяться внутри мавзолея до сих пор считается неприличным, а – как знать – вас вполне может разобрать смех. Но не исключены и слезы, и своего рода смятение, душевный дискомфорт: ведь вот же он, лежит перед вами в электрическом свете – законсервированный, выставленный на всеобщее обозрение, бессловесный – маленький лысоватый человек с рыжей бородкой. Сохраненный для потомков холодный анахронизм.
Многое должно измениться в стране, чтобы вы не обнаружили в очереди подле себя плачущую пожилую женщину, для которой Ленин по-прежнему остается героем. “У него было столько энергии, – говорит она. – Такие глаза! Он был так предан партии и ее делу, совершенно не щадил себя, служа революции!” Старые фильмы подтверждают ее слова. Даже немой кинохронике удается передать страстность вождя революции, выступающего с речью. Вот он в зале какого-то учреждения или в театре, и публика восторженно внимает каждому его слову. Он говорит без бумажки, верхняя часть его туловища постоянно в движении, взгляд ни на секунду не замирает. Он крепко держится за трибуну и пронзает воздух указательным пальцем, сжимает руки в кулаки, демонстрируя великолепную уверенность в себе. Пленка черно-белая, но вы и так знаете, что стяг за его спиной не может быть никакого другого цвета, только красного, и на нем главный лозунг эпохи: “ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!”
Нетрудно пересказать простую историю, составленную последователями Ленина. К 1914 году гнет царизма уже явил себя во всей неприглядности, либералы теряют позиции, и тут империя решает ввязаться в войну. Ее исход предрешен, потому что война эта империалистическая, очередная дурь капиталистической системы, а Россия не готова к противостоянию: ее промышленность недостаточно развита, а инфраструктура трещит по швам. И в этот момент единственные люди в стране, отдающие себе отчет в происходящем, – марксисты, особенно ленинская фракция, потому что для них слабость России являет собой благоприятную возможность. Революция, которую они намереваются разжечь, должна будет вдохновить пролетариат всего земного шара. Рабочие других европейских стран воспользуются этим шансом – их к этому подтолкнет война, – и тогда капитализм падет и в Германии, и во Франции, и в Великобритании, и в Италии. В Америке также произойдут революции, потому что кризис не замедлит распространиться на другие индустриальные державы, ведь капитализм – это глобальное явление, построенное на множестве уже сложившихся взаимосвязей между разными странами. И вот тогда поднимутся колонии – Индия, Африка, угнетенный и эксплуатируемый народ Китая. По замыслу идеологов в 1917 году, русская революция не должна была ограничиться исключительно Россией. Выступая в том же году за перемирие с Германией, которое, по его словам, призвано было дать старт революционному процессу, Ленин заявил, что “получить перемирие теперь – это значит уже победить весь мир”[175].
Средоточие разворачивающейся драмы – Санкт-Петербург, который на волне патриотических антигерманских настроений переименован в более славянский по звучанию Петроград. Ее герои, помимо партии большевиков, – пролетариат, рабочий класс Петрограда. За время, прошедшее с 1905 года, революционное сознание этих людей значительно укрепилось, память о событиях Кровавого воскресенья все еще жива и вдохновляет рабочих продолжать борьбу. Годы реакции, эксперимента с усеченной версией российского парламентаризма не принесли этим людям ничего сколь бы то ни было ценного. Рабочие, отстраненные от участия в выборах, продолжали подвергаться эксплуатации и угнетению, им было запрещено собираться на своих рабочих местах и в местных советах (изначально советы выбирались прямым открытым голосованием), их контролировали и донимали полиция и черносотенцы. Расправа в 1912 году над участниками мирной демонстрации протеста, рабочими Ленских золотых приисков стала еще одним поворотным событием в этой истории, его жертвы пополнили революционный мартиролог. Но вплоть до начала Первой мировой войны в 1914 году, казалось, скорых перемен в стране ожидать не приходится.
Однако война и крайне неудачный для России ход военной кампании, который быстро подорвал остатки патриотизма рабочих, стали катализатором народного возмущения и мятежа как в столице, так и по всей стране. Восстание зрело три года, и к февралю 1917-го малоимущие слои населения Петрограда были готовы к стихийному выступлению против царя, против его преступной беспечности, против угнетения, голода и катастрофической хроники военных поражений. У восстания нет вожаков – герои революции все как один или в тюрьме, или в ссылке за границей и в Сибири, – но коллективная ярость и отчаяние восставших служат достаточно мощной движущей силой. Повторяя события 1905 года, петроградские рабочие вышли на улицы города 23 февраля (8 марта) 1917 года в честь празднования Международного женского дня, только на этот раз войска не подчиняются приказу и отказываются обеспечивать общественный правопорядок. Через несколько дней вооруженных столкновений и боев, не обошедшихся без кровопролития, царский режим повержен. В конце концов, даже части Императорской гвардии перешли на сторону восставших, развеив фантазии Николая II о возможности контрреволюции. Спустя десять дней после того, как прозвучали первые выстрелы февральского восстания, а именно 2 марта 1917 года, царь, который все еще находится вдали от дома и делает вид, что командует войсками, сядет в вагон своего личного поезда, чтобы составить и подписать манифест об отречении от престола[176].
Петроград погрузился в хаос. В отсутствие какого бы то ни было явного руководства, практически по умолчанию, последние члены Четвертой думы, выбранные в 1912 году самым ограниченным составом избирателей, встретились и договорились временно принять на себя функции верховной власти. Первым главой образованного ими Временного правительства стал князь Георгий Евгеньевич Львов, однако в июле его сменил харизматичный представитель левых сил, 36-летний Александр Керенский, пользовавшийся доверием населения. Он хорош собой, щедр на улыбки и старается завоевать симпатии городских масс. Ему это удается, и на короткое время репутация Временного правительства существенно укрепляется. Однако Керенский не видит себя в качестве постоянного лидера страны (какие бы амбиции на этот счет он ни вынашивал), потому что план Временного правительства заключается в том, чтобы провести выборы в Учредительное собрание, а затем на его основе сформировать легитимное правительство, которое сможет повести Россию к победе и миру.
А тем временем рабочие переформатировали свои советы, включая самый влиятельный из них – Петроградский совет, или Петросовет, представлявший столичных солдат и пролетариат, – и сделали их частью официальной государственной власти. Все это изменит Ленин, как всегда, пойдя по пути упрощения и обрушившись на тот пункт повестки, который лично он считал наиболее важным. В апреле 1917 года в статье для газеты “Правда”, лишь недавно легализованного печатного органа партии, он пишет: “Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти в государстве. ‹…› В высшей степени замечательное своеобразие нашей революции состоит в том, что она создала двоевластие. ‹…› В чем состоит двоевластие? В том, что рядом с Временным правительством, правительством буржуазии, сложилось еще слабое, зачаточное, но все-таки несомненно существующее на деле и растущее другое правительство: Советы рабочих и солдатских депутатов”[177].
Начиная с апреля 1917 года уже ясен курс, которым следует будущий вождь, и он от него не отступит. В этом Ленин отличается от нескольких своих менее влиятельных последователей (наиболее известна история “ренегатов” Григория Зиновьева и Льва Каменева), которые время от времени предпочитают идти на компромисс. Единственным лозунгом, по мнению большевиков, отличавшим их от всех других революционных партий, в том числе от еще одной марксистской фракции – фракции меньшевиков, должен был стать лозунг: “Вся власть Советам!” По мнению Ленина, Временное правительство – “олигархическое, буржуазное, а не общенародное, оно не может дать ни мира, ни хлеба, ни полной свободы”[178]. Выступая против подобного правительства, большевики одновременно выступают против войны, и это тоже сделано намеренно. В конце концов, это “хищническая, империалистическая война”, и ни один социалист не должен поддерживать ее продолжение. “Революционное оборончество” – позиция, которую заняли другие марксистские группы, – не работает. Необходимо “свержение капитала” сначала в России, а затем и в Европе, ибо, покуда он существует, “кончить войну истинно демократическим, не насильническим, миром нельзя”[179].
Сначала ленинская позиция, в которой видится предательство национальных интересов революционной России, не пользуется популярностью, потому что в обществе по-прежнему сильны надежды, что Временному правительству удастся то, что не удалось самодержавию. В течение нескольких месяцев вплоть до середины июня свободная Россия наслаждается иллюзией безграничных возможностей. Однако историю не обманешь. Брусиловскую армию в Галиции ожидает сокрушительное поражение, в России случается транспортный коллапс, начинается нехватка продовольствия, по всей стране происходят стачки и беспорядки. В июле в столице даже вспыхивает мятеж, который, впрочем, оканчивается неудачей и приводит к аресту нескольких ведущих революционеров и переходу Ленина на нелегальное положение. Хотя Июльское восстание дало кратковременный подъем и сплотило людей вокруг Временного правительства, оно не потушило пламя общественного недовольства. Члены основных революционных партий начали обсуждать захват власти и создание на основе социалистической коалиции правительства, которое могло бы объединить меньшевиков (в основе своей таких же марксистов, как и Ленин), эсеров (наследников популистов и радикальных народников 1870-х годов) и, если получится, готовое к взаимодействию крыло ленинских большевиков, в которое входили люди вроде Льва Каменева. Разговоры постепенно сходятся на одной дате, октябрь 1917 года, потому что именно тогда должен состояться Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.
Последующие события служат идеальным материалом для пропаганды. Перед лицом растущего недовольства в среде пролетариата Керенского охватывает паника, и он все чаще и охотнее прибегает к репрессивным мерам. Введена цензура, революционная пресса подвергается нападкам и преследованию, ходят слухи, что готовится государственный переворот. В действительности в сентябре 1917 года Керенский обратился к генералу Лавру Корнилову, консерватору “с львиным сердцем и овечьей головой”, как сказал о нем генерал Алексеев, с просьбой выдвинуть войска в район Петрограда. Идея состояла в том, чтобы напугать, а не развернуть атаку. Однако Корнилов решает воспользоваться моментом и начинает открытый мятеж. Демократическая революция в опасности, Керенскому предстоит сделать выбор. Он решает напрямую обратиться к Петросовету, а также освобождает лидеров революционного движения. Именно они возглавят толпы, которые отправятся навстречу войскам Корнилова, чтобы уговорить их отменить боевую готовность. Братское убеждение – это прекрасно, но на всякий случай у переговорщиков есть и оружие. Для защиты столицы совет формирует Петроградский военно-революционный комитет, который продолжил свое существование и после того, как угроза корниловского мятежа миновала. Петроград вне опасности, революция спасена, красные стяги бьются на осеннем ветру над заблудившимися повозками корниловцев, а Троцкий как один из вдохновителей Реввоенсовета успел повидаться с ядром повстанческих сил.
Ленин по-прежнему скрывается от властей, однако в сентябре он начинает кампанию, которая в конце концов приведет его сторонников к власти. Он забрасывает центральный комитет своей партии письмами: “Что вся власть должна перейти к Советам, это ясно. Так же бесспорно должно быть для всякого большевика, что революционно-пролетарской (или большевистской – это теперь одно и то же) власти обеспечено величайшее сочувствие и беззаветная поддержка всех трудящихся и эксплуатируемых во всем мире вообще, в воюющих странах в частности, среди русского крестьянства в особенности”[180]. Восстание – вот задача партии, а ее цель – диктатура пролетариата или диктатура большевиков, потому что, по словам Ленина, что позже будет отражено и в официальной советской версии, “это одно и то же”. С ним согласна Роза Люксембург: “ [И]менно большевистскому направлению принадлежит историческая заслуга, что оно с самого начала провозгласило и проводило с железной последовательностью ту тактику, которая одна лишь могла спасти демократию и толкать революцию вперед. «Вся власть исключительно в руки рабочих и крестьянских масс, в руки Советов» – таков был действительно единственный выход из трудного положения, в каком оказалась революция; то был удар мечом, который разрубил гордиев узел, вывел революцию из теснины и раскрыл перед ней широкий простор для ее беспрепятственного дальнейшего развития”. Люксембург также признавала, что “истинная диалектика революции” была собственно ленинской: “Путь лежит не через большинство к революционной тактике, а через революционную тактику к большинству”[181].
Большевики захватили власть в ночь с 24 на 25 октября 1917 года. В 10 часов утра следующего дня вышло обращение Петроградского военно-революционного комитета под руководством Ленина “К гражданам России!”, в котором объявлялось следующее: “Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-Революционного Комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского Правительства – это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!”[182] Так заканчивается самая славная глава официальной истории.
Даже большевику было понятно, что подобному нарративу не хватает изрядного количества подробностей. В то утро, 25 октября, когда в партийной типографии печаталось обращение Петроградского военно-революционного комитета, Зимний дворец по-прежнему находился в руках Временного правительства. Была и еще одно щекотливое обстоятельство: на Втором Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов потерявшее самообладание и побежденное социалистическое большинство – меньшевики вроде Мартова и Дана и прочие делегаты – выступало с дерзкими речами и клялось не сотрудничать с большевиками, узурпировавшими власть. Но куда важнее было то, что Российская империя от края до края пока еще даже не слышала о новом режиме. Последовавшие месяцы должны будут испытать на прочность способность большевиков соответствовать революционным чаяниям масс.
Среди неотложных проблем, стоявших перед большевиками, был несвоевременный созыв Учредительного собрания. Этот орган был избран всеобщим голосованием после октябрьского переворота и призван определить демократическое будущее России. Страна долгие месяцы жила в ожидании выборов, но в то неспокойное лето 1917 года Керенский отложил их проведение – в то время, когда люди возлагали огромные надежды на исход голосования, примирение и правительство общественного согласия. Когда в конце ноября произошел подсчет голосов, оказалось, что у большевиков нет большинства. Ленин объявил, что “республика Советов является более высокой формой демократизма, чем обычная буржуазная республика с Учредительным собранием. ‹…› В силу этого даже формального, соответствия между волей избирателей в их массе и составом избранных в Учредительное собрание нет и не может быть”[183]. Биограф Ленина Роберт Сервис пишет, что понадобилась Октябрьская революция, чтобы выявить тот факт, что Ленин и Троцкий были политическими буквалистами[184]. Они намеревались управлять страной без чужой помощи. Учредительное собрание, первый и на семьдесят лет единственный орган государственный власти, избранный всеобщим голосованием, провел только одно заседание: 18 января 1918 года эсер Виктор Чернов был избран председателем, а уже на следующий день собрание было разогнано большевистской милицией.
Роза Люксембург не могла этого принять. Слова, написанные ею о ленинской стратегии, последствий реализации которой ей не довелось увидеть своими глазами (Люксембург была убита фрайкором Вальдемара Пабста после неудавшегося революционного путча в Берлине), окажутся пророческими: “Свобода лишь для сторонников правительства, лишь для членов одной партии – сколь бы многочисленными они ни были – это не свобода. Свобода всегда есть свобода для инакомыслящих. ‹…› Без всеобщих выборов, неограниченной свободы печати и собраний, свободной борьбы мнений замирает жизнь в любом общественном учреждении, она превращается в видимость жизни, деятельным элементом которой остается одна только бюрократия”[185]. Ее предчувствия относительно политического будущего Советской России окажутся поразительно точными. Из своей тюремной камеры она описывала систему однопартийного руководства страной: “Общественная жизнь постепенно угасает, дирижируют и правят с неуемной энергией и безграничным идеализмом несколько дюжин партийных вождей, среди них реально руководит дюжина выдающихся умов, а элита рабочего класса время от времени созывается на собрания, чтобы рукоплескать речам вождей, единогласно одобрять предложенные резолюции. Итак, по сути это хозяйничанье клики; правда, это диктатура, но не диктатура пролетариата, а диктатура горстки политиков. ‹…› Более того, такие условия должны привести к одичанию общественной жизни – покушениям, расстрелам заложников и т. д. Это могущественный объективный закон, действия которого не может избежать никакая партия”[186].
Критика, сформулированная Розой Люксембург, хорошо известна и затрагивает самую суть наиболее важных политических вопросов ленинизма. Однако в ней Люксембург не выходит за пределы мира политики – государственной политики, – и даже в этом случае история очевидным образом определяется в терминах марксизма. В своем самом упрощенном, приблизительном изводе марксисткую парадигму можно было переносить и прикладывать к историям других стран. Марксизм предлагал формулу, способную исчерпывающим образом объяснить неудачу европейских революций 1918 и 1919 годов, которые первыми последовали российскому примеру[187]. Классовая борьба как элемент этой формулы подверглась идеализации и усреднению, лишившему ее многообразия, как будто классы аккуратно помещались в предназначенные им клеточки и как будто эти классы действительно существовали как классы. Общество в качестве участника игры было редуцировано до схемы, до модели из кубиков, до бесформенной массы.
Таким образом, классический нарратив ленинской революции превратился в историю государственной власти, борьбы за обладание ею, за консолидацию власти и за возможность ее использовать. Антонио Грамши, марксист совершенно иного толка, находясь в заключении, добавил бы к этому описанию, что “на Востоке (в России) государство было всем, а гражданское общество пребывало в первородном и студнеобразном состоянии”[188]. Этой линии марксисты и постмарксисты держатся до сих пор. В 1989 году Борис Кагарлицкий, в ту пору интеллектуал-диссидент, заметил, что “в России правящий слой всегда старается навязать народу развитие по западному образцу, а народ неизменно этому сопротивляется, пассивно или активно”[189]. Однако жизнь не исчерпывается одной политикой, и даже общества в студнеобразном состоянии должны пользоваться одним языком, разделять общую культуру. Государство и общество взаимодействуют друг с другом. Государство, выросшее в Советской России, превратилось в монстра, однако даже этот процесс не происходил обособленно от жизни и от людей. Люди не голосовали за введение репрессий, иначе говоря, население не адресовало власти запрос на гротескные крайности сталинизма. Однако было бы сильным упрощением рассматривать ленинскую диктатуру как нечто, навязанное стране извне, ограничиться описанием ночного переворота, не замечая более глубоких процессов, порожденных революцией, атмосферы надежды, радикализма и страха, царившей в стране, равно как ожесточения и ощущения кризиса, требовавшего немедленного разрешения.
Революция большевиков имеет прямое отношение к предыстории этой диктатуры. На какой-то короткий момент, возможно, до начала 1918 года, когда серьезность кризиса, обернувшегося впоследствии Гражданской войной, стала окончательно очевидной, рядовых участников революционного движения охватило вполне оптимистическое настроение. Этот оптимизм был наследием тех лет, когда надежды и замыслы разнообразных радикалов были по большому счету все еще невинны, не запятнаны опытом пребывания у власти. Какие бы личные конфликты ни происходили между ними в прошлом, отличия, разделявшие их тогда, еще не были опробованы в контексте обладания государственной властью. В то время все еще можно было питать надежду на то, что свержение двух врагов – самодержавия и капиталистического строя – неминуемо покончит с тем озлоблением, которое душит народные массы.
Несмотря на плюрализм, царивший внутри революционного движения, его участников по-прежнему объединяло ощущение творящейся на их глазах истории – истории, у которой была только одна необратимая траектория. Именно в этих терминах, в терминах коллективного будущего их дела на земле, российские революционеры и радикалы все эти годы осмысливали смерти своих товарищей. Используемые ими метафоры – страдания, жертвы, коллективного спасения – безусловно, вписывались в общепринятый революционный язык, но у них были и другие источники. На дворе все еще была эпоха экспериментов, говоря иначе, эпоха, в которую смерть и те воспоминания, которые она порождала, были открыты самым разнообразным интерпретациям. Кроме того, у людей тогда просто не было ни сил, ни времени на то, чтобы переосмыслить смерть, этот аспект культуры, не имеющий отношения ни к политике, ни к экономике, так что тема смерти была предоставлена самой себе. Должно было пройти еще несколько лет, прежде чем рядовые революционеры смогли убедиться, что даже мертвые могут вызывать острые споры и неоднозначные оценки.
Николай Эрнестович Бауман был убит во время уличных беспорядков, которые вспыхнули в Москве в октябре 1905 года после обнародования Октябрьского манифеста Николая II. Бауману суждено было стать героем революции[190]. В отличие от жертв Кровавого воскресенья, погибших десятью месяцами ранее, он удостоился похорон со всеми революционными почестями, а сама похоронная процессия превратилась в массовое зрелище, перекрывшее центральные улицы города на несколько часов. Александр Пастернак, в то время студент Московского художественного училища, запомнил эти похороны на всю жизнь:
Мы, вся наша семья, кроме девочек, стояли, среди других из училища, на балконе, между вздымающихся вверх колонн, как какие-то статисты какой-то мизансцены о царе Эдипе или из истории ампирного барского дома в имении. Мы стояли черными неподвижными статистами и зрителями одновременно, потому что перед нами, под нами проходила, в течение многих часов, однообразная черная широкая лента шеренг мерно шагающих, молчащих и поникших людей, одна за другой, каждая по десять, кажется, человек, одна за другой, одинаковых и повторных, во всю ширину Мясницкой, мимо нас, к Лубянской площади.
Всего грознее было, когда люди, проходящие внизу, шли в полном молчании. Тогда это становилось так тяжко, что хотелось громко кричать. Но тут тишина прерывалась пением вечной памяти или тогдашнего гимна прощания, гимна времени – “Вы жертвою пали…” И снова замолкнув, ритмично и тихо шли и шли – шеренга за шеренгой, много шеренг и много часов[191].
Похороны Баумана – “красные похороны” – были образцом революционного ритуала времен цензуры. Участники траурного шествия, прошедшие по улицам Москвы в первые заморозки русской осени, прибыли на него с городских заводов и фабрик, из тесных переулков Пресни, с северных и восточных окраин. Здесь были работники типографий, слесари, работники огромных ткацких мануфактур и недавно основанных химических заводов. Были студенты, представители революционно настроенной интеллигенции, в основном меньшевики, потому что в то время они являлись самой сильной марксистской группой в Москве, беспартийные, не примкнувшие ни к одной фракции радикалы, которых объединило общее желание перемен. В рядах марширующих были группы друзей, тех, кто работал на одном предприятии или жил по соседству, но, как правило, на подобных массовых сборищах люди не знали друг друга, поэтому желания и мечты, двигавшие ими, хотя и сошлись на короткий момент в общем горе и утрате, были различны, а подчас и прямо противоположны.
Такого рода радикализм не создавался “сверху”. Он родился на фабриках и заводах, в разговорах после рабочей смены. Его питали утопические мечты, которые отчасти вдохновлялись марксизмом, а отчасти уходили корнями к Толстому, к полузабытой мудрости старых крестьянских сект, к холиастическому прочтению Библии или к новому популярному тогда жанру научной фантастики[192]. Известно, что революционные активисты проводили занятия с избранными рабочими, собирая их в подпольных кружках, чтобы вместе изучать запрещенные тексты, и что многие люди именно так открыли для себя Маркса и прочли его труды[193]. Но даже самые заинтересованные ученики не были пустыми сосудами, которые их учителя наполняли революционным содержанием. Они формировали свои собственные впечатления о городе, о том, что такое хорошее сообщество, даже об освободительном потенциале новых технологий. У них также было свое видение путей, ведущих к свободе. Одни мечтали лишь о том, что однажды смогут вернуться домой, в свою деревню, хотя реальная деревня могла уже к тому времени кануть в область снов и фантазий. Другие, безусловно, верили в борьбу, в будущее, выкованное коллективным страданием, и вот эти люди воспринимали смерть товарищей как жертву, пусть и печальную, но приближающую “зарю свободы”. Однако, помимо этой темы, в одном погребальном шествии, сплоченном, пусть и мимолетно, противостоянием общему врагу, самодержавию, присутствовал широкий диапазон возможных идей, сырых или, наоборот, хорошо просчитанных политических программ – радикальных, революционных, популистских, марксистских или не имеющих к этим идеологиями вообще никакого отношения.
Обстоятельства, которые свели всех этих людей в единую толпу, не были обычными для своего времени. Неудавшаяся революция 1905 года на короткий момент сделала допустимыми демонстрации такого масштаба, однако ритуал “красных похорон” к тому времени существовал уже несколько десятилетий. Эмоциям, которые эти похороны вызывали у участников, не требовалась никакая пропагандистская поддержка. Зачастую истинное значение чьей-то жизни становилось понятно только ретроспективно, после смерти этого человека. Толпы собирались на похороны, чтобы выразить свое потрясение и горечь потери. Однако власти хорошо понимали политическую составляющую этих церемоний. В царской России публичные сборища не обходились без надзора властей – повседневные демонстрации революционной солидарности были немыслимы, – однако проведение похоронных процессий ограничить было куда сложнее. К тому времени элита “профессиональных” революционеров уже хорошо понимала, сколько возможностей дает такое коллективное горе. Когда толпы проходили мимо правительственных зданий, дворцов, роскошных магазинов, над процессией разворачивались красные стяги. Люди несли огромные (до метра в диаметре и даже больше!) траурные венки, сплетенные из зеленых веток и лилий. Венки были увиты лентами, на которых виднелись слова солидарности, радикальные лозунги и обращения рабочих к погибшим товарищам.
Подобный ритуал сложился в 70-е годы XIX века. В 1877-м на похоронах поэта Николая Некрасова пришедшие выступали с радикальными речами возле свежей могилы. В 1891 году похороны литературного критика, писателя-народника и участника революционно-демократического движения Николая Шелгунова на Волковом кладбище в Петербурге вылились в организованную демонстрацию с участием семисот мужчин и женщин, которую лидер этой демонстрации и глава марксистской “группы Бруснева” Михаил Бруснев назвал первым появлением российского рабочего класса на арене политической борьбы. Транспаранты, которые несли демонстранты, были получены ими от организаторов или подготовлены самостоятельно на собраниях днем ранее. Почти все они неизменно были обращены к “Указателю пути к свободе и братству от петербургских рабочих”[194].
Однако не только левые революционные силы проводили массовые публичные похороны. 23 октября 1893 года похороны композитора Петра Ильича Чайковского стали одним из самых заметных светских событий года в Петербурге. Пришедшие на похороны толпы наглядно свидетельствовали, что не только политические события способны вызвать такую коллективно переживаемую скорбь. А кроме того, похороны Чайковского вполне закономерно стали первым примером участия в похоронной процессии оркестра в полном составе. Вскоре большевики с энтузиазмом возьмут это новшество не вооружение[195]. На самом деле они в значительной степени позаимствуют те ритуалы и помпу, которые при старом режиме сопутствовали похоронам состоятельных представителей среднего класса. В частности, начиная с 1917 года в прессе в траурных черных рамках стали публиковать объявления о смерти видных революционеров, а церемонии прощания и похорон сопровождались гигантскими венками, почетным караулом и привезенными из-за границы цветами.
Дореволюционный буржуазный похоронный обряд, который стал источником этих заимствований, был по своей сути религиозным, хотя и не всегда православным. Сопутствующие ему ритуалы восходили к известным символам: духовное путешествие, молитвы о спасении и упокоении души, совместная трапеза (кутья из цельных зерен пшеницы, политая медом, и яйца), кажущаяся слишком простой в зажиточном городском контексте, освященная земля с могилы. Сами могилы становились все более затейливыми, по мере того как богател российский средний класс, и все больше людей могли себе позволить заказать близким надгробие из мрамора и бронзы. Все больше предпринимателей вкладывали деньги в строительство семейных склепов, участки на кладбищах обносились коваными железным решетками, а сами кладбища стали походить на настоящие города мертвых. В прежние времена на дворянских могилах обычно лежала простая каменная плита (а на могилах простолюдинов устанавливался временный деревянный крест или столбик), но теперь богачи требовали колонн, урн, рельефов на цветном камне, а иногда даже несколько поэтических или прозаических строк, хотя эпитафии были скорее редкостью[196].
Обычно для убранства гроба и драпировки катафалка на буржуазных похоронах щедро использовалась белая ткань. Сам катафалк, запряженный попарно лошадями, тоже был белым, а гроб, размещенный в задней его части, скрывался под пышными складками белой парчи. Покойника, как правило, тоже обряжали в белую одежду; и даже когда на смену традиционному льну пришел деловой костюм, сам гроб внутри обивался белой тканью. Большинство цветов в окружавших гроб венках тоже были белыми. Священники, которых обычно приглашали в количестве четырех, пяти или даже больше человек, а также причетники на похоронах надевали белое облачение. И хотя скорбящие и носящие траур к тому времени все больше отдавали предпочтение черному или серому, они, казалось, воплощали собой пережитки другого мира – так разительно отличались они от облаченных в белое священнослужителей, за шеренгами которых следовали. Белый цвет был частью традиции, точное происхождение которой неизвестно, однако он символизировал “тот свет”, преображение и перевоплощение. “Красные похороны”, напротив, определяли себя во вполне земных терминах. Их цветом был цвет крови мучеников, пролившейся на настоящую каменную мостовую.
Это подчеркивалось в каждой детали обряда, в каждом жесте. Гроб на “красных похоронах” был затянут красной тканью, покойника часто обряжали в одежду красного цвета, а скорбящие, во что бы они ни были одеты, несли алые стяги, алые цветы и венки, перевитые алыми лентами. Гроб редко везли на катафалке – как правило, его несли на плечах сильные товарищи покойного. Такие похороны обходились без священников. Зачастую было непросто найти участок на кладбище для захоронения, потому что вплоть до 1918 года большая часть кладбищ в центре города находилась под контролем церкви. Однако где бы ни был в итоге похоронен очередной “мученик революции”, какой бы простой ни была его могила, она могла стать местом паломничества. Обычай оставлять на могилах тех, кто пал героической или мученической смертью, цветы или один единственный цветок появился до большевистской революции, как и практика использования таких могил как трибуны, где приносили присягу общему делу.
В этот период формирования ритуалов “красные похороны” отнюдь не встречали безоговорочной поддержки у всего населения. Осиротевшие члены семьи, если они присутствовали на похоронах, зачастую вынуждены были разрешать конфликты. Торжественные речи и застегнутый на все пуговицы революционный формализм “красных похорон” не оставлял места для традиционного погребального плача. На похороны “красного мученика”, родившегося в каком-нибудь селе, могла приехать в город его деревенская бабушка, нелепая представительница “старого мира”. Возникала неловкая ситуация. Нередко одетые в черное женщины вырывались из торжественно марширующей шеренги похоронной процессии и распластывались на гробе, пронзительно выкрикивая свои странные причитания. Мужчины, готовящиеся выступить с речью, вынуждены были уводить их, иногда даже поднимать с земли, если они падали без чувств. Другие семьи просто сами забирали тело покойника из морга и отвозили домой для проведения погребального обряда или религиозной церемонии с традиционными молитвами. Часто под складками кумача на гробах “красных мучеников” скрывался православный крест[197]. Однако в общем и целом “красные похороны” оставались знаком особого почтения к покойному, надолго соединявшим скорбящих узами солидарности. В Севастополе, где в октябре 1905 года более сорока тысяч человек вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь жертв очередного мятежа, в толпе одобрительно шептались: “Не страшно умирать за свободу… если знаешь, что тебя будут хоронить с таким почетом”[198].
Неохотное, но безропотное согласие родных, а также тех, кто отошел от религии или обращался к ней лишь время от времени, и просто сочувствующих “попутчиков” со светским церемониалом заставляет задаться вопросом о природе веры в более общем смысле этого слова. Смерть всегда была для атеизма лакмусовой бумажкой. Находятся даже писатели, которые берутся утверждать, что необходимость религии изначально обусловлена существованием смерти[199]. До 1917 года в российское революционное движение входили сотни мужчин и женщин, которые вовсе не были атеистами, а еще большее число их соратников считали борьбу с религией второстепенной задачей по сравнению с другими формами политической борьбы. Тем не менее распространенность религиозности имела для революционных партий серьезные последствия. В числе этих последствий был и конфликт лояльностей (верующие признавали власть, которая была выше власти партии), и неизбывные суеверия, и приверженность прошлому, представленному предками, мертвыми, так называемыми отцами, которые оставались частью духовного сообщества. А кроме того, религия, этот пережиток буржуазного прошлого, отвлекала от задачи социалистического строительства.
Даже траур мог рассматриваться как пример распущенности и потакания своим слабостям, если он затруднял работу или удалял человека от коллектива. Эту идею повторяли марширующие толпы на сменяющих друг друга “красных похоронах”, потому что один из любимых участниками гимнов запрещал публичную скорбь:
Не плачьте над трупами павших борцов, Погибших с оружьем в руках, Не пойте над ними надгробных стихов, Слезой не скверните их прах! Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам, Отдайте им лучший почет: Шагайте без страха по мертвым телам, Несите их знамя вперед! С врагом их, под знаменем тех же идей, Ведите их бой до конца! Нет почести лучшей, нет тризны святей Для тени достойной борца![200]В этих строках смерть предстает окончательной и бесповоротной, и даже к мертвому телу товарища не требуется относиться с какой-либо особой почтительностью (“Шагайте без страха по мертвым телам!”). Куда важнее то дело, за которое погибшие отдали жизнь, потому что только дело, а не человеческие души, единственное, что не умрет никогда.
В публичной жизни и философских текстах Ленина видна его нетерпимость ко всем религиозным привычкам, яростный антиклерикализм и враждебность по отношению к хилиастам и идеалистам в рядах его собственной партии. В 1908 году, споря с бывшем соратником Богдановым, тексты которого приняли “поповский” оборот, Ленин пишет: “Философия марксизма есть материализм. ‹…› Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. ‹…› Враги демократии старались ‹…› всеми силами «опровергнуть», подорвать, оклеветать материализм и защищали разные формы философского идеализма, который всегда сводится, так или иначе, к защите или поддержке религии”[201]. Таким образом, со свойственным ему догматизмом Ленин отвергал любые попытки отыскать духовный смысл в социализме и наделить товарищество человеческих существ каким бы то ни было иным значением, кроме экономического или политического[202]. Богданов был изгнан из большевистской фракции.
Естественно, чем громче противился тому сам Ленин, тем сильнее одолевает историков искушение обнаружить религиозный тон и метафоры в его собственном мышлении и текстах. Та же судьба уготована была и Сталину, чьи публичные выступления нередко намекают на учебу в религиозной семинарии в ранние годы. Догматизм Сталина, как и догматизм Ленина, был сам по себе отголоском православной религиозной догмы, словом единственной истинной церкви, наследницы новой Византии, любое раскольничество и отклонение от постулатов которой было ересью. Согласно этой точки зрения атеизм Ленина и Сталина был своего рода протестом, а вызвавший его рефлекс был по сути своей религиозным[203]. Это интересное предположение, но какими бы ни были истоки их идеологии, их внутренний мир, их сердца для нас абсолютно закрыты. Для них обоих частное было совершенно неважно[204].
Не осталось свидетельств того, как они переживали личные утраты, а ведь это один из ключей к личности человека в вопросах любви и смерти. Никто из них не считал эти переживания достойными того, чтобы быть зафиксированными. Для них имела значение лишь политика, государственная власть. Они полностью идентифицировались с той целью, которой служили. Первый председатель ЧК Феликс Дзержинский довольно холодно выразил эту мысль в своем дореволюционном дневнике, который вел в тюремном заключении: “Что же касается чувства, то могу сказать тебе: жизнь наша такова, что требует, чтобы мы преодолевали наши чувства и подчиняли их холодному рассудку. Жизнь не допускает сантиментов, и горе тому, кто не в силах побороть свои чувства”[205]. Такого рода преданность делу была все-таки исключением из правил, но общая мысль, выраженная выше, определение человеческой жизни с точки зрения коллективной, общей цели отнюдь не были чем-то необычным. Представление о собственной личности как об отдельном мыслящем субъекте и о частной скорби в противовес горю, выраженному публично, были для России того времени в новинку. Такого рода идеи были роскошью, доступной тем, кто жил в достатке, знал грамоту и не делил с многочисленными домочадцами единственную тесную комнатушку. Деревенская культура была коллективистской по своей сути, не менее коллективистской была культура заводская, и революционеры посвящали свои жизни общему делу еще с 40-х годов XIX века.
А если так, значит, мы не можем объяснить личную реакцию Ленина на казнь его старшего брата Александра, приговоренного к смерти в 1887 году за участие в заговоре и попытку покушения на Александра III[206]. В то время Владимиру Ильичу было семнадцать лет, и он, прилежный студент, в день казни брата явился на письменный экзамен. Один из биографов Ленина выдвигает предположение, что потеря брата, а возможно, и смерть отца годом ранее могли усугубить склонность к самоанализу и погруженность в себя, характерные для будущего вождя[207]. Ленин не пошел на похороны Александра, хотя его мать на них присутствовала, и говорят, что от всего пережитого она за несколько недель полностью поседела. Однако, судя по всему, самым тяжелым ударом для Владимира оказалась смерть от тифа его младшей сестры Ольги; из-за небольшой разницы в возрасте (в один год) эти двое были особенно близки: средние дети в семье с шестью детьми[208]. Когда в апреле 1917 года Ленин триумфально возвратился из Женевы в Петроград, сойдя с поезда (того самого, со знаменитым пломбированным вагоном), он первым делом направился на Волково кладбище, на могилы матери и любимой сестры[209]. Но, за исключением этого, у нас почти нет подлинных свидетельств о его эмоциональной жизни.
Сталин был чуть более откровенным, единственный раз. Его первая жена Екатерина Сванидзе тоже умерла от тифа. На ее похоронах Сталин пробормотал: “Это существо смягчало мое каменное сердце”[210]. Его реакция на самоубийство второй жены, Надежды Аллилуевой, до сих пор остается неясной. Некоторые говорят, что он был в бешенстве, что чувствовал себя преданным. Другие пишут, что он страдал от депрессии[211]. За отсутствием подлинного свидетельства нам остается только гадать или верить слухам.
Личные чувства этих двух безжалостных людей могут быть и не особо существенны, потому что, в конце концов, их действия не подчинялись им. Неизменно важными для нашего анализа остается коллективная эмоция толпы как социальное явление. Здесь необходимо выделить два вопроса. Первый касается отношений между ленинизмом и его последователями. Насколько большевики могли опираться на те паттерны верований, которые предшествовали революции, а насколько им пришлось их менять и насаждать сверху новые? Была ли (и если да, то в какой степени) революция в образе мысли, в ментальности, а не только в политике, революцией, осуществленной снизу? Второй же вопрос касается предположения, что предпосылкой появления жестокости служат равнодушие или халатность по отношению к смерти. Это то, что внушало ужас Пастернаку: он чувствовал, как от чуждой толпы исходило ощущение угрозы. Другие писатели, оказавшись свидетелями похоронных процессий, также находили их зловещими. В феврале 1921 года Юрий Владимирович Готье, историк консервативного толка, работавший в Москве, наблюдал похороны анархиста Петра Кропоткина. “Толпа довольно значительная, – замечает он немного неохотно, – но, вероятно, в радио и в отчетах она примет размеры еще большие. В ней были интеллигенты и студенты, но вообще это была та серая масса, которая составляет типичную особенность нашего времени. Анархические группы с черными знаменами занимали очень внушительное место. Лица тупые, обезьяньи, нецивилизованные, варварские”[212].
В другом месте своего дневника Готье пишет о революционерах как о “гориллах”, противопоставляя их тем верующим, которых увидел на отпевании погибших студентов в церкви Большого Вознесения[213]. Этот образ делает концепцию “революции снизу” довольно зловещей, как будто бы сама толпа была абсолютно бездушной, способной мрачно “перешагивать через мертвые тела”. В действительности имеющиеся у нас свидетельства указывают на прямо противоположное. На заре революции ни атеизм, ни материализм участников “красных похорон” не были признаком равнодушия или прагматического отношения к смерти. Более того, самодержавие продемонстрировало, что набожность сама по себе не мешает людям поступать жестоко, обесценивая жизни других человеческих существ. В любом случае простонародные верования в значительной степени уцелели и в складках красного стяга, а у многих радикально настроенных революционеров даже сохранялось ясное, подчас буквальное представление о жизни после смерти.
С точки зрения верующего человека, Готье был прав, высказывая сожаление о том, что революционеры-мужчины – и реже женщины – нередко провозглашали себя атеистами и, поступая на фабрику, отбрасывали формальную дисциплину веры; там они общались с товарищами, узнавали законы науки, читали своих Маркса, Дарвина, Жюля Верна[214]. Вначале деревенские мальчишки, перебравшиеся в город, еще держались привычной веры. Многие по привычке крестились, особенно проходя мимо церкви и особенно по пути домой. Некоторые поклонялись иконам на заводских стенах и какое-то время принимали поддержку и утешение от священника[215]. На некоторых фабриках были организованы уроки Закона Божьего, проводившиеся после окончания смены, а на многих были и свои часовни[216]. С одобрения Священного синода рабочий день начинался и заканчивался с молитв, и некоторые начальники присоединялись к своим рабочим, стоя с непокрытой головой впереди всех, похожие на директоров на гимназических собраниях[217].
Хотя некоторые религиозные пережитки могли сохраниться вопреки всему даже в преданных революции сердцах, давление, побуждавшее людей к поиску других, параллельных или полностью альтернативных миров веры, было практически непреодолимым. В беднейших областях церквей было немного. Например, на рубеже XX века в промышленном районе Орехово-Зуево, по сути представлявшем собой разросшуюся подмосковную деревню, была всего одна церковь на сорок тысяч жителей[218]. В таких районах было не слишком много женщин или, по крайней мере, женщин, регулярно посещающих храм, деревенских баб, у которых в доме постоянно бы горела лампада. Кроме того, ритм промышленного производства весьма условно соответствовал сельскохозяйственному циклу. Во мраке и пекле литейного цеха нетрудно было забыть про религиозный календарь со всеми его праздниками и постами. Семен Канатчиков вспоминал, как в юности под влиянием молодого рабочего по фамилии Савинов склонился к атеизму. Савинов настаивал, что даже священник едва ли сможет вообразить себе более ужасный ад, чем те печи, подле которых они работали[219]. В стихах рабочих того времени завод часто фигурирует как обитель страдания, с его “железными цепями”, “обжигающими печами” и молотом, вбивающим гвозди в человеческую плоть[220].
Повсеместный антиклерикализм также способствовал тому, чтобы отвадить людей от церкви. Рабочие вслед за многими своими деревенскими братьями жаловались на алчность духовенства, обвиняли его в том, что оно покорно ест с руки у своих хозяев и не понимает жизни простого народа. Государственная власть в России в значительной степени отождествлялась с церковью, так что революционеры обычно отвергали оба эти института. К последнему десятилетию XIX века даже верующие начали восставать против православной иерархии. Самый серьезный вызов с этой стороны бросило церкви движение чуриковцев, известное также как Общество трезвенников Братца Иоанна Самарского (Чурикова). Движение зародилось в Петербурге в 1890-х годах и своей основой провозглашало благопристойную простую веру, прямую связь с Господом, отказ от потворства своим слабостям и алкоголя, который, казалось, в праздники лился рекой[221]. Как писал в воспоминаниях один московский слесарь-рабочий, в 1894 году он был “человеком религиозным, хотя и недолюбливал попов”[222]. Хотя чуриковцы не всегда были такими уж правильными. В 1890-е годы те же рабочие, что в детстве распевали религиозные песни, с удовольствием разучивали “Сказку о попе и черте”, текст которой, по их словам, был слишком неприличным, чтобы повторять его на публике[223].
Но, пожалуй, важнейшим подспорьем атеизму стала сила науки. В этом смысле между радикальностью безверия и марксизмом с его верой в прогресс и “научной” основой в виде диалектического материализма существовала связь: одно вдохновляло другое. К примеру, Канатчиков вспоминал, что отказался от религии после того, как его друг Савинов продемонстрировал “научную” интерпретацию сотворения мира. Рабочий-атеист предложил, чтобы тот, кто скептически относится к эволюционной теории Дарвина и настаивает на своей приверженности церкви и библейской версии творения по Книге Бытие, собрал немного земли в коробочку:
И ты увидишь, что там обязательно черви и букашки заведутся. – А потом? – А потом из букашки будет другая тварь развиваться и так далее… В продолжении четырех, пяти, а может, и десяти тысяч лет дойдет дело и до человека[224].На Канатчикова эта идея произвела такое сильное впечатление, что впоследствии, уже став пропагандистом, он использовал ее сам, называя самым убедительным своим аргументом в спорах.
Итак, атеизм был общим свойством радикальной части левого лагеря. Однако до прихода большевиков к власти он вовсе не был идеологическим требованием. “Красные похороны” были светскими, но не атеистическими. Скорбящие и жертвы насилия, которых они оплакивали, могли исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. В октябре 1905 года похороны жертв еврейского погрома в Екатеринославле вылились в массовую демонстрацию. Погром стал очередным проявлением той ненависти, которая вырвалась наружу в связи с революцией и ее провалом[225]. В этот раз, как и во многих других подобных случаях, ритуалы, речи и песни были заимствованы из широкого круга источников. Одним из таких источников, вдохновлявшим собравшихся, была музыка другой революции – Великой французской. Когда полиция дозволяла, демонстранты исполняли “Марсельезу”, а также популярные песни, восходящие к Отечественной войне 1812 года с Наполеоном. Военные образы битвы и боевой чести проходили цензуру, и самым популярным гимном “красных похорон”, по воспоминанию Александра Пастернака, стала песня “Вы жертвою пали”. Первоначальный текст, написанный в 1870-х – начале 1880-х годов, был довольно сдержанным:
Вы жертвою пали в борьбе роковой Любви беззаветной к народу, Вы отдали все, что могли, за него, За честь его, жизнь и свободу!Но дальнейший текст – а некоторые строфы были добавлены в 1890-е годы – был куда более откровенен в своем революционном посыле:
А деспот пирует в роскошном дворце, Тревогу вином заливая, Но грозные буквы давно на стене Уж чертит рука роковая! Настанет пора – и проснется народ, Великий, могучий, свободный! Прощайте же, братья, вы честно прошли Свой доблестный путь, благородный![226]Текст этой песни типичен не только из-за духа жертвенности, который пронизывает его, но и потому, что заимствует хорошо знакомый библейский образ – письмена на стене дворца вавилонского царя Валтасара: “мене, мене, текел, упарсин”. Значительная часть революционной поэзии того времени – причем не только гимны, посвященные павшим, – прибегала к похожим религиозным мотивам. В конце концов, в этом нет ничего удивительного, ведь радикально настроенные рабочие 1905–1917 годов были наследниками религиозной культуры. Их язык был пропитан религиозной образностью. Даже излюбленные ими бранные слова обычно в той или иной форме отсылали к Богу или святым угодникам. Но за словами и неисследованными аллюзиями скрывалось более общее метафорическое понимание жизни. В своей статье о религиозности в среде элиты рабочего класса Марк Стайнберг пишет: “Для них характерно было представление о человеческом существовании как о мифическом путешествии через страдания к спасению, к избавлению от невзгод, зла и даже смерти. Образы мученичества, распятия, преображения-перевоплощения и воскресения оставались частью их творческого словаря так же, как и нарративное внимание к страданию, злу и спасению души”[227].
Как верно добавляет Стайнберг, использование подобной религиозной образности отнюдь не доказывало наличие христианской веры. Даже среди грамотных рабочих вера была делом скорее неформальным, и люди нечасто пересматривали свои убеждения и представления о вещах. Прежние идеи о загробной жизни никуда не делись, и в поэзии того времени упоминаются разговоры с мертвыми, однако вера в потустороннее не требовала обязательного принятия других аспектов православной космологии. Революционные тексты полны образами бессмертия. Мертвые возвращаются для того, чтобы поговорить с живыми, являются к ним в снах. Например, в январе 1918 года один автор радикального толка, писавший для газеты рабочих “Рабочая жизнь”, описывал свою “встречу” с одной из жертв Кровавого воскресенья. Ему привиделся лежащий на земле умирающий человек. Когда из него вытащили царский штык, последними словами мученика были: “Господи, прости ему, ибо он не ведает, что творит”[228].
Подобное обыденное представление контрастирует с миром спиритуализма, который пышным цветом расцвел в тревожной атмосфере российского fin de siècle. Современный спиритуализм появился в Соединенных Штатах в 1840-е годы, однако со временем он нашел плодородную почву и в России, став модным увлечением среди представителей образованных и обеспеченных слоев городского населения. Его последователями были и лексикограф Даль, и химик Менделеев[229]. Спиритуалисты были больше обыкновенного зачарованы смертью. На личном уровне их призывали неизменно представлять ее перед мысленным взором, не спуская с нее глаз, “питать свои голодные души”, тогда и их собственная смерть произойдет наименее болезненно (не в физическом смысле) и будет сопряжена с наименьшим страхом[230]. Естественно, именно переход в смерть, в реальный и густонаселенный мир загробной жизни, позволял духам мертвых свободно говорить с живыми.
Начиная с 1907 года сообщения, полученные от этих духов, публиковались в спиритуально-оккультной газете “Оттуда”. В регулярной рубрике этого издания под названием “Братские подсказки от медиумов”, как в сегодняшних журнальных колонках, консультирующих читателей по личным вопросам, было множество советов, а также предсказаний и предупреждений. Поскольку за этими посланиями стоял непререкаемый авторитет потустороннего мира, содержащиеся в них сообщения не подлежали обсуждению. В общем и целом спиритуализм враждебно относился к демократии, поэтому медиумы, вступавшие в контакт с духами умерших, были особенно восприимчивы к посланиями с того света, пророчившим ее конец. Например, один такой медиум по имени Небо заявил в 1907 году, что через три года, в 1910-м, грядет война между Россией и Францией, их противостояние распространится на весь мир, в результате чего будут уничтожены все демократические правительства. Другой медиум призывал “молиться только Господу и святому Николаю Угоднику” (вполне типичный совет) в ответ на запрос другого рода (оставшийся не опубликованным) – просьбу призвать сверхъестественные силы на помощь в поисках пропавшей девочки[231].
Хотя это движение никогда не было массовым, оно оказало значительное влияние на мышление и язык людей далеко за пределами довольно узкого круга верных последователей. То же самое можно сказать и о самом экзотическом из многочисленных российских групп и течений, озабоченных темой смерти, так называемом русском космизме. Как и спиритуализм, этот комплекс философских взглядов опирался на православие. Разработал эту концепцию Николай Федорович Федоров (1829–1903). Федоров был глубоко верующим христианином, но кроме этого, он был одержим теми возможностями, которые, по его мнению, были сокрыты в коллективном человеческом разуме. Он полагал, что цель человека состоит в достижении всеобщего коллективного материального спасения на земле[232]. Федоров верил, что человеческие существа должны распрощаться со своим стремлением к размножению, потому что сексуальный акт есть акт разрушения, и вместо этого сфокусировать свои силы на моральной задаче первейшей важности – воскрешении мертвых.
Для того чтобы это стало возможным, необходимо достичь коллективного и сознательного единства цели. Работа подразумевала буквальное возвращение к жизни мертвого вещества, повторную сборку из космической пыли частиц, некогда составлявших живые молекулы человеческого тела. Первыми обнаружат эти частицы праха потомки умерших. Федоров не сомневался, что “наука бесконечно малых молекулярных движений, ощутимых только чутким слухом сынов, вооруженных тончайшими органами зрения и слуха, будет разыскивать ‹…› молекулы, входившие в состав существ, отдавших им жизнь. Воды, выносящие из недр земли прах умерших, сделаются послушными совокупной воле сынов и дочерей человеческих и будут действовать под влиянием лучей света, которые не будут уже слепы, как лучи тепла, не будут и холодно-бесчувственны; химические лучи станут способными к выбору, т. е. под их влиянием сродное будет соединяться, а чуждое отделяться. Это значит, что лучи станут орудием совокупной, благой воли сынов человеческих”[233].
Поиск этих разрозненных молекул не может быть ограничен одной небольшой планетой. Космические путешествия становятся насущной необходимостью, потому что космическая пыль, по мнению Федорова, рассеяна по всей Вселенной. Федоров с оптимизмом смотрел на перспективу появления аппарата, приспособленного для полетов в космос, веря, что человечеству будет под силу в скором времени предпринять такой космолет. Он утверждал, что Вселенная предоставит человечеству обширные возможности для колонизации, которая будет осуществлена силами миллионов умерших, воскрешенных к жизни. Федоров объяснял, что воскрешение всего человечества ознаменует собой победу над временем и пространством. Победой над пространством станет покорение Вселенной, в то время как “переход от смерти к жизни, или одновременное сосуществование всего ряда времен (поколений), сосуществование последовательности, есть торжество над временем”[234]. Мыслитель видел связь между проектом бессмертия и сопутствующими проблемами, такими как генетическая инженерия и продление (до бесконечности) отдельных человеческих жизней. Его теория, возможно, звучит причудливо, но не более, чем концепция всеобщего воскрешения к жизни вечной – ключевой догмат веры, разделяемой миллионами людей. И не менее причудливой, к слову сказать, особенно для тех, кто не привык к утопическим мечтам и фантазиям, может показаться и концепция всеобщего братства или призыв дать “каждому по потребности”.
Большевики и радикалы, перенявшие теории федоровского космизма, избавились от бесполезной и избыточной фигуры Господа Бога. С большевистской точки зрения, сам человек символизирует трансцендентность. Взгляды Ленина на теории такого рода были печально известны после его полемики с Богдановым, поэтому так называемое “богостроительство” – идея замены Бога человеком в рамках божественной, вечной системы – так и не стала частью официальной идеологии[235].
Однако бывшие “богостроители”, среди которых был и нарком просвещения Анатолий Луначарский, получили влиятельные посты в большевистском правительстве, так что некоторые их идеи вновь зазвучали в дебатах о перспективах строительства нового общества, например, о том, какова вероятность, что это самое новое общество сумеет победить старость, болезни и даже смерть, что стало бы величайшим триумфом науки. Очень многие и в партии, и в обществе в целом предвкушали окончательную победу над смертью. Забавно, учитывая враждебное отношение Ленина ко всем этим идеям, что именно эти прожекты на деле вдохновили Леонида Красина, увлеченного космизмом Федорова члена Комиссии по увековечиванию памяти В. И. Ульянова (Ленина), выступить с инициативой о сохранении тела вождя. В письмах, которые мешками приходили в Кремль после смерти Ленина, люди повторяли ту же мысль, предлагая сохранить бренную оболочку, чтобы однажды наука смогла воскресить вождя к жизни[236].
Экзотические россказни о бессмертии в материальном смысле слова никогда не владели сознанием и мыслями ленинской элиты. Однако в ее представлении другие типы бессмертия были не только возможны, но и имели жизненно важное значение. Революции 1917 года стоили сотен жизней, и на улицах собирались толпы скорбящих, чтобы оплакать погибших. По крайней мере, в столичных городах, Москве и Петрограде, где царила всеобщая убежденность, что российская история переживает перелом и начало новой эпохи, значение этих смертей не могло быть истолковано никак иначе, чем зловещее, дурное предзнаменование. Ни один политический деятель не имел права упускать такую возможность: это был шанс заявить о том, что умершие отдали жизнь ради высшей цели, превратить их кровь в жертвоприношение, эдакий светский аналог евхаристии.
Каждое действие революционеров, скорбящих о жертвах кровопролития, было задано внешним контекстом. К 1917 году пресса уже три года как искала и находила подходящие слова для того, чтобы оплакивать павших в Первой мировой войне солдат русской армии. Религиозные и политические лидеры пытались найти какой бы то ни было смысл в побоищах на фронте, и большинство сошлось на одном и том же образе искупительной жертвы: патриотизм русских, их простая вера, великий дар, принесенный на алтарь нации. Таким образом, язык жертвенности, жертвоприношения стал повсеместной частью словаря. Поиск смысла, трагического пафоса и даже китча стал частью жизни. Было бы странно игнорировать подобные общественные настроения и отнестись к мученикам революции просто как к мертвым; большевики никогда бы на это не пошли. Однако, подхватив особый язык той эпохи, они также переняли и некоторые содержащиеся в нем религиозные коннотации. Говоря безоценочно, можно также добавить, что большевики опирались и на собственные традиции, выкованные в страданиях иного рода, и черпали символы и образы из глубинных источников народной культуры, наполненной древней поэзией реквиема.
Одной из первых и наиболее впечатляющих публичных церемоний, состоявшихся после падения царизма в феврале 1917 года, стали похороны жертв революции. Общепринятое количество погибших, официальных “жертв февраля” составляло 1382 человека, из которых 869 были присоединившимися к мятежу солдатами, а 237 – рабочими[237]. Только малая часть всех погибших, 180 человек, будет похоронена в затянутых алой тканью гробах, которые сырым пасмурным мартовским днем колонны демонстрантов пронесли по Невскому проспекту. Остальных забрали из моргов и самостоятельно захоронили родственники. Вероятно, для этих людей возможность воздать своим умершим близким почести “красного” похоронного ритуала быстро перестала быть привлекательной, так как церемония все откладывалась и откладывалась. Скорбящие семьи вряд ли могла утешить та политическая свара, которая развернулась вокруг выбора маршрута, места захоронения и церемониала. В дебатах принимал активное участие Петроградский совет, так как именно этот орган в глазах общества был блюстителем памяти жертв революции, а также видные интеллектуалы радикального толка и Временное правительство, утвердившее проведение гражданской церемонии, но не принимавшее формального участия в ее организации.
Участники обсуждения сразу согласились с тем, что место захоронения должно быть значительным, выразительным, местом паломничества в центре города. О том, чтобы произвести захоронения на одном из уже существующих кладбищ, и речи быть не могло. Для многих очевидным выбором была Дворцовая площадь рядом с Зимним дворцом – просторная, элегантная, возможно, самый великолепный образчик публичного пространства в России, к тому же Дворцовая площадь уже была местом мученической гибели. От превращения в некрополь площадь спасло вмешательство представителей творческой интеллигенции (особенно активную роль в этом деле сыграли А. Н. Бенуа и И. А. Фомин, И. Я. Билибин, Е. Е. Лансере, М. В. Добужинский, К. С. Петров-Водкин, Н. К. Рерих, М. Горький, издатель А. Н. Тихонов), которые направили в Петросовет коллективное письмо, где настаивали на том, что Дворцовая площадь представляет собой бесценное архитектурное сокровище[238]. Альтернативой Дворцовой стали Марсовы поля, расположенные неподалеку, с другой стороны Зимнего дворца. По крайней мере, в тот год этому месту суждено было стать самым престижным революционным кладбищем[239].
Наконец 23 марта похороны состоялись. Церемония, погрузившая целый город в траур, дала повод для глубоких раздумий. Толпы демонстрантов шествовали по Петрограду в долгом молчании. Тысячи людей присоединились к процессии, многие прошагали несколько верст от отдаленных окраин города, неизменно спокойные и дисциплинированные. Здесь были и рабочие в поношенных тужурках рядом с одетыми в меха буржуа, и солдаты и медсестры в форме, и дети, укутанные в теплые пальтишки, шапки и шарфы, чтобы противостоять пронизывающему северному ветру. Процессия растянулась по всему Невскому проспекту и далее, на несколько верст, за железнодорожный вокзал. В ее рядах можно было увидеть самых разнообразных деятелей революционного движения и сочувствующих, а также радикальных активистов. Здесь был не только пролетариат и, конечно, не только большевики. На одном из плакатов, который несли участники шествия, было написано: “ВЫ ДАЛИ СЧАСТЬЕ НАРОДУ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ, ПОКОЙТЕСЬ С МИРОМ”. Пели “Марсельезу” – впервые без вмешательства полиции – и полную версию песни “Вы жертвою пали…”. Однако похороны были не только политическим актом. Когда гробы были наконец открыты и выстроены в ряд вдоль будущей могилы, оказалось, что в некоторые из них снова вложены православные кресты.
В представлении будущих лидеров пролетариата подобная церемония не могла обойтись без надлежащей интерпретации. Ввиду того что Ленин все еще находился в Швейцарии, самым высокопоставленным членом большевистской фракции Петрограда на тот момент оказался Лев Каменев. В день похорон газета “Правда”, которую он возглавлял, призывала читателей: “Не плачьте над трупами павших борцов”, опубликовав полный текст “Реквиема” Лиодора Пальмина на первой странице. Среди других материалов того номера была и статья Александры Коллонтай, в которой автор убеждала скорбящих отбросить сантименты, не задерживаться на переживании горя и сконцентрироваться на действии. Настоящим памятником в честь павших, продолжала Коллонтай, станут не слезы или каменные плиты, а “новая, демократическая Россия”[240]. Стиль статьи Каменева еще откровеннее заимствовал религиозную образность. Спустя два дня после похорон, 25 марта 1917 года, он писал: “На развалинах старой варварской России возникла новая, свободная Россия. Кровью павших героев Революции смыла она с себя позор старой России! На трупах февральских борцов построила она Дворец Свободы!”[241]
Будучи большевистским органом, газета “Правда” присвоила в собственных идеологических интересах и длинный список жертв, среди которых были не только те, кто погиб в дни Февральской революции, и провозгласила их мучениками, отдавшими жизнь за общее дело. Каменев объяснял, что раньше не было возможности увековечить память этих людей, и это было очень кстати, так как означало, что их имена можно было назвать сейчас так, как будто бы погибшие стоят за спинами живых членов большевистской фракции. В опубликованном его газетой списке значилось имя Александра Ульянова, брата Ленина, а также имена целого ряда революционеров, включая жертв Кровавого воскресенья, среди которых в действительности практически не было большевиков[242]. Подобная манера обращения с реальностью в последующие годы станет обыденным делом в создании генеалогии нового государства, построенного, как это часто случалось в российской истории, на человеческих костях. Очень скоро форма и значение стихийных выплесков эмоций – подлинного горя и ужаса, которые вывели толпы людей на улицы в эти дни страха, вины и тревоги, – будут заданы “сверху”, а сами эти эмоции направлены в нужное русло. Начинал складываться ритуал – государственный церемониал организованного революционного траура.
Мучениками октября стали 238 человек, убитых за десять дней уличных боев в Москве. Местом их погребения была выбрана Кремлевская стена. Как и Дворцовая площадь, это место было светским символом российской государственности, и тот факт, что выбор пал именно на него, означал, что тела убитых будут размещены в символическом и географическом центре нового политического режима. По случаю похорон в городе приостановили работу все фабрики. Толпы людей вышли на улицы, как в феврале это сделали жители Петрограда, и большевистским лидерам не нужно было фальсифицировать общенародное выражение горе – горе этих людей было неподдельным. В то же время октябрьские похороны стали первой церемонией нового типа. Организаторы выпустили специальные входные билеты. На похороны в организованном порядке приехали делегаты из регионов. Присутствовала и пресса. Ораторы, представлявшие новорожденное советское правительство, в своих выступлениях в основном говорили о социализме, международном пролетариате и задачах, которые стояли перед всем миром. На кремлевских башнях трепетали полотнища флагов с лозунгами: “ДА ЗДРАВСТВУЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА!”, “ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЧЕСТНЫЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ МИР!”, “ДА ЗДРАВСТВУЕТ БРАТСТВО РАБОЧИХ ВСЕГО МИРА!” В процессии находился и американский журналист Джон Рид. Он писал, что слышал “нечеловеческие крики” шедших за гробами женщин, “молодых, убитых горем или морщинистых старух”. Они рыдали, падали на землю, но их плач тонул в шуме громкоговорителей и маршах объединенных военных оркестров[243].
Почести “красным мученикам” 1917-го продолжали воздавать и в последующие годы. В начале церемонии были неорганизованными и спонтанными. Например, в январе 1918 года, в первую годовщину событий 1905 года, отмечавшуюся в послереволюционной России, 9 января стало днем молчания. Никто не хотел помпы и маршей. Фабрики были закрыты, улицы пусты, люди горевали дома, поминая погибших так, как считали нужным и как могли бы это делать в домашних условиях. В последующие годы появилась некая компенсация в виде праздников в честь нового вида святых[244]. Почти сразу же был возведен и заполнен революционный пантеон.
Но кое-чего не хватало. Сравнение с Западной Европой отчетливо показывает, чего именно, хотя, читая исключительно советскую революционную прессу, вы не найдете упоминаний об этом. Конечно, в то время Первая мировая война занимала такую значительную часть общественного сознания, что никто бы и не подумал увидеть в этом проблему. Война была не столько фоном обеих революций, сколько самой сердцевиной того отчаяния, которое вызвало их к жизни. Она сформировала мировоззрение даже революционно настроенных активистов, окрасила их отношение к смерти, дала миллионам их будущих подданных опыт столкновения с насилием и смертью длинной в долгих три года до прихода большевиков к власти, когда ей был положен конец. Она погубила не десятки, а миллионы жизней. Но в силу того, что советский режим после 1917 года не чтил память о Первой мировой войне, она исчезла из большевистского мифа о происхождении советского государства. Едва ли найдется история, более наглядно иллюстрирующая могущество социальной памяти: не существует ни одного советского памятника, посвященного Первой мировой войне[245].
Царская империя, будь у нее эта возможность, не преминула бы вписать бойню Первой мировой войны в собственную историческую мифологию. Как и все остальные европейские страны-участницы конфликта, в первые месяцы войны Россия приветствовала ее начало, потому что, казалось, война сплотила нацию, отвлекла внимание населения от стачек и нехваток продовольствия, направив общественную гнев на врагов, которых каждый мог ненавидеть от души. Интеллектуалы правого толка, опасавшиеся упадка российской духовности, тоже праздновали начало войны, и практически каждый крупный литератор посчитал долгом внести свою лепту в нее написанием патриотических колонок в ежедневных газетах. Даже количество самоубийств пошло на спад[246]. Мужчины уходили “умирать за Христа и Святую Русь”, и церковные колокола звонили в честь священного дела[247]. В действительности церковь немедленно приняла на себя ответственность и заботу о большей части военных потерь. Армейские капелланы – причем не все из них представляли Православную церковь, на фронте были и католические священники, и раввины, и муллы – взяли на себя написание значительной части писем осиротевшим семьям. Священников неизменно приглашали для того, чтобы те благословили братские могилы, которые, как тогда предполагалось, однажды будут оформлены подобающим образом, превратятся в постоянные захоронения, отмеченные надгробием. На фотографиях священники запечатлены в благословляющем жесте, стоящими в полном церковном облачении около огромных курганов земли выше человеческого роста. Каждый из этих курганов обложен дерном или лапником, в каждый воткнуто по простому деревянному кресту.
Никто из тех, кому довелось воочию увидеть фронт, не стал бы идеализировать его. Российские войска, состоявшие как из профессиональных военных, так и из призывников, вынуждены были противостоять неприятелю в отчаянных условиях. Дело было не в плохой экипировке, по крайней мере не в начале войны, но с экипированностью прусских войск им все равно было не сравниться. В то время как на Западном фронте солдаты могли годами биться за небольшой клочок земли во Фландрии или Пикардии, на Восточном фронте воюющие армии преодолевали равнины и болота Польши и Галиции, огибали Карпатские горы, месили в брод бесконечную грязь вдоль Дуная. Все стороны несли существенные потери, но русские, что характерно, потеряли больше людей, чем все остальные. За первый же год войны правительственное ведомство, отвечавшее за сбор имен погибших, оказалось перегружено работой. Точные цифры потерь так никогда и не станут известны. По различным оценкам, они колеблются между 1,6 и 2 миллионами погибших в боях с 1914 по 1917 год, хотя, как объясняют авторы одного исследования, “это число не включает в себя тех солдат, что были комиссованы с фронта раненными или больными и продолжительность жизни которых сократила война”[248]. Эту цифру можно сравнить с данными о погибших подданных Британской империи, потерявшей за четыре года войны (с 1914 по 1918 год) около 767 тысяч человек, Франции (1383 тысячи погибших) или Германии, которая понесла очень тяжелые потери, ведя войну на два фронта (1 686 тысяч человек). Соединенные Штаты, вступившие в войну позже других стран-участниц и не воевавшие на своей территории, потеряли 81 тысячу человек.
А в это время в тылу, в городах по всей России пресса не просто призывала гражданское население удвоить усилия и трудиться еще упорнее. Она начала формировать то, что применительно к другим странам историк Джордж Мосс назвал “мифом военного опыта”[249]. В газете “Олонецкая неделя”, выходившей в одноименной северной губернии, статья под названием “Как умирают наши солдаты”, подписанная “офицером действующей армии”, представляла собой смесь религии, патриотизма, описаний смерти и военного китча. Автор писал, что посетил поле недавней битвы, где обнаружил “пример нашего глубоко христианского способа умирать”:
В этих боях я видел пример настоящей глубоко христианской смерти. Я ехал на разведку, когда увидел одного солдатика, лежащего на спине и по всем признакам совершенно безнадежного. Увидевши меня, он сделал неимоверное усилие и поманил меня. Я, несмотря на то, что страшно торопился, остановился, передал лошадь вестовому, подошел к умирающему и наклонился над ним, солдат слабо пробормотал: “Ваше благородие, крестик снимаете с меня, достать не могу”. Несмотря на то, что крест достать было очень трудно, я снял крест и передал ему в руки. Грудь у него вся была раздавлена осколком снаряда и бинты насквозь промокли кровью… Увидев свой крест, он весь затрепетал, взял в левую руку цепочку, а правую – крест и довольно внятно начал читать “Отче наш”. После первых слов голос его начал слабеть и слабеть… и когда я взял его за руку, то пульс уже не бился. Но его рука все еще держала крест, а глаза так и остались устремленными на распятие. Я перекрестился и не мог без слез отойти от этого героя[250].
Подобного рода статьи могли послужить великолепным (или скорее, хрестоматийным) пропагандистским материалом, прославляющим “наших храбрых ребят”. В сентиментальной литературе, описывающей смерти и горе Гражданской войны 1918–1921 годов, можно найти отголоски этого образа, правда, уже без крестов и молитв. Еще более сильные отзвуки той же темы проявились во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов[251]. Однако после 1917-го большевики не использовали Первую мировую войну для пропаганды. Послевоенное отношение Советов к Великой войне резко отличается от того, какую роль эта война играла в западноевропейском общественном сознании. Россия после 1917 года не пережила расцвет антивоенной поэзии, здесь не появилось своих Уилфрида Оуэна или Зигфрида Сассуна, которые могли бы бросить вызов патриотическому дискурсу самопожертвования. Точнее говоря, в России были свои военные поэты, и некоторые из них описывали калечащий ужас войны, другие посвящали стихи набожности и нации, но их работы не стали частью советского литературного канона. В нескольких случаях эти тексты могли быть позже адаптированы для других нужд без всяких объяснений и использоваться в контексте других конфликтов[252].
Схожая судьба постигла после Первой мировой войны советское искусство. В то время в Европе на руинах 1918 года пышным цветом цвели экспериментальные жанры – дадаизм, сюрреализм, анархические эксперименты с подсознательным. Они бросали вызов старым элитам, маячили знаком вопроса над извечными мечтами о прогрессе и рациональности человека. В советском же официальном искусстве эти направления никогда не играли заметной роли, хотя сюрреалистическое – размытое и неисследованное – было основной чертой частных воспоминаний людей о войне. Напротив, как будто в противовес тому очевидному, что было у всех перед глазами, советский соцреализм в литературе и искусстве вплоть до правления Никиты Хрущева продвигал мысль о том, что освобожденный от угнетения человек в основе своей рационален и добродетелен и что общество возможно усовершенствовать.
Ввиду того что Первая мировая война не стала центральным элементом доминирующего советского нарратива, не стала основополагающим мифом нового государства, наследие войны оставалось неясным, смущало и приводило в замешательство. У каждого были свои воспоминания, миллионы жили с последствиями военного опыта – туберкулезом и осколочными ранениями, потеряв зрение или конечности. Однако в отсутствие публичных норм и моделей частные, личные воспоминания трудно поместить в контекст, особенно когда общество по-прежнему опрокинуто в хаос. Дело не только в отсутствии физических знаков памяти, архитектурного увековечивания войны или в нехватке публичной истории. Коллективная история Первой мировой войны потерялась за время массовых миграций и войны гражданской. Связанные с ней достопримечательности и даже поля сражений были уничтожены, не говоря уже о других формах публичного пространства вроде зданий, улиц, фабрик, церквей, лавок. Семьи были разбиты вдребезги – иногда эмиграцией, иногда безнадежностью, голодом или смертью. Все это означало, что не было и не могло быть “простой истории войны”, “нашей войны”, а вместо этого были миллионы и миллионы разных историй, каждая из которых была такой болезненной, что рассказчик должно быть чувствовал, что его страдание было исключительным, единственным в своем роде.
В месяцы между двумя революциями на Петроградский совет обрушилась лавина писем, свидетельствующих об этой дезориентированности, лишениях, утратах и боли. Десятки тысяч человек просили о помощи в поисках пропавших без вести родственников: “По крайней мере, скажите мне, что их нет в живых, чтобы я мог помолиться за упокой их душ”. Многие умоляли вернуть их сыновей и мужей домой. Уповая на то, что новое демократическое правительство поправит ситуацию, одна женщина писала, что в ее семье “забрали всех”. Другая писала, что грядут нехватки продовольствия и голод, и просила отпустить воинов-мужчин для сельскохозяйственных работ, иначе от голода не спастись[253]. Подобные истории могли однажды стать частью послевоенной государственной мифологии о страдании народа, но у Советской России для этих целей будет свой материал.
Брест-Литовский мирный договор, подписанный в марте 1918 года, ознаменовал собой окончание участия Советской России в европейской капиталистической войне. Условия договора, среди которых была потеря Польши, Украины и балтийских провинций, были для России крайне невыгодны – потерянные территории составляли более трети промышленного потенциала бывшей империи, имели самые плодородные земли и население в 62 миллиона граждан. Однако само по себе поражение не до конца объясняет, почему в последующие годы советское руководство обходило Первую мировую войну молчанием. Германия заработала пропагандистский капитал на расхожем образе “ножа, который в 1918 году вероломно вонзили в спину нации левые мятежники”, и миф об отважных солдатах Первой мировой поддерживал ее в самые тяжелые, унизительные года лишений и невзгод. Для Советской России война оказалась предысторией, катализатором неизбежного, обернувшимся трагедией и напрасными смертями, в которых, как всегда, было повинно самодержавие. Кроме того, сразу после окончания Первой мировой новое государство получит в свое распоряжение миллионы других, более актуальных мертвых тел – тел погибших красных героев Гражданской войны – больше заслуживающих почестей со стороны нового режима.
Цензура не понадобилась, этот эпизод просто обходили вниманием. В 1920-е годы было проведено несколько исторических исследований Первой мировой с точки зрения ее последствий для национального здоровья и экономики, а также стратегии и полководческих навыков высшего командного состава, но сам этот сюжет практически не появлялся в официальных нарративах нового режима[254]. Могильные курганы, затерянные среди болот и топей в западной части бывшей империи, начали зарастать или осыпаться. Сегодняшние раскопки вряд ли позволят с уверенностью сказать, чьи тела покоятся в этих курганах: солдат Первой мировой, гражданской, Великой Отечественной, партизан, дезертиров или даже немцев, – если только исследователю не попадутся клочки сукна с солдатской формы, пуговицы, кокарды, пули или золотые зубы. В 1997 и 1998 годах я опросила пять групп взрослых людей и сделала около двадцати индивидуальных интервью, попросив своих респондентов назвать три войны в истории России XX века, повлекшие за собой наибольшее число смертей. Почти никто не обмолвился о войне 1914 года. Некоторые даже удивились, когда ее упомянула я: “Ах, эта!” Какой поразительный контраст с британским обществом, в историческом сознании которого по-прежнему важнейшее место занимают так называемое “потерянное поколение”, окопы, грязь и посттравматический синдром, порожденный Первой мировой!
Глава 4 Преобразующий огонь
Большевики пришли к власти в стране, которая уже была охвачена хаосом. Система управления и общественный порядок в каждой губернии рушились прямо на глазах. К концу лета 1917 года практически по всей южной части Российской империи (на Украине, среди мусульманского населения Поволжья и в Средней Азии) отмечается рост национальных движений, усугублявших острый общественно-политический кризис в стране. В других регионах страны крестьяне захватывали землю и другую собственность, случались разбойные нападения, а с июля с новой силой прокатилась волна еврейских погромов. Армия тоже разваливалась. В некоторых частях вооруженных сил дисциплина полностью сошла на нет, и дезертирство становилось делом все более обыденным. Солдаты, неделями не получавшие жалованья, давали волю своей ярости. Появились донесения о мятежах в воинских частях, убийствах офицеров и жестоком мародерстве в прифронтовых деревнях[255]. По мере приближения осени в городах участились стачки, и к сентябрю пошли разговоры о планирующейся длительной всеобщей забастовке в поддержку правительства Советов, а не парламентского правительства. “Мы, конечно же, не представляли себе диктатуру пролетариата как диктатуру партии большевиков, – позднее писал выходец из Риги Эдуард Дуне, рабочий подмосковного завода «Проводник». – Мы искали союзников, другие партии, которые желали бы вместе с нами идти путем строительства советской власти… и начинали уставать от слов”[256].
Старый мир таял на глазах. Подобно многим радикально настроенным рабочим, Дуне верил, что пришло время народу взять инициативу в свои руки. Он вспоминал, что рабочие были убеждены: созрели условия для пролетарской диктатуры, ждать больше нельзя, над делом революции нависла угроза[257]. Тем, кто не разделял эту точку зрения, казалось, что сама цивилизация находилась на краю гибели. В июле 1917 года Юрий Владимирович Готье записал в дневнике: “Мы годны действительно только, чтоб быть навозом для народов высшей культуры, и в нашей истории были правы только отрицатели, начиная с Курбского, Хворостинина и кончая Чаадаевым, Печериным и т. п.”[258]. Чуть позже, он горестно подведет итог: “Армии нет, денег нет, вождей нет, никто не хочет работать, все «демократические» слои развращены до мозга костей, кто политиканством, кто «землицей». В городах и в деревне полная анархия. Железные дороги в развале; неурожай в значительной части России. Внешняя война проиграна; внутренняя обостряется. Жизнь этой зимой представляется кошмаром”[259].
Но и пессимисту Готье не дано было предвидеть всю глубину наступающего ужаса. Первая мировая познакомила миллионы призывников с современным промышленным способом ведения войны, с ее пулеметным огнем, окопами, несмолкаемым гулом и грязью. Гражданская война продемонстрировала, на что способен целый народ и что он может претерпеть, когда общество распадается на части, когда его надежды, средства к существованию и само выживание находятся под угрозой. Первые послереволюционные годы можно считать одними из самых ужасных, смертоносных, ожесточенных и зловещих в современной советской истории. По разным оценкам, в них погибло от 9 до 14 миллионов человек – умерли от голода, холода, болезней или пыток, пали на поле боя. Уцелевшие стали свидетелями жестокости в таком масштабе и пережили такие лишения и страдания, которые намного превосходили то, что при царизме выпадало на долю большинства людей за всю жизнь.
Немногим более половины всех смертей, случившихся до 1920 года, стали непосредственным результатом Гражданской войны и вызванных ею эпидемий[260]. Остальные были следствием голода 1921–1922 годов, который охватил южные регионы страны, традиционно производившие зерно. “Люди мерли как осенние мухи, – вспоминал один выживший. – Если бы было возможно, они ели бы вшей, которые во множестве одолевали их, но вши были сильнее и жрали людей, заражая их тифом. Смерть настигала изможденных на работе, дома, на улицах, в дверях, на платформах вокзалов и в общественных уборных. Вши переживали своих хозяев и, будучи голодными, еще долго копошились на окоченевших трупах”[261]. Люди ели землю, траву и падаль. Некоторые ели человеческое мясо. Шестилетняя борьба за перестройку государства через войну и революцию в конце концов поглотила целое общество.
Даже новые вожди Советской России позднее признаются, что их одолевали сомнения. Троцкий писал:
Моментами было такое чувство, что все ползет, рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. Вставал вопрос: хватит ли вообще у истощенной, разоренной, отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового режима и спасения своей независимости? Продовольствия не было. Армии не было. Железные дороги были в полном расстройстве. Государственный аппарат еле складывался. Всюду гноились заговоры[262].
Для тех, у кого были возможности – главным образом для людей состоятельных, – одним из решений в данной ситуации была эмиграция. По некоторым оценкам, за период с 1917 по 1920 год бывшую российскую империю покинули от 2 до 3 миллионов человек[263].
Новости о большевистском перевороте разлетелись поразительно быстро. Готье, находившийся в тот момент в Москве, услышал о случившемся уже в первые сутки после произошедшего. Но, как и большинство его сограждан, на первых порах он был не вполне уверен, как это следует интерпретировать: “Большевическое действие началось в Петрограде и в Москве провозглашением перехода власти к С[оветам] Р[абочих] Д[епутатов]. Это движение по внешним впечатлениям несколько иное, чем все предыдущие – никто ничего не знает, никто толком не осведомлен; в «революционной демократии» раскол, в войсках тоже; никому не хочется начинать первому – и та и другая сторона стоят одна против другой и чего-то выжидают, б. м., того, кто победит в Петрограде. Из Петрограда определенных известий нет, циркулируют всякие слухи, но какие из них соответствуют истине, какие нет – не разберешься”[264]. У Дуне и его товарищей с завода “Проводник” было совсем другое видение тех же самых событий: “В субботу 26 октября появились новости, что в Москве началась стрельба, и что курсанты офицерской школы напали на Совет. Говорили, что в Питере была такая же ситуация и что железнодорожное сообщение между Москвой и Петроградом было прервано”. Вернувшийся из Москвы приятель Дуне так описывал нарастающий хаос, охвативший город: “Через центр маршировали вооруженные кадеты, трамваи не ходили, рабочая милиция была в боевой готовности, но ее члены оставалась на своих рабочих местах, по той простой причине, что оружия у них не было”[265].
Столкновения начались практически одновременно в нескольких городах Российской империи. Рабочая милиция и группы добровольцев противостояли правительственным войскам. Возле административных зданий и железнодорожных вокзалов развернулись настоящие, хорошо спланированные сражения. Передача полномочий новой власти вызвала протест и сопротивление, но на этом этапе стычки и вооруженные столкновения, как правило, были внезапными и неорганизованными. Эти уличные бои кардинальным образом отличались от череды массированных кампаний, последовавших летом 1918 года. Для большинства населения основную трудность в ту первую зиму представляли холод и голод. В январе 1918 года на бумаге одного из “заборных декретов”, по словам Готье, в Москве кто-то сделал следующую надпись:
Что ни час, то совет. Что ни день, то декрет. А хлеба все нет[266].Экономика находилась на грани коллапса. Зимой 1918, 1919 и 1920 годов в городах не было топлива для отопления (люди выламывали паркет, срывали деревянные настилы крыш, жгли все, что только могли, чтобы не замерзнуть). Продовольствие тоже практически иссякло. Зимой 1919 года граждане Петрограда, мужчины и женщины, делавшие революцию ради хлеба, практически голодали. За пределами Кремля в Москве, которая в 1918 году стала столицей, дела обстояли немногим лучше[267]. В этих условиях измученное и ослабленное население столкнулось с серией эпидемий. В 1918–1920 годах бушевал грипп (так называемая испанка), в 1920–1921 годах пришел черед холеры, атаки тифа шли одна за одной. Общий коэффициент смертности в Петрограде взлетел с 23,4 случая смерти на тысячу человек в 1917 году (а это был военный год, год революций) до 70,5 в 1919 году[268]. В декабре 1918 года Готье запишет в дневник о смерти знакомого: “Это 8-я смерть за один месяц. Испанская болезнь, общий упадок, от которого страдают все, плохое питание и холод – делают свое дело. Москва не только разбегается, но и вымирает”[269].
В первые годы советской власти крупные города северной части страны, Москва и в особенности Петроград, пострадали больше других. За период с 1917 по 1920 год население двух столиц сократилось почти на две трети[270]. Однако и в провинции ситуация была не легче. У крестьян реквизировали произведенные ими продукты и зерно, причем этот организованный сверху отъем плодов крестьянского труда зачастую сопровождался насилием. Тех, кто подозревался в укрывательстве продовольствия, нередко избивали или казнили. Через три года лишений и невзгод крестьяне, которые так надеялись наконец-то обрести свободу и справедливый порядок, ответили, в свою очередь, насилием, найдя козлов отпущения: правительство, белых генералов, бывших помещиков и меньшинства в своих собственных рядах – чужаков, переселенцев другой национальности и евреев. Количество погромов увеличивалось весь 1918 год и достигло пика в 1919-м, в самое страшное время Гражданской войны. Считается, что с 1917 по 1920 год в погромах, особенно в западных частях бывшей империи, было убито около 200 тысяч человек. В числе нападавших – крестьяне и солдаты от каждой из воющих сторон: националисты, белые, партизаны, а иногда и красные[271].
Разразившийся кризис, который охватил практически все стороны человеческого существования, опрокинул устоявшийся жизненный уклад. Сельское хозяйство было обескровлено войной и бандитизмом, фабрики практически прекратили работу. К 1920 году уровень промышленного производства составлял лишь одну пятую от довоенного уровня[272]. Выживание городского населения зависело от меновой торговли. “ [Ч]тобы прокормиться, каждый день приходилось пускаться в спекуляции, и коммунисты поступали так же, как и все остальные”, – писал Виктор Серж (Кибальчич)[273]. Рабочие, которые прежде могли рассчитывать на регулярные зарплаты, теперь вынуждены были изготавливать подходящие товары для обмена на продовольствие. В результате, как отмечал Серж в Петрограде, заводы были “мертвы”: “Чтобы прокормиться, надо было крутиться на черном рынке, а не работать. Рабочие проводили время на мертвых заводах, изготовляя ножи из деталей станков и подметки из приводных ремней, чтобы обменивать их на толкучке. Промышленное производство упало по меньшей мере на 30 % по сравнению с уровнем 1913 г. Чтобы добыть немного муки, масла или мяса, нужно было уметь дать крестьянину, незаконно привозившему их, мануфактуру или вещи. К счастью, в городах в квартирах бывшей буржуазии оставалось немало ковров, драпировок, белья и посуды. Из кожаной обивки диванов делали сносную обувь, из занавесок – одежду”[274].
Транспортная система тоже погрузилась в хаос. В годы Первой мировой войны на железные дороги легла чрезмерная нагрузка, при этом они совсем не ремонтировались, так что вся система железнодорожного сообщения в стране была на грани коллапса еще до начала Гражданской войны. С 1918 года нагрузка на этот транспорт усилилась еще больше: к ней добавилось изъятия вагонов, временные задержки и сбои движения, а также повсеместный саботаж. А кроме того, годы Гражданской войны были временем массового “переселения народов”: железные дороги и основные водные артерии должны были перевезти миллионы беженцев[275]. На каждой станции можно было увидеть группы женщин, пытающихся справиться с грудой узлов, оборванных детей, дезертиров и рабочих с ввалившимися глазами, бежавших из голодных городов. В вокзальной толпе также жались друг к другу, опасливо сбившись в кучу, “социально чуждые элементы” – легко опознаваемые по грамотной речи, гладкой коже рук и резким словам, которыми они отчитывали глазеющих детей. Самые состоятельные нашли более безопасные пути отъезда из России в Китай и Францию, и поезда уносили к новой жизни, которую пока даже невозможно было вообразить, тысячи и тысячи менее удачливых представителей буржуазии. Их сбережения превратились в пачки бесполезных купюр – хорошо, если удавалось зашить в подкладку пальто и тем самым сохранить несколько драгоценных камней или немного золота[276].
К какому бы классу ни принадлежали путешествующие, какова бы ни была цель их поездки, они всегда были беззащитны и уязвимы. Их мучили голод, усталость, а подчас и холод. Они ехали в набитых битком душных вагонах или на палубах речных пароходов, где их косили болезни. Если верить докладу 1919 года, огромное число беженцев, прибывших в Москву, умирало прямо на железнодорожных вокзалах в течение суток после приезда[277]. А кроме того, беженцы способствовали распространению заболеваний. В те годы даже в небольших городах по пути следования беженцев наблюдался рост смертности, опережавший естественный прирост населения[278]. Кризис привлек к себе внимание правительства еще до ленинского переворота. В сентябре 1917 года врачи, которые соглашались работать с жертвами холеры, получали бронь и освобождались от службы в армии. Но этих мер оказалось недостаточно. Медики сами начали умирать от холеры, а голодающие не получали никакого продовольствия. Как отмечали власти Саратова в 1919 году, государству бесполезно издавать декреты о карантине и санитарных мерах, когда у людей из еды нет даже хлеба[279].
Болезни, пришедшие вслед за голодом и истощением, стали причиной наибольшего числа смертей, однако и война унесла в те годы огромное количество жизней. Правильнее говорить не об одной, а о нескольких гражданских войнах. В истории эта война осталась главным образом как противостояние красных и белых, революционеров и монархистов, консерваторов, однако у большевиков были и другие противники, и другие войны, которые могли не иметь никакого отношения к Москве. Отдельные формирования Белой армии двигались к столице из Сибири и с Урала, с юга (от Дона) и от лесов и болот к северу от Петрограда. Однако весной 1918 года побежденные эсеры, партия большинства в бывшем Учредительном собрании, объявили себя настоящим социалистическим правительством новой России и собрали еще одну армию, которая дислоцировалась в Самаре и получила подкрепление в лице бывших чешских и словацких военнопленных. Многопартийные советы сразу в нескольких городах за пределами Петрограда также выступили с осуждением большевистского переворота. У участников нерегулярных вооруженных формирований, известных как “зеленые”, была самая широкая повестка из всех: от защиты прав крестьянства до обновленных национализмов. У войны было и международное измерение: британские, французские, польские и японские войска вторглись в Россию со стороны Мурманска, Архангельска, Одессы и Дальнего Востока. На Кавказе полыхали ожесточенные националистические войны – например, между давними историческими врагами, такими как азербайджанцы и армяне. В некоторых областях, особенно за пределами России как таковой, военные действия продолжались вплоть до 1923 года[280].
Каждая из этих войн была примитивной, “первобытной”, если пользоваться термином Льва Разгона, одного из свидетелей тех событий[281]. В самые беспросветные, полные анархии годы у людей была только одна цель: выжить. Не было ни одной части империи, которая осталась бы не затронутой происходящим. Однако в каждом регионе страны люди были уверены, что их война единственная в своем роде. Возможно, изолированность регионов и всеобщее недоверие к слухам помогли сохранить некоторое ощущение надежды. В конце концов, как уместить в сознании эти сцены: горы изуродованных трупов с отрезанными руками и ногами и с выколотыми глазами, а такое встречалось почти в каждом провинциальном городе! Ряды обгоревших тел – полностью обуглившееся, покрытое волдырями, распухшее человеческое мясо – частая картина в бесчисленных деревнях по всей степи[282]. Каждый, у кого была такая возможность, в отчаянии писал в Москву. “Известно ли вам о том, что происходит в сельской местности?” – спросил бывший товарищ Владимира Бонч-Бруевича, друга и помощника Ленина в 1918 году[283]. “Где наша честь? Где наша любовь к свободе?” – писал бывший большевик, приходя в отчаяние от той бойни, которую наблюдал вокруг[284].
Красногвардейцы вроде Эдуарда Дуне осмысляли происходящую катастрофу в терминах политической реакции. Он писал: “События разворачивались не согласно некой заранее просчитанной системе мира, мирового труда и мировой революции, но путем мировой контрреволюции. ‹…› В апреле 1918 года в Красной Армии насчитывалось всего 106 тысяч добровольцев[285], но к осени из призывников было сформировано 299 полков. ‹…› Враги появлялись со всех сторон, не давая центру получать поставки, сырье и топливо для умирающей промышленности. ‹…› Невозможно было оставаться пассивным наблюдающим, когда судьба Советской республики решалась не здесь, в тылу, а там, куда посылались наши войска”[286]. Для Готье в противоборстве было больше анархического – очередная вспышка примитивизма со стороны “горилл”. В любом случае организованное противостояние было лишь еще одной составляющей общего противостояния. Во время Гражданской войны никакой гражданской жизни не существовало. Все могло стать частью чьей-то военной кампании: от добычи угля до торговли, борьбы с дезертирами и битвы за урожай.
Важным элементом политической и военной стратегии каждой из воющих сторон – будь то красные, белые, зеленые, анархисты (черные) или националисты – был террор, в том числе массовые убийства гражданских лиц. В сумятице боевых действий шокированным очевидцам казалось, что убийства имеют абсолютно произвольный характер, однако на самом деле они отнюдь не были слепыми и иррациональными. Красные, например, прибегали к террору, для того чтобы установить дисциплину в армии, сломить сопротивление потенциально враждебных групп среди гражданского населения и покончить с довольно значительной оппозицией – начиная с анархистов и заканчивая социалистами-революционерами, эсерами, – которая все еще существовала в первые три года большевистского правления. С лета 1918 года, когда было положено начало печально известному Красному террору, массовые убийства использовались в качестве инструмента пропаганды. Попытка покушения на Ленина в августе 1918 года послужила предлогом для дальнейшей эскалации насилия[287]. 5 сентября газета “Петроградская правда” напечатала так называемый “Приказ о заложниках”, изданный наркомом внутренних дел Г. И. Петровским, в котором, в частности, говорилось: “Все известные местным Советам правые эсеры должны быть немедленно арестованы, из буржуазии и офицерства должны быть взяты значительные количества заложников. При малейшем движении в белогвардейской среде должен применяться безоговорочный массовый расстрел. ‹…› Отделы управления через милицию и чрезвычайные комиссии должны принять все меры к выяснению и аресту всех скрывающихся под чужими именами и фамилиями лиц, с безусловным расстрелом всех замешанных в белогвардейской работе”[288].
Большевистская организация, в значительной степени ответственная за подобную жестокость, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, или ЧК, была создана в декабре 1917 года. Во главе ее встал Феликс Дзержинский. Изначально организация была довольно скромных размеров – всего несколько десятков человек, но она быстро росла и расширялась и занималась самым разнообразным кругом вопросов, от экономической спекуляции и подавления религии до антибуржуазной классовой войны. К лету 1918 года, то есть к моменту начала Красного террора, ЧК уже успела приобрести зловещую известность. Социолог Питирим Сорокин писал: “Машина красного террора работает безостановочно. Каждый день и каждую ночь в Петрограде, Москве и по всей стране растут горы трупов. ‹…› Каждый день арестовывают так много людей, что монастыри и школы переоборудуют в тюрьмы. Утром никто не знает, будет ли он на свободе к вечеру”[289].
Расстрелы происходили повсеместно, как в провинции и деревнях, так и в крупных городах. В ноябре 1918 года декрет военно-революционного комитета Оренбурга оповещал население, что за малейшую попытку любого рода партизанских контрреволюционных сил сбросить Советскую власть все офицеры, аристократия и белогвардейцы в руках Советской власти в Оренбурге будут расстреляны. За каждого убитого красногвардейца… будут расстреляны десять представителей буржуазии Оренбурга[290].
Белые действовали с не меньшей методичностью. Николай Бородин вспоминал, с какой отталкивающей покорностью приняла свою участь группа военнопленных красноармейцев, когда каждого пятого в этой группе стали расстреливать перед толпой собравшихся зевак из числа гражданского населения. “Когда наступал их черед, каждый приговоренный быстро раздевался, как делают солдаты, и отложив сложенную одежду, шли в своем изношенном грязном исподнем к последнему месту упокоения, стараясь не наступать в холодные дождевые лужи босыми ногами. На краю могилу некоторые из них что-то шептали, и никто не знал, молитвы то были или их последняя клятва. Некоторые крестились по православному обычаю и затем быстро исчезали в могиле”[291].
Жертвы обычно сами выкапывали себе братские могилы. Бородин, который в то время был практически ребенком, запомнил цвет и вязкую влажность земли: “После первого слоя почвы шла ярко-желтая глина. Куча глины покоилась с одной стороны могилы. Она была липкой и тяжелой после дождя, так что там и сям струйки желтой воды сбегали в могилу”. Подобная бойня была делом типичным, обыденной, повседневной реальностью Гражданской войны. Человеческая жизнь была настолько малоценной, что едва ли имело значение, сразу ли умерли жертвы или нет. Бородин вспоминал: “Могила была покрыта глиной, и на следующий день можно было увидеть торчащие из нее руки и ноги казненных, некоторых из них слабо шевелились”[292]. В 1918 и 1919 годах жертв террора в Москве, как запишет в своем дневнике Готье, обычно “сваливали” на Калитниковском кладбище[293]. Другие груды тел оставляли ночью перед воротами местных больниц[294]. Трупы повешенных могли висеть по несколько дней, тела расстрелянных оставляли валяться на улицах. Полковник Михаил Дроздовский, воевавший на Дону и Кубани, написал в своем дневнике: “Мы живем в страшные времена озверения, обесценивания жизни. Сердце, молчи, и закаляйся, воля, ибо этими дикими, разнузданными хулиганами признается и уважается только один закон – «око за око», а я скажу: «два ока за око, все зубы за зуб», «поднявший меч»…”[295].
Гражданское население, проживавшее на определенной территории, поголовно становилось потенциальной мишенью для насилия со стороны любой из противоборствующих армий. В акциях отмщения за революцию, царизм или любые эксцессы Гражданской войны уничтожались целые социальные группы. В Макеевке на Дону белые войска под предводительством генерала Каледина на ранних этапах войны нападали на рабочих, выкалывали глаза шахтерам, одним перерезали глотки, других сбрасывали в открытые шахты. Помимо этого, белогвардейцы возродили практику публичных телесных наказаний, бытовавшую в самые мрачные дореволюционные годы, и до смерти пороли крестьян в отместку за поддержку революции и самовольный захват земли[296].
Эти порки напомнили крестьянам все то, что они рисковали потерять в случае победы крайне правых сил. По большей части крестьяне не приветствовали установление большевистской власти, однако возвращение помещиков означал бы потерю недавно обретенной земли и свободы, то есть обычно воспринималось как большее из двух зол. Однако в то же самое время крестьянское представление о “нас” и о “них”, о “нашем” и обо всем остальном означало недоверие по отношению ко всем чужакам, а большевики в своей решимости установить порядок не утруждали себя знакомством со всеми сложностями деревенской жизни. Как писал Питирим Сорокин:
Наблюдая гражданскую войну, борьбу сторонников власти с ее противниками, мы видим с той и другой стороны невероятные акты жестокости и садизма, редко имеющие место в обычных войнах. Люди озверели и свои жертвы убивали не просто, а с изощренными пытками ‹…› прежде чем убить пленника, его подвергали десятку пыток: обрезали уши, вырезали у женщин груди, отрубали пальцы, выкалывали глаза, вбивали под ногти гвозди, отрезали половые органы, иногда закапывали жертву в землю, привязывали ее к двум согнутым деревьям и медленно разрывали, защемляли половые органы и т. д., и т. д.[297]
Молодой красный герой Тухачевский решил в 1921 году “зачистить ядовитым газом” Тамбов. “Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось”, – приказал он[298].
Но террор был орудием борьбы не только с внешним противником, его можно было использовать и против собственных войск или гражданского населения на своей стороне. Троцкий не останавливался перед подобным внутренним применением террора при создании своих вооруженных сил. “Коммунисты убеждали, разъясняли и подавали пример. Но было ясно, что одной агитацией не сломить настроения, да и обстановка оставляла слишком мало времени. Надо было решиться на суровые меры”, – писал он[299]. На самом деле ему было прекрасно известно, что его людей парализовал не страх, а полное отсутствие сил. К 1917 году многие из них уже три года только и делали, что беспрерывно воевали, а некоторые – ветераны Русско-японской войны – не снимали форму еще дольше. От революции, своей революции, они хотели мира и возможности вернуться домой, начать работать – главным образом на земле, – чтобы просто не умереть с голоду[300]. Один из таких людей писал в 1917 году: “Мы уже достаточно послужили нашей дорогой земле, мы отдали все свои силы, мы пролили кровь. Мы потеряли годы своей молодости”[301]. Лояльный новой власти Дуне отмечал, что “многие не столько беспокоились за свою шкуру, сколько тревожились по поводу беспорядков в тылу. Многие пали духом из-за повсеместной неразберихи и разброда”[302].
Убеждение было бы слабой мотивацией для этих уставших и оголодавших людей. Вместо этого на фронте была снова введена смертная казнь, отмена которой в армии в свое время стала первым завоеванием Февральской революции. Официальный приказ Троцкого, зачитанный во всех частях армии, звучал так: “Предупреждаю: если какая-либо часть отступит самовольно, первым будет расстрелян комиссар части, вторым – командир. Мужественные, храбрые солдаты будут поставлены на командные посты. Трусы, шкурники и предатели не уйдут от пули. За это я ручаюсь перед лицом Красной Армии”[303]. Солдатам, которые за несколько месяцев до этого называли смертную казнь “варварской мерой”, подписывали петиции против применения ее в военное время и считали ее “угрозой демократическому государству”, теперь пришлось выбирать между пулей от своих или дополнительными двадцатью месяцами военной службы[304]. В текстах Троцкого не было ни следа раскаяния или колебания: “К загнившей ране было приложено каленое железо”[305].
Любовь Троцкого к дисциплине способствовала распространению общего разочарования вне партийных рядов. Позднее он той же железной рукой будет применять жесткие дисциплинарные меры к промышленным рабочим из числа гражданского населения. Некоторые из тех, кто в 1917 году числился ярым сторонником большевиков, начинали сомневаться в новом порядке. Бывший активист из Владимирской губернии в 1918 году жаловался, что большинство провинциальных товарищей считают любого, кто посмеет открыть рот, контрреволюционером. Другие полагали, что насилие контрпродуктивно, потому что оно отталкивает потенциальных коммунистов. А еще обыкновенные люди боялись духов мертвых, признаваясь, что избегают посещать свежие могилы, потому что их преследуют призраки жертв их собственной жестокости[306]. Один мир был до основания разрушен, а мир иной, загробный, стал зловещим и мрачным. Для веры не оставалось никакого прибежища.
Главной альтернативой революционного идеализма и самым очевидным источником коллективного утешения была религия, но на нее тоже велось массированное наступление. Бородин вспоминает, как видел неизвестного священника, молившегося на могилах: “Да упокоятся с миром наши павшие братья, имена которых, только Тебе, Господи, известны”. А потом священник исчез, и поговаривали, что его выдали красным и расстреляли, за то что он симпатизировал белым[307].
Священники, как и представители буржуазии, в любых обстоятельствах могли считаться заведомо виновными. Как писал в 1920 году заведующий секретным отделом ВЧК Т. П. Самсонов председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому: “Коммунизм и религия взаимно исключаются” – и добавлял зловеще: “Религию разрушить не сможет никакой другой аппарат, кроме аппарата ВЧК”[308]. Гражданская война и даже в большой степени голод 1921 года дали большевикам целый ряд предлогов для закрытия церквей, арестов священников и захвата церковного имущества[309]. И для тех, кто относился к религии с долей скепсиса, и даже для тех, кто полностью ее отрицал, подобного рода действия обернулись уничтожением значительной части знакомого мира. Это оказалось серьезной потерей в ситуации, когда другие формы утешения стали большой редкостью.
Каждый русский писатель, ставший свидетелем тех событий, не мог обойти своим вниманием крах надежды и веры, отсутствие ощущения физической безопасности и наиболее очевидную примету времени – потерю уважения к человеческой жизни. Многие задавались вопросом, какими будут долгосрочные последствия всего этого. На самом деле их страхи возникли еще до Гражданской войны и даже до прихода к власти большевиков. “Человеческая жизнь стала дешевой, очень дешевой, слишком дешевой, – писал сотрудник газеты “Рабочая жизнь” в 1917 году. Его озабоченность в первую очередь касалась Первой мировой войны: – Четвертый год льется человеческая кровь. Четвертый год человечество приносит в жертву Молоху войны свое наивысшее достижение – и бесценный дар – свою жизнь… Человек утратил лучшие аспекты своей природы, любовь, сострадание”. Последствия этого, как ему представляется, будут ужасными. Если война продолжится, “если молодое поколение, дети, вскормлены в отвратительной атмосфере насилия и кровопролития, тогда на смену старшему поколению придут не новые защитники лучших идеалов человечества, а человеческие чудовища, способные реализовывать только самые низменные формы существования”[310].
В течение двух лет тот мир, что так тревожил автора этих строк, исчезнет, растворится в бойне такого масштаба, что даже ему не дано было вообразить. Насилие, сопровождавшее Гражданскую войну, было настолько тошнотворным, настолько беспощадным, что мало кто мог уцелеть, не изменившись в ту или иную сторону. Эксперты, врачи и психиатры, консультировавшие ленинское правительство, не обходили эту тему стороной. По словам врачей, супругов Лидии и Льва Василевских, авторов популярного медицинского очерка о голоде, несколько лет побоища не могли не повлиять на народные массы. В книге описывалось новое явление, неизвестное прежде, даже в голодный 1891 год: каннибализм среди голодающих. Авторы утверждали, что люди так привыкли к кровопролитию, что их уважение к человеческой жизни – чужой и своей собственной – субъективно понизилось[311]. Психиатр Петр Ганнушкин пошел еще дальше и в 1922 году убеждал Ленина, что примерно половина населения Россия страдает той или иной формой душевного расстройства: “Ненормально, когда сыновья убивают своих отцов, а отцы – своих сыновей”. По мнению Ганнушкина, с течением времени причиненный вред только усугубится потому что эти “ненормальные” сыновья произведут на свет собственных детей[312].
Историки, пишущие о Гражданской войне, как правило, соглашаются с подобной оценкой. Согласно общепринятой точке зрения, эта война способствовала “остервенению” населения и “огрубению” общественной жизни, а также активно способствовала становлению политической культуры бездушного насилия и пренебрежения человеческой жизнью. Принято считать, что именно на таком фундаменте и был построен сталинизм[313]. Многие советские работники, осуществлявшие в последующие годы убийства и расстрелы, выучились подобным методам на фронте. Осаждаемое и критикуемое со всех сторон ленинское правительство опиралось на беспринципных типов, бывших преступников и даже, если верить некоторым источникам, настоящих психопатов[314]. Наиболее жестокие их них получали повышение по службе, потому что новой власти требовались их умения и навыки, и, в свою очередь, продвигали по карьерной лестнице себе подобных. Считается, что насилие и травма оказали такое же мощное формирующее влияние на советское будущее, как и любая идеология, давление экономических факторов или конфликты относительно тактики.
Внутри этой общей схемы погребено несколько отдельных теорий, но не все из них одинаково просто верифицировать. Нет никаких сомнений в том, что риторика и практика Гражданской войны наложили устойчивый отпечаток на общественную жизнь в стране. Верно и то, что на всем обществе лежало клеймо жестокости и озверения. Всевозможные виды насилия, включая убийства и бандитизм, стали делом куда более обыденным, чем прежде. Население постепенно привыкло к новостям о кровопролитии; группы солдат выбирали “лучшие” образцы среди тел своих жертв, валявшихся в полях, и непринужденно болтали, вырывая у трупов золотые зубы[315]. Все аспекты жизни, связанные с социальным обменом и коммуникацией, включая язык как таковой, стали грубее, фамильярнее и бесцеремоннее[316]. Но если приложить этот тезис об озверении и ожесточении не к сообществу в целом, а к индивидуумам, то он будет уже не таким стройным, покажется скороспелым, неуклюжим, слишком общим, даже негуманным. Как часть общих бихевиористских теорий, бесчувственность и ожесточение, возможно, легко применимы к интерпретации документальных и статистических данным, но они с куда большим трудом выдерживают испытание частным, индивидуальным свидетельством. Одни люди поступали жестоко, другие – нет. Долгосрочное влияние опыта насилия и жестокости на разных людей было также глубоко индивидуальным.
Это ставит перед нами неприятные, тревожные вопросы. Должно быть, легче представить себе, что виновниками и жертвами эксцессов Гражданской войны были звери в человечьем обличье, чем взглянуть в лицо более простой и обыденной правде. Люди поступали так, как поступали, из страха, по приказу, под влиянием идеологического рвения и пыла, в жутком подражании своим врагам, в панике, в ярости, из мести, выношенной холодным и рассудочным сознанием. Часто они вспоминают, что голод притуплял все чувства, делал людей эмоционально омертвелыми, но он не превращал их в представителей какого-то другого биологического вида, и их поступки вовсе не всегда были слепыми и истерическими[317]. Кроме того, не стоит забывать о выздоровлении. Некоторые страдали, не в силах спастись от тех злодеяний, которые продолжали жить в их сознании. Большинство этих людей не дошли до звероподобного состояния сами и хотели покончить с насилием, но они были больны, травмированы. Однако, вопреки опасениям Ганнушкина, эти люди составляли меньшинство. Большинство уцелевших, из тех, кто пережил насилие, сохранили душевное здоровье и вменяемость и в большинстве случаев смогли заново отстроить свои жизни. В 1920-е годы они обычно хотели мира, домашнего очага, спокойной работы в конторе. Новый мир мог отчасти компенсировать пережитое, удовлетворив некоторые потребности. Другими словами, даже самые экстремальные события, в конце концов, были ассимилированы и вписаны (хотя и не полностью, в отредактированном и искаженном виде из-за вторжений отрывков официального нарратива) в свод прожитого, непрерывного человеческого опыта.
“Большевики одержали верх и чувствовали, что это их идеи помогли им добиться своего… Диктатура и террор привлекали их как средства решения проблем”, – пишет Роберт Сервис[318]. Это поразительно точное обобщение, по крайней мере применительно к элите. На протяжении десятилетий в политическом стиле большевиков видную роль будут играть образы Гражданской войны, военный жаргон и немногословные директивы, больше похожие на военные приказы. К образу сражающегося государства, находящегося “в кольце врагов”, который запомнился еще со времен британской, французской и японской интервенции, можно было апеллировать в любой момент, чтобы оправдать царящее в стране ощущение осажденной крепости, репрессии против оппозиции и всеобщую бдительность и настороженность[319]. В системе, направленной на централизованное принятие решений, локальные нужды и желания легко оставались незамеченными. Проблемы и недопонимания, возникающие в регионах, зачастую игнорировались или откладывались в долгий ящик и их пытались решать наскоком, при помощи обобщенных и волюнтаристских директив[320]. Однажды начавшийся террор искоренить было непросто. В 1922 году ЧК была реструктурирована и формально распущена; ей на смену пришло ГПУ (Государственное политическое управление при НКВД РСФСР), в 1923 году преобразованное в ОГПУ при СНК СССР. Но даже новобранцы органов называли себя чекистами и не забыли целей и методов организации-предшественницы. Дзержинский возглавлял ОГПУ вплоть до своей смерти в 1926 году.
Тезис о том, что в годы Гражданской войны вырос и расцвел определенный тип политика, также в значительной степени справедлив. Непосредственное окружение Ленина по большей части состояло из тех, с кем он познакомился в Европе, людей вроде Каменева и Зиновьева, каждый из которых во время Гражданской войны успел поработать на нескольких ответственных постах, наряду с наиболее опытными товарищами из “русской фракции” (так называли тех мужчин и женщин, которых 1917 год застал на территории Российской империи в ссылке или на свободе). Однако для формирования и комплектации правительства этого было недостаточно. За годы Гражданской войны партия выросла и эволюционировала, и интеллектуальный стиль ее новых членов подчас отличался от стиля основателей партии и “старых большевиков”: у них были более прямолинейные управленческие амбиции и меньше моральных принципов и колебаний.
“Европейские” товарищи Ленина, как и многие учредители партии и, конечно, ее интеллектуальная элита, не были такими неотесанными, а часто и такими практичными, как поколение, вышедшее на передний план после 1918 года. Каменев, например, никогда не поддержал бы террор. В январе 1918 года ему и Дзержинскому (странная парочка!) поручили составить свод практических правил для ЧК. Как и следовало ожидать, им не удалось найти общий язык. Книгочей Каменев писал Ленину, что его комментарии были чуточку радикальны. На самом деле то, что он предложил, было советской версией habeas corpus[321], согласной которой ни один человек не должен был задерживаться без предъявления обвинения дольше, чем на трое суток. Черновик этого предложения до сих пор хранится в архиве. Рукой Дзержинского на нем зачеркнуто слово “сутки” и вместо него вписано “месяцы”[322]. Но Каменев не сдавался. Позднее в том же 1918 году он опротестует конкретные случаи злоупотребления властью. В то время количество арестов в Москве перевалило за тысячу в месяц, но в той конкретной ситуации Ленин лично рассмотрел дело и отмел выдвинутые против задержанных обвинения[323].
И все-таки люди, подобные Каменеву, были быстро истощаемым ресурсом партийной элиты. Сам Дзержинский тоже был революционером с большим стажем, но особый спектр его талантов развился благодаря кризису, разразившемуся после ноября 1917 года. Других партийцев поощряли, если в чрезвычайной ситуации они брали на вооружение этот бесцеремонный политический стиль. Они и сами обнаруживали, что грубая манера, которой они отдавали предпочтение и которая была недопустима при других обстоятельствах, не только оказывалась вполне приемлема во время войны, но и безусловно сулила явные преимущества. Одним из таких “грубых управленцев” был сам Сталин, талантливый, но весьма неприветливый товарищ, вошедший в руководящий комитет Закавказской социал-демократической организации в 1904 году. Казалось, его особенно интересуют администрирование и национальный вопрос. В жестокие годы войны его грубость и мстительность было легко проглядеть, и в любом случае его организаторские навыки тогда были чрезвычайно остро востребованы. Только со временем, уже в мирные годы последствия выдвижение Сталина на руководящие позиции в партии начали тревожить даже Ленина. Троцкий тоже был вольнодумцем, идущим против течения. Его репутация основывалась на его роли тактического руководителя октябрьского переворота, однако место “второго человека в государстве после Ленина” вплоть до 1924 года за ним закрепило его руководство Красной армией.
Но по-настоящему изменились за годы Гражданской войны именно региональные отделения партии за пределами привилегированных кремлевских кругов. Тысячи представителей “старого поколения” покинули ее ряды, чтобы избежать призыва в Красную армию, хотя еще чаще причиной было разочарование. Раньше их целью было установление советской демократии, теперь же это дело было проиграно. Вместо советской демократии возникли однопартийная система управления и террористическое правительство, управлявшее при помощи декретов. Те, кто пришел на смену разочаровавшейся старой гвардии, не видели ничего зазорного ни в однопартийной системе, ни в таком правительстве. Этим людям были не чужды “командно-административные методы”, многие из них заработали репутацию на фронте, а затем закрепили при помощи военных по духу и стилю кампаний за трудовую дисциплину, принудительное изъятие зерна и восстановление экономики. Одним из таких партийцев был Карл Бауман, латышский левый, возглавивший Московский губком в 1929 году. Другим – Лазарь Каганович, поразительный долгожитель, уцелевший в сталинском окружении, человек, чья репутация сложилась в годы его репрессивного правления в охваченном Гражданской войной Нижнем Новгороде, где в качестве председателя Нижегородского губкома РКП(б) и губисполкома с мая 1918 по август 1919 года Каганович развязал массовый террор, включавший расстрелы заложников из числа “классово чуждых элементов”.
Эти мужчины и женщины нового образца были уверены в своей непогрешимости. Они верили, что оппозиция обречена. Пережиткам старого мира не было места в мире новом. Террор был неизбежен, ибо он служил поставленной цели. Никто из них ни за что бы не признался в том, что получает удовольствие, прибегая к террору. Согласно знаменитому предписанию Дзержинского, у чекиста должны быть “холодная голова, горячее сердце и чистые руки”. Девяностолетняя Юдифь Борисовна Северная, дочь чекиста времен Гражданской войны, вспоминает своего отца как воплощение именно этого идеала – идеала неподкупного госслужащего. Борис Северный (Юзефович) возглавлял ЧК в Одессе, крупном портовом городе на Черном море. Его дочь вспоминает, что Одесса была постоянно охвачена хаосом и паникой. “Гайдамаки, петлюровцы, немцы, белогвардейцы непрерывно сражались врукопашную, – вспоминает она различные силы, боровшиеся за Украину. – А еще французская интервенция. Отец всегда возглавлял подпольную контрразведку. Главным направлением его работы всегда была разведка”. С этой убежденности ее невозможно сбить никакими вопросами и наводящими комментариями. В ответ она всегда отвечает, что вокруг “кишели враги советской власти, была масса бандитов, мы должны были установить какой-то порядок. Бандитизм был ужасающий”. Когда его дочь, привилегированный член новой элиты, начала брать фортепьянные уроки, ее отец все еще разбирался с “ужасающим” беспорядком на улицах города[324].
На самом деле общий кризис в некотором смысле даже упростил отдельные аспекты работы, выпавшей Борису Северному и ему подобными. 17 июля 1918 года Юрий Готье вопрошал в дневнике: “ [Ч]то же творится и творится ли вообще что-нибудь?” В действительности бывший царь Николай II и вся его семья были только что расстреляны. Приказ об убийстве царской семьи, совершенном 16 июля, пришел из столицы, хотя организовала и исполнила его группа местных екатеринбургских большевиков[325]. Однако выстрелы, прозвучавшие в подвале Ипатьевского дома, остались практически незамеченными в общей неразберихе. Над самим Екатеринбургом нависла угроза пасть под натиском Белой армии. В других областях страны перед бывшими подданными царя стояли не менее острые вопросы, требующие безотлагательного решения. Готье упоминает убийство Николая II только спустя несколько недель и то почти мимоходом (после длинного пассажа, в котором обсуждает собственные планы отъезда в Харьков)[326]. В раздробленном, пошедшем трещинами мире, изголодавшемся по новостям, не составляло особого труда внедрить и более прямую цензуру, способствующую зарождающейся культуре секретности.
Однако помимо цензуры формировалось и новое мировоззрение. Начал складываться новый публичный язык, новый способ описания мира в идеологических терминах. Можно сказать, что размывание слов и смыслов, которое этот процесс повлек за собой, было куда более эффективным, чем откровенная цензура, и нет никаких сомнений в том, что незаметно, исподволь он отравлял работу скорби, горя и памяти. Рассуждая о психологии масс в эпоху революции, Питирим Сорокин писал: “Они зачарованы великими иллюзиями. Загипнотизированные, они не видят того, что реально происходит вокруг них. Вокруг творятся зверства и убийства – они твердят о начавшемся осуществлении братства. ‹…› Повсюду идет внешняя и внутренняя война – массы усматривают в этом начало создания вечного и универсального мира. В реальном мире идет рост небывалого неравенства: большинство лишается всяких прав, меньшинство – диктаторы – становятся неограниченными деспотами – массы продолжают видеть в этом реализацию равенства. Кругом растет моральный развал, вакханалия садизма и жестокости – для масс это подъем морали”[327]. Те, кто был настроен критически по отношению к происходящему, не участвовал в парадах и не размахивал красным флагом, могли сосредоточить свое внимание почти исключительно на собственном выживании. 15 июля 1918 года, будучи на даче, Готье записал в дневнике: “С раннего утра вышли косить”, “[г]азеты не пришли вовсе; слухов из Сандова также не привезли никаких”, “остается ждать, косить и, по мере сил и возможности, работать за письменным столом”, – а 19 июля добавил: “Вчера я ничего не записывал, потому что весь день работали; косить пришлось в общем около 6 часов”[328]. Мир “Совдепии”, как называл он новое правительство в подражание советскому увлечению аббревиатурами, оставался чем-то отдаленным и отдельным от его московского кабинета и дома в Загранье.
Новую мораль куда в большей степени интересовало будущее революции, чем отдельные жизни и смерти граждан. Насилие само по себе часто представлялось необходимым очистительным аспектом революционного процесса. Это отражено и в поэзии, и в искусстве того времени, а также в изменяющейся структуре повседневной речи:
Взрывайте, Дробите Мир старый! В разгаре Вселенской Борьбы И в зареве рдяных пожаров Не знайте Пощады – Душите Костлявое тело судьбы![329]Люди повсеместно переняли армейский язык и лозунги. К концу Гражданской войны газеты объявляли об открытии “фронта” во всех сферах жизни – от урожая зерна до личной гигиены, разворачивались “кампании” против опозданий на работу и пьянства, в каждой шахте и на каждой фабрике были свои “передовые отряды”[330]. Помимо этого, публичный дискурс стал куда менее уважительным: привычка обращаться ко всем и каждому неформально (слово “товарищ” обычно сопровождалось обращением на “ты”), которая прежде была характерна для обитателей бараков и казарм, а также студенческой среды, теперь стала общим правилом.
Риторическое насилие сопровождалось повышенной публичной эмоциональностью. Даже совершенно шаблонные политические речи обращались к пафосу революции, глубочайшему кризису, порожденному войной, и славной победе, ожидавшей впереди[331]. Тяжелая утрата близкого человека была особенно популярным мотивом сентиментальной поэзии, которая просочилась и в журналистику тоже. Но представлена она была совершенно нереалистично и подана как китч, вписанный в жесткие рамки. Например, в разгар эпидемии тифа, когда тысячи людей умирали на улицах, в поездах, в нищенских подвальных комнатушках, газета “Рабочая жизнь” опубликовала цикл больничных стихов, действие которых неизменно разворачивалось в тихих больничных палатах с чистейшим постельным бельем[332]. Радикальное религиозное чувство частенько усугубляло общее горькое настроение. Молодые матери проводили бессонные ночи в молитвах у кроватей своих умирающих малюток, а прогулки по кладбищу в думах о вечном якобы были распространенными, обыденным делом. В одном из таких стихотворений, озаглавленном “На кладбище”, терзаемый горем рассказчик говорит о напрасных поисках любимой, которая теперь мирно покоится подле своих друзей и сестер. Все это было фантазией чистой воды. Мирный вечный сон, описываемый в стихотворениях, плохо вязался с тем, что к 1918 году стали представлять собой настоящие кладбища. В действительности люди по большей части старались их избегать. Скорбящие боялись эпидемий и в ужасе бежали от сваленных кучами трупов, от вони и мух. И никуда было не деться от голодных уличных псов, которые бродили без цели по тающему снегу.
Иными словами, в публичном пространстве Гражданская война осмысливалась в отголосках жестокости, насилия и нереалистичной сентиментальности. Однако из опубликованных источников невозможно вывести частные реакции отдельных людей, уцелевших в этой катастрофе. Многие были вынуждены усваивать и осваивать ужасные воспоминания, и многие сами были лично вовлечены в такие злодеяния, которые было непросто забыть. Идеологизированная культура, которую возводили вокруг, по большей части не отражала реальной жизни. Огромное расстояние отделяло “командные высоты” от реальности опустевших фабрик, голодавших рабочих и разграбленных складов. Даже сбор урожая капусты теперь требовал героических усилий и пролетарского самопожертвования. Язык понемногу начал терять самые эффективные слова, оглушенный эвфемизмами и гиперболами. Боль стала немой, потому что оставалось слишком мало подходящих слов, в которых можно было ею поделиться. Историку трудно нащупать и отследить ее, потому что боль держали в секрете. Тем не менее понятно, что, по мере того как Гражданская война подходила к концу, боль, с которой сталкивался каждый выживший, имела отношение не столько ко всеобщему ожесточению, сколько к неумолимой утрате – сообщества, семьи, многих надежд, материальной обеспеченности. А кроме того, хотя эта потеря вначале не слишком осознавалась уцелевшими, это была боль от утраты способов поделиться с другими жгучими образами из прошлого. По словам одного бывшего большевика, “Вы становитесь сообщником даже если вы противник, потому что вы неспособны выразить несогласие, даже если готовы заплатить за него своей жизнью”[333].
Среди тех, кто пережил Гражданскую войну, преобладало два вида реакций на этот опыт. Самым экстремальным из них была травма. Практически каждого преследовали тяжелые воспоминания. Достаточное количество людей, пусть и меньшинство, были искалечены этими воспоминаниями до такой степени, что больше не могли полноценно работать. Они страдали от ночных кошмаров, необъяснимых фобий и психосоматических заболеваний, связанных с годами напряжения и страха. В самых тяжелых случаях люди не могли вернуться не только к работе, но даже к нормальной семейной жизни. По некоторым данным, таких пострадавших только среди ветеранов Первой мировой войны насчитывалось до полутора миллиона человек[334]. Большинство других выживших, которым удалось построить свою жизнь заново в новом мире, разработали различные способы, позволявшие им справляться с этой двойственной реальностью. В публичном пространстве они были советскими гражданами. В частой же жизни они каким-то образом продолжали жить со своими собственными, отдельными, особыми историями.
Конечно, собирались официальные воспоминания о войне, однако газетная пропаганда – триумфальная, эмоциональная, сочащаяся приторным пафосом – в глазах многих людей была бесконечно далека от реальности и совсем не описывала ее. Даже красногвардеец вроде Дуне, в мемуарах которого почти ничего не говорится о его чувствах, позволил себе выразить тревогу и сомнения, рассуждая о разрушенной промышленности и изможденности его собратьев-рабочих. Идея победы пролетариата его больше не убеждала. В конце концов, сам Ленин к 1922 году начал говорить о том, что российский пролетариат прекратил свое существование. Дуне оставалось только задаваться вопросом, как следует понимать “режим, покоящийся на мифе”, режим, за который он так упорно сражался. “Получается, что мы породили бесклассовое, голодающее сборище людей, с молчаливыми фабриками и заводами?” – вопрошал он[335].
А некоторым и не пришлось разочаровываться – ведь они с самого начала не верили ленинскому генеральному посылу о революции, в основе которой лежат классовая борьба и братство народов. Некоторые находили альтернативные нарративы, помещая свои воспоминания в религиозные модели или прибегая к эпическим образам, заимствованным из фольклора, музыки или погребальных песен. Некоторые начинали жить с ощущением уникальности своего опыта, позднее трансформировавшемся в чувство вины. Они верили, что являются исключением из правил, уродами рода человеческого. Воспоминания о неудобных фактах необходимо было подавлять. “В детстве мы часто играли в Гражданскую войну, – объясняла мне дочь одного из “старых большевиков”. – Красные против белых”. Все остальное выпало из рассказа – неудобная и отвратительная реальность той истории, этнические конфликты, противостояния различных партизанских групп, невзгоды, лишения, болезни. “Девочки всегда должны были быть белыми”, – добавляет она[336].
В революционной России не было никаких специальных учреждений для тех, кто страдал от психологической травмы. Люди в самом тяжелом состоянии содержались в обыкновенных больницах, хотя иногда их помещали в отдельные психиатрические лечебницы. Николай Бородин, работавший в одной такой лечебнице в начале 1920-х годов, вспоминал, что “почти все называли ее дурдомом”. Работать там было не особенно приятно. Многие из пациентов практически не получали никакой медицинской помощи помимо физического ограничения движения. “Я не могу, по правде сказать, назвать пациентов милыми и добрыми. Некоторые были интересными, но все вместе они были жалки. Большинство сошло с ума, потому что их разум был недостаточно сильным, чтобы противостоять тому, что им довелось видеть во время Гражданской войны и Большого голода”, – добавляет он[337]. В письмах к наркому здравоохранения РСФСР Николаю Семашко неприязнь, которую описывает по отношению к душевнобольным Бородин, выражена еще острее, и поведение некоторых пациентов, страдающих от травмы, называется “скандальным” и “беспорядочным”[338]. Московский чиновник жаловался, что они были “недисциплинированными”, “забывчивыми”, “увертливыми”, “отказывались взять на себя ответственность за собственное поведение… создавали очень неприятную атмосферу для всех остальных”[339].
Такого рода предрассудки были типичны для населения в целом и даже для некоторых представителей медицинской профессии. Однако сама идея травмы – хотя и не само это слово – была широко признана в российском психиатрическом сообществе. Явление, которое британские медики прозвали shell shock (боевой посттравматический синдром), на русском было известно под несколькими терминами: контузия и неврастения. Первый применялся к симптомам, связанным с физическим повреждением мозга или нервных окончаний, а второй, появившийся еще в XIX веке, был обобщающим и определял менее специфические проблемы нервной системы. Это явление было впервые зафиксировано в ходе Русско-турецкой войны 1877–1888 годов и изучалось несколькими специалистами во время Русско-японской войны 1904–1905 годов. После 1914 года российские психиатры поддерживали рабочие отношения с британскими и французскими коллегами и обменивались информацией на серии международных конференций во время Первой мировой войны[340]. Но оставалось и немало скептиков, с большим сомнением относившихся к любой теории, которая оправдывала бы кажущуюся трусость или недостаток религиозной веры. И в этом отношении психиатрическое сообщество в Российской империи не было исключением[341].
Во время Гражданской войны некогда было думать о травме. В 1919 году был создан комитет для координации помощи и поддержки ветеранам войны, известный под неуклюжим названием ВСЕРОКОМПОМ. Но вплоть до 1921 года он ничем особенным не отличился, помимо “привлечения внимания широких рабочих и крестьянских масс, а также партийных и экономических органов” к проблеме инвалидов[342]. Однако в 1923 году после продолжительной институциональной борьбы группа военных психиатров убедила ВСЕРОКОМПОМ финансировать создание единственного экспериментального госпиталя для пациентов, страдающих от травмы, под Ялтой в Крыму. Продвигал этот проект эксперт в области боевого посттравматического синдрома, профессор С. А. Преображенский, который до революции много писал и выступал с публичными лекциями на эту тему в Петрограде. Директором нового госпиталя стал еще один специалист по травме, московский врач A. В. Ливанов. Неврологический центр получил военное название: “Красная звезда”.
Итак, на бумаге Советский Союз объявлял о новаторском начинании, отчасти вдохновленным примером Германии, где пациентов, страдавших от боевого посттравматического синдрома, после краткого курса реабилитации пристраивали на производство, чтобы они могли заниматься производственной деятельностью[343]. Работа Преображенского сыграла особенно важную роль в разъяснении советским чиновникам в сфере здравоохранения самой природы травмы, убедив их взглянуть на этот вопрос как можно шире. Например, по оценкам Преображенского, распространенность психологических увечий, нанесенных недавними войнами, перевешивала распространенность увечий физических в пропорции четыре к одному. Он добавлял, что психологические недуги зачастую осложнялись (и маскировались) другими проблемами, включая недоедание и туберкулез. Для излечения больного необходимо самое чуткое и тонкое понимание причин травмы, но в то же время требуется и материальная поддержка: обеспечение больного питанием надлежащего качества и достаточным отдыхом в тихой и спокойной обстановке. На начальном этапе “Красная звезда” бралась предоставить своим пациентам все необходимое.
Однако реальная картина была безрадостной. Леденящая душу записка, относящаяся к первым месяцам работы клиники, призывала “нормализовать жилищные условия” в лечебнице, а последующие документы перечисляли все проблемы: недостаток питания, одежды и сапог, недоступность лекарств. В начале 1920-х годов во всех областях советской действительности ощущалась нехватка ресурсов, а пациенты “Красной звезды” не внушали никому особенной симпатии. Они располагали к себе ничуть не более, чем неприятные инвалиды из “дурдома”, о которых писал Бородин. Среди них было много алкоголиков, некоторые имели болезненное пристрастие к морфию. Более четверти от общего числа пациентов также страдало от сифилиса[344]. Испытывавшие на себе давление со всех сторон бюрократы, не имевшие отношение к клинике, не видели причин тратить на ее работу время и деньги, особенно учитывая то, что им также приходилось разбираться с очередями инвалидов с более привычными и понятными диагнозами, все еще ожидавших своих операций, пенсий и лекарств. В столице один из представителей Моссовета предложил отправить травмированных ветеранов в колонии на Крайнем Севере. Когда эта идея провалилась, он счел, что наилучшим решением этого вопроса было бы приставить инвалидов к производительному труду, любому, с каким они смогут справиться, и контролировать, что они действительно работают, стоя над ними с “заряженным маузером в руке”[345]. Именно эта точка зрения одержала верх в 1927 году. “Красная звезда” была тихо закрыта.
Однако и за пределами этой лечебницы травма осталась важной проблемой. Настолько важной, что даже внутри самой Коммунистической партии возникла определенная озабоченность. Члены партии были особенно подвержены эмоциональному и физическому истощению, депрессии и тревоге. В середине 1920-х годов “неврастения”, включавшая в себе вялость, отсутствие мотивации, депрессию и психосоматические симптомы была (наряду с туберкулезом) одним из самых распространенных диагнозов среди партийцев[346]. Обитатели Кремля обычно могли рассчитывать на самое лучшее лечение из доступного, вплоть до поездок на лечение в Германию[347]. Однако большинство не получало ни такого понимания, ни помощи. По мере того как критическое положение военных лет отступало, в стране резко начал расти уровень самоубийств, особенно среди молодежи. И снова необходимо обратить внимание на разрыв между выспренним, недоступным публичным миром, миром официальным, и реальностью частных жизней, состоявших из лишений, депрессий и перенапряжения на работе. Молодые коммунисты приходили в отчаяние и со всей энергией, питавшей прежде их идеалы, обращали свою фрустрацию на самих себя. Революция обернулась не тем, о чем они мечтали. На какое бы самопожертвование они ни были готовы, его оказывалось недостаточно. Мифическое дело масс, истории, мирового пролетариата требовало от них больше, чем они были в состоянии ему отдать[348].
Специалисты связывали распространенность невроза с социальными причинами[349]. Они исследовали влияние Первой мировой и Гражданской войн, голода, лишений и даже денежной инфляции с тем, чтобы выделить ключевой фактор[350]. Сторонники социальной медицины верили, что должны существовать способы предотвращения суицидов. В 1920-е годы они попытались разработать научную формулу, которая позволила бы им контролировать распространенность самоубийств. Еще в начале 1920-х годов милиция и врачи, занимавшиеся подобными случаями, получили специальные вопросники-анкеты[351]. Жертв следовало описывать согласно категориям: социальное происхождение, возраст, пол, род занятий, был ли человек левшой или правшой. Не оставались без внимания исследователей даже предсмертные записки[352]. Однако подобного рода симпатия к тем, кто проявил слабость, все больше противоречила общему духу нового времени. Объективное изучение суицида как явления прекратилось в конце 1920-х годов, ему на смену пришла новая советская догма. В декабре 1925 года идеологический рупор Коммунистической партии Емельян Ярославский, один из руководителей антирелигиозной политики советского государства и бессменный глава “Союза воинственных безбожников”, заявил, обращаясь к партийному собранию в городе, недавно переименованном в Ленинград, что самоубийцы – это “слабовольные, слабохарактерные” люди, которым не хватает веры во “власть и мощь партии”[353]. Российский историк Наталья Лебина, занимающаяся этой проблемой, добавляет, что к концу 1920-х годов суицид воспринимался некоторыми как “свидетельство свободного выбора человеком своей судьбы. А это вовсе не устраивало советскую власть”[354].
Как оказалось, в Советской России к концу 1920-х годов то, что ориентировалось на отдельную личность, имело все шансы навлечь на себя официальную критику. В числе первых от подобной политики пострадали идеи Фрейда. Изначально некоторые коммунисты воспринимали психоанализ как инструмент, который можно использовать для того, чтобы трансформировать “передовой отряд” представителей рода человеческого в ницшеанского сверхчеловека. Психоанализом живо интересовался Троцкий, а также его друг, большевик Адольф Йоффе[355]. Один из очевидцев того времени вспоминал, что “в 20-х годах заниматься психоанализом не только не было опасно. Это было престижно”[356]. Экспериментальный детский дом-лаборатория “Международная солидарность” ставил целью растить младенцев и детей в духе учения Фрейда. Среди отпрысков элиты, воспитывавшихся в нем в 1921 году, был, в частности, шестимесячный сын Сталина Василий[357]. Однако психоанализ как метод требовал значительного вложения времени и средств и потенциально мог использоваться с подрывными целями. Большевики жаждали более быстрых результатов и не желали мириться со спонтанными беседами между врачами и их пациентами. Индивидуализм был опасен, контрпродуктивен и по сути своей буржуазен.
Инженеры человеческих душ переключили свое внимание с анализа на перевоспитание, с индивидуума на массу. В 1929 году психиатр Арон Залкинд на собрании произнес следующую речь: “В СССР, как нигде, привлечено огромное внимание к вопросам изучения человеческой личности… Трудящиеся массы, массовая человеческая личность, вырастая стремительно и творчески, расширяя границы своих стремлений, пришли к власти, к культуре, к строительству. Эти массы, которых игнорировала буржуазная наука, нужно изучать заново как с точки зрения определения их подлинных характеристик, так и с точки зрения определения методов педагогического воздействия на них”[358]. Николай Бухарин, друг Ленина, сформулировал ту же мысль более приземленно. Еще в 1924 году он заметил, что если рассматривать отдельную личность в развитии, то по сути своей это кожаный мешок, нашпигованный влияниями среды[359].
Большевики учились нашпиговывать эти “кожаные мешки” тщательно отобранной начинкой. Были одобрены публичные демонстрации, лозунги, марши – свободное время занималось общественно-полезной работой. Сфера частной, приватной жизни съежилась. Того, кто не смог или не захотел проглотить это – в силу ли невроза, неврастении, наваждения или фобии, – воспринимали скорее как слабака, а не как человека нездорового или травмированного. Депрессию теперь считали проявлением антисоциального поведения, она стала источником стыда[360]. Многие скрывали симптомы, подавляли тревоги и изо всех сил старались жить дальше. К тем, чье состояние было таким тяжелым, что утаить его было уже невозможно, по-прежнему применяли медикаментозное лечение или электрошоковую терапию. Тот, кому посчастливилось избежать подобного лечения, обнаруживал, что врачи предпочитали работать не посредством разговоров с пациентами, а при помощи гипноза. Как сказал мне в частном разговоре один психиатр, “вы приходили к великому человеку, к лидеру, на авторитет которого вы могли вполне полагаться, вручая ему свою волю, садились и закрывали глаза, и он вас излечивал”. Этот подход куда лучше вписывался в обретающую очертания советскую культуру, чем более демократическая психотерапия, предполагающая дискуссию[361].
Однако душевные болезни представляли собой исключение из правил. Совсем иначе большинство людей справлялись с памятью, а кроме того, приспосабливались к новому коллективизму. Прошли годы, прежде чем триумфальное советское мировоззрение – то самое, что праздновало победу весной 1945 года, – сформировалось полностью. Но некоторые его измерения были достаточно ясны уже тогда, их контуры проступали среди хаоса Гражданской войны и осколков старого режима. Тяжелый, упорный труд стал одним из самых распространенных и наиболее эффективных способов воссоздать самоощущение человека, утвердить его или ее социальную значимость и ценность, заставить замолчать незваных призраков из прошлого, заглушить звучащие в душе вопросы. Когда я расспрашивала людей о том, как они справлялись с болезненными воспоминаниями в первое послереволюционное десятилетие, одним из самых эмоциональных ответов на этот вопрос был такой: “У нас было слишком много других забот”. Это решение сработало, по крайней мере частично, потому что идеально подходило социалистическому коллективистскому этосу.
И в то же самое время импульсивность и порывистость коллективизма в частной жизни развенчивались при помощи иронии. Партийный лозунг гласил: “Да здравствует совет рабочих и крестьян!”, – а кто-то рядом с ним саркастически заметил: “Да здравствует свежий воздух!”[362] Один литературный критик в начале 1920-х годов писал, что ему “достаточно увидеть статью, озаглавленную «Больше внимания сельскому хозяйству» или «Больше внимания Красному флоту», чтобы статьи этой наверняка не прочесть”[363]. Реальность также могла менять свои очертания при помощи излюбленного русского обезболивающего средства: водки. Алкоголизм и пьянство по-прежнему были широко распространены, несмотря на увещевания государства и эпизодические перебои с алкоголем, следовавшие за принятием сухого закона[364]. А кто-то предпочитал не алкоголь, а наркотические препараты. В ходе Первой мировой войны опиаты можно было достать практически в каждом полевом госпитале, и вплоть до середины 1920-х они все еще имели широкое хождение[365].
Старый мир уцелел и за пределами городов. Религия, безусловно, была наиважнейшим источником утешения для деревенских верующих, и даже когда она подвергалась нападкам властей, традиционные языки горевания и скорби – особенно в той части, которая имела отношение к земле и к ламентации, – вплоть до начала Великой Отечественной войны задавали некую рамку работе памяти в сельской местности[366]. Этнограф, который в 1930-е годы посетила несколько деревень на берегах Белого моря, обнаружила там женщин, чьи воспоминания были практически полностью оформлены, структурированы досоветским языком. Они изобиловали отсылками к традиционным похоронным заботам вроде привоза тела умершего на родину, благоговейного погребения и горечи одинокого существования. Предчувствия, призраки и возмездие сверхъестественных сил также имели огромное значение, так как помогали истолковывать и осмыслять те образы, чья власть в противном случае могла тяготить осиротевших долгие годы.
Одна женщина описывала ночь, которую она и ее соседи провели, прячась от пришедших в деревню солдат. В темноте эхом отдавались выстрелы, но никто из перепуганных беженцев не знал, что именно происходило в это время в родной деревне. Уже рассвело, когда в их убежище приехали мужчины с умирающим соседским сыном, тело которого было переброшено через лошадиный круп. Помогая хоронить мальчика, рассказчица внезапно поняла, что ее собственный сын тоже мертв. Ее захлестнуло горе, и она безутешно зарыдала, хотя никто из свидетелей этой сцены не мог понять причины ее слез. Она стала настаивать на немедленном возвращении в деревню. Оказалось, что сын рассказчицы помогал отразить наступление банды белых. “Из деревни навстречу нам вышли коммунисты с флагом”, – вспоминала она. Однако их благодарность и сочувствие ничего для нее не значили. Ее мальчик погиб, “а мать есть мать”[367].
Другая женщина вспоминала, как ее вызвали для того, чтобы опознать тело. Его нашли в неглубокой яме у обочины дороги. Ее попросили описать одежду, которая была на ее сыне в тот день, когда его видели в последний раз, и только после этого ей позволили увидеть тело. Белые войска отрубили юноше руки и ступни, и он был мертв уже несколько дней. “Но я знала, я узнала, как могла я не узнать… своего”[368]. Подобно многим другим женщинам, она нашла тех, кто помог ей перевезти, а затем и похоронить сына. И хотя в стенограмме интервью нет никакого упоминания священников (подобное опущение могло быть делом рук самого этнографа – в 1930-е годы религия отнюдь не была модным сюжетом для научных изысканий), некоторые слова ее сетований воспроизводятся точно. Исследовательница записала несколько подобных плачей, самые изощренные из которых могли быть взяты напрямую из этнографических коллекций Барсова, созданных в 1870-е годы. Плач матери, однако, был проще:
Ой, носила я тебя, Ой, родила я тебя, Зря на свет белый, Но учила тебя с добром… Да убили тебя злые люди, С оружием пришли и напали, Да покинул свою матушку[369].Этнограф, собиравшая этот материал, была удивлена кажущимся спокойствием женщин, рассказывавших свои истории, тем, что их интересовали вроде бы совсем посторонние, не относящиеся к делу вопросы, вроде цены на чай, тем, как они гордились своими вышивками и какое удовольствие получали от сплетен. Когда они все же говорили об утрате, истории, как правило, возникали внезапно, следуя сразу за каким-нибудь замечанием о состоянии урожая, например. Обычно женщины с неохотой обсуждали насилие как таковое. Никто из них не плакал. Этнограф отметила, что, казалось, они стыдились своих слез[370]. Она сделала вывод, что тривиальные, повседневные мелочи жизни поглотили горе ее респонденток, редуцировав их воспоминания о войне до “героических сказок об идеальном”.
Однако между строк в ее отчетах, которые были собраны за несколько летних сезонов, проведенных в тех краях, можно обнаружить и другие штрихи и подсказки, свидетельствующие о жизнях этих женщин. Они были вполне осмотрительны, то, что называется себе на уме, и не спешили распахивать душу перед приезжей. В любом случае сначала они не могли взять в толк, что нужно от них этой складно говорящей молодой женщине из Москвы. Они рассказывали свои истории путем проб и ошибок, постепенно подгоняя их под ее ожидания. Также маловероятно, что сама исследовательница, будучи добропорядочной советской гражданкой, подталкивала своих респонденток к тому, чтобы подробнее остановиться на неудобных аспектах их опыта[371]. Ее собственное ханжество вполне могло блокировать, заглушить воспоминания этих женщин. Может быть, жалея ее, они даже хотели избавить ее от самого страшного – как пожалели бы ребенка, – оставляя наиболее шокирующие образы и истории при себе. Но все это говорит об их жизнестойкости и психологической устойчивости. Им необязательно нужно было говорить, но они и не бежали разговоров. Повседневные мелочи и пустяки, представлявшие для них интерес, но разочаровавшие исследовательницу (с грустью отметившую, что в этой области было сравнительно немного смертей), – это по сути своей именно то, из чего состоит реальная жизнь. Ей бы следовало порадоваться, что спустя всего десять лет после окончания ожесточенного кровопролития этих женщин настолько занимают цена на чай или фасон нового платья.
В других частях России старые слова и стихотворные размеры причитаний по покойнику были забыты, а семьи и целые сообщества расколоты на части. Но, несмотря на все это, еще можно было найти отчетливые знаки, напоминавшие о реальном положении вещей. Некоторые из них были вписаны в пейзаж. “Достаточно отъехать несколько верст от Курска, чтобы почувствовать дыхание Гражданской войны, – замечал наблюдатель по фамилии Яковлев в марте 1923 года. – Часто – через каждые несколько верст – зияющие окна неуклонно обваливающихся бывших экономий, без крыши, без следов дверей. ‹…› Еще по дороге узнали средство отличить школу от всех прочих крестьянских домов: если у дома нет окон и дверей, – значит, школа ‹…› В деревнях бросаются в глаза окна крестьянских изб. ‹…› Стекла – редкость, принадлежность поповских домиков. В большинстве окна заклеены всякого рода тряпьем, забиты досками, замазаны глиной”. Надежды на улучшение социального положения, на образование, которые в XIX веке подарили крестьянству земства, после произошедшей катастрофы уже практически стерлись из памяти. Однако повсеместно начинала отвоевывать свои позиции религия. По словам Яковлева, единственные дома, которые сохранились в первоначальном виде со стеклами в окнах, принадлежали духовенству[372].
Кризис способствовал росту значимости всех религиозные конфессий. Как только окончились боевые действия, как только появилась возможность свободно вздохнуть, хотя бы ненадолго, и немного свободного времени, люди повалили обратно в церкви, чтобы поблагодарить Господа и святых покровителей. Питирим Сорокин отмечал “величайшее возрождение в духовной жизни России. Пока другие здания ветшали, церкви восстанавливались”. В 1921 году православная Пасха совпала с социалистическим Первомаем: “На демонстрацию Коммунистической партии пришло только несколько тысяч человек, но религиозное шествие, которое состоялось на следующий день, собрало около 300 тысяч участников. Процессия была такой многочисленной и впечатляющей, что сами коммунисты вынуждены были снять шапки в знак уважения”[373]. Готье вполне разделял его чувства. “Пасха победила 1 мая”, – записал он в дневнике 7 мая[374]. Но для большевизма это было совершенно неприемлемо. Гражданская война разрушила государство, оставив лишь тень от прежнего, царского государственного устройства. Пришло время сжечь его иконы и, возможно, создать на их месте пусть не новую религию, но новое мировоззрение.
Глава 5 “Красные похороны”
В любую другую эпоху директива относительно святого XIII века могла оскорбить, испугать или даже вызывать ироническую улыбку, но в описываемое нами время уже не оставалось ничего, что способно было шокировать население, и еще меньше того, что вызывало смех. Комиссариат юстиции Союза коммун Северной области заявил о том, что мумифицированные останки таят в себе угрозу советской власти[375]. Но это не единственная угроза новому режиму, и по большей части опасность исходит от живых, а не от мертвых. Директива комиссариата изобилует внутренними противоречиями и подвохами. Наркомат юстиции призвал проявить тактичность (“гарантировать соблюдение известного такта по отношению к религиозным чувствам сторонников православной религии”) и не расстраивать верующих. Однако сам он в последние месяцы едва ли руководствовался в своих действиях в первую очередь соображениями такта. Его увещеваниям было бы проще следовать, если бы каждую ночь во дворе так называемого Большого дома и возле Смольного не расстреливали тысячи людей и если бы прекратили арестовывать священников и монахов и выгонять монахинь на улицу. Да и сама по себе задача нарушала все представления о такте. Невозможно тактично ворваться в монастырь и захватить в нем святая святых. Вскрывая гроб, невозможно не потревожить мертвых. Даже медицинская часть этой истории – научное исследование трупа – святотатство. Не говоря уже о реальных страхах: а что, если тела святых и впрямь обладают сверхъестественными свойствами? А что, если на тех, кто осмелится вскрыть раку, падет проклятие? Городской совет подошьет директиву к делу, но в течение почти двух лет не предпримет никаких дальнейших шагов в этом отношении.
На дворе 1919 год. Петроград закован в лед. К западу от города лежит замерзший Финский залив. К востоку на десять тысяч километров простираются леса и степи, все еще покрытые толщами снега. Сам Петроград превратился в ледяной город. Его дворцы украшены фестонами льда, тысячами ледяных сталактитов. Лед скрывает от глаз изысканные архитектурные элементы фасадов: лепнина, карнизы и капители колонн скованы льдом. Под снежными заносами погребены великолепные мраморные ступени, каменные львы и балюстрады. На створчатых окнах и дверях, ведущих на кованые балконы, выросли ледяные узоры в виде пальм и лилий, делающих зимний свет более тусклым, а очертания нового мира, простирающегося за любым окном, в котором еще сохранились стекла, смутными и неясными. Лишь в редких окнах к тому времени оставались стекла. А во многих не было даже рам, потому что дерево хорошо горит, и замерзающим людям проще выломать небольшую оконную раму, чем вырубать паркет. Жители города хорошо усвоили эти премудрости: они научились ставить на пальто заплатки из старых занавесок, обменивать серебряные часы на соль, держать рот на замке. Тысячи петроградцев покинули город. На Невском проспекте больше нет толп и привычного оживления.
Возможно, жителями города даже на руку, что Петроград перестал быть столицей. Так проще оставить некоторые распоряжения центра без внимания и выстроить собственные приоритеты. Прошел уже год с тех пор, как большевики перевезли центральный аппарат новой власти в Москву. Главой Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был оставлен Григорий Зиновьев, один из самых высокомерных политиков, когда-либо входивших в Белый зал Смольного института, где теперь уже не проводят балов. Многих рядовых сотрудников органов новой власти перевели в Москву. Кабинеты, в которых прежде обитало пять тысяч служащих, секретарей, заведующих, копировальщиц, инспекторов и посыльных, опустели. Горделивые здания наполовину заброшены, в слепых окнах самых больших залов и галерей чернеет пустота. Однако в помещениях поменьше и коридорах еще теплится жизнь: здесь, как пчелы в улье, теснятся сотрудники низовых инстанций – работники муниципалитета, мужчины и женщины, отвечающие за уличное освещение и водостоки и уже приступившие к налаживанию бытовой жизни в городе. Чиновники старого режима работают бок о бок с представителями режима нового, ревностные конторские служащие и обносившиеся бухгалтеры трудятся рядом с бывшими сварщиками, этими получившими повышение бенефициантами пролетарской советской демократии. Они с трудом находят общий язык. Однако поиски общего языка и перекладывание пустых бумажек, написанных на советском новоязе, – задача менее трудная, чем обдумывание той работы, которая им всем предстоит.
Кампанию в отношении почитаемых останков святых инициировали безбожные фанатики идеологического фронта. Даже в самые мрачные годы Гражданской войны эти люди осознают, что религия представляет собой опаснейшую угрозу идеям большевизма, мощнейший оплот старого мира. В их терминологии религия – это троянский конь реакции, монархизма и общественной инертности. В отчаянии люди обращаются к молитвам, больше им не на что уповать. В некоторых регионах коммунисты сами устремились в церковь – кризис сделал людей более суеверными[376]. Повсеместно ходят слухи о чудесах, люди верят в чудотворные иконы, предзнаменования, божественные знаки. Даже ученые вроде Готье готовы поддаться всеобщей убежденности. “Сегодня случилось чудо, – пишет он в мае 1918-го. – Никольские ворота были задрапированы красным, причем завешена была и икона, уже разрушенная в октябрьские дни. Вдруг сегодня красная завеса начала распадаться и открыла икону; ткань разлезалась сама собою по волокнам, точно ее облили какой-нибудь кислотой; собралась толпа, гудевшая о чуде, молебен, стрельба в воздух, в результате, чтоб разогнать толпу”[377].
Иконы можно сжечь, и в итоге многие иконы постигла именно эта участь, однако со святыми расправиться не так просто. Опасность ситуации заключается в том, что святые способны вдохновить народное восстание. Прямая атака на этот культ была исключена: уже зафиксированы случаи – на бюрократическом языке “эксцессы” – когда разъяренные толпы, вооружившись вилами и факелами, вставали на защиту останков святых. Говоря современным языком, для “имиджа” новой власти это – катастрофа. Холодные, рассудительные головы в Москве решают, что на данном этапе лучший способ разрешить проблему – привлечь к делу науки. Всем известно, что тела святых не поддаются гниению и разложению. Они сладко пахнут, они плачут настоящими слезами, они охраняют и оберегают истинно верующих. Их власть и могущество священны, и дотронуться до них означает обрести благословение, излечение и защиту. Чиновники наркомата решают пролить свет рациональности на раки с мощами святых: вскрыть их, развернуть останки, содрать с них покровы магического.
Позднее большевики будут утверждать, что кампания, направленная против мумифицированных покойников, зародилась в гуще народной. Каждый раз, когда проводимая ими политика будет выходить боком, большевики используют народ в качестве козла отпущения[378]. По официальной версии, властей интересуют только факты, благопристойность и сохранение порядка. Однако необходимы последовательность и системность. В Москве только что было произведено вскрытие мощей преподобного Сергия Радонежского, основателя Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), останки разобрали и публично исследовали. (В это время армии Колчака в Омске готовились к наступлению на Пермь, а Царицын на юге страны все еще подвергался ожесточенным атакам.) Вторая столица должна последовать примеру Москвы. Самая известная реликвия Петрограда – останки князя Александра Невского. В конце концов, и его гроб должен быть вскрыт, как и все остальные. Наркомат юстиции напоминает о необходимости исполнять циркуляры: “Опираясь не революционное сознание трудящихся масс, планомерно и последовательно провести полную ликвидацию мощей на местах, избегая вредной нерешительности и половинчатости мероприятий. Ликвидацию названного культа мертвых тел и кукол осуществить или путем помещения так называемых «мощей» в музеи и отделы церковной старины, или путем их захоронения”[379].
Эта политика борьбы со “святыми чучелами” – так озаглавлен большевиками протокол вскрытия раки Сергия Преподобного (Радонежского) 11 апреля 1919 года – принесет неоднозначные результаты. Церемония вскрытия раки и выставление останков для всеобщего обозрения – в Москве, в Твери и позднее в Петрограде – всегда привлекает огромные толпы народа, для которого это зрелище – хоть какое-то развлечение посреди мрачной повседневности. Большинство пришедших заворожены происходящим и сгорают от любопытства, многие готовы поверить, что вот-вот произойдет что-нибудь странное: последует божья кара или снизойдет откровение. На улицах выстраиваются длинные очереди изможденных людей, закутанных в пальто и шарфы, не слишком уверенных в том, какие чувства им полагается испытывать относительно происходящего. Однако кости и труха, которые они увидят, не убьют их веры. В апреле 1919 года Готье запишет в своем дневнике: “Были в Троицком соборе у обедни и прикладывались к обнаженному скелету преподобного Сергия; его оставляют в том виде, как он получился по вскрытии; как я сегодня узнал, это делается нарочно и, по-моему, правильно; говорят, что и врачи вскрывавшие признали скелет лежавшим 500 лет, а найденные желтые волосы – седыми, но пожелтевшими от времени; таким образом наши попы, взявшись за ум и оставляя мощи незакрытыми, правильно хотят показать: глядите, мы не скрываем того, что было и что есть, и этим они, конечно, не только не ослабят, но усилят религиозное чувство”[380].
Однако в общем и целом Гражданская война была временем духовной опустошенности и апатии, заморозившей все человеческие чувства. Большинство людей переживают полнейшее эмоциональное окоченение и слишком заняты повседневным выживанием, чтобы придавать большое значение кампании против мощей святых. В той же записи, процитированной выше, Готье добавляет: “[Н]ет во мне ни религиозного, ни исторического чувства; переживаемое вытравило во мне и то и другое”[381]. Это общественное настроение сохранится вплоть до окончания войны весной 1921 года. В марте критическое положение постепенно отступает: на улицах городов вновь появляются жизнерадостные цвета, начинают возвращаться люди. Большевистское правительство объявляет об ослаблении правил, регулирующих частную торговлю: на смену политике военного коммунизма приходит НЭП (новая экономическая политика). НЭП легализует частные сделки и бартер, которые все три года Гражданской войны совершались подпольно. Прилавки магазинов снова заполняются хлебом, в рыночных лавках торгуют побитой молью мебелью, серебряными кружками, кроликами, цыплятами, лампадами – да чем только не торгуют! Из деревень приезжают со своим товаром: огурцами, мешками гречки, маслом, мясом и сальными свечами. По крайней мере, в крупных городах наконец-то можно свободно вздохнуть и снова строить планы, надеяться на будущее. Этот оптимизм набирает обороты вплоть до 1927–1928 годов. А затем правительство начнет создавать условия для нового кризиса, в основе которого будет лежать паника, и начиная с 1929 года это станет предпосылкой сталинского решения о коллективизации крестьянства и индустриализации, с тем чтобы догнать и перегнать остальную Европу и Америку.
Экономическое оживление начала 1920-х годов не будет стремительным, но люди сразу почувствуют себя свободнее, будто опасность миновала. Возможно, думали они, их мир раскололся не окончательно и бесповоротно. Люди пытались нащупать полузабытые слова и молитвы, снова доставали гражданское платье. Частная торговля не единственная привычка, которую они вновь откроют для себя. В апреле 1922 года Троцкий писал из Москвы: “Против моего окна церковь. Из десяти прохожих (считая всех, в том числе детей), по крайней мере, семь, если не восемь, крестятся, проходя мимо. А проходит много красноармейцев, много молодежи!”[382] Это были те самые красноармейцы, которые теперь покидали Москву и возвращались в деревни. По прибытии они сбросят с плеч истрепавшиеся вещмешки, поцелуют детей, матюгнутся раз-другой, увидев запустение, в которое пришли поля, и, склонив голову перед иконой в углу избы, осенят себя крестным знамением[383]. В феврале 1918 года Готье запишет в своем дневнике: “Кругом говорят, что козел революции обломает рога о церковную ограду. Так ли это? Хватит ли у православной церкви силы противостать гонению? Боюсь, что нет, и что самодержавие, и православие, и русская народность – все это один bluff[384], одно, как и другое. Все кругом продолжает быть в маразме и в ожидании каких-то провиденциальных перемен, которые, вероятно, никогда не придут или придут, когда [далее зачеркнуто: не будет никакого] давно иссякнут всякие надежды”[385]. Большевики одержали победу в войне, но церковь готова была, словно облаком, окутать завоеванный ими мир своей благодатью.
Шаги, предпринятые революционерами в ответ, окажутся судьбоносными, и не только для самой церкви со всеми ее ритуалами и богатством. В этом потоке новшеств и нововведений всему, что связано со смертью, будет отведено центральное место. Часть большевистской партии вознамерится разбить оковы прошлого, изгнать духов предшествующей эпохи и контрреволюции и даже искоренить традиционный язык траура, особенно когда он обращен в прошлое, упивается воспоминаниями и реальностью потери. Новая культура будет сосредоточена на будущем, на материальных задачах, на долге каждого человека перед социалистическим обществом. Среди революционеров не было единодушия в том, какие из этих задач следует считать приоритетными. Те, кого особенно интересует вопрос власти, считают ниже своего достоинства задумываться о новом мировоззрении людей, в то время как другие размышляют и пишут только об этом. На практике политика нового режима будет отличаться непоследовательностью и окажется более успешной в том, что касается разрушения – “разоблачения” усопших святых или разрушения церквей, – нежели в области переустройства – создания нового мира, новых образов, новых ритуалов памяти и горя. Однако какими бы непоследовательными и неуспешными в своей собственной оценке ни были антирелигиозные кампании, в конечном счете они оказали влияние на каждого советского гражданина, заставив людей переосмыслить их отношение к смерти и навсегда изменив структуру и рамки их памяти.
Хотя рационалисты подчас действовали из лучших побуждений, их политика все равно оказалась жестокой. В других обстоятельствах светский ритуал, вероятно, и так бы пришел на смену сложным религиозным церемониям. Религия вовсе не пользовалась в России всеобщей популярностью, и в описываемое нами время традиция испытывала на себе давление и других факторов – таких, например, как изменение социальной структуры, связанное с урбанизацией и индустриализацией. Все это способствовало тому, что в общественном сознании старый мир уступал место новому. Если бы эти процессы продолжили развиваться поступательно и более или менее органично, старые устои могли бы быть незаметно забыты так же, как это случилось в индустриальных странах Западной Европы. В действительности же советская кампания 1920–1930-х годов, направленная против традиции, будет разворачиваться на фоне глубоких социальных потрясений и бедствий. Миллионы погибли, десятки миллионов оплакивали свои потери.
Подобного рода кризис, а точнее череда кризисов, должен был бы оттолкнуть уцелевших назад, в привычный и знакомый мир неисследованных, но утешительных верований, к той матрице переживания смерти и к тем словам, которые всегда предлагала церковь, к идее обетованной загробной жизни, сулившей вознаграждение за страдания жизни мирской. Спустя десятилетие, во время Великой Отечественной войны, даже Сталин признает ценность этого аспекта религии. Однако к тому времени и ритуалы, и храмы будут уже в значительной степени порушены – не уничтожены, но надломлены и разбиты, – и им на смену не придет ничего путного.
По большей части традиционные средства были способны облегчить боль и страдания, причиненные сталинизмом: люди продолжали читать молитвы, глушить горе водкой и смутно верить пусть не в ад, но в мир иной и загробную жизнь[386]. Оглянувшись на события прошлого и увидев в нем такого рода преемственность, можно предположить, что в сущности мало что изменилось. Однако в то время каждая перемена в мироустройстве сразу бросалась в глаза и повергала в шок, и на тот момент было совсем неочевидно, что последующие поколения объявят погребальную культуру устойчивой к переменам. Пропуски, импровизации, вынужденные упрощения, сокращения и замены могли бы восприниматься как “начало конца”, как первая утрата в череде многих последующих, символизировавших крах целого мира. Базовые правила приличий, которые люди усвоили с детства и следование которым ожидали, больше не соблюдались, как бы им того ни хотелось. Новые коллективные церемонии не удовлетворяли и тех, кто предпочитал светские обряды и процедуры. Для миллионов советских граждан, задумывавшихся о смерти – своей или тех, кого они любили, – турбулентные годы сталинизма окажутся мрачными, суровыми, необъяснимыми, населенными призраками и не сулящими утешения.
Дела у советской погребальной индустрии с самого начала не заладились. Питирим Сорокин, как и несколько других авторов дневников, пишет с отвращением: “В наше время умереть в России легко, а вот быть похороненным очень трудно”[387]. К такому выводу он пришел после того, как ему пришлось провести четыре дня, выстаивая часы в очередях и разговаривая с десятками чиновников, и все ради того, чтобы получить разрешение на захоронение дочери своего друга[388]. В ноябре 1918 года Юрий Готье замечает: “Оказывается, что теперь и умирать неудобно”. “[Н]а иноверческом кладбище, которое всегда было организовано лучше всех, – продолжает он, – могильщики не хоронят более 7-ми покойников в день и не хоронят ранее часа дня. Когда хоронили К. А. Вилькена, могила была не дорыта и гроб пришлось поднимать опять на землю; крест, приготовленный заранее, потеряли и были грубы и недовольны; типичное проявление русской революции”[389]. К 1922 году положение стало еще хуже: “Похороны М. М. Рындина продолжались шесть дней, т. к. только на второй день после его смерти мы добились разрешения похоронить его в Новодевичьем монастыре”. Ордер на погребение на престижном кладбище Новодевичьего монастыря удалось получить в обмен – “за пару калош из Главрезины”. Готье с дотошностью историка отмечает также то, как выросли расценки и затраты на погребение: “Похороны Ниночки в ноябре 1919 стоили 30 000; похороны дяди Эдуарда в декабре 1921 – 5 000 000; похороны М. М. в марте 1922 – 33 000 000. Хлеб стоит 60 000 фунт”[390].
Правда заключалась в том, что местные Советы были перегружены работой. Чиновники не справлялись. Правила менялись беспрестанно. Конечно, появились новые резиновые печати и штампы, но вот с бумагой было туго. Ни о каком чае речи быть не могло, и круг бюрократических обязанностей ширился не по дням, а по часам, по мере того как новое правительство переводило под свой контроль городские службы, которыми прежде занимались тысячи частных компаний. Военный коммунизм, режим существования государства в годы Гражданской войны, обеспечил национализацию практически всех сфер жизни и экономики, включая похоронную индустрию. 7 декабря 1918 года большевики объявили об установлении советской монополии в этой области. Сам указ был, что характерно, сформулирован в оптимистичных, нормативных терминах. С момента его принятия ранг покойного больше не влиял на выбор места захоронения или формы проведения похорон[391]. Могильщики, ставшие теперь государственными служащими, должны были работать в соответствии с производственными нормами, что избавляло их от излишней эксплуатации. Теоретически ежедневная норма выработки на человека не должна была превышать двух могил стандартного размера или четырех “детских”[392]. Цена гробов должна быть зафиксирована, а гробовщики получали список спецификаций – одна модель в трех размерах[393]. Даже были приняты меры для начала массового производства венков из цветной бумаги[394].
Одна из проблем заключалась в том, что смертью и умиранием трудно управлять централизованно. Поэтому случались заторы, бюрократический недосмотр и оплошности; в Волоколамске во дворе могли скопиться горы гробов, в то время как в Москве их было невозможно достать. Взяточничество, как пришлось убедиться лично Юрию Готье, стало обыденной частью похоронных приготовлений. Коррупция, дефицит и неэффективность были неотъемлемыми элементами советской экономики, определявшими ее на следующие семь десятилетий. То, что происходило с 1918 по 1921 год, было исключением, результатом высокой смертности. К 1918 году в каждом крупном городе груды трупов в буквальном смысле высились перед воротами кладбищ. Инспекторы строчили неразборчивые, исполненные ужаса докладные записки и составляли анкеты: сколько тел и как долго ожидают у вас погребения? В каком состоянии находятся трупы? Ответственный работник должен был подписать анкету и сразу же отправить ее[395]. Когда у инспекторов выдавалось свободное время, они совершали обходы кладбищ. Написанные ими отчеты откровенно свидетельствовали о том, насколько были потрясены их составители. Эти люди, чьи представления о приличиях сформировались в менее суровые времена, не могли сдержать тревоги относительно нового общества.
Так, группа служащих Петроградского совета посетила кладбище на окраине города, где в 1905 году были похоронены жертвы Кровавого воскресенья. Приехав в третью неделю февраля 1920 года для осмотра, они обнаружили 241 незахороненный труп. “Некоторые из них были в гробах, и некоторые гробы были частично разбиты, обнажая покойников… Все тела уже охвачены разложением, как будто бы уже успели долгое время провести в больничных моргах”[396]. Согласно документам, некоторые из непогребенных тел, обнаруженных на кладбище в тот день, ожидали захоронения с 20 января! Другие тела были без всяких гробов штабелями сложены в сарае, который сам был в таком ужасном состоянии, что в него забредали бездомные собаки и глодали разлагающиеся конечности покойников.
По подсчетам инспекционной комиссии, для того чтобы справиться с уже существующей горой трупов, потребовалось бы по крайней мере двадцать пять могильщиков, и это без учета еще тридцати-сорока новых покойников, поступающих каждый день. Однако в день своего визита комиссия обнаружила, что на кладбище работают только семь человек, причем несколько уже продолжительное время не выходили на работу из-за болезни. Местные жители прекрасно знали, что происходит. Добрая их часть уже отвозила к воротам кладбища своих мертвых на саночках, потому что достать извозчика было трудно или вовсе невозможно. Люди препирались и торговались с могильщиками, умоляли, рыдали, а затем, когда отворялась дверь сарая, они в ужасе видели то, что за ней скрывалось. Рабочие с близлежащей фабрики не жаловались, но инспекция тем не менее отметила сообщения о “беспорядках” на самом кладбище[397].
В Москве ситуация была не легче. Инженер, составивший отчет о состоянии кладбищ в апреле 1919 года, обнаружил, что невозможно проследить весь путь тел умерших от тифа от местной больницы до кладбища. Трупы просто вывозили – без документов, без гробов, часто даже без одежды – и хоронили в общих рвах, часть которых была вырыта за пределами территории кладбища. Простые граждане даже не всегда могли быть уверены, что их родственник действительно скончался, а те, кто пытался наводить справки, никогда не могли выяснить местонахождение тела. “Подобные условия подпитывают обвинения и недовольство”, – отмечал инженер[398]. В конце концов некоторые родственники стали брать похороны в свои руки и рыли могилы там, где могли найти для них место[399].
Большинство людей предпочитали думать о другом, и каждый пытался просто выжить, но периодически кризис, наблюдавшийся на кладбищах, просачивался и в жилые кварталы. В 1918 году в центральных районах Москвы чуть не вспыхнули беспорядки, из-за того что кто-то в местной больнице по ошибке сгрузил тридцать два трупа в обычный вагон с окнами вместо специального закрытого фургона. Этот “трамвай” громыхал через весь город к ужасу и потрясению горожан, а когда он остановился на оживленной остановке, вокруг собралось от трехсот до четырехсот зевак. Через замазанные окна они могли разглядеть горы тел, одетых в лохмотья и белье или полностью голых мертвецов, некоторые из них были в “ужасном, беспорядочном состоянии”[400]. Люди напирали, толкались и вытягивали шеи, выкликали друзей. Толпа начинала выходить из себя. Кто-то заорал: “Ну-ка поглядим, как с нами обращается советская власть!” Для восстановления общественного порядка призвали шестьдесят призывников из расположенных неподалеку казарм Красной армии, но им потребовалось двадцать минут на то, чтобы прорваться сквозь толпу. Врач, ставший свидетелем произошедшего, подтвердил, что сцена произвела на него “отталкивающее впечатление”[401].
Похоронные отделы при Советах готовы были испробовать все возможные средства, чтобы покончить с этой ситуацией. О брезгливом отношении к общим могилам пришлось позабыть. Труднее было найти могильщиков. В Москве пытались было приставить к этой работе осужденных преступников, однако после того, как большая часть этих горе-могильщиков сбежала, эксперимент быстро свернули[402]. Непросто было также копать большие ямы для захоронений зимой, так как промерзлый грунт покрывала толща снега[403]. Некоторые кладбища в январе и вовсе прекращали функционировать. В результате в моргах росли груды тел, “одно на другом, на полу, на каждой полке, так что невозможно посчитать или задокументировать их все”[404]. Несколько инспекторов отметили, что в районах вокруг центральных больниц в воздухе чувствуется сильный запах[405]. Опасались и за чистоту грунтовых вод[406].
Неудивительно, что комитеты, ведавшие вопросами погребения, задумались о таком дешевом, гигиеничном и потенциально не требующем больших трудовых затрат решении, как кремация. Консультирующий эксперт в Москве был предельно откровенен в своем предложении. В апреле 1919 года инженер Гашинский завершил свой запрос на эту тему так: “Я предвижу, что введение крематориев как инновации может вызвать протест со стороны родственников или друзей умерших в силу религиозных или иных предрассудков”. Однако этих трудностей можно избежать с теми, чья смерть осталась неизвестной “их родителям или родственникам”[407]. Если преодолеть это затруднение, то можно разработать проект московского крематория “или нескольких крематориев” ввиду одной первостепенной цели: быстрого избавления от трупов. Эстетическая сторона вопроса могла подождать: единственной реальной проблемой было разогреть печь до нужной температуры. Пробный эксперимент, который провел Гашинский, пытаясь кремировать труп лошади, оказался не слишком вдохновляющим, но разработчик был убежден, что, когда будет налажено массовое производство подобных печей, те проблемы, с которыми столкнулся он сам при ее индивидуальном изготовлении – неполное сгорание и чрезмерное количество пепла, – можно будет преодолеть. Он был так уверен в разработанной им конструкции, что даже предложил дополнительно использовать ее для сжигания мусора. Подходящие виды мусора, по его словам, в свою очередь, могут служить сырьем для производства великолепного топлива[408].
Религиозные проблемы, тревожившие Гашинского, были отнюдь не тривиальными. Православная церковь запрещала кремацию. Вся материалистическая структура ее учения о воскрешении и тех сокровенных связях, которые навсегда соединяют душу и плоть, была построена на обряде похорон. Да и более простые верования, например о земле, было не так-то легко отбросить. Тело должно вернуться в землю, а не в пламя, потому что скорбящим нужна могила, на которую они могли бы приходить. Именно об эти доводы разбился проект строительства крематория в Петербурге, который из соображений гигиены и удешевления похорон рассматривался в последнее десятилетие XIX века. Идея повсеместно вызвала отвращение. Однако к 1919 году потребность в быстрой утилизации тел стала очень острой. Более того, это решение открывало доселе невиданные возможности для агитации и пропаганды: в новом, промышленном и научном, мире огня и пепла церковь лишалась своей власти, а ее церемонии – актуальности.
Новаторы столкнулись с бесконечным количеством трудностей. Протоколы заседаний фиксируют множество слов и часов усердного планирования, но проходили месяцы и годы, а дело почти не двигалось с места. В Москве не было подходящего для крематория места. Планы строительства крематория подле одной из главных больниц для гражданского населения были заброшены, потому что едва не спровоцировали общественные беспорядки. Красноармейцы тоже не сильно помогли делу, когда выступили против идеи строительства крематория возле их военного госпиталя[409]. Подкомитет в Моссовете, ведавший проектом строительства крематория, сформировал рабочую группу, которая должна была рассмотреть “психологические аспекты” этой затеи. В декабре 1919 года был уволен и сам Гашинский, спустя ровно год после того, как он начал заниматься проектом. Его преемниками потребовались годы на то, чтобы справиться с техническими трудностями, среди которых, например, была проблема поддержания и контролирования определенной температуры в печи[410]. Наконец, в 1927 году на территории, реквизированной у Донского монастыря, открылся московский крематорий.
Специалисты в Петрограде были более успешны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, а кроме того, они куда более чутко уловили эстетические и нравственные пристрастия публики. Они даже провели публичный конкурс проектов комплекса крематория. Заявки, поданные на этот конкурс осенью 1919 года (а в это время армия Юденича уже достигла окраин города, в котором по-прежнему не было ни хлеба, ни колбасы), предлагали концепции в диапазоне от странных до абсолютно невыполнимых с архитектурной точки зрения. Каждая включала в себя элементы революционного китча, и многие были вдохновлены религиозными чувствами, которые со всей очевидностью проступают в других формах пролетарского искусства того периода. Проект инженера A. Г. Джорогова был среди тех, что заслужили одобрение (хотя ни одна из заявок так и не была реализована). Вот что этот конкурсант писал о процессе кремации: “Пусть все будет сделано величественно, художественно”. Его план исключал все “тяжеловесное, грубое, все, что напоминает о сожжении. ‹…› Пусть здание будет высоким, таким, чтобы доставало почти до небес”. Предложенный им проект был вдохновлен лестницей Иакова, соединявшей небо и землю, и на входе в этот “сад отдохновения” он предлагал начертать следующие слова: “Придите ко мне все труждающиеся, и я успокою вас”[411]. Но Петроградская комиссия по строительству первого государственного крематория и морга, проигнорировала эти украшательства. Собственные официальные бланки Комиссии украшали ворона, человеческий череп и вьющийся дым.
Серьезное планирование продолжилось и в 1919-м, и в 1920-м. Как и в Москве, главным препятствием был поиск подходящего места. Комиссия считала, что крематорий должен быть расположен в центре, вблизи транспортных путей, а в идеале – в центре района с особенно высокой смертностью. В марте 1919 года члены комиссии остановили свой выбор на участке земли вблизи Александро-Невской лавры. Неподалеку был большой канал, а также проходила главная транспортная артерия города, тянущаяся через самый его центр. В нескольких минутах от этого места располагается и самый крупный железнодорожный вокзал Петрограда[412]. Однако сразу же послышались возражения. Оказывается, Петросовет уже строил совсем другие планы на этот участок, собираясь превратить его в общественный парк. Члены Петроградского совета также выражали озабоченность тем, что дым, пыль и пепел от крематория будут загрязнять воздух в густонаселенном районе[413]. Инженер, предлагавший альтернативный проект, заметил, что очевидным путем, которым для кремации ежедневно должны будут доставлять сотни трупов, причем по большей части в запряженных лошадьми телегах, окажется Невский проспект, по мнению многих, все еще самая прекрасная улица Европы. “Его станут называть улицей смерти”, – предупреждал он. По его мнению, следовало относиться к новому учреждению как к фабрике и расположить его изолированно на какой-то заброшенной, подходящей для этих целей окраине[414].
Меж тем, пока планировщики пререкались, в Петрограде разворачивался эксперимент, который сделает его первым в России городом, в котором будет работать крематорий для бесхозных, невостребованных трупов. Инженеры, используя труд заключенных, превращали баню на Васильевском острове в первый в мире крематорий, работающий на деревянном топливе[415]. Переделывали здание с многочисленными заминками и трудностями, при строительстве печи возникали бесконечные технические проблемы. Однако главной проблемой была нехватка квалифицированной рабочей силы. Всем было известно, что вместе с тающим снегом каждую весну могла вспыхнуть очередная эпидемия. Желтая водичка капала с оттаивавших трупов – ворон, лошадей, собак, стариков, замерзших насмерть пьяниц – груды мусора нагревались и прели, в них размножались личинки, скрипучие трубы и канализационные водостоки протекали. Весна 1919 года преподала Петроградскому совету урок, однако с приближением зимы строительство печи крематория – прототипа, разработанного специально для того, чтобы сжигать по крайней мере шестьсот трупов в месяц, – все еще было далеко от завершения. К работе привлекли еще больше заключенных; нашли военных инженеров с опытом конструирования паровых котлов и механизмов подачи топлива в печь. К концу декабря, когда до начала роста смертности оставалось в лучшем случае четыре месяца, строителям начали раздавать бутылки коньяка в надежде ускорить их работу[416]. И все равно стройка отставала от графика по крайней мере на девять месяцев.
В конце концов в декабре 1920 года Петроградский крематорий начал свою работу. Но его открытие не решило проблемы. Нехватка топлива делала его печь малоэффективной, так что в среднем удавалось кремировать 125 тел в месяц. Однако настоящую проблему представляла собой деревянная крыша здания. В феврале 1921 года перестроенная под крематорий баня перегрелась и здание сгорело[417]. За все время работы в нем было сожжено менее четырехсот трупов. Комиссия не спешила обнародовать новости о том, какая участь постигла петроградское чудо инновационной инженерной мысли. Тела, которые с таким огромным трудом и так неоперативно превращались в обугленные кости и пепел, не принадлежали на все согласным добровольцам. Руководствуясь пропагандистскими целями, крематорий провел только одну церемонию прощания, в которой принимал участие обслуживающий персонал, одетый в униформу, и для которой был выбран красивый гроб. Однако на более поздних фотографиях работающей печи видны лежащие на специальном столе обнаженные трупы, подготовленные для кремации. Члены петроградской комиссии экспериментировали с эффективными способами избавления от всяческих маргиналов, беженцев и переносчиков чумы. Та же самая технология позднее использовалась и в Москве с тем, чтобы утилизировать тела, которые ночью партиями привозила в крематорий сотрудники органов для “немедленного сожжения” вне очереди.
А значит, крематорий не был решением проблемы огромного количества незахороненных трупов, по крайней мере не в масштабах той реальности. Власти были вынуждены тщательно обдумать ситуацию, сложившуюся на кладбищах. Естественно, наряду со сферой погребальных услуг и производством гробов кладбища были национализированы еще в декабре 1918 года[418]. Но факт оставался фактом: многие кладбища по-прежнему были напрямую связаны с церквями и монастырями или, по крайней мере, имели часовню на своей территории. Это представляло собой определенное неудобство, не говоря уже обо всех надгробных памятниках, статуях и гравировках, которые напоминали о прошлом и об иной властной иерархии. Начиная с 1920 года Советы во многих городах начали обсуждать предложение о превращении старых кладбищ в парки. Говорили, что хотят убрать поврежденные, наводящие тоску камни, выровнять эти участки земли, озеленить их, превратив в образец городского ландшафта, чтобы способствовать развитию здорового пролетарского досуга.
Новое использование подобных пространств сулило свои выгоды. В Москве на освященной территории кладбища, которое прежде принадлежало Симонову монастырю, появился дополнительный корпус завода “Динамо”. Для строительства нового здания во множестве использовались надгробия, а на оставшейся площади кладбища были возведены многоквартирные дома для прибывающей рабочей силы[419]. Куда менее привлекательный проект был реализован на огороженном пространстве вокруг Спасо-Андронникова монастыря, где в течение некоторого времени действовал лагерь для политических заключенных. Другие московские кладбища, например то, что соседствовало с Даниловым монастырем, были превращены в клубы и парки для рабочих, в то время как Покровское кладбище в 1924 году вообще сравняли с землей и разбили на его месте футбольное поле[420].
Политика уничтожения приносила свои плоды. Люди, игравшие в футбол на населенной призраками территории бывшего кладбища, вскоре забудут о том, что было на этом месте прежде. Рабочие-мигранты и те, кто недавно перебрался в город из отдаленных деревень, не помнили прежних ландшафтов и поэтому не чувствовали, что произошло осквернение этих пространств. Очень немногие горожане знали, что их дома были в буквальном смысле возведены на человеческих костях. А тем временем большевики присвоят себе избранных художников, поэтов и музыкантов прошлой эпохи. Эти “идеологически правильные” мертвые будут вырваны из исходного контекста: надгробия с их могил будут перенесены, а сами останки, как правило, продолжал лежать на прежнем месте. Памятники будут собраны в специальных мемориальных пространствах, эдаких “потемкинских деревнях” для мертвых, за фасадами которых не будет никакого содержания[421]. Через год или два эти герои станут собственностью советской эпохи и будут выстроены по новому ранжиру. Так, например, Глинка превратится в советского композитора. Церковные хоры больше не будут петь в непосредственном близости от тех кладбищ, где нашли свое последнее успокоение придворные поэты и музыканты прежней эпохи. Советская власть аннексировала наиболее “полезные” памятники российского прошлого, не остановившись даже перед тем, чтобы до неузнаваемости изменить облик знакомых всем достопримечательностей, а все остальное предать забвению.
Памятники, которые не были признаны важными и ценными, переносили, обезображивали или разрушали. Однако ответственность за причиненный ущерб лежит не только на советском правительстве. Перегруженные работой служащие были не в силах контролировать происходящее на многих кладбищах, находившихся “в беспорядочном состоянии”. Кто мог остановить выпас на этих участках домашнего скота или цыплят? Мрамор и бронзу с надгробий растаскивали, а среди покосившихся надгробий сладко спали пьяницы[422]. Однако к 1930-м годам последствия этого небрежения и запустения дали возможность Наркомфину прибрать к рукам и пустить в переработку все то, что еще имело смысл украсть[423]. Местные Советы составляли перечень кладбищенского имущества, измеряя его ценность в тоннах камня и металла. Надгробия, особенно те, что были выполнены из мрамора прекрасного качества, вывозились для использования на различных строительных проектах. На старых станциях знаменитого московского метро до сих пор можно обнаружить изрядное количество мрамора из надгробий. Использовались также железо, бронза, гранит: иногда их прямо направляли на промышленные нужды, а иногда – на перепродажу. В составленном в 1931 году секретном отчете говорилось о том, что закрытие старых кладбищ даст стране более сорока тонн металла, который можно будет использовать в борьбе за индустриализацию. Наркомфин руководил доброй частью подобной деятельности, в которой безошибочно распознавалась двойная задача: помимо вторичного использования ресурсов, комиссариат был заинтересован в том, чтобы убрать из поля зрения населения неудобные напоминания о недавнем религиозном прошлом.
По нормам общественно-политической жизни, сложившимся к 1920-м годам, изъятие кладбищенских ценностей казалось не слишком вопиющим нарушением, поэтому оно не вызвало бурной общественной реакции. 1920-е и 1930-е годы были временем разрушения. Главными мишенями этой политики стали здания церквей. Их превращали в зернохранилища, сараи для скота, склады. У них срывали крыши, изымали камень для переработки, а самые ненавистные, мозолившие новой власти глаза церкви взрывали. Иконы вынимали из окладов. Золото и серебро из них исчезало в бюджете, дыры которого они призваны были залатать, а раскрашенные темные деревянные доски, почерневшие от накопившейся за столетия свечной копоти и отполированные поцелуями верующих, бесцеремонно отбрасывались в сторону. Некоторые иконы сжигали или использовали в качестве учебных мишеней для стрельбы, из других сколачивали ящики для картошки. Одна верующая позднее рассказывала, как из икон разграбленной церкви сделали кормушки для скота: “Бывало, стало лошадям корм давать, наклонишься над кормушкой, да и отшатнешься – жуть! Из кормушки на тебя либо Христос, либо Богородица смотрит. Лики строгие, глаза большие, жуть-то и возьмет”[424].
Такого рода эксцессы стали возможны (хотя большевики никогда не чурались подобных методов, и поиск подходящего предлога для их использования был лишь делом случая) из-за более масштабного кризиса и голода 1921–1922 годов и послужили прецедентом. До этого момента даже Ленин был непоследователен в вопросах отношения к церкви. С идеологической точки зрения он считал, что все религии обречены на уничтожение, а церковь как институт должна быть разрушена. Он испытывал отвращение к суевериям, да и к любым проявлениям чувств. Однако в отличие от его рядовых последователей и многих пропагандистов Ленина не интересовало создание нового типа человека или формирование нового мировоззрения. Он считал, что все это “кукольная игра, ‹…› забава кисейных барышень от социализма, а не серьезная политика”[425]. Ленин также хорошо осознавал, какие издержки могут быть у антирелигиозной кампании с точки зрения пропагандистских рисков. Большевики заключили целую серию политических сделок с иерархами Русской православной церкви, готовыми пойти на контакт, и те оказались чрезвычайно полезными в самые мрачные годы Великой Отечественной войны.
Однако были моменты, когда ненависть Ленина к церкви и особенно к ее могуществу могла оказаться сильнее, чем его политическая прозорливость и мастерство государственного деятеля. Чаша весов перевесила к концу 1921 года, когда государство отчаянно нуждалось в золоте. Ему необходимо было богатство церкви. Большевики вступили в переговоры с компанией De Beers, намереваясь продать ей бриллианты. Голод 1921–1922 годов оказался удобным предлогом. Весной 1922 года Ленин пишет: “Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечивало бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием церковных ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне”[426].
Кампания началась в марте 1922 года. Высокопоставленные церковные иерархи, включая митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина, испытывали двойственные чувства: наблюдали за происходящим настороженно, но не выражали открытого несогласия[427]. Но Ленин все почувствовал верно: человеколюбивые, гуманитарные побуждения были пока не полностью искоренены. Сопротивление началось на местах. Самый печально известный случай произошел в Шуе, небольшом городке неподалеку от Иваново-Вознесенска. Слух о том, что будут изымать церковное золото, дошел до города прежде красногвардейцев. Для защиты драгоценных сокровищ собралась толпа, вооруженная вилами, дубинами, ножами и даже краденым огнестрельным оружием. Когда на место прибыли красногвардейцы, произошло столкновение, и к вечеру несколько человек были убиты, а несколько десятков серьезно ранены. Реакция Ленина, выплеснутая в письме в Москву членам Политбюро, была такой злобной, что Коммунистическая партия даже была вынуждена засекретить его письмо и держать в тайне вплоть до 1990 года. В нем Ленин, в частности, пишет: “[Я] прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. ‹…› Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать”[428].
ЧК с радостью взяла под козырек. Уверенности в цифрах у историков нет, но, по некоторым оценкам, в период с 1922 по 1923 год так или иначе “исчезли” 2691 священник, 1962 монаха и 3447 монахинь. Некоторые монастыри были и вовсе закрыты, как это произошло, например, с пользовавшимся народной любовью монастырем Святого Иоанна Кронштадтского. Видные церковные деятели, включая митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина, были арестованы, допрошены и расстреляны. Верующие могли уповать лишь на чудо, и тут уж годился любой знак или знамение. Нынешние монахи Донского монастыря в Москве все еще рассказывают историю об офицере Красной армии, который выстрелил в упор в кладбищенскую икону и был убит наповал своей же собственной пулей, рикошетом отскочившей от гранитной подставки ему в грудь, – тут явно не обошлось без Божьего промысла[429].
Битва, развернувшаяся вокруг церковного имущества, была ожесточенной, однако в борьбе с религиозными ритуалами, как правило, силу не применяли, не вмешиваясь, например, в ход похоронной церемонии. Рьяные члены комсомольской организации могли ворваться в ряды пасхальных процессий или осыпать ругательствами и насмешками бабушек, торопившихся на службу в церковь, но к умирающим они все же относились с куда большим уважением. Бывали случаи, когда молодчики в кожанках оттаскивали священника от смертного одра какого-нибудь несчастного, однако подобное случалось настолько редко, что газеты сообщали об этом с возмущением и негодованием[430]. Хотя партийные идеологи писали целые трактаты о необходимости введения атеистических, коммунистических, рационалистических похоронных церемоний, партийное руководство не поддерживало провокаций и провокаторов. В этом было очередное проявление лицемерия, жестокая непоследовательность. Пока вокруг закрывались церкви, партия продолжала на словах защищать частную свободу совести. Истинное существо дела прекрасно описал дьявол, навестивший Москву в литературной фантазии Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита”: “Да, мы не верим в бога, – чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. – Но об этом можно говорить совершенно свободно”[431].
Все, кому предстояло организовать похороны, оказывались перед выбором, который мог сбить с толку любого. В соответствии с Новой экономической политикой в 1921 году похоронные услуги были реприватизированы. Но закон предполагал выплату субсидий тем, кто выбирал одобренные сверху нерелигиозные церемонии погребения, регулируемые городским Советом. Значительное количество людей, кажется, предпочитало все-таки заплатить из своего кармана. Они охотно пользовались возможностью дать волю своей ностальгии по прежним церемониям и обрядам. Даже если они не могли пригласить священника и не помнили точно текст всех молитв, им страстно хотелось, чтобы на церемонии были фимиам и свечи, белый саван и традиционные песнопения[432]. Они также жаждали персонального внимания. Как писали знаменитые сатирики Илья Ильф и Евгений Петров в 1928 году: “В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть”[433].
В 1923 году журнал “Безбожник у станка” сетовал, что “гражданские похороны – все еще редкость”. Целенаправленные попытки изменить ситуацию при помощи переубеждения населения, как правило, терпели поражение. За пределами столицы у Общества развития и распространения идеи кремации в РСФСР (ОРРИК), основанного в 1927 году, нашлось немного последователей[434]. Старшее поколение сохранило верность религиозному похоронному обряду и никогда от него не отказывалось, однако произошедшие в 1930-е годы перемены украдут у них эту альтернативу[435]. Очередная кампания по закрытию церквей началась в 1928 году и не прекращалась даже в ужасные годы коллективизации и голода. Самым тяжелым для верующих стал, вероятно, 1938 год, когда только в Ленинграде число действующих церквей сократилось с тридцати трех (что само по себе было лишь малой частью от их дореволюционного количества) до пяти[436]. Один источник, который, похоже, дает заниженные цифры, сообщает, что в тот год по всей России нашлось бы немногим более сотни храмов, проводивших регулярные службы[437]. Если в дореволюционной Москве насчитывалось шестьсот церквей, то к 1942 году их осталось лишь семнадцать (и это после того, как с началом войны для верующих заново открыли несколько прежде закрытых храмов)[438]. “Кажется, первый раз в жизни я не пошла к заутрене. Некуда идти. В городе осталось три церкви, все переполнены людом. Крестного хода нет, с улицы даже «Христос воскресе» не услышишь. И кроме того, я замучилась”, – записала в своем дневнике на Пасху 1939 года жительница Ленинграда Любовь Шапорина[439].
В рамках сталинской кампании индустриализации после 1929 года наравне с другими видами частных предприятий в стране исчезли частные похоронные бюро. Их функции были полностью переданы ЗАГСам, в которых регистрировались рождения, свадьбы и смерти, а также похоронным отделам местных Советов. Как и в 1918 году, это снова были государственные монополии, в чьи задачи входило обеспечивать население гробами и венками и распределять участки для захоронения на кладбищах, которые теперь в основном были в подчинении Горсовета. Тут уж выбирать не приходилось, оставалось только безмолвно принять положение вещей. В городах, где похороны были вотчиной бюрократов, скорбящие вынуждены были делать то, что им говорили. Они выстаивали очереди к еще одному окошку и ждали указаний. Подпишите здесь, заплатите столько-то, не курить, не кричать, не плевать на пол[440]. В провинции старые обряды уходили медленнее, и хотя молодое поколение уже отказывалось от молитв, находились коммунисты, которые не спешили расставаться со своими иконами и держали их под рукой[441]. Однако там, где в 1920-е годы нормой были религиозные похороны, с началом Великой Отечественной войны полноценный православный похоронный обряд стал большой редкостью. Молитвы никуда не исчезли, но их бормотали женщины и скорбящие, которые собирались на поминках и в удивлении качали головой, столкнувшись с “похоронами без священника”, и поднимали стаканы за упокой души, в самой форме, да и в существовании которой многие теперь отнюдь не были уверены[442].
Оставшиеся святые места люди предпочитали посещать почти тайком. Никто не знает точного числа посетителей. Официальная статистика относительно верующих ничего не сообщает нам о тех, чья вера была не слишком крепка, о тех, кто редко или вообще никогда не ходил в церковь, о тех, кто никогда не отважился признаться, что их до сих пор преследует то немногое, что еще осталось от прежней веры. Но люди точно посещали кладбища. Им нужен был покой, общество предков, хотя бы какая-то временная передышка. Более истовые верующие пытались нейтрализовать совершенные кощунства, принести любые обеты, которые были в их силах, чтобы выполнить свой долг перед Господом. Люди приходили даже на заброшенные кладбища, молились там и украшали могилы венками и еловыми ветками. Те же кладбища, что еще продолжали функционировать, часто заменяли собой исчезнувшую церковь[443]. Если ворота были заперты, люди клали цветы, яйца и кусочки хлеба у кладбищенской ограды. Они не оставляли привычки регулярно посещать кладбища, если еще были в состоянии это делать, делились едой с мертвыми и даже разговаривали с ними – то есть воспроизводили все то, что в прошлом было так важно для их родителей и родителей их родителей. По традиции кладбища навещали по субботам, однако советские граждане в основном приходили по воскресеньям или в любой другой день, на который после введения десятидневной рабочей недели выпадал выходной[444]. Идеи, лежащие в основе этих ритуалов, и даже само выражение “родительская суббота” не изменились. Атеистическая идеология не дала скорбящим, пережившим горе людям ничего, что могло бы столь же чудесно удовлетворить их нужды.
Возможно, новый режим и смог бы разработать подходящий атеистический ритуал для народных масс – партия, безусловно, приложила много усилий, для того чтобы создать такой ритуал, по крайней мере для партийного руководства, – но в реальности советские новшества и нововведения наводили на людей тоску. В центре этих нововведений был труд человека, его вклад в революцию, преданность партии. Смерть стала такой же унылой и бесцветной, как и жизнь, по крайней мере для обычных людей, такой же неважной, как обладание демократическим голосом или индивидуальностью. В феврале 1939 года Любовь Шапорина записала в дневнике: “Похоронили Кузьму Сергеевича. Если бы он присутствовал на своих похоронах, при его тонкой, возвышенной впечатлительности, он был бы потрясен”. Ее недовольство, возможно, можно отчасти объяснить отчаянием, но поведение кладбищенских рабочих его только усугубило: “Процессия приехала на Волково около 7 часов. Было почти темно и быстро темнело, так что скоро стало невозможно различать лица. Поставили гроб над могилой, открыли. Кругом в темноте на холмах могил, на разрытой земле толпа людей. Полное молчание и разговоры могильщиков. Зажгли один фонарик, воткнутый на палку, и кто-то держал его над могилой. Свет его падал, скользя, на лицо Манизера, который поддерживал Марию Федоровну. Она поднялась на груду земли, наклонилась над гробом и несколько раз ласково, ласково погладила лоб Кузьмы Сергеевича, я чувствовала, что она шепчет: «Папуся, adieu, adieu». ‹…› Гробовое молчание кругом и заглушенные всхлипывания. Опять переругивания могильщиков, как спускать гроб. Оркестр заиграл траурный марш. Взялись за веревки, потащили доски из-под гроба, стали спускать гроб, вдруг он соскользнул и стоймя обвалился в могилу, крышка открылась – у меня сердце захолонуло, я отскочила за толпу, отвернулась, мне казалось, что он вывалится из гроба. Опять же громкая ругань могильщиков, а оркестр шпарит бравурный «Интернационал». Стук земли о гроб. Извинения и объяснения пьяного могильщика. Все”[445].
Атеистический подход к смерти, если свести его до базовых представлений, был прост. Член Центрального комитета партии Михаил Степанович Ольминский объяснял его так: “Я давний противник похоронных обрядностей, принятых в партии. Я думаю, что все это пережиток религиозных обрядностей (гроб, похороны, прощание с трупом, могила или кремация и проч. чепуха). Мне приятнее думать, что мой труп будет использован более рационально, будет отправлен на утилизационный завод без всяких обрядностей, а на заводе жир пойдет для технических целей, а прочее для удобрения”[446].
В то время, когда были написаны эти слова, пропагандисты, занимавшиеся этим вопросом, с восторгом встретили бы инициативу Ольминского. Их исполненные серьезности коротенькие памфлеты бесконечно возвращались к темам необходимости смерти и разложения и к теории универсальной энтропии. Один автор объяснял: бессмертна только амеба. Все остальные живые существа обречены умереть. Такова цена индивидуальности, эволюции. Единственное, что мы можем назвать бессмертным, это наш труд[447]. Однако и небеса настоящему большевику тоже не слишком подходили. “Окажется ли жизнь после смерти радостной или скучной, будет зависеть от вашего личного вкуса, – писал в 1923 году пропагандист Рожицин, – но нет сомнения, что картина неземного наслаждения может быть приятна только тому, кто не любит трудиться или думать. Только ленивый человек может хотеть небесного покоя”[448].
Ольминский умер в 1933 году. ЦК партии проигнорировал его рационалистическое завещание. В том, что касалось стиля проведения похорон, у партийной элиты выбора не было. Ей не дано было покоиться – и гнить – с миром, ее похороны становились делом государственной важности. Тело покойного выставлялось для прощания в окружении дорогих цветов и еловых ветвей так, как это было принято у большевиков. Гражданская панихида проходила по адресу Красная площадь, дом 3, в здании, которое занимали советские конторы и которое сегодня известно как ГУМ. Затем тело кремировали в новом московском крематории, а прах захоранивали в Кремлевской стене[449].
Правда заключалась в том, что большевизм не мог себе позволить обойтись без вечной памяти. Можно было уничтожить небеса, но не обиталище революционных героев, не эту коммунистическую Валгаллу. Помимо всего прочего, в обращение был введен новый календарь “святых” и праздников. И в довершение всего – какая гротескная ирония! – была создана новая нетленная святыня, чудо эпохи научных открытий: мумифицированные останки самого вождя.
Новый ритуал, включая язык и многие детали церемонии, в значительной части наследовал тем моделям, которые сложились до революции, в годы подпольного сопротивления и “красных похорон”. Каждый раз, когда умирал видный большевик, улицы украшали красными с черным стягами, газеты выходили с траурной каймой на страницах и публиковали нескладные вирши, воспевающие храбрость героя, его преданность делу революции, нежную любовь к детям и безжалостную борьбу с врагами. Проводились церемонии “красных похорон”, на которых непременно присутствовали длинные процессии людей, красные флаги с эмоциональными лозунгами и военные оркестры (часто на публичных похоронах, даже в 1918 году, оркестров было несколько, а еще приглашали хор)[450]. У самой могилы нередко произносились длинные речи об отмщении. Типичными образчиками этого жанра можно считать похороны видных большевицких деятелей М. Урицкого и В. Володарского, убитых в Петрограде летом 1918 года и похороненных на Марсовом поле рядом с “Жертвами Февраля 1917 года”. На похоронах Володарского на одном из стягов виднелась надпись: “ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ БУДЕТ ПУХОМ”, – а на других предупреждение: “УМРЕМ, НО НЕ СДАДИМСЯ”[451].
“Красные похороны” устраивали и для менее важным персон – тех, чьи смерти были особенно пронзительными или чьи жизни могли сложиться в революционные сказания. Власти не упускали ни одной возможности подпитать общественное воодушевление, страстный порыв или страдание, особенно если погибала молодая девушка, боец фронта, и ее можно было похоронить с подобающей церемонией и белым стихом. Так, 10 октября 1918 года газета “Петроградская правда” объявила: “Вчера мы похоронили Марию Яковлевну Богданову”. Она была коммунисткой, большевичкой, и ей было всего двадцать лет. Газета продолжала: “Она погибла на своем посту, на фронте в Саратове, на фронте, где сражалась против самого страшного нашего врага, величайшего врага рабочего класса и союзника всех контрреволюционеров – голода”. Молодая женщина была беременна, так что “она не только отдала свою молодую жизнь, но и жизнь ребенка, ребенка, которого носила под сердцем”. Похороны были организованы на Митрофаниевском кладбище в Петрограде. Тело привезли домой соратники Богдановой из той организации, в которой она работала. На погребении присутствовали два хора и оркестр, прозвучал артиллерийский салют[452].
Перевозка тела железной дорогой, цветы, стяги, оркестры и хоры стоили денег. Газетные колонки в прессе, которой управляло государство и которую контролировала цензура, были практически бесплатны, но не сама газета и не то время, которое государственным и партийным деятелям приходилось выкраивать в своем рабочем графике на посещение подобных мероприятий. Однако эти церемонии были настолько ценными, что соображения неудобства и занятости просто отметались. Такая же система приоритетов действовала, когда речь зашла о создании революционного календаря. В апреле 1918 года, в годовщину государственных похорон жертв Февральской революции, газета “Правда” попыталась найти пролетарский эквивалент традиционным православным дням святых. “Сегодня день, в который мы вспоминаем людей, отдавших свои жизни за освобождение эксплуатируемых классов. Сегодня мы вспоминаем о том, что их больше нет среди нас, но их дух, дух революционеров и борцов, остается с нами”[453]. Не прошло и двух недель, как пришел черед жертв восстания 1912 года на Ленских золотых приисках. Заголовок был не меньше семи сантиметров в высоту: “СЕГОДНЯ ШЕСТАЯ ГОДОВЩИНА РАССТРЕЛА ЛЕНСКИХ РАБОЧИХ”. В статье возле стихотворения Демьяна Бедного говорилось: “Сегодня по старому 4ое апреля – день навсегда памятный для российского пролетариата… Тов. рабочим, погибшим на берегах далекой Лены в борьбе за лучшее будущее, российский пролетариат построил лучший памятник в великие октябрьские дни. И память о великих мучениках 4ого апреля 1912 г. не умрет никогда в сердцах рабочих”[454].
Власти также заказывали мемориалы из бронзы и камня, изучали и оценивали работу архитекторов и скульпторов. Летом 1918 года, приблизительно в самое то время, когда британские силы высадились в Мурманске, Зиновьев заказал строительство мемориала в Шлиссельбургской крепости под Петроградом, где еще до революции находилась известная суровостью своего режима тюрьма. Были построены пять гранитных могильников и высокий памятник из красного гранита, увенчанный щитом (идею водрузить на памятник крест отмели уже на стадии планирования). Большой участок брошенной за негодностью земли нужно было выровнять и огородить, пока не закончится строительство. Реализация проекта отставала от намеченных сроков, и в какой-то момент крепость чуть было не перешла в руки неприятеля. Однако на строительство бросили дополнительную рабочую силу, потому что публичная церемония в честь открытия мемориала должна была состояться 22 января 1919 года, в годовщину Кровавого воскресенья по новому стилю. В итоге общие затраты на возведение мемориала составили 18 681 рубль, что почти вдвое превысило первоначальную смету[455].
Зиновьев открыл величественный мемориал четко по расписанию. В это страшно холодное январское утро небо было сплошь затянуто облаками, и пронизывающий ветер швырял крошечные кусочки льда прямо в лица собравшихся людей. Ничего не поделаешь: официальные гости вынуждены были оставаться на своих местах и дрожать от стужи, пока Зиновьев зачитывал речь, образец жанра, изобиловавшую высокопарными повторами и длившуюся полтора часа. Революция, заявил Зиновьев, с гордостью отдает дань павшим. Сегодня легко быть революционером, объяснял он, худшее, что может ожидать революционера, только смерть, только расстрел. Для узников Шлиссельбургской крепости ценой сопротивления была “живая смерть” и полное забвение. Чем темнее ночь, тем ярче звезды, продолжил Зиновьев. Наконец-то некоторый отблеск подвига тех тридцати двух политических узников, которые, как было установлено, погибли в крепости в правление Александра III и Николая II, пал и на большевиков. Мало того что правительство, пришедшее к власти и использовавшее эту власть с разрушительными последствиями, пыталось сломить сопротивление и дух миллионов людей, противостоявших этой новой власти. Оно еще и воспользовалось возможностью оживить свое самое драгоценное пропагандистское достояние и навести на него глянец, возродить ощущение, что они, большевики, все еще сражаются в подполье, как Давид против контрреволюционного злобного Голиафа, что они все еще добродетельны, высоконравственны, не запятнаны политическим расчетом.
Подобно многим людям сходного происхождения, Юрий Владимирович Готье читал репортажи о таких церемониях с типичным для консервативно настроенного интеллектуала отвращением. “Вчера владыки праздновали Ленские избиения; по сему случаю мы были сегодня лишены газет”, – записал он в апреле 1918 года. Год спустя, в годовщину Кровавого воскресенья, он высказался еще более раздраженно и нетерпимо: “Справляем св. Гапона и их же с ним убиенных или без него, это все равно; в мертвой Москве все закрыто, что разницы не делает, ибо и в остальные дни тоже все закрыто”[456].
Нота цинизма в его словах вполне оправданна, даже более оправданна, чем мог предполагать сам Готье. Никто за пределами Кремля в то время не успел в полной мере оценить ту степень неравенства, которое уже успело разверзнуться между лидерами большевиков и так называемыми народными массами. Никто и вообразить себе не мог – ведь голодное и измученное воображение не способно на такие чрезмерные фантазии – сколько было показных, вымученных слез, с каким нетерпением люди в военных фуражках и начищенных сапогах думали об ожидавшем их банкете, о вине, о разговорах, о политических интригах. После того как толпы расходились по домам, лидеры по обыкновению собрались на ужин. Посещение мероприятия было обязательным, потому что для отсутствующих – тех, кто манкировал подобными ритуалами и не поддерживал нужные контакты, – всегда были наточены политические ножи.
Тот, в чьи обязанности входила организация приема, церемонии или ужина, мог играть роль хозяина, получать комплименты и похвалу и подолгу говорить с вождем. В силу всех этих причин Лев Каменев, который все еще был в немилости после того, как выступил с публичным осуждением Октябрьского переворота, был счастлив, когда ему поручили организацию похорон Якова Михайловича Свердлова, первого в череде видных партийцев, умерших в 1919 году. Он воспользовался ужином, чтобы наладить свои отношения с Лениным. Каменев и его жена Ольга Давыдовна (сестра Троцкого) сделали все возможное и невозможное, чтобы специально для ужина привезти в страну редкие, забытые и дорогие деликатесы из Европы[457]. Далеко не в последний раз в советской истории страны кремлевские столы ломились под тяжестью угощения; кремлевская верхушка жадно толпилась вокруг. Ощущение сообщничества подогревалось тем, что все знали, что снаружи, за кремлевской стеной, голодает российский пролетариат.
Кончина Ленина и его похороны в январе 1924 года стали квинтэссенцией, эмоциональной вершиной десяти революционных лет. Широко распространенные в обществе чувства: горя, утраты, крайней усталости и опустошенности, благодарности за спасение и страха перед настоящим и будущим, – которые по большей части не имели адекватного выхода с 1914 года, внезапно бурным потоком вырвались на поверхность. Сотни тысяч людей рыдали. Николай Валентинов, ставший свидетелем народного прощания с вождем, отмечал: “В паломничестве к гробу Ленина было и это любопытство, но, несомненно, было и другое чувство: засвидетельствовать перед покойником свое к нему уважение, любовь, признательность или благодарность”[458].
Смерть была и политическим событием. Приготовления к похоронам Ленина стали важнейшим этапом в борьбе за назначение его преемника. Кремль гудел от интриг, от борьбы за влияние, от разнообразного соперничества, от злобы, зависти и политического недоверия. Самые близкие к Ленину люди уже больше года знали, что дни его сочтены. С момента его первого инсульта начала разгораться борьба вокруг выбора ленинского преемника. К 1922 уже вполне сложился культ личности Ленина, призванный заполнить ту зияющую лакуну, которую оставил бы его уход. Иными словами, инсульт, убивший его 21 января 1924 года, неожиданностью не был. К тому моменту группа большевистских деятелей уже многие месяцы обсуждала приготовления, которых потребуют ленинские похороны[459]. Но никто не мог предвидеть того, что случится после смерти вождя. Потребовалось бы особенно мрачное воображение, чтобы представить себе, что в течение полугода группа наиболее могущественных вождей советской империи будет тратить долгие часы своего драгоценного времени, отслеживая состояние медленно разлагающегося трупа.
То, что произошло после смерти Ленина, подчас пугающе походило на то, что сопровождало смерти величайших русских царей. Ленин разделил со средневековыми королями и с фельдмаршалом Кутузовым, служившим императору Александру I, привилегию быть похороненным без сердца. Тело Ленина, как до него тело каждого умершего русского царя, подверглось вскрытию, проходившему в присутствии некоторых из его соратников. Результаты не были опубликованы немедленно – их требовалось проверить на предмет возможных политических последствий, – но после небольшой паузы их напечатали почти полностью, совсем как результаты вскрытия Александра III. В то же самое время для исследовательских целей из тела удалили мозг, сердце и часть шеи, в которую его ранила Фанни Каплан во время покушения 1918 года[460]. Эти органы превратились в тотемные объекты. Институт исследований мозга, образованный в 1928 году из Лаборатории по исследованию мозга Ленина немецкого физиолога Оскара Фогта, для исследования особенностей мозга Ленина, объяснивших бы гениальность вождя, продолжал свою работу и тогда, когда Горбачев объявил в 1987 году о начале политики гласности[461].
Тело вождя не успело остыть, а первая комиссия, в которую вошел друг Ленина Владимир Бонч-Бруевич, уже в спешке собралась на заседание, чтобы руководить транспортировкой покойного с дачи в Горках, где он скончался, на Павелецкий вокзал в Москве. Для обсуждения похорон к Бонч-Бруевичу присоединились другие высокопоставленные лица, среди которых были Молотов, Дзержинский, Енукидзе и Красин[462]. Им выпала задача спланировать саму церемонию: разобраться с приглашениями и расписанием, выбрать музыку, закупить венки, а также организовать пропагандистское сопровождение похорон. С аэропланов над городами разбрасывали листовки, на территории всей советской империи на стенах появились плакаты, объявлявшие о случившемся, на фабриках и заводах собирали траурные митинги, а газеты исходили трагическим пафосом. Некоторые из этих прощальных жестов были спонтанными. Однако соратникам вождя было прекрасно известно, что его смерть давала им отличную возможность выстроить очередной патриотический миф, в который, в отличие от прочих мифов, они почти верили сами.
Планирование похорон требовало от организаторов обостренного чувства идеологической корректности. Казалось, каждый коммунист в Москве стремится посетить похороны Ленина, и тысячи запросили разрешения нести его гроб. Комиссия по организации похорон делегировала задачу распределения подобных разрешений Московскому горкому партии[463]. Была учреждена система пропусков и билетов, установлены часы посещения и тщательно продуман набор привилегий для разных категорий посетителей – одновременно появилась система, позволявшая за взятку обходить их. В конце концов Колонный зал Дома союзов, в котором под сенью красных стягов тело было выставлено для прощания, открыли для тысяч простых граждан, которые терпеливо ждали возможности увидеть тело вождя всю ночь.
Считается, что с 23 по 26 января сквозь Колонный зал Дома союзов прошло по меньшей мере полмиллиона человек[464]. Люди день и ночь стояли в очередях, притом что температура в те дни опускалась ниже тридцати градусов мороза. Если оставаться на таком холоде столько времени, даже человек в валенках рискует получить обморожение. Моссовет сделал все возможное, чтобы скрасить ожидание тысячам собравшихся в траурных очередях. Вдоль всего маршрута разожгли костры, а на установленных на Тверском бульваре и рядом с образцовой столовой МСПО “Прага” прилавках можно было купить чай.
Очередь была дисциплинированной и бессловесной. У каждого в ней были свои воспоминания; покойный изменил жизнь каждого до неузнаваемости. И так они стояли, мерзли, толпились и каждый час передвигались вперед, заворачивая за очередной угол и постепенно приближаясь к цели. Это было долгое ожидание на морозе, но в конце концов у каждого из счастливчиков, кому удалось добраться до Москвы, был шанс. Их проталкивали вперед мимо караула, сквозь тяжелые двери, внутрь великолепного помещения, и это был как будто иной, “тот свет”. Внутри царил полумрак, горели сотни свечей, и на каждой поверхности отражался отблеск красных знамен. Воздух был тяжелым от дыхания тысяч людей, чеснока, старого табака, отсыревшей овчины, а также запаха лилий, сотен лилий – их терпкий сладкий запах соединялся с резким запахом вечнозеленых хвойных веток, украшавших катафалк. Сам Ленин, находившийся в центре всего этого, казался одновременно знакомым и незнакомым, был как будто бледнее и меньше. Он лежал, одетый во френч, с закрытыми глазами, бессловесный и неподвижный. Сотни людей были буквально ошеломлены. Заранее были заготовлено некоторое количество носилок, чтобы уносить из зала тех, кто потеряет сознание, не справившись со своими чувствами[465].
Стояние в очереди и похороны вождя стали своего рода вехой в жизни каждого из очевидцев. Даже семьдесят пять лет спустя Юдифь Борисовна Северная, чей отец к 1924 году уже переехал по работе из Одессы в Москву, все еще помнила, как расстроилась, когда ей не разрешили пойти на прощание с Лениным. В то время она только-только поправлялась после скарлатины, так что родители заставили ее остаться дома – а это был вполне привилегированный дом, – позволив лишь одним глазком взглянуть на костры с балкона их квартиры на Тверском бульваре. Она рассказала мне, как плакала, но родители не разрешили ей встать в ту очередь: “Конечно, наша семья всегда отдавала предпочтение Троцкому, потому что он был солдатом, человеком культуры и таким красавцем. Но как бы то ни было, Ленин был великим человеком. После его смерти Москва пять ночей не смыкала глаз”[466].
Сами похороны были назначены на воскресенье, 27 января. Для измученных членов комиссии хлопоты, связанные с планированием похорон, обернулись сущим кошмаром. Казалось, каждая деталь становилась причиной споров. Немалых трудов стоил даже выбор музыки для церемонии. Как многие хорошо образованные европейцы своего времени (а эти люди в большинстве своем провели несколько лет в изгнании в Европе), члены комиссии в основном были склонны думать об “обязательной программе”, подобающей случаю, – о великих и столь же хрестоматийных “Реквиеме” Моцарта, похоронном марше из Третьей симфонии Бетховена, некоторых частях “Реквиема” Верди или каком-нибудь торжественном произведении Шопена. Однако сразу же послышались возражения. Луначарский, народный комиссар просвещения, немедленно наложил вето на откровенно религиозные варианты. Он отверг Бетховена с формулировкой “слишком скучно для народных масс” и одобрил выбранную комиссией вагнеровскую “Гибель богов”, потому что она была “достаточно грандиозна”. Однако другие посчитали эту музыку слишком помпезной. Композитор из Петрограда предложил свое произведение, написанное специально для этого случая, но оно не понравилось Красину, и из программы его исключили. 23 января в ходе четвертого заседания члены комиссии одобрили короткий отрывок из Вагнера, “Интернационал”, первую часть “Реквиема” Верди и похоронные марши Бетховена и Шопена. Однако из последующих версий этого списка были вычеркнуты сначала Вагнер, а затем и Бетховен. Их обоих в финальной версии программы заменили на повтор “Интернационала”[467].
Другой проблемой было выбрать наиболее долговечный способ зафиксировать происходящее. Возможность создания пропагандистского фильма для последующего использования его как в стране, так и за границей, стала одной из главных тем, обсуждавшихся на первом заседании похоронной комиссии[468]. Правильно выбранный ракурс способен был сохранить этот момент для истории, поспособствовав прославлению партии, однако слишком откровенная и объективная картина могла вызвать обратный эффект. В итоге было решено запретить неофициальные фотографии церемонии прощания с Лениным и особенно его лица[469]. Советские фотографы получали разрешение снимать саму церемонию при условии, что ни один снимок не будут опубликован без предварительного официального утверждения комиссией[470]. Иностранные фотографы и операторы не допускались внутрь Колонного зала на протяжении всей многодневной церемонии прощания. Врачам, навещавшим умирающего вождя и проводившим вскрытие, было запрещено разговаривать с журналистами. Комиссия взяла на себя труд самостоятельно опубликовать массовым тиражом “дневник” последней болезни Ленина[471]. Были подготовлены официальные посмертная маска, бюсты, рисунки, а также фотовыставка[472]. Институт Ленина, основанный при жизни вождя, был готов к появлению еще одной галереи выставочных экспонатов.
Столь детальное планирование и обсуждение выматывали участников, но в результате все эти решения не имели судьбоносного значения. Чего не скажешь о решении не захоранивать тело Ленина после того, как его “похороны” завершились. На встрече 25 января было постановлено, что тело вождя следует выставить для всеобщего обозрения на неопределенный срок во временной усыпальнице подле Кремлевской стены[473]. Идея состояла в том, чтобы дать возможность большему числу людей – миллионам из российской глубинки и далеких республик СССР – совершить запланированные ими путешествия в Москву для прощания с Лениным и так же торжественно уехать обратно. Комиссия не установила никаких временных ограничений, но мало кто верил, что тело можно сохранить навсегда. Разработка проекта временной смотровой камеры была поручена архитектору Алексею Викторовичу Щусеву[474]. Большевики, сами того не зная, загоняли себя в угол. Их отказ принять реальность смерти, в конце концов, не оставит им альтернативы: не будь принято решение забальзамировать тело, они, а не роковое кровоизлияние в мозг, выглядели бы той силой, что отдала тело вождя на съедение червям.
Начиная с 25 января строители в спешке – в их распоряжении было всего три дня – возводили усыпальницу, спроектированную Щусевым, в то время как комиссия практически денно и нощно проводила совещания, на которых обсуждала детали похоронной церемонии. Никто не мог себе позволить совершить ошибку. Упущение или оплошность, допущенные в ритуале, могли выдать некомпетентность. В конце концов, ответственность за проведение этих похорон была только первым шагом в принятии коллективной ответственности за будущее самой революции. И если одни не решились принять этот вызов, то другие, например Сталин, смогли разглядеть среди хаоса и горя открывающиеся возможности. Сталин сделал характерный для себя ход: считается, что именно ему удалось устроить все так, что подле ленинского гроба в тот январский день странным образом отсутствовал Троцкий, самый видный революционер в стране после Ленина, который также не принимал участия в организации похорон вождя. В то время Троцкий неважно себя чувствовал, и новости о смерти Ленина застали его по дороге на Кавказ, в санаторий. Некоторые считают, что его обвели вокруг пальца, другие – что Троцкий был слишком подавлен смертью вождя. В любом случае в Москву он вовремя не вернулся и на похороны не успел. Так он упустил важнейшую возможность встать во главе скорбящих соратников Ленина и укрепить свою репутацию ближайшего ленинского советника и его наследника[475].
Таким образом, честь перенести гроб с телом Ленина из Колонного зала Дома союзов во временную усыпальницу и произнести речи в память о не, которые запомнились всем свидетелям, выпала оставшимся в столице героям революции: Каменеву, Зиновьеву, Калинину и Сталину. Первым с надгробным словом выступил заместитель председателя Петроградского Совета Григорий Евдокимов, по общему мнению, обладавший самым зычным голосом в России[476]. “Мы хороним Ленина. Всемирный гений рабочей революции отлетел от нее. Великан мысли, воли и дела умер”, – обратился он к замерзающим толпам собравшихся. Похоронный кортеж стал точным отражением той уродливой бюрократической машины, которую создал покойный. Тело сопровождали представители рабочих организаций, Красной армии, Московского гарнизона, Центрального комитета Коммунистической партии, Центральной контрольной комиссии, Исполнительного комитета Коммунистического интернационала, Центрального исполнительного комитета, дипломатического корпуса, организаций профсоюзов, Президиума Девятого съезда Советов, а также представителей партийных и государственных органов республик, регионов и крупнейших городов советской империи. Схожие списки фиксировали порядок, в котором скорбящие должны были следовать за гробом и то место, которое было отведено каждому из них, когда гроб помещали в усыпальницу[477].
Торжественный момент, когда тело вождя было опущено на место последнего успокоения, был отмечен одновременно артиллерийским салютом и очередным проникновенным исполнением “Интернационала”. Эхо разносило салют и музыку на тысячи километров. На Амуре пели “Марсельезу”. На Камчатке в январской тьме и морозе стояли до полуночи, обнажив головы в молчании в тот самый момент, когда в далекой столице тело вождя помещали в усыпальницу[478]. В провинции прошли массовые митинги на месте братских могил, в которых покоились жертвы Гражданской войны[479]. Народ, на долю которого за десять лет выпали невообразимые страдания, мог добавить еще один день холода и мрака к своим воспоминаниям. Позднее обнаружилось, что сто шестьдесят два солдата из числа тех, кого выстроили по всему пути следования гроба в Москве, получили обморожение конечностей[480].
Тело поместили в усыпальницу, но оно все еще было не совсем бессмертным. Его судьбу предстояло определить или тем плесневым грибам, что уже начали расти на носу и на пальцах, или Бонч-Бруевичу и товарищам, которых заваливали советами и рекомендациями. Из каждого города или региона империи на них потоком полились письма и петиции, большая часть которых призывала увековечить память величайшего человека в истории. Не все хотели, чтобы тело вождя забальзамировали. Некоторые авторы писем требовали кремировать его или просто похоронить[481]. Некоторые хотели добраться до Москвы прежде, чем тело вождя исчезнет. В типичном письме, адресованном Калинину, говорилось: “Мы, дети ржевской деревенской школы… всего сорок человек, пишем Вам, чтобы выразить нашу самую заветную мечту, чтобы нам позволили посетить могилу нашего дорогого Ильича. Мы умоляем и надеемся, что наша заветная мечта сбудется”[482]. Но большинство писавших желали создания в той или иной форме памятника, места, где люди могли бы встретиться с мертвым вождем и напрямую черпать силы из его энергии и материи.
Среди рядовых партийцев вновь воскресло старое представление о кладбище, о тесном общении с мертвыми как с реально присутствующими. Это время также отмечено сумбуром теоретических концепций о бессмертии, возможности воскрешения и космической пыли, основанных на теориях дореволюционного мечтателя Николая Федорова: набожного, безумного аскета, бежавшего всякой публичности. Приверженцы этих идей говорили, что тело Ленина должно быть сохранено до тех пор, пока не станет возможным его реанимировать, или, по крайней мере, до окончательной победы мировой пролетарской революции[483]. Идея была неплоха, но все упиралось в одно: необходимо было сохранить тело вождя. Комиссия по организации похорон готова была возродиться под новым названием – Комиссия по увековечиванию памяти вождя. Ее заседания растянутся на многие месяцы.
Против идеи мумификации Ленина высказались самые влиятельные люди в стране, включая вдову вождя Надежду Крупскую, и высокопоставленные большевицкие деятели Каменев и Троцкий. Но благодаря целой череде совпадений эта идея все-таки стала возможной. Среди таких совпадений, без сомнения, оказался энтузиазм и воодушевление, с которыми ее воспринял Леонид Красин. Помимо коммунизма, он страстно увлекался техникой и космизмом. Его зачаровывала научная задача перманентной мумификации, и он был убежден в потенциальной пользе, которую она как кратчайший путь к физическому воскрешению мертвых способна принести. На похоронах Л. Я. Карпова в 1921 году Красин заявил: “Я уверен, что наступит момент, когда наука станет так могущественна, что в состоянии будет воссоздавать погибший организм. Я уверен, что настанет момент, когда по элементам жизни человека можно будет восстановить физически человека”[484].
Кончина Ленина подарила Красину возможность исследовать эту гипотезу, имея в своем распоряжении почти неограниченный бюджет. Он осуществлял руководство инженерной составляющей проекта, и в решающие моменты его энтузиазм оказывался способен переубедить сомневающихся. Другие сторонники мумификации Ленина, возможно, исходили из того, что вечный памятник мертвому вождю будет обладать чрезвычайно притягательной силой, а само бальзамированное тело даже сможет служить рекламой выдающимся успехам советской науки и техники. В своей истории советского культа Ленина Нина Тумаркин также упоминает открытие гробницы и мумии Тутанхамона в египетской Долине Царей за пятнадцать месяцев до смерти Ленина, которое вызвало широкий резонанс и могло способствовать возникновению идеи мумификации Ленина[485]. Хотя за столь странным решением не обязательно должны стоять какие-то определенные причины. В конце концов, решающим стало то очевидное обстоятельство, что тело начало разлагаться.
Профессор Абрикосов, патологоанатом, руководивший вскрытием, сразу после похорон сообщил комиссии, что пальцы трупа немного пострадали от мороза[486]. На лице во время церемонии публичного прощания с покойником тоже появились синюшные пятна (эксперты винили во всем толпу и ее тяжелое дыхание). Спустя несколько дней Дзержинский, Бонч-Бруевич, Красин и другие отправились в усыпальницу, чтобы изучить состояние тела и определиться с дальнейшими действиями. Никаких радикальных решений они не приняли. В течение нескольких недель члены комиссии надеялись, что морозильной камеры будет достаточно, чтобы сохранить тело. Но советский холодильник, в котором оно хранилось, оказался ненадежным (температура слишком сильно скакала, что негативно сказывалось на состоянии выступающих частей, например, носа), и Красину было позволено закупить немецкое оборудование, непревзойденное в своей надежности[487]. Однако в начале марта появились тревожные симптомы: лицо стало терять прежний оттенок, состояние носа значительно ухудшилось, губы пошли пятнами, а глаза начали вваливаться[488].
Хотя Красин и надеялся обойтись только холодильником, к тому моменту он уже какое-то время консультировался относительно возможности мумифицировать тело. Теперь же он настаивал на том, чтобы решение о бальзамирование было принято как можно скорее, пока еще не поздно. 3 марта двое членов из команды экспертов, которые в итоге и претворят эту идею в жизнь, осмотрели труп и решили отказаться от участия в реализации красинского плана[489]. Однако перспектива получить такую важную работу и способствовать научному прогрессу оказалась слишком заманчивой. Сначала втайне, а позднее под давлением официального сообщения о намерении забальзамировать тело вождя, команда медиков и ученых, многие из которых получили опыт, работая с ветеранами Первой мировой войны, начала экспериментировать с различными техниками бальзамирования. Свои идеи они тестировали на трупах, при этом работать часто приходилось ночами, а у тела вождя было установлено круглосуточное дежурство, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния трупа. Их миссия была абсолютно беспрецедентна, и не было никаких гарантий того, что она увенчается успехом. Однако 26 июля 1924 года они заявили, что задача выполнена[490]. Комиссия по увековечиванию памяти Ленина собралась вновь, чтобы насладиться триумфом.
Успешное сохранение тела означало, что теперь необходимо построить мавзолей, в котором оно будет выставлено. Усыпальница, спроектированная Щусевым, изначально задумывалась как временное сооружение. Однако те принципы, которые были положены в ее основу, главным образом выбор кубической формы как символа нового порядка, были сохранены и в новом деревянном мавзолее, который Щусев построил на Красной площади летом 1924 года. Рассматривались разные проекты. Был проведен обычный для таких случаев национальный конкурс, пропагандистский трюк для привлечения людей к делу. Среди присланных заявок были проекты гигантских планетариев, глобусов, дворцов и храмов электрическому свету. Однако концепция Щусева была более реалистичной с точки зрения ее выполнимости, и власть могла рассчитывать на то, что Щусев уловит все тонкости и деликатные аспекты проекта, в том числе политические. Забальзамированное тело было помещено в грандиозный деревянный мавзолей, который открылся для всего мира 1 августа 1924 года[491]. Шесть лет спустя эта постройка была заменена гранитным аналогом[492]. Во время Великой Отечественной войны тело Ленина было эвакуировано из Москвы и с огромными финансовыми и логистическими издержками перевезено для сохранения в Сибирь, в город Тюмень[493]. Но все остальное время, за исключением периодов, когда тело вождя проходило профилактический осмотр и реставрацию, его можно было увидеть в установленные часы работы Мавзолея, хотя привилегированные посетители по специальному билету могли прийти и в другое время. Это продолжалось до тех пор, пока не рухнула коммунистическая империя.
Когда речь идет о Ленине, бессмертие и увековечивание подразумевают не только и не столько сохранение физической материи. Даже если бы большевики позволили его трупу разложиться, тысячи памятников, зданий и улиц, названных в честь Ленина, а также ленинских уголков сохранили и передали бы память о нем следующему поколению. В 1924 году Петроград, колыбель его революции, был переименован в Ленинград. Однако вплоть до конца XX века особенно наглядно присутствие умершего вождя будет ощущаться на Красной площади. Советская власть, стремившаяся разными способами низвергнуть власть смерти, фактически превратила сердце своей столицы, церемониальное ядро своего правительства в могильник. Бунтари, который вскрывали гробы с останками православных святых, теперь ревностно охраняли свою собственную раку с мощами. Они упорно отрицали какую-либо преемственность и связь с религией и с прошлым. Но ирония была очевидна. Империя была возведена на костях святого и при помощи своей самой большой тайны – науки – сохраняла его тело нетленным. Революция, низвергшая религию, отмечала свои главные праздники в присутствии всевидящего отца. Смерть победить не удалось. Большевики попали в ее сети. Содрогнувшись от просьбы Ольминского переработать его труп на удобрение и жир, они не могли признать, что жизнь жестоко рациональна и конечна. По крайней мере, не могли признать это в случае с теми, чья память была им необходима, с теми, чью память они почитали. Остальные – миллионы – проблемы не представляли. Они вполне могли обратиться в пыль[494].
Глава 6 Великое молчание
Сталинское руководство, как и любое современное правительство, нуждалось в точных сведениях о численности подвластного ему населения, его демографических характеристиках, объеме человеческих ресурсов. В 1937 году, спустя ровно двадцать лет после революции, советское правительство решило провести всесоюзную перепись. В самой этой затее ничего необычного, конечно, не было; необычным был метод обработки полученных данных. Перепись проходила с большой помпой – газеты, как всегда в подобных случаях, пестрели ликующими пропагандистскими статьями. Результаты переписи призваны были убедительно продемонстрировать “значительный рост уровня жизни рабочих”, достигнутый за десятилетие “героической борьбы за социализм” (план первой пятилетки индустриализации был утвержден XV съездом ВКП(б) в декабре 1927 года)[495]. “Только буржуазные и мелкобуржуазные политики боятся статистики”, – объясняла читателям газета “Правда”, а большевики “всегда отдавали должное важности статистического учета”, да и “отношение к статистическим данным самого Сталина хорошо известно”[496]. По словам одного из организаторов, “всенародная перепись должна состояться на высоком политическом уровне, как общее дело партии и граждан, при исключительной активности со стороны широких народных масс”[497].
Начался обычный для такого рода инициатив поиск добровольцев. Центральному управлению народно-хозяйственного учета требовались сотни тысяч помощников: речь шла о 900 тысячах переписчиков для сбора данных и о 130 тысячах инструкторов для наблюдения за работой переписчиков. В региональных отделениях пришлось задействовать дополнительную тысячу сотрудников для обработки огромного количества данных. Была выпущена специальная брошюра “Что каждый должен знать о переписи”, разошедшаяся по всей стране на 29 языках тиражом в два миллиона экземпляров. На население обрушилась лавина публикаций, посвященных переписи: газеты изобиловали статьями о том, как рядовой советский человек проводит свободное время, что ест и как развлекается, появились бесчисленные стенгазеты и агитационные плакаты, призывавшие советских людей честно отвечать на вопросы анкеты, а радиопередачи рассказывали о приключениях и злоключениях переписчиков, которые за один день, 6 января 1937 года, пешком, на лыжах, на собачьих упряжках и на велосипедах обошли и объехали сорок миллионов адресов, чтобы добыть точные статистические сведения о том, как живет страна[498].
За пределами СССР процедура переписи обычно воспринималась как “национальная церемония, символизирующая отношения между гражданином и правительством”[499]. И в этом смысле сталинская перепись населения 1937 года мало чем отличалась от зарубежных аналогов. Ее уникальность заключалась в самом характере отношений между гражданином и правительством, которые она собой воплощала: результаты всех этих подсчетов и обсуждений обнародованы не были. Через 48 часов после окончания переписи, прежде, чем успели просохнуть лиловые чернила на бланках анкет, один из местных руководителей, отвечавший за анализ результатов, уже писал в Москву своему начальнику Ивану Кравалю, возглавлявшему ЦУНХУ: “Результаты переписи по УССР, судя по предварительным данным, делают этот материал абсолютно секретным”[500]. К тому времени сотрудники ЦУНХУ уже и сами пришли точно к такому же выводу.
Той весной сотрудникам статистического управления, обрабатывавшим результаты переписи, пришлось столкнуться с небывалыми трудностями. Работа, порученная им, была невероятно сложной и масштабной, но вся эта мозаика цифр спускалась к ним сверху отдельными фрагментами, так что общая картина оставалась неясна. Расспросы и обсуждения были категорически запрещены, и сотрудники ЦУНХУ не отваживались делать собственные умозаключения на основании увиденных данных. Требование соблюдения секретности превратилось в навязчивую идею: в архивах сохранилось отчаянное письмо одного из сотрудников, по рассеянности забывшего портфель с бумагами в пригородной электричке. Ему, как и остальным невнимательным и нерадивым, оставившим открытые документы на рабочем столе или неосторожно поделившимся своей “порцией” данных с коллегами, грозил лагерь[501]. Все ответственные работники, руководившие проведением переписи, были арестованы, некоторые впоследствии расстреляны.
История эта не только ужасна, но и абсурдна, ведь результаты переписи 1937 года были засекречены именно потому, что наглядно показывали то, о чем Сталин и его окружение и так хорошо знали. Зимними месяцами 1932 года и мучительной весной 1933-го на стол руководящих партработников ложились тысячи свидетельств одной из самых масштабных трагедий в советской истории, да и в истории XX века в целом – массового голода 1929–1933 годов: рассказы о голодных смертях, официальные запросы об инструкциях, мольбы о помощи, предсмертные записки и молитвы, написанные от руки на засаленных листочках. Возможно, мы никогда не узнаем точного количества погибших от голода и его последствий, не узнаем, сколько жизней унесло предшествовавшее голоду раскулачивание. Если смерти среди взрослого населения подсчитать еще возможно – взрослые люди оставили после себя имена и биографии, зафиксированные в официальных документах, – то смерти младенцев учету не поддаются: зачастую дети гибли еще до того, как получали имена. Демографы продолжают спорить о последствиях этой катастрофы. Самые убедительные оценки потерь среди населения, предложенные специалистами, дают цифры в диапазоне между пятью и семью миллионами человек[502].
До 1932 года история не знала других примеров столь массового и столь длительного голода. Во многом свидетельства очевидцев, переживших голод в Поволжье в 1921–1922 годах, голод 1929–1933 годов, а также послевоенный голод 1946–1947 годов, схожи. Уцелевшие описывают постепенную утрату чувствительности, онемение, полуобморочное, сумеречное состояние сознания, зачастую на определенной стадии у погружающихся в голодное оцепенение “живых мертвецов” пропадало даже чувство голода. Все одинаково рассказывают об отчаянных поисках хотя бы чего-то съедобного среди отходов и употреблении в пищу листьев липы, коры и падали. Неизбежно всплывают и истории о людоедстве, убийстве младенцев, человечине в пирожках с начинкой или в мясных консервах. Однако эпоха раскулачивания, коллективизации и голода 1929–1933 годов даже на этом фоне кажется беспрецедентной катастрофой по масштабу страданий и количеству жертв. Целые деревни исчезали с лица земли. “Нам не хватало амбарных книг, чтобы записывать массовые смерти от голода. Нашей главной задачей было обеспечить захоронение трупов”, – докладывал своему начальству один из сотрудников ЗАГСа в 1933 году[503].
В некоторых деревнях смертность достигала 70–75 процентов[504]. “Нередко встречаются деревни, в которых в конце улицы поднят черный флаг в знак того, что здесь не осталось никого из жителей – люди или погибли от голода, или бежали”, – сообщалось в докладе, подготовленном британским министерством иностранных дел[505]. Другой чиновник отмечал, что у голодающих “опухают лица и конечности”, они “являют собой ужасную карикатуру на человеческий облик, постепенно превращаясь в ходячие скелеты, пока, наконец, не падают замертво там, где застает их смерть… Особенно сокрушителен голод для детей и пожилых… Среди сельских жителей зафиксировано множество случаев самоубийства (главным образом через повешение) и умопомешательства”[506].
Те, кому удалось покинуть охваченные голодом районы СССР, эмигранты, попавшие в Западную Европу после 1943 года вместе с отступавшей с Украины немецкой армией, будут помнить голод до конца своих дней. Профессиональные историки из числа переживших события 1929–1933 годов едва ли могли писать о чем-либо еще, кроме тех страшных лет[507]. Так как самая высокая смертность была зафиксирована на Украине, где голод совпал с новым витком нападок на украинскую интеллигенцию и церковь, на украинский язык и различные местные институты, украинцы воспринимают Голодомор как этнический геноцид. После обретения Украиной независимости Голодомор превратился в национальный символ, ему посвящены многочисленные исследовательские проекты по сбору устных свидетельств и коллекции документов. Голодомор стал той точкой, в которой сходятся воедино патриотические чувства и чрезвычайно сильные антироссийские настроения[508]. Однако во времена описываемых событий все, что киевляне знали о происходившем в украинской глубинке, было почерпнуто ими не из газет или официальных источников информации: советская пресса хранила молчание о массовых голодных смертях.
Некоторые регионы на территории РСФСР пострадали от голода ничуть не меньше, однако в России до сих пор нет ничего похожего на ту структурированную память о голоде, которую можно наблюдать на Украине. Нет ее и в Казахстане, где в 1929 году городские чиновники разработали программу создания огороженного и оседлого сельского хозяйства, в ходе которой у традиционных кочевников-скотоводов реквизировали скот и имущество и насильственно направляли его в “точки оседания”, обрекая на голод миллионы людей. Уцелевшие разъехались, поменяли место жительства и идентичность, оставив позади странную в своей пустоте степь и полупустынные пастбища, на которых нет никаких видимых шрамов, никаких следов произошедшего[509]. Дарья Хубова, собиравшая устные свидетельства о голоде в другом регионе, на Кубани, пишет, что не обнаружила там никаких примет коллективной памяти о голоде[510].
При советской власти голод оказался практически вытесненным из поля зрения советских граждан. Добровольное беспамятство превратилось в привычку. Если жалобы на каждодневные неурядицы и неудобства – хлебные очереди, рабочие часы, трудности с общественным транспортом и прочее – еще попадали в публичное пространство обсуждаемых проблем, то более масштабные вопросы, даже если речь шла о миллионах голодных смертей, открыто не обсуждались. В потайной части сознания советского человека накапливались тревожные, бередящие душу слухи. Однако то, о чем люди говорили между собой в частном порядке, отделялось от сферы публичного знания и обычно в него не трансформировалось, не говоря уже о том, чтобы дать толчок к открытому выражению возмущения или протеста. Одни предпочитали не замечать это частное знание, другие его подавляли, третьи приходили к выводу, что навряд ли когда-нибудь узнают всю правду. Писатель и историк Лев Разгон, который в те годы жил в достаточно привилегированных условиях в Москве, рассказал мне, что понятия не имел о голоде, охватившем южную часть страны[511].
Его слова приводят в ужас (а нет никаких оснований сомневаться в их правдивости), ведь голод был такой огромной частью реальной жизни в стране. Если признать, что люди действительно ничего о нем не знали, то это незнание может служить очередным свидетельством цинизма официальной цензуры. Но столь же неутешительна и мысль о том, что люди могли подавить в своем сознании образы гибнущих от голода в силу страха, безразличия или идеологической зашоренности. Ведь хотя факт массовых голодных смертей на официальном уровне отрицался, сами эти смерти не были спрятаны от глаз. Образы, подавленные цензурой и сознанием, были яркими, зовущими, настойчиво привлекающими к себе внимание. Голод сам по себе не есть частный, конфиденциальный опыт, и тихим и негласным его не назовешь. Страдающие от голода рыдают, умоляют о хлебе, оплакивают своих покойников, их дети плачут и просят подаяние. Распухшее от голода тело не спрячешь под одеждой, как не спрячешь истощенные конечности или инфицированные язвы. Умирающий от холеры страдает от жестокой, почти непрекращающейся диареи, которая уничтожает слизистую оболочку его внутренностей, он изрыгает субстанцию, похожую на крапчатую сыворотку или рисовый отвар, до тех пор, пока из его изможденных тканей не уходит вся жидкость и не наступает обезвоживание. Болезни, порождаемые голодом, вроде истощения, так же зримо охватывают физическое тело и разрушают личность еще до того, как убивают ее биологического носителя, и процесс этот отнюдь не тихий и незаметный.
Истощенные гибнут от голода у всех на виду. Многие падали замертво прямо на улице, тела оставались лежать несколько дней. Рядом не было никого, кто бы мог оплакать их, – мертвые безучастно ожидали какого-нибудь прохожего, которому хватило бы сил оттащить их с тротуара и похоронить. Были и другие смерти – целые семьи, умиравшие дома, за закрытыми ставнями и запертой дверью, из-за которой больше не доносилось ни звука. Раздувшиеся от мух тела оставались лежать среди руин их частного мира, в домашнем пространстве – печь, постели, детские игрушки, – дожидаясь прихода живых. Когда же живые обнаруживали мертвых, весь этот частный домашний мир переставал быть тайным и скрытым от глаз и превращался в помеху, в барахло, которое нужно было разобрать или сжечь и которым не прочь были поживиться мародеры. Голодная смерть не была героической, не была дешевой сентиментальной драмой, но и незаметной, тайной она тоже не была.
Некоторые утверждают, что ничего не знали о происходящем в силу того, что паспортная система и череда блокпостов на дорогах не давали истощенным людям, сам облик которых не оставлял сомнений в том, что им довелось пережить, попасть в Москву и другие крупные города. Но многие голодающие крестьяне все же пыталась уехать из охваченных голодом районов, и большая часть добиралась до провинциальных железнодорожных станций. Они гибли десятками тысяч, а начальники станций хоронили их тела где придется, где еще находилось место для могил. Иными словами, голодающие не всегда могли преодолеть заградительные кордоны, но слухи перемещались куда свободнее, а иногда “с той стороны” приходили и письма. В 1933 году журналист газеты “Правда” получил весточку от своего отца-еврея, жившего на Украине. “Пишу, чтобы сказать тебе, что твоя мать умерла, – говорилось в этом письме. – Она умерла от истощения после месяцев страданий и боли. Мне тоже недолго осталось… Последним желанием твоей матери было, чтобы ты прочел по ней кадиш. Могу ли я надеяться получить от тебя письмо, сообщающее мне, что ты прочел кадиш по своей матери хотя бы раз и что ты то же самое сделаешь и для меня? Мне было бы гораздо легче умереть, зная это”[512]. Некоторые в интервью вспоминали, что обсуждали голод с друзьями в частных беседах, когда заходил разговор о жизни в селе, а подобного рода истории не так-то просто не заметить или забыть[513].
Однако сегодня, по прошествии стольких лет, после всех откровений эпохи гласности, реконструировать историю этих слухов и частных разговоров все равно непросто. Трудно сказать, что именно было известно людям, какую часть правды они решали проигнорировать, на что были вынуждены закрыть глаза, а чему предпочли найти оправдание. Историки, работающие с документами того времени, находят очень мало информации, способной дать ответы на эти вопросы. Советское государство слухов не поощряло. Само слово “голод” было запрещено к упоминанию в печати. Согласно официальной версии, именно “контрреволюционные элементы” распространяли ложь о том, что смерти были вызваны голодом. Эти враждебные элементы обслуживали интересы определенных “антисоветских кругов”[514]. Подобного намека по тем временам было достаточно. Единственным способом понять, что знали в то время люди о происходившем в голодавших районах, было расспросить уцелевших, однако устная история, особенно в подобных случаях, затуманена плотными слоями вины, подавления, вытеснения и аберраций памяти. “Голод меня не особенно интересует”, – признался мне русский очевидец тех событий, ныне живущий в Киеве. Он хотел поговорить со мной о Черчилле и Гитлере и об отцовской лошади, которую его семья впоследствии съела[515]. Другие воспоминания, которые он признавал, были фрагментарны и тесно переплетены с вымыслом, усвоенным позднее. На всех них лежала тень Великой Отечественной войны, что типично для воспоминаний советских людей старшего поколения.
В результате мы имеем дело с молчанием, а это такая субстанция, которую историки, озабоченные сносками, изучают нечасто. Те прекрасные научные исследования о голоде, которые все-таки существуют, породили две категории образов. С одной стороны, государство, персонифицированное в образе Сталина, а с другой стороны, ужасные картины голодающей страны: дети с ввалившимися глазами и рыдающие женщины. Ни документы, ни свидетельства очевидцев не наводят нас на мысль о том, что уместно задать и еще один вопрос: о социальном контексте, который сам по себе был частью (пусть и сомневающейся, пассивной частью) механизма, сделавшего возможными массовые смерти от голода в современной индустриальной стране, стране массовой грамотности и современных средств связи. Мы, историки, не задались вопросом о том, что думали люди об этих голодных смертях, как они сосуществовали с ними, какую тень отбрасывали эти смерти на коллективное представление о реальности. И причина, по которой эти вопросы не были заданы, заключается в том, что уничтожение памяти или, по крайней мере, ее утаивание и сокрытие начались сразу же.
Еще один подход к вопросу о социальном контексте, позволяющий понять масштаб происходивших в обществе ментальных искажений, состоит в том, чтобы перешагнуть через культурные различия и поставить себя, англоговорящего читателя, на место рядового советского гражданина образца 1930-х годов. Вспомним еще раз о переписи 1937 года. Забудьте все то, что вы уже знаете о сталинизме, и представьте себе на мгновение разговор, который в нормальных обстоятельствах мог произойти между переписчиком и вами в тот январский вечер 1937 года – менее, чем через пять лет после произошедшей катастрофы. К вам на порог приходит человек, в руках которого пачка отпечатанных дешевым способом анкет, и он заявляет, что хочет побеседовать о демографической ситуации в стране и о росте численности населения в последнее десятилетие. Вы знаете или слышали о том, что в стране был голод, повлекший за собой массовую гибель людей, об имевших место ужасах, о том, что люди умирали на улицах. Вас эта тема может живо интересовать, а возможно, вы получили от кого-то письмо – от друга или от отца – и скорбите о вашей потере. А перед вами стоит представитель государства, человек, который хочет поговорить о цифрах, составе вашей семьи, уровне жизни. Это не обычный чиновник или должностное лицо, это даже не один из тех служащих, что по рабочим дням прячется за маленьким окошком со створкой, принимая заявления (или отказывая большей части просителей) с десяти до двух часов дня. Перед вами товарищ, доброволец, и он пришел один.
В архивах хранится множество писем от самих переписчиков, рассказывающих о том, что обычно происходило дальше. Некоторые из них становились жертвами агрессии со стороны опрашиваемых, их встречали тумаками или попросту избивали. Некоторых грабили. Многих встречали в штыки: люди выплескивали на переписчиков свое раздражение по поводу политической ситуации и повседневной жизни (как раз незадолго до переписи начались очередные перебои с продовольствием – последствия плохого урожая). Многие бланки анкет были испорчены. Переписчики жаловались, что граждане оставляли “неприличные комментарии” в части опросника, посвященной религии. На вопрос о гражданстве также были получены издевательские ответы (“Какое угодно, только не советское”, – написал один опрашиваемый). Однако в архивах нет никаких сообщений о случаях критики существующего строя из-за недавних смертей, ни одной просьбы прояснить ситуацию, никакого специального приложения с инструкциями (подобного тому, где переписчиков инструктировали, как отвечать на неудобные вопросы про религию и гражданство). В свою очередь, переписчики не требовали ответа на вопрос, что выявили общие результаты проделанного ими исследования[516]. Миллионы людей не задавались подобным вопросом. И тот факт, что люди вроде меня, изучающие советскую историю, и все те, кто жил в этой стране в то время, не видят в этом ничего удивительного, служит очередным свидетельством масштаба этого молчаливого заговора, усиленного страхом, но тем не менее вполне привычного. Сама мысль о том, что в 1937 году можно было задавать неудобные вопросы, кажется просто наивной.
Конечно, это случилось с “ними”, а не с “нами”, с украинцами и казахами (впрочем, и с десятками тысяч этнических русских в южных регионах России, традиционно дающих стране зерно), и всегда находились более насущные проблемы, занимавшие общественное внимание. И все равно степень самоцензуры поражает воображение. Хотя страх сыграл свою роль – решающую роль, с этим никто не спорит, – он не был единственной причиной молчания. Граждане, соседи не всегда сдерживали себя из страха сболтнуть лишнего – об этом свидетельствуют их вопросы и комментарии. Отрицание было частью особой советской ментальности, порожденной разбитой вдребезги культурой, разрушением социальных связей между людьми, сообществ как таковых, Гражданской войной, неуместным стоицизмом, достойным лучшего применения, осознанием революционной миссии, утопической надеждой и многократным опытом коллективного страдания. А кроме того, отрицание было достижением нового языка. Для обозначения произошедшего были найдены эвфемизмы, а лозунги в очередной раз стерли все следы невыразимой трагедии. Отто Шиллер, германский атташе по сельскому хозяйству в Москве, частично описал механизм отрицания в своем донесении, посланном им в Германию с Северного Кавказа в 1933 году: “Мне рассказали о множестве случаев, когда опухшие от голода страдальцы умоляли сельсоветы о помощи и слышали в ответ: ешьте хлеб, который спрятали, никакого голода нет”[517].
Спустя одно-два поколения память о голоде затуманилась до такой степени, что практически обратилась в забвение. В 1988 году редактор журнала “Москва” Михаил Алексеев писал: “Меня удивляет, что ни в одном учебнике нет ни одного, даже самого простого упоминания об ужасной трагедии 1933 года. В нашей деревне из 600 семей уцелело только 150… Многие мои родственники и школьные друзья умерли у меня на глазах, многие из них были похоронены там, где застала их смерть”[518]. Подобное отрицание, скорее всего, могло продолжаться вечно. “Если основываться на некоторых разрозненных и противоречивых данных, спад уровня смертности замедлился в определенный момент реконструкции национальной экономики. В различных регионах страны спад уровня смертности происходил с разной скоростью”, – писал некий советский историк в 1970-е годы[519]. Школьники принимали подобные тексты на веру вплоть до наступления гласности; взрослые читали труды партийных пропагандистов. “Система коллективного хозяйствования создала неслыханные доселе условия для расцвета социалистического сельского хозяйства, для культурной и зажиточной жизни крестьян, – объяснял первый секретарь Коммунистической партии Украины Петро Шелест в 1970 году. – В жизни советской страны, в строительстве социализма годы первой пятилетки запомнились как время героизма и побед. В то же самое время это были трудные, сложные времена. Особенно трудная ситуация сложилась с обеспечением продовольствием в 1933 году. Но и эти трудности были успешно преодолены”[520].
История великого советского голода начинается с конфронтации большевиков и крестьянства, с взаимного недоверия и непонимания, с марксисткой ненависти по отношению к деревне, с ненависти крестьян к городу. У этой истории есть своя предыстория – голод в Поволжье 1921–1922 годов. Революция была задумана не для того, чтобы облагодетельствовать деревню, хотя Ленин и утверждал, что его партия представляет интересы беднейших слоев крестьянства. Крестьяне же, хотя и не были сторонниками возвращения старого порядка (во время Гражданской войны они редко активно поддерживали белых), относились к большевизму с опаской и зачастую враждебно встречали большевиков-агитаторов. Крестьянству не нравились навязываемые большевиками обязательства, налоги, обыски домов, армейский призыв. В ходе Гражданской войны миллионы крестьян отвернулись от нового правительства из-за проводимой им политики насильственного отъема зерна. Однако голод начала 1920-х притупил дух сопротивления. По некоторым оценкам (в очередной раз следует подчеркнуть, что точные данные о размере потерь отсутствуют), за эти два года (1920–1921) от голода погибло около пяти миллионов человек.
Страх голода зародился еще в годы Первой мировой войны, а к 1919-му он стал реальностью во всех южных регионах России. В декабре 1919 года приятель Готье писал ему из Саратова, пересказывая местные слухи о “двух достоверных случаях того, как едят людей” и историю о том, как “ассистенты университетских лабораторий едят собак и кошек”[521]. В дальнейшем продовольственный кризис только усилился. После неурожая 1920-го пришла небывало засушливая весна 1921 года[522]. Летом крестьяне начали болеть, а затем и умирать. Это был первый великий голод советской эпохи. Даже Гражданская война не подготовила свидетелей этого голода к тому, что им предстояло увидеть. Сорокин, проехавший по охваченным голодом областям, позднее признавался: “Моя нервная система, привыкшая ко многим ужасам за годы революции, не выдержала зрелища настоящего голода, испытываемого миллионами людей в моей разоренной стране”[523]. Американец Гарольд Фишер, сотрудник благотворительной организации, оказывавшей помощь пострадавшим, писал: “Россия получила шок от голода, [уже] будучи сломленной не только физически, но и духовно. Недоверие к правительству и должностным лицам, действующим от его имени, подозрительность и ненависть к соседям сделали крестьян растерянными и беспомощными, подорвали в них способность противостоять тому потрясению, которому они подвергались и прежде из-за неблагоприятных погодных условий. Когда летом 1921 года знаки приближающегося большого голода уже невозможно было спутать ни с чем, крестьян охватила паника. Одни в ужасе бежали из деревень, другие же флегматично остались ожидать смерти”[524].
В тот раз советское правительство допустило в зону бедствия зарубежных спасателей, среди которых следует особо отметить Американскую администрацию помощи. Идея встретила неоднозначную реакцию со стороны советского руководства. Будущий президент США Герберт Гувер с 1919 года настаивал на необходимости организации кампании по сбору продовольствия для Советского Союза, обратив внимание союзников на эту проблему в ходе Версальской мирной конференции, однако вплоть до 1921 года советское правительство не давало поездам с продовольствием пересекать границу охваченного голодом региона[525]. Сваливали все на бюрократическую волокиту и проблемы с перевозками, однако американцы хорошо знали, что в основе нежелания Советов пропустить американский транспорт с продовольствием в Поволжье лежала шпиономания и первобытная, нутряная подозрительность по отношению к иностранцам. Как бы то ни было, голодающим “повезло”: к 1922 году Американская администрация помощи ежедневно кормила более восьми миллионов человек[526]. Десятилетие спустя никакой помощи голодающим организовано не было, потому что, согласно официальным заявлениям властей, никаких голодающих, нуждавшихся в этой помощи, не было и в помине.
В память американцев надолго врезались сцены, увиденные ими в деревнях черноземной части СССР. Самая тяжелая ситуация сложилась в регионах, в которых традиционно выращивали хлеб – на Нижней Волге вокруг Саратова и Самары, в Оренбургской области, вокруг Уфы, на подступах к Уралу, а также к западу от Поволжья, где голодом оказались охвачены Пензенская и Воронежская области. Также от голода пострадала значительная часть Украины и Северного Кавказа. Фишер объехал бóльшую часть этих областей, и увиденное повергло его в отчаяние. “Мужчины и женщины… выкапывали мертвых животных и жадно поглощали кошек и собак, если могли их раздобыть”, – писал он[527]. Приехав в конце августа в Уфу, он увидел около пятисот незахороненных трупов, валявшихся на улицах. Советские врачи признавали, что 80 процентов всех умерших погибли от голода[528]. К тому времени в Уфимской области 15 тысяч жизней уже успела унести вспышка холеры, а еще тысячи смертей в скором времени оказались на счету туберкулеза, дизентерии и других заболеваний. По закрытым оценкам ЧК, к концу 1921 года от голода и его последствий скончался каждый пятый житель Уфимской области[529]. Сорокин писал:
После полудня мы въехали в деревню N. Казалось, она практически вымерла. Дома стояли заброшенные, без крыш, зияя дырами на месте прежних окон и дверей. Соломенное покрытие уже давно было сдернуто с крыш и съедено. В деревне, конечно, не было никаких животных: ни скота, ни лошадей, ни овец, ни коз, ни собак, ни кошек. Даже ворон не было. Всех съели. Над покрытыми снегом дорогами простиралась мертвая тишина, пока не показались, со скрипом, сани, которые тянули за собой двое мужчин и женщина: сани с мертвым телом[530].
В город стали поступать донесения о случаях каннибализма. Одна из его разновидностей – трупоедство – подразумевала поедание мягких тканей мертвого тела (в отличие от людоедства – убийства живых людей ради употребления их в пищу), для чего разделывались трупы умерших соседей или собственных, недавно скончавшихся от голода детей. Иногда трупоеды специально разрывали свежие могилы. По воспоминаниям Фишера, “люди вполне просто и обыденно говорили об употреблении в пищу самых грязных [отбросов], которые сходили за еду. И многие настаивали, что в поедании мертвечины не было ничего преступного, потому что живая душа уже покинула свою физическую оболочку, а тело оставалось в земле на корм червям”[531].
Другая разновидность каннибализма была куда более систематической, хотя и встречалась реже. Жертвами ее зачастую становились бездомные дети, сироты или одинокие путешественники. Истории об этом дошли до сегодняшних дней. Взрослые люди, пережившие в детстве тот голод, часто вспоминают – а возможно, до сих пор видят в кошмарах и мучаются страхом – как их, маленьких, заманивают в какой-то переулок, где незнакомец предлагает им сладости или корочку хлеба. Все они утверждают, что их спасло некое инстинктивное чувство, ощущение опасности, сомнение. Даже воспоминание об этом заставляет их вздрагивать от ужаса. Другим детям повезло меньше.
Подобные частные истории вполне могут оказаться фантазиями, своего рода городскими легендами, однако конкретно за этим страхом стоит правда, и она вполне реальна. Действительно, зимой 1921 года власти некоторых регионов, наиболее тяжело пострадавших от голода, вынуждены были ввести запрет на продажу переработанного мяса, чтобы остановить торговлю человечиной[532]. Местные санинспекторы и милиция зафиксировали страшные случаи. Рассказ Николая Бородина об одном из них, при всей своей чудовищной наглядности отнюдь не является чем-то исключительным. В его районе украинская милиция обнаружила под одной из крестьянских хат подвал. Подозрения вызвал тот факт, что мужчина и женщина, жившие в этом доме, продавали в городе пирожки с мясом. Бородин утверждал, что из-за спин милиционеров, столпившихся в проеме, он смог увидеть то, что предстало взорам очевидцев, как только открыли дверь в подвал. “Бочки с частями детских тел, разделанные и засоленные, и головы, с которых сняли скальп. В центре подвала стояла колода мясника, а на полу валялись нож, топор и какие-то тряпки. За моей спиной кого-то шумно вырвало”, – рассказал он[533]. Ему и самому стало нехорошо. Он вспомнил, что в тот самый день купил у семейной пары пирожок. Когда Бородин шел прочь от этого дома, в его ушах звенели крики. Оглянувшись на пыльную площадь, он увидел этих мужчину и женщину: они стояли на коленях в лужах собственной крови, собравшаяся толпа забивала их до смерти.
Простые советские граждане испытывали подлинное сострадание к жертвам голода, ужасались их деградации и мукам и были готовы предложить им свою помощь. Голод мог бы стать еще одной возможностью проявить революционный пафос, бросить силы всего общества на помощь нуждающимся. Но руководство страны по большому счету избегало и того и другого. Официальное отношение к частным благотворителям было жестким. В основе него лежал прецедент, ранний отголосок этого нового официального тона властей, восходящий к 1891 году. Во времена последнего масштабного голода, пережитого царской Россией, Ленин выступил с критикой либеральной интеллигенции, собиравшей деньги и помощь для пострадавших. “Голод служит прогрессу, – заявил он. – Разговоры о помощи голодающим есть выражение сладкой, как сахарин, сентиментальности, так характерной для нашей интеллигенции”[534]. В тогдашнем представлении Ленина благотворительность лишь укрепляла существовавший общественный порядок. Либералы были озабочены латанием отдельных фрагментов этой реальности. Ленин осознавал, и вполне справедливо, что усилиями филантропов не решить фундаментальных проблем сельской перенаселенности и крестьянских задолженностей.
К 1921 году мир изменился. Россия стала диктатурой пролетариата и бедного крестьянства. Однако даже намеки на частную благотворительную помощь все еще считались выражением той самой “сладкой, как сахарин, сентиментальности”. Любому действию требовалось должное руководство. “Рабочий знал и знает голод, – утверждалось в передовице «Коммунального работника» в августе 1921 года. – Ему не нужны наглядные, действующие на нервы описания голода”. Газета от подобных описаний воздержалась. “Частные денежные пожертвования, личные вещи и лишняя еда, [переданные на нужды голодающих], могут и вправду немного облегчить их страдания. Но это не то, что крестьянин ожидает от рабочего, и не в этом состоит реальный вклад рабочих”, – продолжал автор. В лучших макроэкономических традициях правительство требовало от рабочих не жестов благотворительности, а повсеместного повышения производительности труда[535].
Те же отстраненность и беспристрастность, так разительно отличавшиеся от пропаганды революционного мученичества, можно найти в большей части текстов о голоде и его последствиях. Читатели журналов вроде “Коммунального работника” могли узнать о том, что русские – народ стойкий и выносливый, готовый дать такой же отпор этому врагу, какой дали контрреволюции, противопоставив ему упорный труд и рациональность. Даже людоедство описывалось с научной строгостью. Книга, предназначенная для обычных читателей и написанная со всей возможной осторожностью, рассказывала о том, что каннибализм времен массового голода не имеет ничего общего с леденящими кровь ритуалами первобытных племен. Большая часть преступников умрет вскоре после того, как впервые от отчаяния попробует человечину; маловероятно, что каннибалы “войдут во вкус”. Авторы объясняли читателям, что эту практику можно сравнить с каннибализмом в животном мире, в котором многие виды животных, “особенно кролики”, пожирают своих детенышей, когда испытывают затруднения с пропитанием[536].
В отличие от кроликов, крестьяне умоляли о помощи и молились. Когда в 1922 году к Пасхе на Урал прибыли эшелоны с провизией для голодающих, люди, потеряв самообладание, рыдали. Фишер вспоминал, что они “опускались на колени в тени железнодорожных вагонов, чтобы возблагодарить Бога за спасение”[537]. К тому времени и само правительство уже предприняло действенные меры для разрешения продовольственного кризиса. Новая экономическая политика, запущенная в марте 1921 года до наступления худших месяцев голода, была отчасти призвана облегчить положение крестьянства. В то лето НЭП мало повлиял на ситуацию в Поволжье и в Уфе, однако в течение ближайших трех лет основная масса советского крестьянства – по крайней мере та его часть, что уцелела в голодные годы, – смогла почувствовать некоторые признаки улучшения. С его плеч было снято бремя продовольственной разверстки, и ему наконец-то было позволено торговать и оставлять себе излишки произведенных продуктов, а также приобретать и держать корову.
В последующие годы одно трудное лето сменяло другое (так, в 1924 году во многих селах черноземного юга страны крестьяне с иконами и молитвами обходили границу поселения, чтобы отвести угрозу голода[538]), однако росло если и не благосостояние крестьянства, то хотя бы ощущение уверенности в завтрашнем дне. Уцелевшие помнят, что ели мясо, пекли куличи на Пасху, на Новый год на столе была водка. Советское сельское хозяйство нельзя было назвать процветающим, но годы с 1924-го по 1928-й по большей части не были сопряжены с какими-то особенными трудностями. Одна женщина с Урала рассказывала в 1990-е годы, что ее семья держала “четыре коровы и четыре лошади”. По стандартам того времени семья считалась зажиточной. “Мы сами мололи муку и пекли хлеб, – добавляет она, – хотя одевались бедно, ничего не покупалось”[539]. Другая респондентка вспоминает, что “держали свиней и ухаживали за ульями”[540]. Для тех, кто преуспел (даже если подходить к оценке ситуации с довольно скромными стандартами благосостояния), голод 1921–1922 годов начал постепенно сливаться в памяти с воспоминаниями о других голодных временах. Некоторые до сих пор путают его с голодом 1917, 1919 или 1924 годов.
Однако с 1929 годом такой аберрации памяти не происходит. Кампания массовой коллективизации затронула все стороны крестьянской жизни. Ее целью было превратить ограниченных, зацикленных на интересах своего сословия и идеологически чуждых советских крестьян в образцовых граждан социалистического общества, убедить их оставить личные наделы – коров, кур, единственную грязную свинью – и влиться в более эффективное коллективное хозяйство. Рост производительности хозяйства шел бы за счет увеличения масштаба, поля стали бы больше, и их было бы проще обрабатывать, появились бы возможности для механизации (великая цель научного большевизма) и более рационального разделения сельского труда. По сути дела, фермы могли бы превратиться в сельские аналоги заводов и фабрик, и в конце концов управлять ими можно было бы в интересах всего общества и в соответствии с пятилетним планом, без всех этих почесываний головы, уловок и уверток, характерных для отношений между государством и его сельскими жителями в 1920-е годы. Коллективизация призвана была также облегчить просвещение среди крестьян, которые должны были, наконец, отвернуться от суеверий и привычек своих предков.
Таково было видение партии, отраженное в ее агитках. Но если взглянуть на коллективизацию под другим углом, она представляется настоящей атакой на крестьянство. В конце 1920-х годов правительство отчаянно нуждалось в зерне, в том числе для экспорта. Для того чтобы претворить в жизнь программу индустриализации, требовалась твердая валюта. Растущие города нужно было обеспечивать базовым продовольствием. В обществе начало утверждаться представление о том, что “контрреволюционеры” и “белогвардейцы” в среде крестьянства тайком запасают хлеб специально, чтобы сорвать пятилетний план и даже саботировать советскую власть как таковую. Коллективизация в своей самой насильственной форме стала актом плохо скрываемой мести за подобное упрямство. Она также включала в себя целый ряд агрессивных шагов, направленных на то, чтобы сломить политическую волю сельского населения, уничтожить бандитизм и остатки крестьянского сепаратизма, подорвать саму основу глубоко укоренившегося крестьянского мировоззрения, альтернативного мировоззрению советскому.
Основой этой политики стало так называемое уничтожение кулачества как класса. Официально она была направлена против зажиточных крестьян – “обуржуазившегося крестьянства”. О кулаках говорили как о классовых врагах. Их отделяли от бедняков и середняков (на практике границы были зачастую очерчены довольно произвольно), а также безземельной сельской бедноты. В официальном дискурсе кулаки провозглашались самыми злостными укрывателями зерна, настоящими саботажниками социалистического строительства, агентами международной буржуазии. Раскулачивание, следовательно, мыслилось эдаким обоюдоострым мечом. С одной стороны, оно было попыткой обеспечить равный доступ к благосостоянию, который должен был быть на этом этапе достигнут в городах. С другой стороны, оно было продиктовано стремлением очистить сельскую местность от последних цепких пережитков контрреволюции. “Мы должны обращаться с кулаками так, как обращались с буржуазией в 1918 году, – заявлял один партиец. – Злостного кулака, активно противостоящего нашему строительству, нужно бросить на Соловки (печально знаменитый лагерь на Белом море). А в других случаях переселить на самые плохие земли”[541].
На практике борьба с кулачеством означала, что всякий крестьянин, сопротивлявшийся коллективизации (на самом деле или в представлении властей) и подходивший под определение (по большей части вымышленное) классового врага, любой, чье выдворение из деревни было необходимо (в силу каких-либо причин), чтобы выполнить произвольно установленные плановые показатели по раскулачиванию, выселялся из дома – вместе с детьми, дедушками, бабушками или тещей – и лишался всего своего имущества: лошадей, скота, тулупов, одеял, кухонной утвари, документов, удостоверяющих гражданство, самих гражданских прав как таковых. Примерно 20 тысяч раскулаченных были расстреляны на месте. Это была всеобъемлющая политика идеологически мотивированной чистки, своего рода социальный аналог этнических чисток 1990-х. Среди пострадавших групп были священники, активные верующие, исповедовавшие все возможные религии, бывшие землевладельцы, бандиты, партизаны, преступники и многие другие, чье присутствие в новых колхозах было политически нежелательным в глазах ОГПУ или любого другого местного представителя власти[542].
Раскулачивание началось осенью 1929-го, однако самыми трудными стали последующие годы, 1930-й и 1931-й. Весной 1930 года возникла пауза: сельская провинция погрузилась в хаос, в некоторых районах вспыхнуло вооруженное сопротивление, коммунисты подвергались нападениями, их убивали, кого-то даже распяли, – однако летом кампания продолжилась и закончилась только тогда, когда большинство советских крестьян или вступили в колхозы, или потеряли дом, или погибли. И снова нужно признать, что оценка потерь весьма приблизительна – никакой систематизированной статистики раскулаченных не велось, – однако считается, что около пяти миллионов человек были раскулачены (выгнаны из домов, заперты в тюрьмах, депортированы в самые отдаленные части Сибири, расстреляны или скончались от голода). Из этих пяти миллионов несколько сот тысяч умерло в первые два года. По оценкам некоторых историков, число умерших превысило миллион человек, некоторые предлагают умножить на два и эту цифру[543].
В основе политики коллективизации лежало насилие. Немногие крестьяне встретили эту инициативу с восторгом. Коллективизация превратилась в политическую кампанию, и борьба велась, невзирая на вооруженное сопротивление[544]. “Ни одна сила в мире, – заявило руководство страны в январе 1930 года, – никакие угрозы, никакой вой со стороны наших противников и врагов коллективизации… не способны сейчас остановить… это победное наступление”[545]. Некоторые перекидывали веревку через потолочную балку и вешались, некоторые мрачно ожидали катастрофы, а некоторые, слушая выступления молодых горлопанов-агитаторов, брались за вилы, кнуты и украденные во времена Гражданской войны револьверы. “Они были совсем подростки, на самом деле дети, самые страшные”, – рассказала мне одна женщина. “Моя бабушка… не могла понять слова «колхоз», больше всего она боялась умереть: ей казалось, что раз все будет коллективное, общее, то и с захоронениями будет то же самое”, – поведал другой уцелевший[546].
Среди людей, претворявших эту политику в жизнь, были и те, кто на первых порах искренне верил в то, что приносит в деревню новую цивилизацию. В промышленных городах фабрики “брали шефство” над колхозами и давали им название (отсюда колхозы “Шарикоподшипник”, “Серп и Молот” и сотни колхозов имени Маркса и Ленина по всему Советскому Союзу)[547]. Идея была в том, чтобы обмениваться знаниями, инструментами, добровольцами-рабочими и, возможно, даже продовольствием. Подобный идеализм быстро разбился вдребезги. Хотя в сознании людей коллективизация и не начиналась как борьба с крестьянством, она быстро приобрела все ее характерные признаки. Люди, проводившие ее в жизнь – выгонявшие кулаков из их собственных домов, сгонявшие в загоны тощую скотину и шарившие железными прутьями под полами покинутых хат в поисках припрятанного зерна, – были заложниками данных им приказов.
Какие бы идеи ни владели ими в начале кампании, какие бы сомнительные или утопические мотивы ни двигали ими, вскоре они оказались в капкане этой схватки. По мере углубления кризиса, по мере того, как отдельные добровольцы, передовые отряды коллективизации начинали осознавать реальность жизни и смерти в водовороте этой второй революции, сама партия начала разваливаться на части. Одни были в ужасе от разворачивающейся бойни, следовали приказам, но испытывали отвращение от собственной ответственности за происходящее[548]. Другие справедливо опасались, что недавно обретенное ими социалистическое мироустройство рухнет. Кризис 1929–1932 годов был не просто упражнением в безжалостном экономическом волюнтаризме под управлением государства. Это компонент в нем был, особенно в начале, но этим кризис не исчерпывался. Почти для всех участников и действующих лиц он обернулся отчаянной борьбой за выживание.
В этих условиях самый простой путь пролегал через подлинную веру. “Пусть все они вымрут, – бормотали особенно фанатичные активисты, – но этот район мы коллективизируем на 100 процентов”[549]. “Мы обманывались, потому что хотели обманываться. Мы так сильно верили в коммунизм, что были готовы принять любое преступление, если оно было залакировано хотя бы малой толикой коммунистического жаргона”, – писал бывший активист[550]. Даже сегодня некоторые вспоминают процесс коллективизации в очень аккуратных, идеологически выдержанных терминах. “Да на него достаточно было взглянуть, чтобы увидеть, что это был кулак с головы до ног. Достаточно было посмотреть на него одну секунду, чтобы понять, что этот человек не был советским человеком”[551].
Когда же этот самообман потерял свою убедительность, утописты смогли сосредоточиться на долгосрочных перспективах социалистического строительства. “Мы должны были отвести глаза от деревни, – объяснял один бывший активист, – и увидеть другие части картины”[552]. Когда и эта стратегия провалилась, у активистов не оставалось другого выхода, кроме как винить во всем необходимость следовать приказам. Писатель Василий Гроссман понимал каждую из версий происходящего. Подлинная вера, по его мнению, была маской, за которой было удобно спрятаться. В своей повести “Все течет” он писал: “А в активе всего было: и такие, что верили и паразитов ненавидели, и за беднейшее крестьянство, и были – свои дела обделывали, а больше всего, что приказ выполняли, – такие и отца с матерью забьют, только бы исполнить по инструкции”[553]. Один из уцелевших рассказывал, как была раскулачена его собственная семья – как будто три брата на самом деле были отцом и двумя сыновьями. Деревенский сход согласился, что “проверять все равно никто не будет. Если каждым из братьев заниматься отдельно, то мы не сможем их раскулачить, потому что для этого нет никаких оснований… и уже тогда наши головы полетят с плеч за то, что мы не смогли выполнить инструкции”[554].
Активистов, занимавшихся раскулачиванием, привлекала возможность поживиться. Воров и погромщиков редко ждало наказание. По словам Шейлы Фицпатрик, “существует великое множество донесений о том, что активисты присваивали себе имущество раскулаченных ими людей”. Она упоминает случай, произошедший в Пермской области, где люди, выгнавшие крестьянина по фамилии Тимшин на улицу, “на месте съели его мед и рассовали его папиросы по карманам. Они не включили в опись имущества серебряные часы, которые оказались в кармане у милиционера Игашева”[555]. Один из переживших голод, который рассказал мне свою историю в 1998 году, подтвердил эту схему: “В нашей деревне были люди, жили люди, которые никогда не работали, пьяницы разные и тому подобное. Они организовались в коллективы, не в колхозы, а в коллективы, и кулачили людей. Раскулачили троих”[556]. “Они все прибрали себе, – рассказывал другой человек. – Они себя спасли, а люди погибли”[557].
Раскулаченные большей частью были самыми обычными людьми. Многих записали в кулаки просто потому, что они пользовались наемным трудом, то есть “эксплуатировали безземельных крестьян”. Это определение было особенно несправедливым. Крестьяне, которым требовались помощники, чаще всего были самыми слабыми членами сельской общины; это были как раз те, кто не мог собрать урожай без посторонней помощи: вдовы, старики, инвалиды войны[558]. Иногда, чтобы превратить человека в кулака, достаточно было краткой вспышки ярости, и в таких случаях ценой подобной ярости становилась вся жизнь. Жительница юга России вспоминает: “Моя тетушка схватилась за вилы и, размахивая ими, закричала: «Не пущу к лошадям!» У нее было две лошади. А на следующий день к ней пришли и раскулачили ее, забрали ее имущество, а ее саму сослали, дети погибли”[559]. Подобного рода акты мести подчас настраивали против государства и его представителей целые крестьянские общины. Не всегда беднейшие крестьяне жили, затаив неприязнь к своим соседям[560]. Однако какую бы ярость ни вызывала политика экспроприации, сопротивляться ей было невозможно.
До сих пор, семьдесят лет спустя, живы уцелевшие очевидцы тех событий, и эти люди могут рассказать о шоке, который они испытали, лишившись всего имущества. Один из них вспоминает: “Сначала нас отвели в какой-то промерзший ледяной барак. Даже не знаю, где именно он был. Знаю только, что мы мерзли и голодали в этих бараках десять дней кряду… Мы потеряли отца и старшего брата, которому в ту пору было двадцать”[561]. Женщина из другой “кулацкой семьи” рассказала мне: “Нас поместили в бараки. Тюрьмы были переполнены. В нашем районе план [по раскулачиванию] перевыполнили. Так что нас поместили в бараки, всех вместе, просто взяли и бросили туда. На голый пол”[562]. Ее семье относительно повезло. Миллионы других кулаков погнали еще дальше от дома. “Ужасная проблема с этими вагонами для перевозки скота была в том, что через все щели и трещины в деревянных стенах дул ветер, – вспоминал один из раскулаченных. – Ветер выл, продувая вагон насквозь, от него было не защититься без теплой одежды, а нам никакой одежды взять с собой не разрешили, это было «излишком сверх правил»”[563]. Здоровые взрослые могли некоторое время противостоять холоду, но смертность среди младенцев была ужасающая. “Не стало у матери молока, и умер в пути ребенок. Где ж хоронить? Два конвоира сели в их вагон на один пролет, на ходу открыли дверь – и выбросили трупик”, – писал Александр Солженицын[564].
Те, кто выжил в пути, зачастую умирали по прибытии на Крайний Север. Они голодали на бесплодной земле, на которую их бросили работать. Дети гибли от эпидемий и отсутствия ухода, не понимая, почему нет молока, куда пропал отец и где они оказались в результате их бесконечного путешествия. Местное население пыталось помочь “спецпереселенцам”, предлагая им еду и кров, причем происходило это настолько часто, что вызвало официальную критику властей. “Так они жили чумной зимою. Не мылись. Гноились тела. Развился сыпняк. Мёрли”, – описывал Солженицын группу бывших кулаков, временно размещенных в Архангельске по пути в ссылку: “Но архангелогородцам был строгий приказ: спецпереселенцам (так назывались сосланные мужики) не помогать!! Бродили умирающие хлеборобы по городу, но нельзя было ни единого в дом принять, накормить или за ворота вынести чаю: за то хватала местных жителей милиция и отбирала паспорта. Идет-бредет голодный по улице, споткнулся, упал – и мертв. Но и таких нельзя было подбирать (еще ходили агенты и следили, кто выказал добросердечие). ‹…› Жители Архангельска сами тряслись, чтоб не сослали и их. Даже остановиться, наклониться над трупом боялись. (Один лежал близко от ГПУ, не подбирали)”[565].
Зимы 1930 и 1931 годов оказались для этих ссыльных смертельными, но тех, кто остался в колхозах, в конце лета 1932 ждало новое бедствие. Год выдался неурожайным, однако правительство продолжало требовать выполнения плана по поставкам зерна и других сельскохозяйственных продуктов, причем требуемые объемы поставок были столь велики, что многие районы, производившие зерно, остались почти без продовольствия. Одна из эмигрантских организаций писала в 1933 году министру иностранных дел Великобритании:
В течение последней зимы и весны население этих сельскохозяйственных регионов [главным образом речь шла об Украине], почти полностью лишенное своего обычного продовольствия, вынуждено было питаться корой и травой, есть крыс и собак, что привело к ужасающей смертности, огромному количеству случаев умопомешательства и каннибализма и к общему состоянию истощения от нехватки питательных веществ. Из-за того, что голодающим и больным не оказывается никакой помощи, улицы деревень и городов усыпаны мертвыми телами; целые деревни стоят пустыми в результате гибели и массового исхода крестьян[566].
“В 1933 году мне было девять лет, – вспоминала шестьдесят лет спустя Марфа Павловна, жительница Винницы, пережившая Голодомор. Деревенским языком она описывала ужас с поразительной простотой: – Было нас четверо детей… Они пришли к хате, незнакомцы… Били в дверь железными прутами… и пытались найти, куда отец спрятал зерно. Корову нашу забрали”. Крестьян в колхозах все еще подозревали в укрывании продовольствия, и многие дома раз за разом обыскивались в поисках схронов. После того как отобрали последнее зерно и масло и закончился урожай прошлого года, начался голод. Марфа Павловна продолжает: “Мы умоляли маму накормить нас, так просили. Младший братик плакал, плакал, а к утру помер. Мой старший брат, тот, что 1920 года рождения, тоже утром умер. Они оба лежали мертвые. Уже трое мертвых лежали… Мама сказала соседям: «Уже трое моих померло». А через два дня умер отец. Был вечер субботы. Я спала совсем рядом с ними, с мертвыми… Они пришли и забрали их из деревни, забрали в ров”[567].
На Украине были записаны и опубликованы тысячи подобных свидетельств. Мария Оксентьевна Тростянская, родившаяся в 1914 году, вспоминала: “1933 год в моей жизни был как страшный сон”. Она была членом похоронной бригады из трех человек в деревне в Киевской области, в чьи обязанности входило рытье траншей для братских могил. За раз хоронили по 20–30 человек, которых к могилам привозили на повозках. Сначала в повозки были запряжены лошади, а после того как лошади околели, вместо них впрягались люди. В подобной траншее Мария Оксентьевна похоронила собственную сестру рядом “с телами 23 других умерших”[568]. Другие свидетели вспоминают похожие сцены. Один видел труп молодой женщины, прислоненный к дощатому забору. Этот образ до сих пор не идет у него из головы.
Когда мы подошли ближе, мы увидели ребенка, который… сосал грудь, не осознавая, что молока там больше не осталось. Пока мы смотрели [на труп], подъехал санитарный грузовик, подбиравший на улицах умерших. Двое мужчин выпрыгнули из грузовика, схватили тело за ногу и затащили его на верх груды трупов в кузове. Затем они взяли ребенка и кинули его поверх мертвых тел. Мы с братом заплакали от жалости к ребенку, но понимали, что ни мы, ни кто-то другой ничем бы ему не помогли, потому что все были голодные[569].
Слезы и жалость были роскошью в голодающих деревнях. Многие разучились плакать, а у большинства на это просто не осталось никаких сил. Мария Оксентьевна вспоминает, что случалось, если брошенный в могилу труп оказывался совсем не трупом, а живым человеком. “Один из них окликнул нас: «Эй, хлопцы, не хороните меня. Может, я еще выживу», но на похоронную бригаду это не произвело ровным счетом никакого впечатления. «Вот еще, потом ехать за тобой. У нас и без тебя работы по горло», – сказал один. Вот что голод делал с людьми. Сталин низвел людей до такого состояния, что они теряли разум, совесть и милосердие”, – резюмирует Мария Оксентьевна[570]. В районах, охваченных голодом, увеличилось число совершаемых преступлений, причем самого разного рода. В худшем, хотя и самом характерном случае это было убийство. Оно или предшествовало ограблению, или было частью другой проблемы – людоедства, распространявшегося все шире и шире[571]. “Голод 1921 года в Советском Союзе был, без сомнения, ужасен, но по сравнению с нынешней ситуацией он кажется детской забавой”, – писал еще один очевидец[572].
Актив и партийные служащие также не испытывали особенной жалости к пострадавшим от голода. Летом 1932 года были созданы специальные бригады (в них вошли как горожане, так и некоторые представители крестьянства), которым было поручено обеспечить сбор зерна и защиту “социалистической собственности” от голодных жителей деревень осенью и зимой того же года[573]. Эта “собственность” представляла собой жалкое зрелище: собранное по крохам зерно, почерневшая картошка, гниющие кочаны капусты, но власти это не волновало: за воровство карали сурово, вплоть до расстрела. Пытаясь объяснить образ мысли активистов того времени, будущий критик сталинизма Лев Копелев писал:
Страшной весной 1933 года я видел, как люди мерли с голода. Я видел женщин и детей с раздутыми животами, посиневших, еще дышащих, но уже с пустыми мертвыми глазами. И трупы… трупы в порванных тулупах и дешевых валенках, трупы в крестьянских хатах, на тающем снегу старой Вологды, под мостами Харькова… Я все это видел и не свихнулся, не покончил с собой. Я не проклял тех, кто послал меня отбирать у крестьян хлеб зимой, а весной убеждать людей, которые едва волочили ноги, были до предела истощены, походили больше на скелеты, отечных и больных, заставлять их работать на полях, чтобы “выполнить большевистский посевной план в ударные сроки”. Не утратил я и своей веры. Как и прежде я верил потому, что хотел верить[574].
Эта вера – одна из причин, сделавших возможным такой голод; именно она позволила миллионам людей – целым семьям и деревням – погибнуть, в то время как другие ели хлеб, суп и говорили о производственных планах. Но были и другие причины. Обратной стороной фанатичного энтузиазма было добровольное игнорирование реальности. По сути, за пределами голодающих регионов это было нормой жизни. В газетах непрерывно рассказывали об успехах. Всего-то и требовалось – просто поверить в них. Сообщалось, что повысился уровень жизни рабочих, что крестьян вызволили из многовековой темноты, что дети стали крепче и здоровее, а Советский Союз теперь – образец для подражания странам всего мира. Любой желающий подвергнуть все это сомнению обнаружил бы, что у него просто нет возможности высказать свои сомнения публично. Те же, кто мог влиять на политику партии – небольшая группа несогласных внутри партийного руководства, – вскоре убедились, что публичное выступление с критикой может стоить им карьеры, а возможно, даже и жизни. Их приводили в пример для устрашения остальных, на них устраивались ставшие своеобразным ритуалом атаки, в их адрес звучали смертоносные обвинения в предательстве. Сами попытки противодействия политике власти оказывались тщетными[575]. В результате вне рядов руководящей элиты царило полное смятение. Единственным, что могло быть напечатано, стала универсальная, не имеющая шанса быть опровергнутой публично пропаганда. Триумфаторская по форме и безжизненная по содержанию, она отфильтровывала правду.
Местный орган печати в Винницкой области на Украине мог бы служить образцовым примером этого пропагандистского стиля, полного эвфемизмов. В области голодали и гибли от голода тысячи детей, в то время как газета объявила, что “любой, отклоняющийся от работы в дни уборки урожая, способствует контрреволюционному саботажу”. Те, кто способен был расшифровать это послание, понимали, что оно означает: партия не намерена смягчать свою политику и сбавлять темп работы, даже несмотря на крики о помощи. Однако слова, в которые облекалась эта леденящая кровь политика, были невнятными, плоскими и выхолощенными. Три дня спустя та же самая газета объявила, что “план по заготовке зерна в этом районе был выполнен на 100,1 процента”[576]. Это скучное, пустое предложение было призвано задушить правду о той драме, что разворачивалась в реальности. Чуть меньше двух лет назад, в ходе первого этапа коллективизации, в некоторых районах Украины, в том числе и в Винницкой области, вспыхнула настоящая гражданская война[577]. Теперь эти районы переживали новую волну насилия и голодали. Однако сторонний читатель, взявший в то утро в руки газеты (или иностранец, наткнувшийся на них в архиве много лет спустя), скорее всего, кивнул бы, зевнул, придрался к фантастическим цифрам и перевернул бы страницу в поисках чего-то более интересного.
У самих крестьян практически не было никакой возможности бросить в публичном пространстве вызов официальной лжи и искажению действительности. Самым наглядным свидетельством происходящего, которое они могли бы предоставить, были их истощенные тела. Однако голодающим крестьянам был запрещен въезд в город. Открытое же политическое противостояние, серьезные попытки развернуть которое предпринимались во времена Гражданской войны, было для них невозможным. Хотя зимой 1932 года некоторые крестьяне взялись за оружие в отчаянной попытке остановить реквизицию зерна, большинство голодающих были просто физически не в состоянии дать отпор сытой, хорошо вооруженной и многочисленной милиции[578]. Более того, в ходе раскулачивания деревня потеряла большое число местных вожаков: одни были депортированы, другие покоились в могилах.
ОГПУ обращало внимание на любую, даже самую незначительную подпольную деятельность. По мнению властей, в ситуации кризиса политический контроль публичных собраний и даже неформальных сборищ был необходим, для того чтобы предотвратить распространение слухов и альтернативных точек зрения, а также не дать зародиться какой-либо иной политической силе. Но у этого контроля были и другие последствия. Целенаправленная атака была предпринята на церкви и синагоги – эти места очевидным образом служили для встреч и разговоров, в них могли поощряться и обретать право быть высказанными частные воспоминания[579]. В сентябре 1933 года один из очевидцев писал: “Религиозная жизнь на Украине полностью замерла”, – и добавлял, что “люди сегодня религиознее, чем когда-либо”, однако молитва и вера оставались в сфере приватного, частного, были лишены посредничества священника. “Конечно, сегодня не проводится никаких церковных венчаний, отпеваний, крестин младенцев и тому подобного”, – уточнял он[580]. Все это было характерно и для Поволжья, Северного Кавказа и черноземной полосы. Любая возможность несанкционированного собрания и заговора была исключена. И утешения искать тоже было практически негде. Места, где люди могли бы сообща пережить и оплакать свое горе, а позднее – и сохранить память о нем, систематически уничтожались.
Тела умерших и даже их имена исчезали без следа. В массовых захоронениях не так-то просто разобраться: безымянные, внушающие ужас скелеты навалены вперемешку внутри могильных ям. Местные власти предпочитали сообщать приблизительные данные о числе погибших, особенно когда в домах находили целые вымершие семьи. Мужчины, посланные подсчитывать погибших в одном из районов Северного Кавказа, признались, что не внесли в опись и половины от общего количества умерших. В одном случае, когда вся семья, включая мать и трех ее дочерей, умерла от голода, зарегистрировали лишь смерть отца, потому что фамилию семьи, Бацай, нельзя было записать в женском роде множественного числа[581]. Сами могилы были вскоре стерты с лица земли, и часто делалось это намеренно. Один бывший кулак вернулся на место лагеря, где вместе с 32 тысячами других (в основном это были семьи с детьми) они занимали 97 переполненных бараков. “Случались вспышки свинки и скарлатины, но никакой медицинской помощи не было”, – вспоминал этот человек. Пайки были мизерными. Смертность, особенно среди детей, была очень высока, “целый день хоронили людей”. Но приехав на это место в 1935 году, он обнаружил, что кладбище, “которое сплошь было уставлено бесконечными крестами, власти приказали сровнять с землей”[582].
Память о мертвых скрывалась не только в земле. Приезжали новые поселенцы, готовые обрабатывать чужую землю, старые обитатели рассеивались по другим городам и весям. В августе 1933 года Совет народных комиссаров издал указ о переселении на “недостаточно заселенные, но плодородные” (так указ описывал эти земли) территории Советского Союза. Это был еще один эвфемизм, еще один оксюморон. В 1920-х годах, за пять лет до произошедшего, даже говорить не приходилось ни о каких плодородных, но недостаточно заселенных районах на территориях, дававших стране хлеб. Плотность населения здесь была самой высокой. Однако к концу 1933 года только на Украину было отправлено 21 856 семей, или 117 149 человек. В основном это были жители соседних республик, например Белоруссии, а также западных областей РСФСР[583]. Новые прибывшие не задавали лишних вопросов об этих землях, переполненных тенями умерших. Говорили о своей трудной доле, о тяготах работы и нужде, но не о костях, не о призраках, не о странном молчании, не о новой жизни в том мире, в котором даже дикие птицы умолкли навсегда.
И от своей привычки держать язык за зубами и воздерживаться от вопросов эти люди не отказались по сей день. То чувство вины, которое уцелевшие выражают в сегодняшних интервью, обычно связано с их крестьянской идентичностью, с решением остаться на земле. Они знают, что их жизни круто изменились бы, решись они влиться в великий миграционный поток, который в разгар сталинской индустриализации привел тысячи бывших крестьян в город. В то время казалось, что спрос на труд был таким огромным, что его невозможно было удовлетворить. Они также знают, что берущий у них интервью человек образован, и их не оставляет мысль о том, что и у них однажды была возможность найти себе более престижную и высокооплачиваемую работу. В период между 1928 и 1932 годом из деревни в город перебрались около 12 миллионов человек[584]. Этот миграционный процесс разрушил некоторые механизмы работы памяти, наделив тех, кто остался в деревнях, и даже тех из оставшихся, кто не испытал голода, смутным, несфокусированным ощущением потери. Более того, последующие события и память о переселении будут раздавлены гусеницами немецких танков в 1941 году.
“Человек счастлив своим умением забывать”, – писал Варлам Шаламов[585]. Сегодня и в России, и на Украине еще можно найти тех, кто уцелел в великой войне, развязанной Советским Союзом против своего крестьянства, и расспросить их о пережитом. Появившиеся собрания воспоминаний и свидетельств, записанных специалистами, работающими в направлении устной истории, воссоздают наглядный образ прошлого, прежде обделенного вниманием. Однако в некотором смысле повторное открытие одного типа “настоящей” истории, одного нарратива, составленного из фактов, заслонило собой другую имевшую место тему: процесс приспосабливания, те стратегии существования и адаптации, которые позволили людям прожить полвека, так ничего и не рассказав. Многие из собранных свидетельств начинаются с фраз: “Мне никогда не забыть…”, “У меня до сих пор стоит перед глазами…”, – но в поисках фактов редакторы, выпустившие эти сборники, оставили без внимания другие слова, другие фразы, все эти недосказанности и умолчания, которые не визуализируют, не воссоздают картин прошлого, позволяют не вспомнить, а, наоборот, решительно забыть. Но именно это забывание-забвение в годы сталинизма и составляло ткань жизни для миллионов советских людей. Забывание стало необходимой стратегией выживания даже для тех, кто сегодня с таким энтузиазмом вспоминает свои юные годы и кто так легко и гладко, по крайней мере с виду, говорит для записи под шелест магнитофонной ленты. К слову, большинство из тех людей, которых интервьюировала я сама, говорили совсем иначе.
Этот другой тип памяти с трудом поддается воспроизведению. Она кажется чужеродной, странной, со всеми этими умолчаниями и пробелами, отделенная от публичных событий прошлого, о которых пишут историки. Может показаться, что в эпоху постгласности, в мире до сих пор жадном до подлинных историй и чернушных разоблачений, этой памяти просто нет места. И тем не менее мне этот способ обращения с памятью представляется более распространенным, по крайней мере среди тех, кто остался в родных местах и прожил жизнь рядового советского гражданина, члена новой общности советских людей. Те рассказы о прошлом, которые мне довелось слышать – больше десятка от уцелевших в ходе раскулачивания, еще столько же от переживших голод, – редко бывали выстроены в хронологическом порядке. Люди говорили “не по существу” (то есть не по существу вопроса, представляющего интерес для историка). Их рассказы были фрагментами, сохранившимися в частном пространстве памяти при полном отсутствии какого бы то ни было общественного контекста, в который они могли бы быть вписаны. Рассказчики говорили так, будто их истории были нетипичными, исключительными; их взрослая жизнь, их воспоминания были отравлены необходимостью найти себе оправдание, как будто бы сам факт того, что им удалось выжить, оставил на их судьбах рубец вины.
Хорошим примером того, как устроены подобные свидетельства, может служить один из разговоров, который состоялся у меня в начале моей работы над проектом и который в то время даже вызвал у меня разочарование[586]. Рассказчица с большим энтузиазмом вызвалась поговорить со мной: “Приходите и увидите сами. Я пережила раскулачивание. Уверена, что вам захочется узнать об этом побольше”. Проблема заключалась в том, что в течение трех часов нашего разговора (а затем и во время долгого чаепития) она едва коснулась этой темы. Было вскользь обронено несколько кратких фраз о первых днях жизни в бараках, произнесены обычные уверения в том, что семья не была особенно зажиточной, а затем последовали воспоминания о дальнейшей жизни, о настоящей жизни, которую подготовила катастрофа. На протяжении долгих десятилетий факт раскулачивания оставался стыдной тайной, обнародование которой могло стоить этой женщине карьеры. Это было прошлое, которое она умело скрывала полвека. Большая часть этого прошлого оказалась похороненной под удачами и триумфами последовавших лет; другая же часть была замаскирована суевериями и предрассудками, которые, несмотря на рациональное, “научное” сознание, проповедуемое большевиками, были присущи каждому советскому человеку.
Во время описываемых событий ей было семь лет. В дом пришли мужики (“Это был какой-то ужас”) и забрали ее отца. Вместе с матерью и тремя братьями, ее, единственную дочь в семье, загнали в барак и бросили там – без документов, без средств к существованию. Приближалось лето, ее отчаявшаяся мать, лишенная свободы передвижения и чувствовавшая себя связанной по рукам и ногам, смогла каким-то чудом связаться со своей сестрой, тетей этих четверых детей. Это обстоятельство в глазах самой рассказчицы сделало ее историю исключительной (несмотря на то, что тысячам других людей удалось спастись схожим образом). Тетя детей, которую звали Таня, была замужем за музыкантом, “настоящим виртуозом”. У пары не было собственных детей. Они приехали, как только смогли, добираясь до раскулаченных родственников вдоль Волги, через безлюдные, опустошенные деревни, сторонясь толп побирающихся нищих и голодных детей. Они привезли еды и немного старой одежды для матери семейства, которую та могла бы обменять на что-то необходимое. Они приехали с предложением забрать одного из детей.
Те перемены, которые городская пара обнаружила в своих родственниках, должны были их потрясти. Дети голодали, ходили босиком, а маленькая девочка Аня, нынешняя Анна Тимофеевна, “была еле жива”. У нее был рахит, и впоследствии она почти не прибавила в росте, как будто оставшись в теле семилетнего ребенка. Ее дядя, так разительно отличавшийся от отца “кулака”, который лишь тенью скользит по воспоминаниям дочери, сразу произвел на нее неизгладимое впечатление. “Он был артистом, культурным человеком, он все знал, все сразу понял. Он спросил, где написано, что дети должны жить в бараках”, – рассказывает она. Вместе с братьями она наблюдала за разговором взрослых. Ее мать пыталась убедить родственников забрать старшего сына, которому в то время было восемь лет, но Таня успела заметить девочку. “Он уже практически мужчина, – сказала она, – я возьму Анну”. “Мама отказалась от меня. Они меня забрали. Дядя внес за меня залог – нас раскулачили, так что меня могли отпустить только под залог. Понимаете, у отца не было никаких прав”. Всем остальным детям этой семьи не суждено было выжить.
Анна Тимофеевна смеется: “Сначала они меня помыли. Помню запах мыла”. Темп и тон ее повествования меняются сообразно с работой памяти. Рассказ переносится из темных бараков в крошечную квартирку с единственной комнатушкой, а затем в цирк. Следующие два года маленькая Аня была слишком слаба и болезненна, чтобы заниматься чем-то, но как только она достаточно окрепла, музыкант, занявший место ее отца, взялся за ее развитие. Дисциплина была беспощадной. “Сперва, когда он заставлял меня в наказание стоять в углу, я не очень понимала, что имеется в виду. Я никогда раньше не знала такого обращения”. Тем не менее, рассказывая, она смеется – тяжелые испытания подобного рода, испытания другой жизнью, встречаются почти во всех рассказах бывших кулаков, – и нотка гордости в ее голосе вливается в благодарную память. “Мы были почти сироты”, – вспоминает она свою семью. В отличие от братьев, Анна собиралась начать цирковую карьеру. “Моя жизнь была иной, я была артисткой, я всегда должна была заниматься творчеством, это то, что держало меня в жизни”, – говорит она.
Обретение актерского мастерства всегда дается нелегко. Анна Тимофеевна объясняет: “У меня не было никакого детства. Утро начиналось с общеобразовательной школы, а прямо оттуда во второй половине дня я отправлялась в цирк. Был небольшой обеденный перерыв, мы всегда ели все вместе, а потом я возвращалась к занятиям в цирковой школе. В те времена вас готовили не только как танцора или музыканта, вы должны были уметь делать абсолютно все”. Она быстро схватывала мелодии, и дядя смастерил ей маленький аккордеон, специально под ее маленькие руки. Дядя также настоял на том, чтобы она сменила имя: “Не Бандаренникова, слишком длинно. Нет”. Улыбаясь, она широко раскидывает руки в эффектном жесте и объявляет саму себя, как будто ей снова предстоит выйти на сцену: “Анна Тимофеевна Бондаренко!” Ее готовили на “роли второго плана” в музыкальных номерах ее дяди. С одиннадцати лет она посылала деньги домой матери.
На стенах в ее тесной гостиной – цирковые афиши, свидетельство ее тогдашней жизни. На одной Бондаренко в сопровождении дяди, на другой она играет на аккордеоне и поет, а вот она же с мужем, музыкальный номер на двоих. “В месяц мы давали по 124 концерта, – рассказывает она, вспоминая свою работу во фронтовых бригадах, – по три-четыре концерта в день. На фронте я проработала до восьмого месяца беременности. У меня об этом и документы есть, если хотите посмотреть. Я выступала до 4 августа, а 23 сентября родила”. Она не могла уделять достаточно времени своему малышу и отдала его на воспитание матери. Свою жизнь Анна Тимофеевна посвятила сцене и мужу, с которым она часто эту сцену делила.
Сейчас я проматываю запись назад: мне нужно в точности передать ее слова – и поражаюсь точно так же, как и во время нашего разговора, тому, что Анна Тимофеевна считает для себя самым важным в жизни, своими приоритетами – они так сильно отличаются от моих собственных. В моем представлении это интервью было посвящено кулакам, а для нее оно было о чем-то совсем ином. Через некоторое время после начала нашей беседы она сказала: “Так вот он, конечно, мужчина, тот, от которого я родила сына и который уже был к тому времени моим мужем, он был единственный в Москве, а на самом деле во всем Советском Союзе, профессиональный артист – мастер художественного свиста. Он всегда был единственным в своем роде. Каждый раз, когда вы в фильме слышали свист, это был он”. Я слышу на записи, как она встает с места, отодвигает стул, я знаю, что она перешла к буфету в углу комнаты за моей спиной. Она достает оттуда массивный черный магнитофон, неуклюже возится с кассетой. “Минуточку. Он ничего не оставил. Я нашла это, перебирая некоторые записи для радио, которые [он] делал. Я сама это соединила воедино из маленьких фрагментов”.
Советский магнитофон ставится рядом с моим самым обычным диктофоном. “А это работает?” – спрашивает она. Прослушивая свою запись, я слышу собственный голос, убеждающий ее в том, что все в порядке, а затем свист ее умершего мужа. Звучит фортепианный аккомпанемент, затем вступает оркестр (фоном к яростной мелодии Хачатуряна), а в последнем номере – синтезатор и электронные ударные. “Записывается, да?” – вновь хочет удостовериться Анна Тимофеевна. Прошло десять минут, а записи все еще не заканчиваются. Она пододвигает свой магнитофон поближе к моему. Когда начинается последний кусочек, чувственная танцевальная классика 1950-х, она начинает плакать. “Вот посмотрите-ка на это”, – шепчет она, понижая голос, чтобы не заглушать выступление своего мужа, тревожно переводя взгляд с моего лица на магнитофон, проверяя вновь и вновь, все ли идет как надо. Вручает мне ворох фотографий, затем выхватывает их у меня обратно, выбирая самые лучшие. “Это мама, а это ее сестра, моя тетя”. Свист стихает, но еще долго длится тишина. Анна Тимофеевна вышла на кухню, чтобы найти свою сумочку, помаду и носовой платок.
Муж был центром всей ее жизни, и эти несколько минут на пленке, взрыв трелей, были для моей свидетельницы важнее и тронули ее больше, чем история ее детства и деревенского быта. Еще она с гордостью говорила о войне: “Это было самое большое переживание в нашей жизни, те дружбы, которые мы тогда завели, всегда были такими прочными”. Военные воспоминания в некоторой степени искупили далекое прошлое и, конечно, заслонили его от глаз: “Мы снова выступали на 40-летие Победы. Говорят, что у пальцев самая мощная память. Мои, кажется, запомнили все”. На пленке опять звучит смех, а затем она играет Моцарта, играет плохо, перебирая неподдающиеся клавиши и улыбаясь.
Необязательно знать историю раскулачивания, чтобы послушать мою пленку с записью свиста мужа Анны Тимофеевны, Ефима. Можно восхищаться его мастерством (и выносливостью, ведь он принимал участие в работе над 85 кинокартинами!) и даже узнать некоторые мелодии. Однако куда тяжелее проследить историю, которая им сопутствует, – цензуру и умалчивания, которые подчас по-настоящему шокируют. Например, одна из тех вещей, которые кажутся удивительными в рассказе Анны Тимофеевны, – это то, что в нем совсем нет горечи и ожесточения. Отчасти причина кроется в том, что ее вовремя забрали родственники и она смогла заново построить свое будущее в другом городе. Несомненно, важную роль играют здесь и различные формы подавления памяти и механизмы самосохранения. Но есть во всем этом еще один, особенный исторический аспект, который роднит Анну Тимофеевну с миллионами людей ее поколения: уникальное советское самосознание.
Едва повзрослев, Анна Тимофеевна вступила в комсомол – Коммунистический союз молодежи. Она ходила на парады, носила комсомольский значок, влилась в классовую борьбу на стороне победителей. По правде говоря, в противном случае она не имела бы возможности выступать, в чем, бесспорно, отдавал себе отчет ее дядя. Ее сценическая карьера началась в тот момент, когда все то, что мы сегодня назвали бы публичной сферой, оказалось зажато в тиски контроля со стороны Коммунистической партии. Однако Анна Тимофеевна не сомневалась в том, во что верила. Она была оптимисткой, верным товарищем, заводилой в любой компании. Она строила свой мир внутри грандиозного мифа под названием “социалистическое строительство”, бестрепетно вносила свой вклад в коллективную победу над фашизмом и работала, работала, потому что работа и была ее дорогой в жизнь, работала, чтобы внести свой вклад и быть достойным членом общества. Крах коммунистической системы позволил ей свободно говорить о своем происхождении, однако ее высказывание продиктовано не гневом и яростью, взращенными за шесть десятилетий.
Она как будто вскользь упоминает комсомол (разговаривай мы на двадцать лет раньше, в то время, когда КПСС все еще была у власти, акцент в ее рассказе, без сомнения, был бы сделан на другом). Членство в этой организации еще больше отдалило ее от родной деревни и покинутой семьи. Анна Тимофеевна стала полноценной советской гражданкой, а ее мать продолжила существовать в состоянии полной неопределенности в деревянном доме на окраине Саратова. Но именно от этой пожилой женщины Анна Тимофеевна привыкла слышать новости о своей семье, история которой продолжается уже в пересказах матери.
Энтузиазм Анны Тимофеевны не был порождением большевистского мира, многочисленных эвфемизмов 1930-х годов или результатом победы над Германией – он зародился гораздо раньше. Мать Анны Тимофеевны родилась в деревне в глубинке, в центральном черноземном регионе России в самом начале XX века. Эта женщина не рассматривала свою жизнь в терминах прогресса или классовой борьбы. В ее представлении мир был местом, в котором ход вещей определялся добром и злом, Богом и царем, раем и адом, а также Страшным судом. В эту вселенную комсомол не вписывался. Разница в поколение подразумевала представление о жизни полной невзгод, а не цветения надежд. Когда дочь говорит о своей семье, над ее рассказом довлеет тень матери, она вспоминает разговоры, которые, должно быть, вела с матерью, те моменты, в которые два поколения по-настоящему встречались. Анна Тимофеевна объясняет: “Она была трагической женщиной. Ее судьба оказала влияние на всех, кто остался рядом с ней. Мне единственной удалось спастись”.
А значит, череду последовавших несчастий можно объяснить только велением судьбы. Это странный рассказ, который походит на тревожное эхо другого мира. История семьи помещается не в политический контекст, не в контекст государственного насилия, но в область примитивного проклятия, наложенного на членов семьи. Слушая это свидетельство, следует запастись терпением, потому что, изучая его в поисках знакомых элементов, той исторической правды, которая может быть использована в работе историка, упускаешь правду о жизни этой женщины. В ее повествовании отдельные смерти приобретают трагическую форму. Тем, что она сама уцелела и выжила, она обязана чуду: ей была ниспослана уникальная благодать.
Рассказ ее вызывает у слушателя вопросы и сомнения. Возможно, в нем есть путаница и самообман. По мере того как история обрастает подробностями, она периодически меняет русло, проходя в опасной близости от той границы, что отделяет трагедию от фарса. Происходит это без ведома рассказчицы, в силу формы и тона ее повествования. В нем слишком много повторов. Подсознание отторгает темноту, особенно если рассказчик вспоминает уже свои воспоминания, столько раз пересказанные, что они утрачивают связь с реальными событиями прошлого, и в силу своей слабости превращает нежелательное и неприемлемое в комедию. Тот же самый рефлекс не дает представить себе масштабы потерь, не дает свести воедино в одном предложении образ повторяющейся боли с осознанием того, что и этот человек – тот самый, что произносит эти слова, – был свидетелем всего произошедшего, был травмирован этим опытом и принадлежит к тому же самому роду человеческому, что и ты сам.
Отец Анны Тимофеевны вернулся из трудового лагеря уже через год. Он стал пить – в ее рассказе нет другого описания этого человека – “и умер через сорок дней”. К тому времени, по крайней мере, одного из его сыновей уже не было в живых. Когда Таня и дядя забрали Анну, ее мать взяла старшего сына, того самого, который был “почти уже мужчиной”, и оставила малышей – одному из них было два года, а второму четыре – дома одних, предоставив им самим заботиться о себе. Сама же отправилась на поиски пропитания в надежде выменять вещи на что-нибудь съестное. “Она оставила им запас еды на три дня, но они, конечно, все съели сразу. Очень уж голодные были”, – объясняет Анна Тимофеевна. Когда мать не вернулась через три дня, мальчики пошли ее искать. В то время на улицах было полно беспризорников, до которых никому не было никакого дела, и на двоих мальчишек никто не обратил бы особого внимания. Когда мама возвратилась, их все еще не было дома.
“Начали их повсюду разыскивать, в больницах, в моргах, но мальчиков никто не видел, – продолжает их сестра, пересказывая эту историю так, как будто речь идет о другой жизни. – Они и фамилии своей не знали. В конце концов нашли Валю. Он сказал, что они все съели, а потом младший начал плакать, и Валя сказал ему, что они пойдут и найдут свою маму. Они бродили по улицам. Иногда люди их действительно подкармливали. Но маленького так и не нашли. Мы до сих пор не знаем, что с ним случилось. Он был совсем слабый, его легко можно было заманить куда-нибудь. Может быть, он попал в больницу. Он не смог бы объяснить, кто он и откуда. Мама его повсюду искала. Она всегда верила, что он все еще жив. Их кормили, знаете. Так что, возможно, он и не умер. Женя его звали”.
Валя, тот самый четырехлетний мальчик, дожил до подросткового возраста. Он пошел в саратовскую школу, семья заново налаживала свою жизнь, казалось, Валины шансы на достойное будущее непременно возрастут. Они строили новый дом. “Шел 1940 год. Еще не успели настелить крышу. И однажды утром он говорит: мама, зови врача, я умираю. Вот так просто. И в тот день его не стало, еще до вечера”, – рассказывает Анна Тимофеевна. Мать осталась с Сашей, старшим мальчиком. “Он воевал в финскую войну, – рассказывает его сестра и стучит по столу в такт своим словам. – Он воевал на фронтах Великой Отечественной; он учился в военной школе при Верховном совете; он стал офицером. У него было двое детей. Ему было 37 лет”. На дворе стоял 1959 год. Саша тренировал каких-то новобранцев. Произошел несчастный случай. Он крикнул солдату, чтобы тот укрылся в окопе, а сам не успел и оказался единственным в зоне поражения гранаты.
То, каким образом рассказывалась каждая история, не оставляло сомнений, чем она должна была закончиться. Даже смерть матери – по дороге в церковь вместе с Таней она поскользнулась и попала под пригородную электричку – кажется проявлением неотвратимого рока. “Еще один шаг, только один, и с ней ничего бы не случилось”, – твердит дочь. Однако, чтобы объяснить смерть собственного сына, Анна Тимофеевна создала целый набор интерпретаций. Вовка на два месяца пережил собственного отца. Проклятая судьба его бабушки – влияние, которое он впитал как ее приемный ребенок, – неотступно присутствовала в его жизни. “Мне мама сказала: «Я рада его любить – она знала, что я не ревновала, – но он разделит мою участь», – шепчет Анна Тимофеевна. – Так и случилось. У него было три инфаркта миокарда. Ему было 47 лет. Моя мать была трагической женщиной”. Однако мои вопросы заставили ее придумать еще один вариант ответов, полных сложноустроенных отношений и противоречивых предрассудков, из которых состоит любая жизнь. “Нет, я никогда не рассказывала ему о его происхождении”, – говорит она, отметая мое предположение, что ее сын мог переживать из-за травмы, которая выпала на долю его родителям и приемной матери. “Это здесь совершенно ни при чем. Его сердце. Дело было в его личной жизни: его жена его отвергала. Нет, она от него не ушла. Она, гхм, умерла. Она умерла за три года до его смерти. Умерла от рака. Она была, понимаете ли, странным человеком. У меня сложилось впечатление, что она боялась любить. Она всегда все высчитывала. Мне кажется, я думаю, что на самом деле она умерла, она заболела раком, потому что была такой злобной”.
Советский Союз перестал существовать совсем недавно, и вера в комсомол кажется легче объяснимой и куда более привлекательной, чем фатализм, суеверие и предрассудки, которые стоят за оценкой невестки, данной ей Анной Тимофеевной. Однако потрясите калейдоскоп – цветные стеклышки внутри него перемешаются и традиционный мир, из которого прорастает темнота, станет местом праздничным. “На свадьбу моих дедушки и бабушки явились все жители деревни”, – рассказывает Анна Тимофеевна, и ее слова вызывают в воображении вереницу мужчин и женщин в лучших нарядах, вышитых рубашках и сарафанах с черно-красным орнаментом по белому полотну, солнечный день, цветение и запах люпинов и дикой смолёвки в каждом уголке сада. Единственное личное воспоминание Анны Тимофеевны о ее деревне касается пасхального кулича, крошек, которые она приберегла для своих братьев, да корзинки овощей, которые соседка предложила голодной семье, когда та ждала прибытия дяди. Повторюсь, эта память не причиняет боли и контуры ее размыты и нерезки в угоду слушателю.
Однако расспрашивать дальше – значит коснуться растерянности, замешательства и сомнения в себе и своих убеждениях, которые крах коммунистического режима спровоцировал в сознании тех самых людей, что положили свои жизни на его строительство. Я спросила Анну Тимофеевну о семейных похоронах: “О да. Мы все делали. Конечно. Мы отпевали их всех. Всех. Ну и что? Мама этим занималась. Она ходила в церковь. Но в то время об этом старались не говорить: мы были комсомольцами – мы, то есть я, у меня было такое к этому отношение… Не то чтобы я была против, но для себя самой я никогда… Хорошо, на Пасху, да. Она ходила в церковь. Вы поймите, я ее никогда не отговаривала, никогда не спрашивала, что она делает. Но приходится делать то, что должно”. Анна Тимофеевна и сегодня не ходит на службы и не общается со священниками, хотя многие в России обратились к церкви, функцию которой прежде выполняла Коммунистическая партия. “Я лечусь травами, – объясняет она, – у меня их 25 разных видов. И когда мне нужна помощь, я могу позвонить одному человеку, и он все понимает, ему даже не нужно видеть меня для этого”.
Для Анны Тимофеевны эти воспоминания, суеверия, легенды, молчание являются важнейшими элементами – по крайней мере, в процессе беседы – ее богатой воображаемыми образами вселенной. В этом смысле они реальны, они – исторические факты. В своем хрестоматийном труде о типах мировосприятия, связанных с итальянским фашизмом, Луиза Пассерини пишет: “Ментальные репрезентации суть еще одно лицо реальности, которая их включает в себя и которая сформирована ими”[587]. Живая память пристрастна, и именно поэтому она так выразительна и красноречива. В России она зачастую принимает обличие ночного кошмара, а голос, выражающий ее, подчас звучит как голос узника в одиночном заточении, и отсюда эта солидарность с судьбой. Публичное молчание о голоде тоже было своего рода актом насилия, очередным зверством сталинизма; это молчание было навязано извращенными расчетами и всепроникающим страхом. Историки, занимающиеся уцелевшими свидетелями трагического прошлого, такими как Анна Тимофеевна, знают, что работа по преодолению этого наследия еще очень далека от завершения. Они предупреждают нас о цене беспамятства и забвения. “Пока человечество продолжает свое существование, оно обязано сохранять память о своих предках, для того чтобы оставаться людьми и избежать превращения… в людей без памяти, которых легче сделать рабами”, – писал один из таких историков в 1980-х годах[588].
Анна Тимофеевна не рабыня. В некотором смысле она жертва, хотя после встречи с ней это слово не сразу приходит на ум. В отличие от своих родителей и братьев она сумела приспособиться и выжить. Ее опыт не причинил ей вреда, не травмировал ее, не вызвал горечи и не вселил в нее страх. Есть все основания считать ее не только жертвой, но и коллаборационисткой. Точнее говоря, коллаборационизм, вынужденный и пассивный, был самым лучшим или, что вероятнее, единственным выбором для тех, кто хотел выжить, частью определенного исторического опыта переживания насилия. Невинность, невежество, само стремление Анны Тимофеевны жить – все это вместе сделало ее частью того, что она не выбирала и чего не могла даже вообразить: соучастницей коллективного молчания. Из этого не следует ее виновность. Скорее, напротив: необходимость пособничества, соглашательства, осознанная или нет, ложилась дополнительным грузом на и без того отягощенные проблемами плечи людей. К этой стратегии выживания вынуждены были прибегать миллионы советских граждан – большинство подданных сталинского государства, – чтобы просто продолжать жить.
Гласность не разрушила советского мировоззрения Анны Тимофеевны, какие бы новые пласты она этому мировоззрению ни добавила. Несмотря на всю свою теплоту и умение бойко и складно говорить, она не может рассказать ту историю, которую содержат учебники. “Приходите ко мне снова. Мы можем провести вместе вечер, и я дам вам еще послушать музыку”, – говорит мне она на прощание. Но я так никогда и не узнаю, а она не вспомнит, что она подумала, что она поняла тогда, в детстве, когда увидела, как в их дом ввалились люди, как мать спрятала лицо, а отец потянулся за пиджаком.
Глава 7 Каменные ночи
Варлам Шаламов провел почти двадцать лет в ссылке и в ГУЛАГе. Самый длинный свой срок, с 1937 по 1951 год, он отбывал на Колыме, где находились советские арктические золотые прииски. В его коротких рассказах о Колыме описывается мир, который по-прежнему невозможно даже вообразить. Это далекий, отрезанный от цивилизации край, самое холодное место в Северном полушарии, расположенное за Сибирью, к северу от Японии. Природа Колымы гнетущая, беспросветная, инопланетная: серое на сером, мир вечной мерзлоты, похороненные подо льдом реки, заиндевевшие долины, свинцовое, нависающее над береговой линией небо, туман. Даже когда тает снег или его разметает резкий, пронзительный ветер, большую часть года в этих местах не увидишь ярких красок: возможно, единственные цветные пятна на сером фоне – это немногочисленные скелеты лиственниц, карликовый кедр да чахлые, низкорослые сосны.
Снег и лед скрывают горную цепь, однако другие границы и ориентиры в этом монохроме не природного происхождения, а дело рук человека: сторожевые вышки, подъемные блоки и металлические тросы над шахтами, безжалостный абрис колючей проволоки. Внутри зоны, как называли свой мир сами заключенные, можно увидеть лачуги и штабеля лесоматериалов, более темный оттенок серого, следы неаккуратных кострищ, электрические лампочки, тусклый огонь самокруток. Но всего этого недостаточно, чтобы расцветить мрак и умерить арктический холод.
Человеку в этих краях легко затеряться. Если вы решите поехать на Колыму сегодня, вы не встретите там большого количества людей. Долины и заброшенные шахты хранят молчание. Ржавеет колючая проволока. Однако сохранились фотографии, которые наглядно свидетельствуют, что этот пейзаж когда-то был заполнен людьми, мужчинами и женщинами, закутанными в лохмотья, грязными и изможденными, чьи неясные силуэты растворялись в тумане. Фотографии обычно делали днем, поэтому чаще всего запечатленные на них фигурки – это заключенные за работой. И не просто за работой, а занятые самым тяжелым трудом, который только можно себе представить. Мужчины, женщины и даже дети копают, рубят и колют камень и лед, ломают и выравнивают каменную кладку полотна для железнодорожных шпал, грузят добытую в шахтах драгоценную пыль: золото, свинец, вольфрам, алмазы и уран.
Пыль и камень зачаровывают Шаламова. В этих краях им выпало сыграть неожиданную роль. “На Колыме тела предают не земле, а камню”, – написал он. Каменная яма возле его лагеря до краев была наполнена трупами; их было так много, что “могила разверзлась, мертвецы ползли по каменному склону”, и понадобился бульдозер, чтобы засыпать ее землей и камнями. Наблюдая за этой сценой издалека, Шаламов сначала подумал, что видит “бревна, не трелеванные еще бревна”, движущиеся по склону горы. Только подойдя к яме ближе, он осознал, что это было. Спустя годы после первых массовых смертей колымские могилы, “огромные каменные ямы, доверху были заполнены мертвецами”. Лед и голый камень сохранили трупы в целости и сохранности, и взгляду наблюдателя открылась тайна “подземных кладовых Колымы”, сохраненная в вечной мерзлоте: “Нетленные мертвецы, голые скелеты, обтянутые кожей, грязной, расчесанной, искусанной вшами кожей”. Похоронные бригады начали рыть огромные арестантские могилы еще в 1938 году, “беспрерывно буря, взрывая, углубляя огромные, серые, жесткие, холодные каменные ямы”. Природа севера и сам камень “сопротивлялись всеми силами этой работе человека, не пуская мертвецов в свои недра”, и, уже униженные побежденные, обещали “ничего не забывать, ‹…› ждать и беречь тайну”. “Каждый из наших близких, погибших на Колыме, – каждый из расстрелянных, забитых, обескровленных голодом – может быть еще опознан – хоть через десятки лет, – писал Шаламов. – На Колыме не было газовых печей. Трупы ждут в камне, в вечной мерзлоте”[589].
Лица мертвецов – русские, латышские, немецкие, польские, украинские, узбекские – являются свидетелями того, что Колыма представляет собой нечто большее, чем просто камень и лед, играющие на руку забвению. Могилы Колымы, находящиеся на расстоянии по крайней мере десяти тысяч километров от шумных европейских столиц, тем не менее являются частью истории Европы, таким же реальным продуктом ее культуры, как Версальский дворец. Это необходимое напоминание, потому что история советских репрессий до сих пор находится за пределами понимания. Этой истории трудно смотреть в лицо без страха, она отпугивает исследователей, и в этом советский террор похож на все другие подобные злодеяния. Однако его исследование и осознание сопряжены с дополнительными трудностями. Политические убийства советского периода были совершены вне поля зрения Европы. Прежде чем погибнуть, жертвы советского террора обычно достигали самого дна человеческого существования, отверженные всеми, подобно самым жалким, презренным рабам, и бросали упрек свободе, повседневным правилам поведения, винили в своей судьбе тот комфортный мир, из которого они были родом. А самое главное – в течение почти полувека их судьбы были плотно окутаны серой оберткой идеологии. Их жизни и смерти были разменной монетой в идеологическом противостоянии времен холодной войны.
Зловещая история сталинских расстрельных подвалов, лагерей и тюрем не могла быть написана в самой России до тех пор, пока не рухнула советская власть. Но даже на Западе, в тех странах, где историки могли бы, по крайней мере, подступиться к этой теме, их оценки зачастую несли на себе груз политических соображений эпохи холодной войны. Противники государственного социализма в целом и советской системы в частности преувеличивали масштаб преступлений тоталитарного режима (как будто без подобных преувеличений эти преступления были бы менее реальными)[590]. Некоторые же утверждали, что “перегибы” и массовое уничтожение людей следует и вовсе вынести за скобки[591]. И те и другие были ограничены в своих суждениях повсеместным отсутствием достоверного и надежного фактического материала. Таким образом, попытки постичь смысл произошедшего так всерьез нигде и не были предприняты, особенно в стране наследников сталинизма. Кости замученных все еще покоятся в ямах и рвах, и хотя некоторые из них были эксгумированы, посчитаны, сфотографированы и маркированы, остается отыскать еще миллионы – миллионы! – скелетов.
Как всегда, когда речь идет о статистике советских потерь, точное количество жертв до сих пор вызывает споры. Неизвестно даже число заключенных самого ГУЛАГа: оценки количества узников лагерей в предвоенные годы (1937–1941) варьируются от 2 до 15 миллионов человек (более вероятна цифра, близкая к нижней границе этой вилки)[592]. Сегодня доступна некоторая часть официальной статистики органов госбезопасности, но даже она кажется неполной[593]. Еще остаются ненайденные братские могилы на территории Украины, России, Беларуси, Сибири, относящиеся к 1937 году или к более позднему периоду. Количество скелетов, обнаруженных в тех захоронениях, что были вскрыты, до сих пор шокирует специалистов, которые проводили раскопки. По оценкам правозащитного общества “Мемориал”, в одной только братской могиле в украинской части Буковины может находиться до 200 тысяч, а в ямах Бутовского полигона под Москвой, вероятно, было зарыто 100 тысяч расстрелянных[594].
Неосталинисты до сих пор утверждают, что большинство останков принадлежит советским жертвам немецкой армии, то есть убийства были делом рук вражеских иностранных солдат. Бывает, что сторонники этой точки зрения оказываются правы – и сегодня земля скрывает останки тысяч и тысяч жертв войны, которые до сих пор не найдены, – но правы они далеко не всегда. Многие захоронения появились еще до 1941 года и до вторжения Германии в СССР: в некоторых могильниках более позднего времени – кости жертв сталинских карательных органов, и пули в черепах лежащих в них останков были выпущены не из немецкого оружия. Холодная война окончена, и манипуляция цифрами как суррогатом идеологических аргументов в международной конфронтации между правыми и левыми, к счастью, уже изжила себя. Однако разногласия и полемика внутри России по-прежнему затрудняют понимание истории советского политического насилия.
Числа имеют большое значение. Важно понимать, был ли это каждый десятый или каждый двадцатый из числа взрослого советского населения, кому довелось отбыть срок в лагерях и тюрьмах, важно понимать, сколько людей не вернулось домой: каждый шестой или каждый седьмой? Однако числа сохраняют некоторую дистанцию по отношению к той боли, которую они воплощают. Какими бы ужасными они ни были, они редко доносят до нас образы конкретных людей, реальность выживания, премудрости, хитрости и надежды, украденные корки хлеба, серое бремя депрессии. Когда же мы отваживаемся подумать обо всем этом, самым сложным в нашем отношении к ГУЛАГу оказывается попытка – и тогда, и сейчас – представить масштаб произошедшего, не упустив из виду единичность, уникальность отдельной человеческой жизни, тем самым победив угрозу полного уничтожения, которую сулит система советского террора. Один из выживших сказал мне: “Мы научились – они нас научили, – что мы ничто”. Он сжал кулак. В его комнатушке было холодно, но он весь покрылся потом и повторил: “Вы ничто. Вы сдохнете здесь. Вы пыль”.
Решить проблему этой анонимности, обезличенности можно, в частности, разговаривая с теми, кто помнит своих родителей, спутников жизни, друзей и надежных наставников. Многие жертвы Сталина были видными фигурами, чья известность и значительность перешагнула границы их родины, однако для наших целей важно заглянуть за внешний фасад их репутаций. “Он был мудрым человеком, великим христианином”, – рассказывала мне Магдалена Алексеевна о своем деде, уважаемом церковном деятеле, принадлежавшем к священноначалию Православной церкви в Киеве в 1920-е годы, друге Михаила Булгакова. Но ее настоящие воспоминания о дедушке, воспоминания пятилетней девочки, носят куда более личный характер. “Мы всегда были очень счастливы, когда могли после церкви побегать вокруг, чтобы поискать дедушку. У него всегда были такие теплые руки, даже в самый холод”, – говорит она. Этот большой человек позволял обоим внуками забираться внутрь своей огромной темной шубы. Смеялся, когда дети играли с ее рукавами. Казалось, на его лице всегда была улыбка. По рассказам очевидцев, вера и чувство юмора не оставили его даже тогда, когда после ареста ледяной арктической зимой он страдал от оказавшегося смертельным кашля[595].
Некоторые эпизоды, которые всплывают в памяти, овеяны умиротворением и покоем. “Я была его единственным ребенком, единственной дочерью, – говорит Юдифь Борисовна, дочь чекиста, которого уже давно нет в живых. – Он меня, конечно, безумно любил”. Это было шестьдесят лет назад. Она странным образом примирилась с образом отца. Она знает, что сделала все, что только было в ее силах, чтобы найти его после того, как он исчез. Двадцатилетняя девушка требовала от властей ответа, стучала во все двери, терпеливо выстаивала в очередях и даже когда ее саму арестовали, не желала сдаваться. Других преследовали образы исчезнувших родственников, и они мучились чувством вины. Одна из выживших вздрагивает от тяжелого воспоминания: “Я знала, в какой день они его расстреляли, потому что он явился ко мне во сне и все рассказал. ‹…› Мне было совсем худо”.
Эти истории помогают сопротивляться анонимности больших чисел, но частный характер этих рассказов ставит перед нами другие проблемы. Схожие трудности возникают, когда читаешь воспоминания бывших узников о тюремном заключении или ссылке. У каждого из них когда-то был тюремный номер, и большинство до сих пор может наизусть воспроизвести сжатый, стандартизированный цифровой код судьбы – номер статьи и срок: статья 58, контрреволюционная агитация, десять лет[596]. Однако рассказанные истории – истории выживших, истории спасения, а не бесчувственности и поражения – описывают особый жребий (эти люди часто говорят о судьбе), выпавший на долю рассказчиков, а возможно, их удачливость и везение. Нечасто сквозь эти индивидуальные истории проступает ощущение совместности, коллективного опыта. “Горе недостаточно остро и глубоко, если можно разделить его с друзьями”, – писал Шаламов[597].
Я решила взять интервью у нескольких выживших, которые согласились поговорить со мной группами из четырех-пяти человек, именно для того, чтобы обнаружить следы более общей, коллективной памяти, чтобы нащупать чувство солидарности, товарищества, взращенного в лагерных условиях. Как это обычно и бывает, первая же наша встреча оказалась наиболее показательной, потому что все пошло не так. В группе было пятеро выживших, они собрались в феврале 1997 года в московском отделении Всероссийского центра изучения общественного мнения[598]. Всех этих людей объединяло только то, что все они пережили арест. Рядом со мной сидела Надежда Ивановна. Она говорила о себе как о представительнице третьего поколения репрессированных. “Один из моих дедов был расстрелян в 1920-е годы, – объяснила она, – а второй, которого обвиняли в том, что он был буржуазным националистом, в 1929-м. Моего отца расстреляли в 1937-м, а в 1938-м арестовали мою мать. Меня саму арестовали в 1943 году после немецкой оккупации, и я получила пятнадцать лет строгого режима по статье 54, пункт 1a [Уголовного кодекса УССР, аналога печально известной 58-й статьи о контрреволюционных преступлениях УК РСФСР]”. Надежда Ивановна отбывала наказание в Воркуте, к северу от Уральского хребта. Юдифь Борисовна, которую арестовали в 1937 году, большую часть срока провела в Ивделе, почти на 1300 километров южнее. Напротив них за столом сидели два бывших солдата: Борис Леонидович, ветеран войны, прошедший Сталинград, Курск и дошедший до Берлина, которого арестовали в 1949 году, и Кирилл Моисеевич, родившийся в румынской Бессарабии, коммунист, заветной мечтой которого в молодости было организовать социалистическую революцию.
Самым молодым участником группы был Кузьма Гаврилович, которого арестовали в 1941 году в его родном Куйбышеве: “Это случилось, когда в Куйбышев эвакуировалось правительство. Они тогда всех мели, правых и виноватых, без разбору… Может, вы жаловались на хлебные очереди, может, сболтнули чего-нибудь, я уже половину забыл… Мне дали всего пять лет… Один из ребят объяснил мне, почему они так сделали. «Пять лет дают тем, кто вообще ни в чем не виноват, только чтобы не отпускать. В этих органах людей просто так на улицу не отпускают»”. Кузьма Гаврилович работал на Байкало-Амурской магистрали, за 57-м километром. Зимой 1942 года он и его товарищи мерзли и голодали. Вши, которыми все они были заражены, распространяли по лагерю тиф. “Нас было около пятисот человек, за шесть недель три четверти из них умерли. Меня тиф тоже не пощадил, я провалился в такой бред, но, наверное, молодое тело лучше сопротивляется болезни… Я выжил”, – рассказывает он.
Каждый из участников группы рассказывал о своей ссылке по-своему. Все они сегодня убеждены, что обязаны своей жизнью судьбе, “особой звезде” – коммунистической, религиозной, солдатской, по-юношески оптимистической, даже немного нахальной и молодецкой (ведь вспоминают они о своей далекой юности) или просто счастливой. Юдифь Борисовна настаивает: “Все до сих пор именно так, в моем районе нас таких около тысячи, и мы все разные. Некоторые плачут даже сейчас, все время страдают, рыдают, а другие держат себя в руках, они выстроили себе какую-никакую жизнь, получили образование. Они вернулись к делам. Все зависит от человека, от состояния души”.
Я хотела, чтобы группа обсудила и сравнила то, что им довелось увидеть. Хотела свести воедино две крайности истории ГУЛАГа – огромные цифры и отдельных людей, общий масштаб произошедшего и частные рассказы. Но именно это до сих пор представляет самую большую трудность для уцелевших. Полувековое общественное молчание, окружавшее эту тему, оставило их без общих базовых представлений, которые требуются для того, чтобы задать рамки публичному обсуждению, без структуры и отправных точек, которые могли бы сделать подобное обсуждение безопасным. Я надеялась, что, разговаривая с группой, смогу подтолкнуть ее участников к совместным воспоминаниям. Однако со строго исторической, фактологической точки зрения, уровень дискуссии и даже просто разговора меня разочаровал. Для меня эта встреча также стала примером одной из загадок ментальности советских лагерей, по крайней мере в той степени, в которой она проступает в воспоминаниях, – чудовищной изоляции и атомизированности.
Позднее Кузьма Гаврилович мне объяснил: “Бесполезно делать это так, как это делаете вы. Каждый просто хочет рассказать свою историю”. Надежда Ивановна с ним согласилась: “Вы можете поместить нас в такую комнату, но вы получите монологи. Мы не хотим слушать друг друга. Мы хотим только рассказать свою собственную историю”. Я прекрасно понимала, что она имеет в виду. К тому времени я уже успела выслушать большое количество свидетельств. Обычно, за очень редким исключением, человек выдавал их почти без пауз, и длились эти рассказы часами. Рассказывание историй до сих пор является одной из сильных сторон русской культуры. Здесь каждый умеет держать внимание аудитории, а слушатели терпеливы и готовы к подобного рода развлечению. Но то, с чем я столкнулась, не было обычной кухонной болтовней. В особых случаях рассказчики входили в своего рода транс, переставая обращать внимание на тех, кто перебивал их, не замечая течения времени. Когда это случалось, когда говорящий растворялся в своем воображаемом прошлом, было бесполезно покашливать, задавать вопросы или поглядывать на часы. Если я не успевала на ужин или на последний поезд, меня утешало сознание того, что эти монологи сами по себе были доказательством, частью полной картины, которую не описать лишь словами, частью наследия репрессий, молчания, вины и лжи.
Некоторые монологи специально использовались для того, чтобы отмахнуться от вопросов, не подпустить к себе, выговорить время. “Если вы будете просто слушать, я вам расскажу, как это было”. За этим обычно следовали куски из Солженицына, пересказ слухов, цитаты из Откровения Иоанна Богослова. Но длинные монологи строились не только на стремлении увернуться, уклониться от расспросов. Даже находчивая, быстро реагирующая на все Юдифь Борисовна подала значительные куски своей истории в уже сложившейся, зафиксированной, заранее подготовленной форме. Она любезно позволила мне взять у нее интервью дважды: один раз наедине, в ее маленькой комнате в окружении ее фотографий, а во второй раз в той самой группе ровесников, русскоязычных соотечественников. В обоих интервью для описания некоторых эпизодов своей жизни она пользовалась в точности одними и теми же словами и фразами. Даже продолжительность рассказов совпала, несмотря на то что во второй раз формат беседы предполагал не интервью, а дискуссию. В других культурах пожилые люди тоже повторяют свои истории, но редко с той же степенью дословности. Огромное значение имеет то обстоятельство, что люди провели всю свою жизнь, не имея возможности сравнить или поместить свой опыт в коллективный, собирательный контекст, рассказывая свою историю только ближайшим друзьям (а иногда даже им не рассказывая), не перенастраивая фокус в тех картинах, что стоят у них перед глазами. Не менее важную роль играет и тот факт, что у них никогда не было возможности научиться слушать.
Можно обнаружить некоторое сходство между этими устными монологами и письменными свидетельствами, которые начиная с 1980-х годов “упаковывались” в сыром, необработанном виде в антологии и публиковались организациями бывших узников ГУЛАГа. Книги обещают читателями рассказать “подлинные истории”, “как все было на самом деле”, но и это тоже симптом затянувшегося молчания. Пригодный для использования историками материал возникает из соперничества различных форм коллективной памяти, причем это происходит спустя значительное время после того, как выходят на поверхность личное потрясение, шок, оторопь и ощущение собственной исключительности, которые теперь можно разделить с другими. Этот процесс строится на согласовании, переговорах, перекрестной проверке и документах. Пятьдесят лет цензуры задержали начало всех этих процессов в России. Здесь еще только формируются общепринятые структуры гражданского общества, которые способствуют построению памяти – объединения бывших узников, благотворительные организации, образовательные фонды.
Тем не менее эти элементы гражданского общества возникают не в вакууме. Жизнь бывшего узника в любом советском городе редко проходила в изоляции. Пусть не существовало групп и объединений, в которых участники могли бы совместно вспоминать пережитые ими несправедливости и притеснения, но были другие организации, в которые людей принуждали вступать. Социальные стимулы были очевидны: общественное признания и приятие, дружеские отношения и повышенное ощущение собственной значимости, – но были и материальные стимулы. Любой член организации, которую решило поддержать государство, – будь то партия, комсомол, исключительно важные советы ветеранов Великой Отечественной войны или даже группы более скромных размеров, объединенные реальным энтузиазмом их членов (например, общества, пропагандировавшие личную гигиену, отказ от алкоголя, бег, кролиководство – ради мяса, речь все-таки не об Англии! – или международную дружбу) – мог рассчитывать на отпуск в престижном месте, квартиру побольше, более легкое продвижение по службе, а иногда и банку импортной консервированной ветчины. Искушение принять то, что можно назвать “фальшивой коллективной памятью”, было огромным. В конце концов, в 1960-е годы возможность восстановить свое членство в партии считалась привилегией.
Таким образом, для того чтобы поведать свои истории сегодня, уцелевшие вынуждены продираться сквозь годы отлично отрепетированных, санкционированных “сверху” басен. Это утверждение справедливо не во всех случаях. Некоторые так и не приняли советские эвфемизмы и пропаганду и отказывались – и до сих пор отказываются – от любого утешения. Другие, как, например, отец Магдалены Алексеевны, тоже священник, как и ее дед, обладали очень сильной верой другого свойства, которая неизменно делала их неуязвимыми для соблазнительной силы советской коллективности. Но те, кто уступал, поддавался этой силе, не просто прятались в тени красных стягов – они хватались за них с рвением, они жаждали верить. Таким людям предстоит разобраться с сумятицей в своем сознании, распутать клубок, в котором крепко переплелись потерянная идентичность, принятие и благодарность за принадлежность советскому коллективу. Во многих случаях речь идет о подлинной вере в коммунистическую идеологию, которая вовсе не обязательно ослабела, хотя, для того чтобы признать это, требуется немалое мужество. “Я был коммунистом, да, конечно, – говорит Лев Разгон, – и я остаюсь им до сих пор”. Его собственный арест не опрокинул систему его политических взглядов, как не поколебала их и халатность, приведшая к смерти – по сути, пассивное убийство – его жены Оксаны, страдавшей от тяжелой формы диабета и умершей в теплушке по дороге в лагерь.
“Мы всегда предпочитали Троцкого, – сказала мне Юдифь Борисовна, – но мы верили в партию. Для нас не было разницы между Сталиным и партией”. Юдифь Борисовна тоже сохранила веру в коммунизм, полную смутных надежд и сожалений. Она рассказала мне личную историю о встрече с вождем. Летом 1929 года, когда ей было четырнадцать лет, буквально накануне начала кампании массовой коллективизации, они с отцом отправились на каникулы в Сочи, в санаторий ЦК. Все пошли играть в волейбол, а Юдифь потеряла свою компанию из виду и в замешательстве смотрела на мраморные ступени здания, которое, вероятно, в прежние времена было дворцом. Она вспоминает: “У меня порвалось платье. И тут он появился. Я сначала подумала, что это Буденный. Послышался голос, который спросил меня, куда я направляюсь, и это был он. Прямо рядом со мной. А я была в таком виде. Он был одет во все белое: белый костюм, белые сапоги, белая фуражка – и черные усы. В 1929 году мы не слишком много знали о Сталине”. Человек, которого Юдифь встретила на лестнице, позднее убьет ее отца. Но ее воспоминания о нем – типичные в своем противопоставлении ее никчемности (порванное платье) и его безупречной власти – остаются ослепительными, завораживающими, как будто бы сложившийся позже культ личности Сталина бросил отблеск на более ранний образ вождя. Чуть позже на той же неделе Юдифь узнает, что Сталин предоставил в ее распоряжение свой “роллс-ройс” для поездки в Сухуми.
Смятение и путаница относительно адресата своей лояльности и преданности – пускай и не всегда настолько явные, как у Юдифи Борисовны, – помогают понять, почему некоторые до сих пор находятся в плену болезненных воспоминаний, не отпускающих и мучающих их. Они не были счастливы в прошлом, но не одобряют они и то, что происходит в настоящем. Экономические проблемы, с которыми они сталкиваются, лишь усугубляют ситуацию[599]. Молодое поколение, наследники сталинизма, в общем и целом подвергают этот период критике, однако среди жертв сталинизма немало тех, кто по сей день сохраняет свою веру. Они объясняют насилие частными случаями коррумпированности, садизма и человеческой слабости, обеляя, таким образом, революцию и ее цели, ее телеологию и нетерпеливость.
Эта история и так довольно токсична, но основная альтернатива, доступная тем, кто не в состоянии найти более общего, более весомого объяснения, по-настоящему ядовита. Это может показаться абсурдным, но некоторые из тех, кому удалось выжить в разгар сталинского террора, до сих пор прикладывают огромные усилия для того, чтобы продемонстрировать свою невиновность. Для этого им требуется доказать не безумие системы в целом, но ошибку, которая была допущена в их частном, конкретном случае. Они готовят папки с документами к нашей встрече, указывают мне на статьи закона, тычут пальцем в страницы, чтобы убедиться, что их правильно поняли.
В этой ситуации поразительны два обстоятельства, и оба они безрадостны. Первое заключается в том, что многие люди до сих пор верят в свою виновность, они не в состоянии принять суть репрессивной политики, пропагандистских сообщений о пытках, показательных процессов, массовых смертей. Второе же печальное обстоятельство состоит в том, что жертвы не одиноки в этом своем убеждении. В одной только России (не говоря уже о бывших республиках Советского Союза) до сих пор остаются миллионы людей, бывших свидетелями, а не жертвами репрессий, которые убеждены в виновности пострадавших в годы террора. Те, кто выжил в тюрьмах и лагерях, и даже те, у кого есть справка о реабилитации (а это самый значительный жест, который государство согласилось сделать в качестве извинения), вынуждены постоянно доказывать свою невиновность, вновь и вновь сталкиваясь с враждебностью и скепсисом[600]. Согласно довольно распространенной точке зрения, восходящей к христианскому учению и поддерживаемой Солженицыным и людьми схожих с ним взглядов, страдание благотворно действует на русскую душу, оно – горнило духовного перерождения, путь спасения души. Тем не менее для очень многих людей страдание остается показателем вины.
В рассказе “Графит” Шаламов пишет: “Инструкция «архива № 3» – так называемый отдел учета смертей заключенных в лагере – сказала: на левую голень мертвеца должна быть привязана бирка, фанерная бирка с номером личного дела. ‹…› Казалось, к чему этот расчет на эксгумацию? На воскресение? На перенесение праха? Мало ли безымянных братских могил на Колыме – куда валили вовсе без бирок. Но инструкция есть инструкция. Теоретически говоря – все гости вечной мерзлоты бессмертны и готовы вернуться к нам, чтобы мы сняли бирки с их левых голеней, разобрались в знакомстве и родстве”[601]. Но в том-то и дело, что не готовы. Только выжившие способны рассказать о том, что произошло, и большинство из них сегодня далеко не молоды. У них не осталось сил, и они не без основания ощущают растерянность и замешательство. Да и в конце концов они – выжившие, им удалось уцелеть, избежать страшного конца. Учитывая искушение отвернуться, не смотреть в сторону прошлого или даже отрицать его, которое испытывают сегодня многие, и принимая во внимание неспособность исторической науки объяснить, что же произошло, тем, кто испытывает самую острую потребность разобраться в этом, было бы лучше, если бы обладатели бирок на левой голени могли поведать свои истории сами.
В России использование государственных процессов: арестов, допросов, судов, тюремного заключения, ссылки или даже убийства – в политических целях не было специфически сталинским или даже специфически советским явлением. Сибирские деревни издавна, задолго до того как в тайге были проложены первые железные дороги, привыкли к зрелищу прохождения ссыльных по этапу и сопровождающего их конвоя. К 1890 году, когда на Сахалин приехал Антон Павлович Чехов, холодный тихоокеанский остров уже двадцать один год был местом ссылки и каторги[602]. Большевики настаивали, что старший брат Ленина Александр был среди сотен повешенных при царизме за политические преступления.
Если говорить о государственных репрессиях, то стоит отметить, что революция принесла кратковременное затишье, однако Гражданская война развеяла надежды революционных идеалистов. В политическом пейзаже тогдашней России не было места для оппозиции. Казалось, со всех сторон у новой власти объявились миллионы врагов. Аресты и внесудебные расправы, расстрелы на месте без суда и следствия превратились в повседневные инструменты обеспечения политической безопасности и были в ходу вплоть до начала 1920-х годов. К тому времени тюремный лагерь, устроенный в бывшем Соловецком монастыре, был полон священников, политических полемистов, писателей, националистов и других заключенных из числа так называемых бывших[603]. Следующий этап, превращение Соловков в исправительно-трудовой лагерь (в противоположность тюрьме, где физический труд был частью режима содержания), начался в 1926 году[604].
Однако началом сталинских репрессий на самом деле следует считать 1929 год. Именно тогда в массовом порядке утвердилась практика доносов, арестов и террора[605]. Сложились новые формы мышления и новый общественный уклад, позволявшие приспосабливаться к этой практике, уживаться с ней. Появились субкультуры, бюрократические правила и общественные мифы, помогавшие справляться со страхом. Находились способы управлять исчезающими каждую ночь сотрудниками, жить в тени еженощных арестов, под звуки выстрелов. Другими словами, в период террора действовала не одна логика, а множество различных логик существования. Некоторые люди просто игнорировали происходящее вокруг, как в свое время миллионы других (это не всегда были одни и те же люди) игнорировали реальность бушевавшего голода. Другие, не задумываясь и не рассуждая, глотали любую пропаганду, которую предлагал им режим, и не замечали страха, овладевшего их соседями. Советская система была замкнута на самой себе: альтернативы или внешняя критика были немыслимы. Леонид Лиходеев, выросший в провинциальном украинском городке Сталино, свято верил рассказам своих учителей о политической ситуации, потому что эти рассказы подтверждались статьями в газете, которую он читал. Он понимал это так: классовые враги (включая голодающих кулаков) “были готовы на все, чтобы отравить наш оптимизм, подорвать нашу уверенность в светлом будущем”[606].
Цель террора – если вообще уместно приписывать что-то столь последовательное как цель тому, что правильнее описать как несколько частично перехлестывающихся процессов, – в конце концов и состояла в самой его избыточности, чрезмерности. Стремлению к гражданскими правам и обязанностям, этой демократической мечте 1917 года, был нанесен смертельный удар. Законность, плюрализм и политическая оппозиция были задушены. Важнейшие потребности государства – в золоте, угле, древесине, уране – удовлетворялись с помощью подневольного труда, заключенными мужчинами и женщинами, работавшими в соответствии с планом, что был утвержден их собственной пенитенциарной системой, которая и надзирала за его выполнением[607]. К концу 1930-х годов рядовым местным государственным служащим полагались карьерные преимущества за полное выполнение разнарядки по арестам, так что некоторые пытались лишний раз продемонстрировать свою преданность партии, требуя повышения нормы[608]. Все это не было исключительно вопросом государственной власти. Система поощряла глубоко укорененную практику личных доносов: любой человек мог разрушить жизнь своего соседа, бывшего соперника или чудака-эксцентрика, чье поведение было ему непонятно, и традиция эта расцвела пышным цветом[609].
Естественно, все эти разнообразные цели вступали в конфликт друг с другом, и зачастую принципиально неразрешимый. Например, не имеет смысла умышленно убивать заключенных, которых вы держите для подневольного труда, беспорядочно расстреливать их или морить голодом. Это было хорошо известно одним из первых администраторов системы ГУЛАГа, особенно Эдуарду Петровичу Берзину. Говоря о середине 1930-х годов, Шаламов упоминает “[о]тличное питание, одежду, рабочий день зимой 4–6 часов, летом – 10 часов, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока на «материк» обеспеченными людьми”[610]. Однако начиная с лета 1937 года для управления трудовыми лагерями нашлись новые люди, среди которых, в частности, был печально известный полковник Гаранин. С этого момента расстрелы без суда и следствия и систематическая халатность стали самым обычным делом[611]. В результате в стране усилилась нехватка рабочих рук, которая особенно остро ощущалась во время войны[612]. Быстрая сменяемость кадров на каждом уровне управления также не особо помогала приготовлениям к войне, начавшимся в конце 1930-х годов. В среднем с 1937 по 1938 год каждая из высших должностей в провинциальном партийном и правительственном аппарате освобождалась и занималась пять-шесть раз[613].
Хотя полномасштабный сталинский террор и обязан некоторыми своими свойствами более ранним прецедентам насилия и жестокости в российской истории, он представлял собой явление, безусловно, новое. Цифры позволяют провести очевидное различие между 1890 и 1930 годом, но, кроме того, насилие в каждый из этих исторических периодов также отличалось и целями, и охватом. Например, какие бы амбиции относительно политического контроля ни были у царской полиции, она и помыслить не могла о том, чтобы арестовывать людей тысячами каждую ночь и производить массовые расстрелы, во время которых жертвы стояли возле ям, на некоторых все еще были выходные платья, а на ногах у женщин – нарядные туфли. Царские репрессивные органы не могли себе представить, что можно депортировать целые группы населения – миллион немцев, полмиллиона чеченцев, а мысль о том, что пенитенциарная система может стать поставщиком рабочей силы, имеющей существенное экономическое значение – и здесь снова речь идет о миллионах заключенных, – показалась бы абсурдной. Однако к 1953 году целые комнаты были завалены картонными папками с подшитой в них статистикой, в которых перечислялись выполненные экономические задачи. С политической точки зрения после смерти Сталина вновь проявились внутрисистемные трения и распри, однако, несмотря на это, монополия партии на власть в течение последующих трех десятилетий не будет всерьез оспорена. Славой Жижек в “Чуме фантазий” пишет: “В 1930–1940 годы – если приводить самый радикальный пример – в Советском Союзе было не только запрещено критиковать Сталина, скорее, под еще большим запретом была возможность заявить о самом существовании этого запрета: заявить публично, что Сталина запрещено критиковать”[614].
В истории России было много эпизодов жестокости, и у сталинского террора были прецеденты, повлиявшие на него. Заметную роль сыграли традиции самого большевизма. Те, кто в конечном счете потерял больше, чем все остальные, партийные активисты и элита, потерпели поражение, пытаясь остановить этот процесс. На любом этапе, будь то 1919 или 1920 год, когда начались первые политические аресты, или 1921 год, когда были запрещены любые фракции внутри партии[615], или 1927 год, когда Троцкий и его последователи были объявлены вне закона и высланы из страны, среди большевиков можно было бы ожидать более активного протеста и дискуссии. Однако даже самые видные большевики из числа бывших соратников Ленина бездействовали. Вместо этого они пользовались набирающим обороты механизмом политической изоляции и отстранения для того, чтобы расправиться со своими собственными врагами. Они пользовались даже – то есть они думали, что пользуются, – скучным, недалеким, неутомимым, косноязычным грузином Сталиным. Анжелика Балабанова писала, что дуэль между Троцким и Зиновьевым “была экспериментом, стоившим каждому из них жизни. Оба погибли от одного и того же оружия. Это было оружие, которое каждый из них ничтоже сумняшеся использовал против других”[616]. Большевики никогда не были терпимы к оппозиции в своих рядах. На протяжении 1920-х годов с неизменного благословения тех, кто сохранял власть, они все более и более жестоко расправлялись со всеми, кто громко и откровенно высказывал свое несогласие.
Все то же самое, хотя и в куда более завуалированной форме, происходило и с советскими интеллектуалами. Неуклонно сжималось пространство разрешенной критики, и всегда можно было найти очевидную причину, почему следовало молчать. Для многих художников в Советском Союзе революция не потеряла своей привлекательности и все еще служила путеводной звездой, а частные сложности, с которыми сталкивались отдельные люди, считались делом временным, всего лишь ошибкой, недочетом. Надежда Мандельштам писала: “В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно, это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, отнюдь не простой пассивный акт. Советские люди достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагающе действовало на всю их душевную структуру”[617].
Дорога, приведшая к массовому террору, была извилистой. Первый этап, с 1929 по 1932 год, был связан с бурными кампаниями массовой коллективизации и быстрой индустриализации. Аресты и поиск козлов отпущения служили подручными средствами в отчаянных ситуациях, когда нужно было подавить любую возможность вооруженного сопротивления и вернуть себе контроль над экономической и социальной катастрофой. Местные чиновники уже научились быть осмотрительными в своих жалобах, адресованных в Москву, однако некоторые свидетели происходившего, оказавшиеся в безнадежном положении, подобной осмотрительностью не отличались. В некоторых регионах страны практически царила анархия, и даже в Москве среди управленческой элиты находились деятели, которые оказались не способны закрыть глаза на происходящее.
Одним из таких видных управленцев был Мартемьян Никитич Рютин. Его критические замечания оказались слишком точны, чтобы быть опубликованными, но выражали все то, о чем многие из его провинциальных коллег втайне думали. В 1930-м, а затем и в 1932 году Рютин предупреждал о грядущей катастрофе. Он критиковал форсированные темпы индустриализации, считая ее “авантюризмом”, и обрушивался на “авантюристскую коллективизацию”, проводившуюся “с помощью невероятных насилий, террора, раскулачивания, направленного фактически против середняцких и бедняцких масс деревни и, наконец, экспроприация деревни путем всякого рода поборов и насильственных заготовок”[618]. Кроме того, Рютин открыто настаивал на персональной ответственности Сталина за тяжелейшее положение в стране и партии: “С помощью обмана, клеветы и одурачивания партийных лиц, с помощью невероятных насилий и террора, под флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и единства партии, опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Сталин за последние пять лет отсек и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, стал на путь самого необузданного авантюризма и дикого личного произвола и поставил Советский Союз на край пропасти. ‹…› Ни один самый смелый и гениальный провокатор для гибели пролетарской диктатуры, для дискредитации ленинизма не мог бы придумать ничего лучшего, чем руководство Сталина и его клики”[619].
Худшие годы голода были еще впереди, но вывод, к которому приходил Рютин, не оставлял места для двусмысленности: “Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его кликой заведены в невиданный тупик и переживают смертельно опасный кризис”[620]. Соображения, подобные рютинским, шепотом передавались в кругу тех, кто был уверен, что грядет крах их цивилизации[621]. Однако для переживавшего кризис руководства страны недовольство, высказанное даже шепотом, было абсолютно неприемлемо. С 1931 по 1932 год ГПУ произвело тысячи арестов, особенно много их было в регионах. Пройдет несколько лет, прежде чем расстрелы и выбитые признательные показания станут уделом самой партийной элиты. Пока же Политбюро еще не задалось целью физически уничтожить своих внутренних критиков. Рютин был арестован и “разоблачен”, но какое-то время его соратники противились попыткам вождя вынести ему смертный приговор[622].
Пока маховик репрессий еще не затронул элиту (хотя бывшие оппозиционеры Зиновьев и Каменев подвергались бесконечным преследованиям, их арестовывали, снова отпускали, обличали и поносили), местные руководители и столичные управленцы уже стали мишенями для официальных расследований и нападок. Годы “революции сверху” увидели несколько резонансных судебных процессов с участием высокопоставленных деятелей. Так называемое Дело Промпартии (25 ноября – 7 декабря 1930 года) – судебный процесс над группой инженеров, ученых и других представителей научно-технической интеллигенции, обвиненных в шпионаже, вредительстве и диверсионной работе – и процесс над якобы существовавшим “Союзным бюро ЦК меньшевиков” (1–9 марта 1931 года) – очередные обвинения в шпионаже и заговорах – представляли собой новый тип псевдоправового фарса с его непременными атрибутами. Прокурор восседал за полированным столом, а на скамье подсудимых ждали неотвратимого ряды сломленных, раздавленных людей. За дверями зала суда собирались разгневанные толпы, и обвинение всегда могло рассчитывать на присутствие “доброхотов”, которые, пусть и не совсем стихийно, были готовы начать выкрикивать призывы приговорить предателей к высшей мере наказания. Прокурору оставалось только с готовностью выполнить свой революционный долг[623].
Вплоть до 1936 года политическая бдительность была прерогативой наследников ЧК – ОГПУ. Это была организация, среди членов которой еще наблюдались те, кто сохранял остатки так называемой пролетарской морали. В начале 1930-х некоторые партийные активисты по-прежнему считали целесообразным писать жалобы на случаи превышения полномочий или злоупотреблений среди сотрудников ОГПУ. Пройдет пять лет – и от подобного рода обращений к организации, которая придет на смену ОГПУ, благоразумнее станет воздерживаться. Тем не менее начиная с декабря 1934 года два обстоятельства изменят бюрократический процесс применения террора. Первое из них – предложение от 10 июля 1934 года о преобразовании ОГПУ СССР, которое Сталин теперь считал слишком слабым, в Главное управление государственной безопасности НКВД СССР, которое сначала возглавил Генрих Ягода, а через два года его сменил Николай Ежов. Второе обстоятельство, на некоторое время задержавшее реализацию этого постановления, – убийство популярного члена Политбюро Сергея Мироновича Кирова, произошедшее 1 декабря 1934 года в Ленинграде.
За убийством Кирова, которое вполне могло быть делом рук самого Сталина, последовала свирепая репрессивная кампания, включавшая помимо прочего массовые аресты в самом Ленинграде. Эта кампания также стала предлогом для качественного сдвига в государственной политике – окончательного одобрения внесудебных казней в качестве наказания за терроризм. Эта мера применялась, даже если подозреваемый был бывшим соратником Ленина. Ежов, чья бдительность и преданность не вызывали сомнений, по крайней мере у самого Сталина, получил расширенные полномочия и возможность вести расследования в отношении бывших оппозиционеров. Он утверждал, что ему удалось раскрыть целю серию “контрреволюционных блоков”, зиновьевцев и троцкистов, действовавших заодно с правыми уклонистами, бухаринцами, белогвардейцами и шпионами. Когда в 1936 году Ежов возглавил, наконец, Народный комиссариат внутренних дел СССР, дело против Зиновьева и Каменева было готово. Тогда же начался новый виток арестов и допросов. Зимой 1936–1937 годов чистка была произведена в рядах самого НКВД[624].
С 1936 года нить исторического повествования начинает расползаться, а его рациональная составляющая становится все более туманной. История советского террора столь противоречива, что не всегда можно точно ответить на вопрос о том, какие именно цели и задачи он преследовал на том или ином этапе. “Авторство” Сталина, включающее сам факт наличия его подписи на тысячах смертных приговоров, больше не вызывает никаких сомнений, как не вызывает сомнений персональная ответственность Ежова. Практически поголовное истребление наиболее видных представителей ленинской элиты было частью систематической политики, и, с точки зрения Сталина, оно ознаменовало решающий этап в давно вынашиваемом им стремлении к неоспоримому единоличному верховенству. Именно с этим стремлением Сталина подчас были связаны аресты “вредителей”, “шпионов”, “врагов”, “диверсантов” и “террористов” на местах, хотя иногда они казались зловеще логичными и в контексте существовавших социальных и экономических обстоятельств. Но так же верно и то, что отдельные проявления этого разворачивающегося на глазах массового явления не всегда находились под чьим бы то ни было контролем. Среди наиболее вероятных объяснений хаоса, которым сопровождался террор, стоит упомянуть социальные и административные перемещения, личные счеты и конфликты, тлеющие годами, утомительную в своей бесконечности текучку бюрократических кадров, а также противоположные краткосрочные практические цели различных бюрократических органов[625].
Однако детали, которые могли показаться случайными и которые на самом деле нередко были незапланированными, отнюдь не всегда были бессмысленными. Некоторые процессы широко освещались, например показательные политические судебные процессы – так называемые Московские процессы, первый из которых, суд над Каменевым и Зиновьевым, состоялся в августе 1936 года. Другие происходили при практически полной секретности, по ночам, узников привозили в закрытых грузовиках. Эти грузовики – печально знаменитые “черные воронки” – были иногда закамуфлированы нанесенными на борт надписями “Мясо”. Однако в общем и целом основное воздействие этих процессов было логичным и последовательным. Иными словами, какие бы планы ни вынашивали различные проводники репрессий, к каким бы методам ни прибегали, кумулятивный эффект от их работы, с точки зрения жертвы, был последователен и един. Его идейное содержание было простым, и его отлично передают приведенные выше слова бывшего заключенного: “Вы ничто, вы пыль”.
Британские и североамериканские историки недавно показали, что чистки 1930-х годов коснулись лишь ограниченного числа социальных групп[626]. “Он же не член партии, не еврей, почему его арестовали?” – обычно таким вопросом задавались ленинградские рабочие в то время[627]. Чистки играли на популярном представлении о “нас” и “них”, о верхушке и элите, противопоставленной массам[628]. Казалось, что больше вероятность быть расстрелянным была у представителей элиты. Все остальные “мы” могли продолжать жить, закрывая глаза на происходящее, беспокоясь лишь о том, где бы достать хлеба и проворачивая махинации, позволяющие разжиться дополнительными пятью метрами жилого пространства. Откровенно говоря, Большой террор 1937–1938 годов подтвердил эту точку зрения. Его самыми заметными жертвами стали политические активисты, большая часть которых была большевиками, экономическими и гражданскими управленцами (к концу 1930-х почти все они также были членами партии), служащими вооруженных сил (и снова члены партии пострадали больше других), и в меньшей степени, интеллектуалами различного толка, верующими, художниками, писателями и поэтами[629].
В силу этого “классового самосознания” простые люди иногда сторонились пропагандистской охоты за ведьмами и избегали радионовостей. Им хватало собственных забот. Показательные процессы могли казаться прекрасным публичным зрелищем, бесконечно освещаемым в каждой газете и транслируемым из каждого уличного громкоговорителя. Но если считать их образцом того, что один историк определил термином “правосудие как театр”, то следует признать, что, по крайней мере, некоторая часть потенциальных зрителей, на которых этот театр, очевидно, был рассчитан, не обратила на него никакого внимания[630]. Сара Дэвис в своей книге “Общественное мнение в сталинской России, 1934–1941” приводит разговор с группой ленинградских рабочих, которых спросили о процессе над так называемым “Параллельным антисоветским троцкистским центром”: “Да мы полы моем, нас это не касается”[631]. Но все дело в том, что это действительно было неважно. Неважно, что судебный ритуал никогда не был частью повседневной жизни, что источающий яд государственный обвинитель описывал неправдоподобные вещи. Угрозы и смысловое содержание этих процессов были достаточно прозрачны для любого, кто с некоторой долей вероятности мог стать их жертвой. До определенного момента незнание было своего рода роскошью. Пожалуй, склонность к размежеванию, к диссоциации лишь усугубляла шок, когда знание о происходящем насильственно входило в жизни людей.
Юдифь Борисовна уверяет, что вплоть до ареста отца 22 января 1937 года она очень мало знала о терроре. Если это правда, то это означает, что даже представители элиты могли закрывать глаза и уши до тех пор, пока репрессивные органы насильно не заставляли их смотреть и слушать. Конечно, она не могла не знать о процессе над Каменевым и Зиновьевым, и, будучи комсомолкой, она, должно быть, в некотором смысле принимала его. Но она не понимала в то время, что процесс, запущенный в стране, был куда шире и масштабнее, чем можно было себе представить, и что даже “хорошие люди” вроде нее были уязвимы. “Некоторые скажут вам, что все время знали обо всем, – говорит она, – знали всю правду о Сталине, но я им не верю”. Ее отец на момент ареста жил в Туле, которая до 1937 года входила в Московскую область, а сама Юдифь была студенткой третьего курса в Москве, изучала химию. В ее оптимистической, кипучей, привилегированной, до краев наполненной делами жизни не было места для депрессивных и потенциально подрывных слухов. “Мы вообще ничего не знали, мы не знали, что забирают людей”, – утверждает она.
Иногда Сталин требовал, чтобы о подробностях свершившейся казни сообщали публично, но большевики не возводили эшафоты на рыночных площадях. И отсутствие информации было не роскошью, а пыткой. В 1937 и 1938 годах семьям казненных узников обычно сообщали, что их родные приговорены “к десяти годам ИТЛ (исправительно-трудового лагеря) без права переписки”. Эта жестокая фраза оставляла уцелевших наедине с их надеждами, лишая того, что могло стать фокусом, сосредоточием их боли, горя и ярости. Женщины собирались под стенами тюрьмы, тревожно ловя любые новости. Они умоляли, чтобы у них приняли передачи для родных. В некоторых регионах они ходили на лесопилки, чтобы проверить каждую свежую партию привезенной древесины, потому что иногда заключенный мог нацарапать на коре свои инициалы или послание.
Эта пытка могла длиться годами. Когда чей-то мнимый десятилетний срок подходил к концу, матери, жены и дети начинали строить планы. Вдове писателя Исаака Бабеля в 1947 году сказали, что ее муж все еще жив. Она приготовила к его возвращению его комнату и с любовью отремонтировала квартиру. Шли годы, он все никак не возвращался, и наконец, в 1955 году ей сообщили, что он умер 17 марта 1941 года, отбывая срок. Но и это было тщательно продуманной ложью. На самом деле Бабеля расстреляли еще в январе 1940 года[632].
Должно быть, для тех, у кого за плечами осталась публичная карьера, сама мысль о казни была еще тяжелей от того, что казнь эта должна была быть проведена в тайне. Вскоре сам факт ее оброс внушительным сонмом мифов, по крайней мере среди потенциальных жертв, самых важных их адресатов. В культуре, позволявшей слухам циркулировать, но не позволявшей им сливаться и разрастаться, выбор очевидным образом пал на убийства тайком. Это вполне соответствовало духу режима, основной идейный посыл которого заключался в том, что без государства человеческая жизнь гроша ломаного не стоит. Угроза случайного, обыденного исчезновения и сопутствующий страх пытки могли надломить целостность морально-нравственных принципов, которых придерживался человек, его базовое достоинство, могли практически любого заставить схватиться, говоря фигурально, за красный стяг, поставить свою подпись под признательными показаниями, сочинить прославляющие вождя вирши. В конце концов, публичные казни передают некоторое ощущение человеческой драмы, и всегда сохраняется возможность, что жертва встретится взглядом с человеком из толпы или даже со своим палачом, и все это в присутствии множества зевак[633]. Даже с повязкой на глазах жертва, пока еще жива, остается человеком, мужчиной или женщиной. Подпольные расстрелы, при которых заключенных убивают в подвалах или посреди поля, превращают людей в ничто, раз их жизни даже не заслуживают того, чтобы их отнимали публично.
Тот факт, что среднестатистического новобранца в органах в основном интересовали его текущие обязанности, лишь подчеркивает этот тезис. У палачей не было времени задумываться над симоволической стороной своих действий. Они просто выполняли приказы, как и все. Сотрудник НКВД позднее рассказал Льву Разгону о том, чем ему запомнилась работа на “спецобъекте” в Восточной Сибири. Узников держали здесь два-три дня, а потом отвозили за сопку, к выкопанной яме, которая их уже ожидала:
Мы кричим – выходи! становись! – они вылезают, а перед ними уже яма выкопанная. Они вылезут, жмутся, а мы сразу по ним из автоматов. – Молчали? – Кто молчит, а кто начинает кричать, вот мы-де коммунисты, погибаем безвинно и прочее такое. А женщины только плачут и жмутся друг к дружке. Так ведь мы их сразу же… ‹…› Постреляем, кто шевелится – добьем и в машины. А в стороне уже ждет дальлаговская бригада. – Что это за бригада? – А у нас в особой зоне жила бригада уркаганов из Дальлага. Они обслугой были, и потом их дело было ямы рыть и закапывать. Вот мы уедем, а они пошвыряют в ямы, закопают, выроют яму на завтрашний день. Урок у них кончен – в зону. Им зачеты шли и кормили их хорошо, да и работа не пыльная – не лес валить. – А ты? – А мы приедем в лагерь, сдаем в караулке оружие, выпиваем, значит, бесплатно, сколько хотим. ‹…› [С]хожу в столовую, поем горячего и в казарму спать. – А хорошо спал? Ну не страшно тебе было? – Чего страшно-то? – Ну, что убил только что людей. Не жалко их было? – Нет, не жалко. Не думал об этом. Спал хорошо, днем погуляешь, места там красивые есть. Скучновато, конечно, баб нет[634].Когда дело касалось реальных казней (в противовес медленному умиранию в лагерях), то обычно в ход шла пуля в затылок. Считается, что в 1930-е годы около полумиллиона человек было расстреляно таким способом[635]. Это было промышленное убийство: скорое, относительно бескровное, относительно чистое – и убийце не нужно было встречаться взглядом со своей жертвой. В экспериментальном порядке применялись и другие методы. Один из энкавэдэшников, Исай Давыдович Берг, использовал выхлопной газ, запущенный в герметичный кузов специально оборудованного грузовика, для умерщвления заключенных партиями[636]. Затем тела отвозили на Бутовский полигон и складывали в траншеи, которые зачастую были выкопаны другими жертвами, которые сами уже покоились в этих братских могилах. С этой работой можно было справиться за ночь, совершив лишь одну поездку из центра города на окраину.
Места захоронений, как и способы казни, держались в секрете, но не были тайной, они были скрыты, но вместе с тем хорошо известны. Для московских чекистов наиболее надежными местами для расстрелов и захоронений жертв были Бутово и Коммунарка, расположенные в нескольких километрах к югу от города. На расстрельном полигоне Коммунарки покоится тело Бухарина, а тела Каменева и Зиновьева, как и Бабеля, зарыты в общих могилах на Донском кладбище. Ленинградские чекисты создали свое, не менее “престижное” место расстрелов – Левашовскую пустошь примерно в часе езды от Финляндского вокзала[637]. К лету 1937 года на окраине каждого крупного города возникли зловещие земляные сооружения. Эти места были защищены от посторонних, обнесены высокими заборами (а позднее – и кольцом домов, предназначенных для заслуживших доверие сотрудников органов). Звук выстрелов маскировался, по крайней мере в Бутово, обычаем проводить на этом полигоне настоящие тренировочное стрельбы в светлое время суток. Однако НКВД использовал в своих целях не только полигоны и пригородные поселки, но и публичные пространства. В Москве расстрелянных хоронили на территории кладбища Донского монастыря, а также на перенаселенных и часто посещаемых Калитниковском и Ваганьковском кладбищах. В Ленинграде Преображенское кладбище, где покоились жертвы Кровавого воскресенья, вновь стало использоваться для массовых захоронений, и та же участь постигла Богословское кладбище, расположенном чуть ближе к центру города[638].
В процесс уничтожения были вовлечены и те, кто не был надежным сотрудником органов. Когда невозможно было использовать для рытья могил самих заключенных, НКВД нанимал для этой работы малоквалифицированных рабочих, многие из которых практически не получали никакого вознаграждения за свой труд, за исключением разрешения на легальное проживание в Москве, Ленинграде или Киеве[639]. Сотрудники нового московского крематория также были обязаны по ночам принимать “грузы” из главных городских тюрем. Тела обычно прибывали партиями, с приложением проштампованных документов в двух экземплярах, которые требовали безотлагательной кремации трупов. Одна из сотрудниц крематория вспоминала: “Это были такие красивые мужчины, некоторые были еще теплые, а некоторые были вообще еще живы, когда мы клали их в печь”[640]. Эта практика вовсе не была секретной, по крайней мере с точки зрения таких женщин, как эта респондентка. Пепел закапывали в двух или трех общих ямах на территории кладбища.
Те, кто мыл полы или варил трубы, все же не могли целиком и полностью рассчитывать на избирательность чисток. Описывая страх, овладевший им, писатель Лев Разгон настаивал, что “никто, абсолютно никто не был в безопасности”. Угроза произвольного, необоснованного насилия была неотъемлемой частью системы. Практически постоянно возникали новые категории врагов. После заключения в 1939 году пакта Молотова – Риббентропа пришел черед националистов, бывших партизан и представителей местных элит на тех территориях, которые аннексировал Советский Союз, а также жителей Западной Украины и Восточной Польши. В 1941 году врагами были объявлены те, кто сеял панику, а также этнические, натурализованные немцы. После войны практически каждому, кто контактировал с зарубежными войсками, особенно если это были войска США, грозила опасность. Классовое происхождение или образование не всегда играли решающую роль. В любом случае предубеждение против тех, кто хоть как-то выказывал желание мыслить, особенно если это были коммунисты, так никогда полностью и не исчезло. Лев Копелев, который был арестован на фронте в 1945 году и попал в лагерь, лечился у лагерного врача, которая шутя описывала себя как члена “ОСИ: Общества Спасения Интеллигенции”[641].
Оправдание террора, в которое даже в 1945 году, в год окончательной победы, многие все еще верили, заключалось в том, что враги якобы только и ждали возможности разрушить хрупкие завоевания революции. Это понимали даже будущие жертвы репрессий. Лев Копелев с такой же прямотой признается в этом своем отношении к чисткам, с какой он писал о голоде: “Я никогда не верил, что Бухарин и Троцкий были агентами гестапо, что они хотели убить Ленина, был уверен, что и Сталин это знает. Но я считал, что в процессах 1937–1938 годов проявилась его дальновидная политическая тактика и в конечном счете он был прав, решив так страшно, раз и навсегда, дискредитировать все виды оппозиции. Ведь мы осажденная крепость, мы должны быть сплочены, не знать ни колебаний, ни сомнений”[642]. Такова была атмосфера, в которой разворачивался террор, атмосфера пропаганды и веры, в которой были вскормлены даже жертвы. Сами заключенные, пострадавшие от чисток, предаваясь размышлениям в тюремных камерах, зачастую приходили к выводу, что они и не заслужили лучшей участи. Осип Мандельштам описывал подобное умонастроение в одном из своих последних писем. Оно было написано после последнего в череде настигших его арестов. Несколькими месяцами ранее его освободили на короткое время, и он согласился заявить о том, что те, кто предал его суду, оказались правы: “Я сказал – правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл. Хорошо. Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали. Создали нравственную пытку. Я все-таки работал. Отказался от самолюбия. Считал чудом, что меня допускают работать. Считал чудом всю нашу жизнь. Через 1½ года я стал инвалидом. К тому времени у меня безо всякой новой вины отняли все: право на жизнь, на труд, на лечение. Я поставлен в положение собаки, пса… Я – тень. Меня нет. У меня есть только одно право – умереть”[643].
Хотя они не всегда точно представляли себе происходящее, многие из тех, кому было суждено стать жертвами чисток, предчувствовали, что их дни на свободе сочтены. Уцелевшие описывают свои разговоры с родными и друзьями, которые велись, планы, которые строили. Между тем у них было не так много вариантов действий. Ольга Эрн, отец которой был арестован под Харьковом в 1937 году, рассказывала: “Они постоянно следили за нами. Вставьте мое имя, когда будете писать это. Все остальное они про меня знают, нет никакого смысла прятаться”. Одним из испробованных практически всеми способов совладать с ситуацией был конформизм: влиться в марширующий строй, славить вождя вместе со всеми. Однако по большому счету конформизма окажется недостаточно.
Единственным альтернативным способом побега от реальности, о котором мечтали тысячи людей, был суицид. Надежда Мандельштам описывала методичные приготовления своего мужа к самоубийству: “О. М., человек абсолютно жизнерадостный, никогда не искал несчастья”, тем не менее он “уговорил знакомого сапожника пристроить у него в подошве несколько бритвочек”. По ее словам, он был не единственным, кто в те годы помышлял о таком конце: “Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с надеждой: самоубийство – это тот ресурс, который мы держим про запас и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть. А между тем столько людей собирались не даваться живыми в руки тайной полиции, но в последнюю минуту попались врасплох…”[644]
Другие, озаботясь подобными приготовлениями к смерти, задумывались также и об увековечивании, фиксировании своего опыта. Поверять свои мысли бумаге было небезопасно, поэтому некоторые с леденящим кровь фатализмом просили своих жен запомнить наизусть их версию событий, их мечты. Молодая жена Бухарина Анна Ларина заучила его последнее письмо-обращение к “будущим руководителям партии” и сохранила его в своей памяти на пятьдесят лет[645]. Подобным же образом Надежда Яковлевна сохранила многие стихотворения своего мужа: “[Д]о 56 года я все помнила наизусть – и прозу, и стихи… ‹…› Сколько нас таких – твердивших по ночам слова погибших мужей?”[646]
В другие моменты единственным уместным состоянием были оцепенение и депрессия. В октябре 1937 года Любовь Шапорина записала в дневнике: “У меня тошнота подступает к горлу, когда слышу спокойные рассказы: тот расстрелян, другой расстрелян, расстрелян, расстрелян, расстрелян. Это слово висит в воздухе, резонирует в воздухе. Люди произносят эти слова совершенно спокойно, как сказали бы: «Пошел в театр». Я думаю, что реальное значение слова не доходит до нашего сознания, мы слышим только звук. Мы внутренно не видим этих умирающих под пулями людей”[647]. В предисловии к “Реквиему” Анна Ахматова, чей сын, Лев Гумилев, и гражданский муж, Николай Пунин, были оба арестованы в 1935 году, назвала это “свойственным нам всем оцепенением”. Анна Ларина, которая к 1938 году уже сама была заключенной, описывала страдание, которое испытала, ожидая смерти своего мужа: “Я себя заранее настроила так, что для меня Николай Иванович был расстрелян уже в день ареста. ‹…› Исчезла напряженность ожидания, и сознание, что наконец кончились его мучения, принесло, как это ни страшно, даже некоторое облегчение, но одновременно ввергло в подавленное состояние. Все окружающее померкло, стало для меня огромным бездушным серым пятном. И удивительно было думать, что существуют на земле жизнь, людское счастье и земные радости”[648].
Момент ареста переживался разными людьми совершенно по-разному, и между взрослыми свидетелями арестов существовали самые разнообразные правила касательно того, как избегать обсуждения этой темы. Дети часто смотрели на все происходящее самым ясным, незамутненным взглядом. Магдалене Алексеевне было поручено следить за появлением сотрудников органов. Ее родители знали, что за ее дедушкой кто-то придет, и не хотели, чтобы видели, как они проверяют, не стоит ли кто на улице, каждый раз, когда раздавался стук в переднюю дверь. Девочка приняла эту обязанность без лишних расспросов. Она даже знала, когда сын милиционера, ходивший с ней в школу, так же следил за ней.
Московские дети, особенно те, кто вырос в привилегированных семьях, собранных, как в резервацию, в специальные многоквартирные дома, и кого водили в лучшие школы, тоже привыкли к ритуалам, сопровождавшим аресты. Один из респондентов, в прошлом живший в номенклатурном доме, поведал мне: “В нашем доме все было немного необычно. Каждую ночь арестовывали по пять-шесть человек. Все потому, что это был специальный дом, построенный для номенклатуры в 1928 году. Дети, жившие в этом доме, все были примерно одного и того же возраста. Так что каждое утро до школы мы подходили к привратнику, и он нам сообщал: сегодня забрали этих, а сегодня забрали тех”[649]. В подобных обстоятельствах перед детьми возникала двойная проблема: с этого момента их бывшие друзья и одноклассники становились врагами. Они могли никогда их больше не увидеть, могли даже не успеть попрощаться с ними. И в то же самое время они не могли задавать вопросы, потому что родители жили в страхе. “Я начал говорить, что все это неправильно, – рассказал мне другой человек. – Мои родители сказали мне, что мы об этом не говорим”[650].
Страдание взрослых отличалось от страдания детей. “Мы расстались первого мая 38 года, – писала Надежда Мандельштам, – когда его увели, подталкивая в спину, два солдата. Мы не успели ничего сказать друг другу – нас оборвали на полуслове и нам не дали проститься”[651]. Луиза Карловна, отец которой, “старый большевик”, был арестован в 1937 году, вспоминает, что ее матери в тот момент не было дома. На самом деле она была в больнице и готовилась родить третьего ребенка. Из-за пережитого шока она потеряла ребенка, а из-за своего отсутствия дома во время ареста мужа едва не потеряла и остальных своих детей. Двоих малышей увезли на черной машине, и матери понадобилось почти восемь месяцев, чтобы отыскать их. И это тоже было частью процесса. Напряжение от всего пережитого в старости сказалось на рассудке несчастной женщины.
Отца Юдифи Борисовны расстреляли вскоре после ареста. Его тело отвезли в крематорий при Донском монастыре и сожгли, а пепел сбросили в общую могилу. Его дочь в отчаянии пыталась узнать хоть что-то о его судьбе и все еще верила в справедливость системы и ее приверженность законности. Ей сказали, что отца приговорили к десяти годами без права переписки. С момента его ареста она и сама провела чуть меньше девяти месяцев на свободе. Мать исчезла 1 августа. Ее собственный черед пришел 1 сентября. Сначала ее отвезли на Лубянку, что было обычным делом для Москвы, где ей угрожали, но пытать не пытали.
Судя по рассказу Юдифи Борисовны, весь смысл происходящего начал открываться ей лишь несколько дней спустя, после того как ее перевели в Бутырскую тюрьму. Она оказалась в одной камере с тремя сотнями отлично информированных и напуганных женщин, среди которых была жена бывшего председателя ВСНХ СССР Алексея Рыкова, а также жены комиссаров вроде Даниила Сулимова. В кузове грузовика, который перевозил ее с Лубянки в Бутырку, она заметила еще одно знакомое лицо. Ее попутчицей в ту ночь оказалась оперная певица с десятилетней карьерой за плечами, которая станет для Юдифи “второй матерью”. Женщины попали в один лагерь. “Я часто ее навещала, когда мы обе вернулись в Москву”, – говорит Юдифь Борисовна.
Наконец, в третьей тюрьме, Таганской (“Ее больше не существует”), Юдифь Борисовна столкнулась с пытками и слышала вопли заключенных, умолявших своих мучителей о смерти. Но, за исключением этой подробности, ее рассказ не слишком омрачен физической болью, хотя она мечтала вычесать из волос клопов и принять ванну. Юдифь Борисовна признает, что ее содержали в “элитных условиях”. У других, особенно у мужчин, история была совсем иная. Театральный режиссер Всеволод Мейерхольд (на момент ареста ему было 66 лет, и он отнюдь не отличался крепким здоровьем) так описывал перенесенные пытки: “…Меня здесь били – больного шестидесятишестилетнего старика: клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине; когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам сверху, с большой силой… В следующие дни, когда эти места ног были залиты обильным внутренним кровоизлиянием, то по этим красно-синим-желтым кровоподтекам снова били этим жгутом, и боль была такая, что, казалось, на больные, чувствительные места ног лили крутой кипяток, я кричал и плакал от боли. Меня били по спине этой резиной, руками меня били по лицу размахами с высоты”[652]. На фотографиях других заключенных можно увидеть разбитые лица, ссадины, выбитые зубы. Это была стандартная часть программы.
Метод работал. Большинство людей подписывали признательные показания, которые от них требовались – именно эти показания публично зачитывались в суде и подшивались в дело обвиняемого после того, как он или она были расстреляны. Эти документы были важнейшей частью общей схемы террора. Хотя органам и не требовался предлог для каждой казни, тот факт, что на полках громоздились тысячи дел с признательными показаниями, имел огромное значение, ведь он позволял и дальше разыгрывать видимость “правового процесса”. Однако цель пытки не ограничивалась тем, чтобы заставить человека подписать то, что от него требовалось. Другая ее функция заключалась в том, чтобы усилить страх, террор как внутри тюрьмы, так и за тюремными стенами. Это помогало палачам уничтожить желание и остатки независимого мышления. Физическое уничтожение – смерть – могло наступить когда угодно, иногда с опозданием в несколько месяцев. Мейерхольд писал и об этом тоже:
[С]разу же после ареста (20. VI.1939 г.) меня ввергла в величайшую депрессию власть надо мной навязчивой идеи “значит так надо”. Правительству показалось – стал я себя убеждать, – что за те мои грехи, о которых было сказано с трибуны 1-й сессии Верховного Совета, недостаточна для меня назначенная мне кара (закрытие театра, разгон коллектива, отнятие строившегося по моему плану нового театрального здания на пл. Маяковского), и я должен претерпеть еще одну кару, ту, которая сейчас на меня наложена органами НКВД. “Значит, так надо”, – твердил я себе, и мое “я” раскололось на два лица. Первое стало искать преступления второго, а когда оно их не находило, оно стало их выдумывать. Следователь явился хорошим опытным помощником в этом деле, и мы стали сочинять вместе, в тесном союзе[653].
Он был расстрелян 2 февраля 1940 года[654].
Большинство людей вспоминают, что в мыслях своих ожидали неминуемой смерти. Это была обычная – и мучительная – реакция на арест. Надежда Ивановна говорит, что “думала об отце все время. Думала, что соединюсь с ним. В своей голове я много с ним говорила”. Несмотря на все меры предосторожностей, предпринятые властями, случаи самоубийства в тюрьмах были нередки. Шаламов писал: “Удивительно – какое колоссальное количество энергии тратится в тюрьме, чтобы добыть кусочек мятой жести и превратить ее в нож – орудие убийства или самоубийства”[655]. Один из моих собеседников рассказывал мне, что “мертвые тела были свалены под стенами Бутырки, как дрова”. Другой признался, что хотел покончить с собой – “но они мне сказали, что только настоящий враг народа способен на такую трусость. Советские люди не кончают с собой”. Этой мысли – ловушки коллективного мифа – оказалось достаточно, чтобы даже в тюрьме удержать его от подобного шага. Два психолога из Москвы, которые изучали систему ГУЛАГа или работали в ней, утверждали в беседе со мной, что случаи психических заболеваний или суицида в тюрьмах и лагерях были редкостью. Они были удивлены и даже немного обижены, когда я процитировала свидетельства обратного из вышеприведенных интервью. Миф о стоицизме все еще жив.
Утверждение о том, что в тюрьмах и лагерях не было самоубийств, странно само по себе и не соответствует действительности, но другие конфликты, противоречия между свидетельствами, особенно когда дело касается самого ГУЛАГа, неизбежны. Опыт людей индивидуален, они по-разному понимали и интерпретировали то, что видели вокруг, со временем режим содержания претерпевал изменения, да и не все лагеря были одинаковы. Бывший заключенный, переживший пытки в застенках НКВД, писал: “Большинство мечтали о лагерном приговоре как о спасении, избавлении”[656]. Вспоминая свой собственный срок, тех людей, которых она встретила в лагере, и то, чему она там научилась, Юдифь Борисовна соглашается с Львом Разгоном: “Он прав, говоря, что лагерь – это единственное место, в котором можно было чувствовать себя свободным”. Однако хрупкое ощущение свободы и даже само выживание было лотереей. В 1937 году Мандельштам писал Корнею Чуковскому: “Помогите… Нового приговора к ссылке я не вынесу”[657].
Путешествие на север или восток было первым испытанием. Даже оптимистичная Юдифь Борисовна с содроганием вспоминает свое прохождение по этапу. Только в Советском Союзе мог появиться такой разношерстный, сюрреалистический состав “пассажиров поневоле”. В вагоне Юдифи Борисовны было шестеро “политических”, включая саму Юдифь и оперную певицу. Была партия из примерно полусотни бывших монахинь средних лет. И еще одна группа, состоявшая из молодых женщин-уголовниц – убийц, проституток, воровок. “Это были худшие элементы, – утверждает она, – у них у всех были руки в крови”. В вагоне было темно и холодно. Практически не было еды, по несколько дней заключенным не выдавали воды, они не могли даже вдохнуть свежего воздуха. Монахини стали умирать. Трупы умерших ехали с заключенными в одном вагоне сотни километров. Только во время остановки поезда – а их за три недели пути было всего несколько – конвоиры могли открыть двери вагона и выкинуть трупы на снег.
У Юдифи Борисовны есть и другие воспоминания об этом путешествии, и не все они столь же мрачные. Она рассказывает мне одну особенно романтическую историю, успевшую уже, кажется, превратиться в легенду. Она говорит, что подружилась с девушками из уголовниц. Практически каждый “политический” схожим образом описывает свои особые отношения с “урками”, этой аристократией ГУЛАГа. Кажется, что это была разделяемая многими фантазия, надежда, что ты, по крайней мере, больше не являешься классовым врагом пролетарского государства, что можно отбросить идентификацию с классом, быть вне класса, вне закона, быть свободным. В истории Юдифи Борисовны ключевым моментом было заручиться дружбой с той, кого другие уголовницы назначили своим вожаком, что ей и удалось. А затем, если верить ее воспоминанием, Юдифь Борисовна, студентка-химик, свободно говорящая на немецком, завоевала расположение и остальных уголовниц тем, что читала им наизусть сказки Пушкина. Эта история звучит маловероятно, но она отнюдь не уникальна.
Евгения Гинзбург, которая была арестована в августе 1937 года и отправлена в лагерь на Колыму в 1939-м, придерживалась совсем другого мнения об уголовницах на пересылке, которых принято было называть “блатнячками” и “стервами”: “Это были ‹…› самые сливки уголовного мира. Так называемые «стервы» – рецидивистки, убийцы, садистки, мастерицы половых извращений. Я и сейчас убеждена, что таких надо изолировать не в тюрьмах и лагерях, а в психиатрических лечебницах. А тогда, когда к нам в трюм хлынуло это месиво татуированных полуголых тел и кривящихся в обезьяньих ужимках рож, мне показалось, что нас отдали на расправу буйно помешанным. Густая духота содрогнулась от визгов, от фантастических сочетаний матерщинных слов, от дикого хохота и пения. ‹…› Они сию же минуту принялись терроризировать «фраерш», «контриков». Их приводило в восторг сознание, что есть на свете люди, еще более презренные, еще более отверженные, чем они, – враги народа!”[658] Нет конца рассказам о том, как банды “урок”, мужчин и женщин, терроризировали, избивали или даже убивали “политических”. Организованные банды “урок” занимались вымогательством, тем, что сегодня принято называть “крышеванием”, требовали доли от и без того уже скудных паек и навязывали свои примитивные представления о справедливости остальным заключенным. С особенной жестокостью они обращались с сексотами. В действительности моральный уклад, навязанный “блатными”, нес в себе отзвуки принятой в деревенских общинах в царское время практики самосуда. Даже технология убийства была та же самая. По словам Надежды Ивановны, “они их всегда убивали, доносчиков этих, да, убивали”. Лев Копелев услышал рассказ о подобном убийстве “наседки” от деревенского хулигана Васи: “[О]дного наседку хлопци в бараке взяли за руки, за ноги, подняли до горы и посадили задом на пол… просто посадили… раз… другой… Потом на нем и не увидеть ничего, а через день вже ссав кровью… почки отбили, а еще через неделю, пожалуйте, готовенький, бирку на ногу и за вахту”[659].
Юдифь Борисовна в своем рассказе про убийства не упоминает. На самом деле, она предпочла бы трудовой лагерь так называемой свободе, которую испытала после освобождения, когда отправилась на поиски своей матери. Вместо матери в казахском Кустанае она обнаружила абсолютно чужую женщину, в подавленном состоянии духа, не понимающую, что с ней происходит. В лагере, говорит Юдифь Борисовна, “всегда можно было чем-то заняться”. Все еще храня верность комсомолу, Юдифь Борисовна стала работать агитатором, выступала с речами. В 1956 году ее восстановили в партии. “Агитационная бригада была моим настоящим счастьем”, – вспоминает она. Помимо всего прочего выжить ей помогли ее невероятная энергичность и оптимистичный взгляд на мир. Режим, при котором она отбывала заключение, погубил тысячи женщин вроде нее. Юдифь Борисовна уверена: “Это все хорошие гены моего отца. У меня все еще свои крепкие зубы”. В 1942 году, в самое страшное для заключенных ГУЛАГа время, время самых маленьких пайков и самой высокой смертности, у нее родился сын. Несмотря ни на что, это был здоровый ребенок, он весил 3 кг 800 г. Она улыбается: “Как мне это удалось – сама не понимаю. Не было абсолютно никакой еды”.
Ей помогло то, что роды принимал бывший профессор гинекологии из Москвы, настоящее светило, а тогда такой же зэк, как и его пациентка. Лагеря подчас больше смахивали на университеты или неформальные партийные конференции, нежели места заключения[660]. “С нами занимались лучшие математики, – рассказали мне две другие женщины. – Они были очень терпеливы. Думаю, у нас у всех была масса времени”. Другие, в том числе коммунисты, получали удовольствие от пения и молитв отправленных в лагеря священников и монахинь. “Они пригласили нас на пасхальную службу, где пели впятером, – рассказывает Юдифь Борисовна. – Это было потрясающе! Они знали каждое слово, помнили все, пять часов, пять голосов. Мы получили такое удовольствие!”
Иногда эти рассказы звучат почти радостно, но это до тех пор, пока вы не начинаете допытываться у ваших собеседников, каков был размер их паек, что они носили, как себя чувствовали те, кто спал рядом с ними на нарах. Воспоминания элиты, “политических” зэков, описания духовно и интеллектуально обогащавших разговоров, акапельного пения молитв и прочего, дают неверное представление о реальности. А реальность была такова, что огромное количество – статистическое большинство – обитателей ГУЛАГа были крестьянами (часто это были бывшие кулаки), уголовниками или рабочими. Представители этого большинства не оставили мемуаров, но именно их изображения можно до сих пор разглядеть на старых фотографиях, и именно их индивидуальные биографии в самых незначительных, неприукрашенных подробностях – если они вообще существуют – собирают сейчас сотрудники правозащитных организаций в российских городах[661]. Жизнь в лагере для всех была вопросом выживания: тяжелый физический труд, пайка, позволявшая элементарно не умереть с голоду (и то, если вам повезло), жестокие отношения между людьми. За последние несколько лет из архивов удалось достать подробности статистики, относящейся к уровню смертности в ГУЛАГе. Как всегда, эти данные говорят сами за себя. В 1941 году, еще до начала лишений, принесенных войной, коэффициент смертности в лагерях составлял 30 случаев на тысячу человек (то есть был лишь немногим выше среднего показателя по стране). К 1942 году, когда родился ребенок Юдифи Борисовны, этот коэффициент вырос до 250 случаев на тысячу человек[662].
Кузьма Гаврилович вспоминает, что “не всегда удавалось продолбить землю, чтобы похоронить умерших” и поэтому “просто прикрывали их льдом”. “Они так и лежали штабелями у забора до оттепели, – рассказывает мне Борис Леонидович, – а затем кто-то рыл ров, и их всех сгребали туда”. “Это было как-то странно на самом деле”, – говорит Кузьма Гаврилович. Не страшно, не тошнотворно, но “странно знать, что кто-то другой ушел, а ты все еще здесь”. Большинство заключенных жили по принципу “все средства хороши”. Девиз, руководствуясь которым пытались выжить, звучал так: “Умри сегодня ты, а завтра я”.
В этой группе из пяти респондентов каждый, за исключением Юдифи Борисовны, признался, что в какой-то момент думал о самоубийстве. Самым верным – и обычно самым быстрым – способом покончить с собой была попытка побега. Почти всех беглецов немедленно расстреливали. Их трупы представляли собой отвратительное зрелище. Их специально на несколько дней выставляли для всеобщего обозрения в тех местах, мимо которых должны были ходить зэки. Иногда им на грудь вешали специальную табличку, чтобы напомнить проходящим мимо о том, что “собаке – собачья смерть”. Тех немногих, кому удавалось не только спланировать побег, но и прорваться за колючую проволоку, обычно спустя некоторое время доставляли в лагерь мертвыми. “Молодые ребята, 19-летние, 16-летние, решали, что лучше умереть, чем находиться в лагере, – рассказывает Надежда Ивановна. – Женщины среди них тоже были. Это было очень распространенное явление. Они говорили: «Я все равно умру, так уже лучше умереть не на зоне»”.
Иногда беглеца подстреливали слишком далеко от лагеря, и группа конвоиров не могла или не хотела доставлять труп обратно. Иногда местные оленеводы, которым щедро платили за помощь органам, ловили сбежавших, и у них тоже не было никакого желания поднимать или волоком волочь тяжелое, смердящее тело. В таких случаях обычно обрубали кисти рук беглеца – об этом может рассказать любой, для бывшего зэка это кажется само собой разумеющимся. Якуты-оленеводы тоже до сих пор помнят, что они делали[663]. Руки с отпечатками пальцев позволяли идентифицировать тело для лагерной документации. Рассказ Шаламова о “мертвеце”, который вернулся в лагерь, “прижимая к груди окровавленные культяшки рук”, может показаться неправдоподобным и фантастическим нагнетанием ужасов, однако абсолютно документален: “С белым, бескровным лицом, с необычайными синими безумными глазами, он стоял у двери, согнувшись, привалясь к дверной раме, и, глядя исподлобья, что-то мычал. Он трясся в сильнейшем ознобе. Черные пятна крови были на телогрейке, брюках, резиновых чунях беглеца”[664]. Торопливая пуля на морозе снова не попала в цель. Шаламовского беглеца накормили, перевязали, а потом расстреляли.
Обо всем этом вспоминают неохотно, но без удивления. Подобного рода вещи были самоочевидной, обыкновенной, нормальной частью жизни. Мне также стало ясно, когда я говорила с бывшими узниками, что мои расспросы были докучливым вторжением, вызывали неловкость и дискомфорт и, как это ни странно, учитывая пол многих из моих респондентов, были социально неприемлемы в устах женщины. Бывшие заключенные ничуть не меньше других представителей своего поколения не любят, когда их заставляют слишком пристально всматриваться в то, что приличные люди могли не замечать, в то, что было вымарано сталинской цензурой. Позже кто-то из них скажет мне: “Мы думали, вы хотите поговорить про репрессии, но все ваши вопросы были про смерть”.
Психоаналитики говорят, что память о травме зачастую подавляется. Бывшие заключенные относятся к подобному утверждению скептически – столь же скептически, как и к психоанализу в целом, – и отрицают, что вообще были травмированы. Повседневные смерти, говорят они, не были проблемой, как не были проблемой голод, холод, изнуряющий труд – то есть все то, что люди научились принимать как часть своего существования. Ни в одном интервью, сколь угодно длинном, не удается проникнуть дальше подробностей повседневности и деталей, которые люди решают поведать вам потому, что они не причиняют им боли. Но иногда кто-то обронит какое-то слово невпопад, что-то тревожное, что-то, что произносится другим голосом.
В своем темном пальто с медалями, при бороде, Борис Леонидович гордо сидит навытяжку и выглядит ровно так, как должен выглядеть ветеран многих сражений Великой Отечественной войны. В начале он был немногословен, и когда все остальные в группе говорили о тяжестях и испытаниях, он вел себя иначе. В конце концов, он повидал столько зверств на фронте, столько смертей на пути к Берлину. Служа в артиллерийском взводе, он и сам многократно убивал. “Я всегда считал это своим священным долгом”, – сообщает он. Но в конце мы заговорили о ночных кошмарах, мучающих его. И тут он признается: “Иногда мне снятся трупы. Уголовники часто потрошили людей. Мне часто это снится”. Его перебивает Надежда Ивановна: они все видели подобные вещи. Но он настаивает: “Они брали кого-то, кто был еще жив. Еще жив. И потрошили его. Это же не нормально, ведь так?” Кузьма Гаврилович вступает в разговор со своим самым ярким воспоминанием. “Однажды мне пришлось перерезать веревку после того, как человек повесился, – рассказывает он. – Да, к смерти привыкаешь. Но я плакал, когда снимал его. Плакал. Было больно думать, что этот человек только что был жив, что я видел его накануне вечером и мы трепались, а сегодня вот он где, повесился”.
“Хватит уже говорить о смерти, – резко обрывает Надежда Ивановна. Она встает, запахивает кофту и меряет комнату шагами. – Смерть! Разве нельзя поговорить о чем-то еще?” Остальные пытались ответить на вопрос о смысле. Подхватывая прежнюю нить разговора, кто-то сказал: “Смерть на войне – священна. Она естественна, если вы понимаете, что я имею ввиду. Но смерть в лагерях, ну…” Кто-то повторил фразу, которую мы уже слышали раньше: “Собаке – собачья смерть”. “Это стыдно, пустое место”. Если не считать пары назойливых воспоминаний, никто из них об этом особенно не задумывался. Даже те, кто писал мемуары для архива общества “Мемориал”, не тратили время на мысли о смерти. Другие просто полностью избегали самой этой темы. “Я живу в Москве уже сорок лет, – признался Кузьма Гаврилович, – и до сих пор лишь немногие мои друзья знают, что я когда-то был заключенным”. До недавнего времени такое поведение было правилом: ты не горевал и не скорбел, ты устраивал свою жизнь, твои воспоминания принадлежали иному миру. Ты выживал.
В конце концов даже для поэтов смерти тех, кто погиб в сталинских чистках, были скучны и прозаичны. В декабре 1938 года Юрий Моисеенко вошел в баню для дезинсекции в Свитлаге, что в Магаданской области: “Мы разделись, повесили одежду на крючки и отдали в жар-камеру”. Бушевал тихоокеанский снежный циклон, на дворе стоял конец декабря, и внутри переполненной бани было так же холодно, как и снаружи. Рядом с Моисеенко оказался человек, которого все в лагере больше называли Поэтом, Осип Мандельштам. “Он просто скелет был, шкурка морщеная, – писал Моисеенко: – В нос ударил резкий запах серы. Сразу стало душно, сера просверливала до слез… Осип Эмильевич сделал шага три-четыре, отвернулся от жар-камеры, поднял высоко так, гордо голову, сделал длинный вдох… и – рухнул. Кто-то сказал: «Готов». Вошла врач с чемоданчиком. «Что смотрите, идите за носилками…»”[665].
Труп сбросили в общую могилу, привязав к ноге деревянную бирку с надписью графитовым карандашом – лагерным номером Поэта.
Глава 8 Россия в войне
Привыкаешь видеть смерть, она перестает на тебя так действовать, говорит Нина Павловна, бывшая партизанка. – Это вроде как есть красную икру каждый день. В конце концов даже перестаешь замечать”[666]. Татьяна Евгеньевна, ветеран других сражений, с ней не согласна. “К этому невозможно привыкнуть, – настаивает она, – но ты учишься жить по иным правилам”. Как у большинства ветеранов Великой Отечественной войны, у нее на этот случай есть история, которая помогает ей сформулировать свою мысль. Это образ из ленинградской блокады, ужасной зимы 1941–1942 годов. “Я помню, как на крыльце нашего дома умер человек, – начинает она. – Это было самое начало блокады, и он был одной из самых первых жертв. Кажется, замерз насмерть”. В то время на уборку трупов в голодающем городе уходило несколько дней. Часто некому было сдвинуть трупы с места – не находилось достаточно крепких физически людей. “В первый день кто-то накрыл труп газетой, – продолжает она. – Но спустя несколько дней я заметила, что газета сдвинулась. Покойника кто-то усадил и вставил газету ему в руки, как будто бы он собирался ее читать. Мы смеялись. Мы так привыкли его видеть”[667].
У большинства из тех, кто пережил Великую Отечественную войну, найдутся свои истории о смерти. Все они согласятся, что это было то, с чем они жили бок о бок, работали, к чему привыкали или не могли привыкнуть. “Я иду с сыном по улице, а вокруг лежат убитые – и по одну сторону, и по другую, – вспоминает женщина из Беларуси. – Я ему про Красную Шапочку рассказываю, а кругом убитые”[668]. В то время маленькие дети вроде ее сына не удивлялись смерти. В 1943 году десятилетние мальчишки рассказывали военному корреспонденту Александру Верту: “«Эту шапку я снял с мертвого румына» ‹…› «А у тебя сапоги откуда?» – «А с мертвого офицера, что лежит вон там, в саду. Хотите на него посмотреть?»”. Верт отмечает, что трупы стали частью их повседневности, “совершенно обычным, будничным явлением, и для парней существовали только хорошие трупы и плохие трупы”[669].
Хотя на протяжении четырех лет смерть и умирание были частью каждодневной жизни в Советском Союзе, люди, как правило, не спешат упоминать о них, когда принимаются вспоминать войну. Каким бы на самом деле ни был их опыт, обыкновенно рассказ начинается с “домашних заготовок”: немецкого вторжения в июне 1941 года, сдачи Украины, осады Ленинграда, обороны Москвы. Вам расскажут о захвате и разрушении исторических русских городов, например, Новгорода, в котором за несколько недель была истреблена 201 тысяча мирных жителей и население которого из-за смертей и депортаций к 1943 году сократилось до нескольких десятков человек[670]. Конечно, будут говорить о Сталинграде, городе, который выстоял, несмотря на обстрелы и осаду, и в котором горстка оставшихся в живых оказалась в западне, голодала и скрывалась в подвалах, ежедневно ожидая, что их обнаружат и убьют. Именно отказ Сталина сдать город, расскажут вам, который стоил жизни миллиону советских граждан, к началу 1943 года решит исход этой войны. А затем вы услышите рассказы о более поздних советских победах, о долгом марше на Берлин. У народной войны есть свои очертания, а у ее битв – своя последовательность, место в рассказе и смысловое наполнение. Годы разговоров придали им структуру, и эти разговоры все еще продолжаются. “Вы нас остановите, а то мы всю ночь здесь просидим”, – смеется одна группа ветеранов. В отличие от других рассказов о смерти и горе Великая Отечественная война всегда была частью советской публичной памяти.
Несколько факторов определили то место, которое занимает война в коллективном сознании народа. Борьба с фашизмом стала величайшей проверкой на прочность и, возможно, вообще величайшим испытанием, которое выдержал советский народ. Воля, упорство, выдержка и стойкость, которых она потребовала, не имели прецедента во всем предыдущем опыте. К тому моменту советские люди пережили уже немало катаклизмов и катастроф, но война оказалась куда ужаснее и продолжительнее. Парадоксальным образом угроза, нависшая над страной, дала выход новому ощущению совместности, общности, даже освобождения у обыкновенных людей и зажгла искру гениальности в некоторых поэтах и писателях. Собираясь сегодня, пожилые люди могут вспоминать слова Ольги Берггольц, писавшей о пережитой ею блокаде Ленинграда:
В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам, такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам[671].В своем кругу ветераны любят делиться подобными воспоминаниями. Встречаясь, они говорят на одном языке – языке ностальгии, благоговейного трепета, эскапизма. Подобно песням военных лет, которые они так любят петь, у их воспоминаний есть форма и каденция. Они успокаивают. Помогают забыть. Уже сложились несколько примечательных условностей и правил. Говоря о планах и целях, ветераны абстрагируются от отчаяния. Если не настаивать на том, чтобы они остановились подробнее на уродливых деталях, они, вероятно, вычеркнут из своего рассказа воспоминания о панике, чувстве вины, шуме, скуке и вони. У большинства есть наготове леденящий кровь эпизод, ладно скроенный страшный рассказ, и иногда он оказывается очень кстати, ведь некоторые хотят услышать именно про кровь, мозги и раздробленные кости. Однако большинство ветеранов предпочитают не отходить от привычного повествовательного канона. Война, ставшая публичным достоянием, война официальная есть китч, какие бы личные воспоминания ни были живы до сих пор. Даже фронтовые медики, мужчины и женщины, чьей задачей было возвращение раненых в строй, отлично умеют уходить от разговоров о смерти. “Мы никогда об этом не говорили, – утверждают они. – Мы никогда не сообщали человеку, что он умрет. О таких вещах не говорят”[672].
Некоторые из этих особенностей памяти нельзя назвать уникальным, специфически российским явлением. Например, после 1918 года в странах Западной Европы, принимавших участие в Первой мировой войне, повсеместно начала складываться послевоенная мифология[673]. Однако в сталинском Советском Союзе процессы увековечивания и забвения были искажены больше обычного. Это был изолированный мир, в котором контролировались новости и даже разговоры, в нем существовали своеобразные формы давления, вынуждавшие человека принять единственную, официальную линию. Искажения начались уже во время войны (хотя все страны, ведущие тотальную войну, прибегают к цензуре) и продолжались еще почти шестьдесят лет после ее окончания. Официальная история была оспорена на короткий период в ходе хрущевской оттепели в 1960-х годах, однако вплоть до наступления гласности слишком мало было сделано, для того чтобы деконструировать ее[674]. Коллективная история Великой Отечественной войны все еще слишком реальна для переживших ее, поэтому в течение многих лет она полностью поглощала те образы и задокументированные факты, свидетелями которых оказались эти люди.
Не все мифы о войне были созданы советскими вождями. Сталин не горел желанием поддерживать массовую, народную память о войне. Сразу же стало ясно, что память о сражениях могла на индивидуальном уровне пробуждать ощущение свободы, и это делало ее опасной[675]. Позднее, уже после смерти диктатора, монументальные формы увековечивания памяти о войне, направление которым задавало государство, сосуществовали с личными фантазиями и историческим воображением отдельных людей. Войну помнили как время свободы, когда угроза смерти со всей полнотой вернула к жизни каждого человека. Сегодня, когда столько всего изменилось вокруг, ветераны собираются вместе, чтобы погрузиться в воспоминания о временах ясности и определенности, в которых у их жизней был смысл, а их вклад в общее дело имел значение. Один из них говорит мне: “Существует колоссальная разница между тем временем и сегодняшним. Мы знали нашу Родину, мы знали Сталина, мы знали, куда идем”.
Те жертвы, которые люди принесли ради победы над фашизмом, затмили другие, более мрачные истории – истории неувековеченных, неотмеченных потерь и утрат. Война зачастую служила искуплением той боли, которая предшествовала ее началу. Анна Тимофеевна из семьи бывших кулаков, пережившая раскулачивание, рассказывает: “Мы так крепко дружили!” На смену довоенным сообществам пришли новые формы коллективности; новые воспоминания и неотложная общая цель вытеснили из сознания мрачные сюжеты, окруженные молчанием. Некоторые жертвы чисток испытывали благодарность. Война дала им возможность начать новую жизнь[676]. Но в то же время другие страдали под удвоенным гнетом невзгод. Начиная с 1941 года нормы трудовой выработки в лагерях ГУЛАГа выросли, а паек был безжалостно урезан. Именно в военные годы, в 1942–1943 годах, показатели смертности среди заключенных достигли своего максимума[677].
Война бросила тень не только назад, но и вперед, на послевоенное время. Память о войне в значительной степени служила оправданием того ультра-патриотизма, которым были отмечены последние годы советской империи[678]. Мировоззрение, разделявшее людей на “нас” и “них”, разговоры о “наших” жертвах, “нашей” победе, по большому счету обусловили бездушие и жестокость последних лет сталинского правления. В 1940-е годы воскрес государственный антисемитизм (и это несмотря на то что Советская армия первой обнаружила ужасы нацистских лагерей смерти, освободив Майданек в июле 1944 года[679]), продолжились массовые аресты и депортации. Перевооружение в рамках холодной войны, которое практически обескровило советскую экономику, оправдывали угрозой, исходившей из-за рубежа. За всем этим незримо присутствовали священные тела павших на войне, миллионы и миллионы, память о которых никто бы не осмелился предать.
“[М]еня никогда не покидало ощущение, что то была подлинно народная война, – писал Верт, – сознание того, что это была их собственная война, было в общем одинаково сильно как у гражданского населения, так и у солдат”[680]. Верт был прав. Эта война принадлежала всем, и любой должен был не только внести свой вклад, но и претерпеть страдания. Нет практически ни одной семьи, которой удалось бы избежать тех или иных утрат. “В мой год было два первых класса, а еще два было в соседней деревне и один в Гаево, – вспоминает Григорий Васильевич, скульптор с юга России, создатель военных мемориалов. – Но мы все друг друга знали. Мы поддерживали связь все годы школы, так что я знаю, сколько человек погибло на войне. Из примерно ста человек девяносто два совершенно точно погибли на фронте, а пятеро или шестеро получили ранения и вернулись домой инвалидами. Я единственный, кто вообще не был ранен”[681].
Григорий Васильевич родился в 1922 году. Мальчишки этого поколения подлежали военному призыву между 1939 и 1941 годом. Именно они первыми отправились в Финляндию в 1939-м, именно они первыми гибли после того, как немцы вторглись в СССР в июне 1941 года. К 1945-му по крайней мере четырех из пяти уже не было в живых. В европейской части России, на Украине и в других республиках в западной части страны эта цифра была еще больше. Девяносто процентов юношей, принадлежавших к поколению Григория Васильевича, умерли, не дожив до двадцати пяти лет. В общем и целом, к 1945 году свыше 80 процентов из 34,5 миллиона мобилизованных во время войны в СССР мужчин и женщин были убиты, ранены или захвачены в плен[682].
“Они лгали о количестве погибших, – сказал мне армейский врач. – Лгали, потому что было столько глупых потерь, которых можно было избежать. Ставили отметку, на которой было написано, что под новой могильной насыпью похоронено двадцать или тридцать человек, тогда как на самом деле там было по двести, по триста трупов”[683]. Советская армия, конечно, расточительно распоряжалась человеческими жизнями. К солдатам зачастую относились как к скоту – это слово прокрадывается практически в каждое свидетельство. Во время крымской операции председатель ставки Верховного главнокомандующего на Крымском фронте Лев Захарович Мехлис приказал не рыть окопы, “чтобы не подрывать наступательного духа” солдат[684]. В результате за двенадцать дней боев было убито 176 тысяч человек. Даже после 1942 года, когда начал было возобладать более продуманный и взвешенный подход к военной стратегии, пустая трата человеческих жизней никуда не делась, как никуда не делось использование людей в качестве приманки, лобовые атаки на вооруженные укрепления противника и жесточайшие наказания своих же собственных солдат, обвиненных в трусости.
Расточительное отношение к жизням по старой традиции сопровождался полным отрицанием. Вранье началось сразу же. Некоторые виды смерти – в большинстве своем те самые, за которые несло ответственность НКВД, – не обсуждались вовсе, но даже общие цифры советских потерь занижались. Сам Сталин говорил о потере 7 миллионов человек убитыми. Позже, в атмосфере большей открытости, Хрущев взвинтил эту цифру до 20 миллионов[685]. А сегодняшние оценки общего количества советских смертей – как среди мобилизованного, так и среди гражданского населения – в основном превышают 25 миллионов человек. Из них от 8 до 11 миллионов составляли так называемые фронтовые потери[686]. Оставшиеся миллионы – это жертвы среди мирного населения.
Эти цифры до сих пор вызывают споры. Как однажды заметил сам Хрущев, “Никто их не считал”. С 1980-х годов российские историки пытались подсчитать человеческую цену этой войны другим способом. Они посмотрели на численность советского населения в 1939 году и попробовали понять, насколько бы оно выросло к 1945 году в нормальных обстоятельствах, если бы не было войны и цифры естественного прироста и убыли населения оставались на довоенном уровне. Тотальная война разрушает семьи. Жертвы на передовой – взрослые люди в самом расцвете сил. Во время подобной войны случается меньше зачатий, и еще меньше из этих зачатых детей рождается живыми. Если верить подобному демографическому подсчету, к 1945 году советский “дефицит” населения превышал 40 миллионов человек. Некоторые ученые утверждают, что правильнее говорить о цифре ближе к 50 миллионам[687]. Потери такого масштаба обернулись экономической и демографической катастрофой, отголоски которой все еще ощущаются в структуре постсоветского населения. Но помимо всего прочего, потери такого масштаба стали человеческой трагедией. Беспрецедентной в своем роде.
Ветераны, естественно, говорят о жизни. Они собираются специально, чтобы поговорить о том, как им удалось уцелеть: о храбрости, выносливости, патриотизме. “Мы столько страдали, – говорит Татьяна Евгеньевна, – мы так радовались, когда все это закончилось. Мы не подсчитывали цену, которую пришлось заплатить”. Люди вроде нее помнят много отдельных смертей, но их рассказ не останавливается подробно на этом море убитых и на горах трупов с воронами, кружащими над ними. Бывший фронтовик Александр Михайлов, с которым я говорила в 1987 году, предупреждал меня: “Не верьте тем, кто представляет окопную войну как нерегулярную ружейную стрельбу, а в перерывах показы кинофильмов”[688]. Это замечание гарантированно обидело бы официальные объединения и советы ветеранов. Какими бы ни были частные воспоминания, официальный язык, на котором говорят выжившие, находит подробности настоящего умирания неэстетичными.
Все это можно услышать в любой вечер в клубе ветеранов, на любой даче, где собираются и разговаривают те, кто прошел войну. Говорят, что русский солдат защищает священную землю Родины до последней капли крови. Не то чтобы он совсем лишен страха, но он отважен. Он бросается на врага с именем Сталина на устах, а когда умирает, перед его глазами встает картина березовой рощи летом, образ его матери или девушки в слезах – его Тани, Маши, Оли, которая клянется ждать его вечно. Одна из санитарок рассказала мне: “Большинство из них звали матерей. И мы обещали написать им”. В подобных рассказах всегда незримо присутствуют отзвуки традиционной ламентации, старой культуры. Популярная песня первого года войны начинается так: “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины, как шли бесконечные, злые дожди…” Автор, поэт Константин Симонов признается, что не чужд страха, но заключает:
Я все-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился, За то, что на ней умереть мне завещано, Что русская мать нас на свет родила, Что в бой провожая нас, русская женщина По-русски три раза меня обняла[689].Коммунистическая партия сразу осознала, какой силой обладали сентиментальные песни. Перед лицом первого и наиболее разрушительного немецкого наступления, когда на Москву сыпались бомбы, управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) издало постановление о том, чтобы войскам раздавали бесплатно губные гармошки[690].
Тысячи старых солдат до сих пор готовы поведать вам свои воспоминания так, что они практически дословно будут рифмоваться с песнями и маршами советского государства. Например, в 1997 году я имела удовольствие познакомиться с Николаем Викторовичем, офицером на пенсии и одним из руководителей московского Общества ветеранов Великой Отечественной войны. Для того чтобы понять этого человека, нужно абстрагироваться от той обстановки, в которой он сегодня живет: неряшливой комнаты с дешевой мебелью в бывшей коммунальной квартире, – и от вида его гражданской одежды: старого, желтовато-коричневого жилета и синтетических брюк. Николай Викторович – бывший советский офицер, сталинист, патриот. Встречаешься с ним взглядом – и оказываешься лицом к лицу с другим миром, видишь выражение лица солдата, помнящего другие приказы и более строгие, куда более предсказуемые социальные коды.
Я попросила еще одного бывшего офицера провести интервью с Николаем Викторовичем. Я хотела увидеть, будет ли чем-то отличаться беседа двух солдат, соотечественников, мужчин, однако Николай Викторович обращает все свои самые важные ответы напрямую ко мне. Он вообще соглашается отвечать при условии, что я открою ему социальное (“мелкобуржуазное” в терминологии марксизма-ленинизма) и этническое происхождение обоих моих родителей (тут дело темное). Кажется, что эта информация как-то повлияет на его ответы на мои вопросы. Когда, поначалу осторожно, начинает течь его рассказ, я жалею, что не солгала и не сказала ему, что мой отец был, скажем, сварщиком. Николай Викторович занимает оборонительную позицию, как будто бы ждет вопросов с подвохом, которые, он уверен, всегда наготове у классового врага и иностранки.
Мы обсуждаем сражения и смерть, мы говорим о тех людях, которых он вел в бой, об их качествах и силе. “Я страдал из-за каждого из моих погибших бойцов, – говорит он, – но горевать – значит быть слабым. Я не поддавался горю”. Через час после начала разговора мой коллега просит его подумать о том, какой тип солдата он бы выбрал, если бы ему предстояло выполнить очередное смертельное задание в тылу врага. Он задает этот вопрос вполне нейтральным тоном, не упоминая ни одной конкретной категории. Но Николай Викторович говорит с нажимом: “Советские солдаты – русские мужики – умеют сражаться и умирать”. По его мнению, только финны обладают храбростью и стойкостью, сравнимыми с храбростью и стойкостью русских. Если бы ему еще раз пришлось набирать армию, если бы он мог выбрать любого солдата из любой страны и эпохи, он выбрал бы русских. На самом деле, добавляет он, он предпочел бы тех, кто уцелел в ГУЛАГе. Дисциплина и выносливость – вот самые ценные качества солдата. Он одаривает меня натянутой улыбкой. Ну, по крайней мере, я не француженка, и на том спасибо.
Нетрудно отыскать документы, в том числе письма, написанные обыкновенными советскими гражданами, которые подтвердят подлинность того рода патриотизма, что исповедует Николай Викторович. “Я должна быть горда, что защищаю советскую землю”, – пишет в 1941 году москвичка в частном письме. Тысячи и тысячи таких людей сразу же пошли добровольцами. Собравшись на митинги на своих предприятиях, они плакали не только о России, но и о себе самих. Офицеры НКВД отмечали резкий рост производительности труда на заводах и фабриках[691]. Некоторая доля этого патриотизма имела отношение не к России, а к коммунизму. “Мне так сильно страшно стало, и вот я решила: чтобы не струсить, достала свой комсомольский билет, макнула в кровь раненого и положила себе в карманчик возле сердца, застегнула. И вот этим самым я дала себе клятву, что должна выдержать, самое главное – не струсить, потому что если я струшу в первом бою, то уже дальше не ступлю и шага”, – рассказала Светлане Алексиевич бывший санинструктор стрелковой роты Ольга Яковлевна Омельченко[692]. Героические истории, вроде истории партизанки Зои Космодемьянской, которую пытали, изуродовали и, наконец, отправили на виселицу за участие в мелком саботаже, вдохновляли целые классы школьников-подростков записываться добровольцами. Одна из таких бывших школьниц, а впоследствии младший лейтенант и фельдшер мотострелкового батальона Серафима Ивановна Панасенко вспоминала: “У меня папа коммунист с большим стажем, политкаторжанин. Он нам с детства внушал, что Родина – это все, Родину надо защищать. И я не колебалась: если я не пойду, то кто пойдет? Я должна…” Рассказывая об этом, она рыдала[693].
Необязательно было убивать или умирать самому, чтобы разделить подобное чувство. Группа из семи бывших военных медиков повторяла те же лозунги, когда мы говорили о войне, которую они видели своими глазами. “Патриотизм был нашим золотым сокровищем, богатством нашей любимой родины, нашей России, – сказала бывшая санитарка. – Люди были поразительные. Что тут еще скажешь. Теперь ничего подобного не увидишь”. Медицина на передовой, как и сам бой, сегодня вспоминается в терминах отваги, справедливости, подвига, совершенного во имя Родины и Сталина. Каждый из тех врачей и санитаров, которых я встретила, повидал множество смертей, каждый чуть не погиб сам, каждому довелось писать письма с соболезнованиями, и каждый в свою очередь сам получал точно такие же. Но говорили они не об этом, по крайней мере, когда были рядом. Говорили о гордости. Как будто для того чтобы подчеркнуть это, некоторые приходили в медалях, с разноцветными орденскими планками во всю грудь. Но мне было понятно еще кое-что. Все они пострадали материально во время последней революции, совершившейся в России в 1990-х годах; некоторые с трудом выживали на пенсию. Прошлое было единственной частью их жизней, относительно которой до сих пор можно было ощущать уверенность и определенность.
А значит, было бы оскорбительно напоминать им о панике, которую они позабыли. Осенью 1941 года Москва вовсе не была той цитаделью патриотизма, какой они ее вспоминают. Немецкая армия стремительно наступала от Смоленска, и были серьезные опасения, что столица будет сдана. Шли приготовления к эвакуации (одним из первых на специальном поезде из города вывезли тело Ленина). В конце сентября многие правительственные учреждения были перевезены в Куйбышев (ныне Самара). По воспоминаниям Ильи Эренбурга, писателя, военного корреспондента и пропагандиста, “настроение в Москве было отвратительное”[694]. Некоторые даже приветствовали перспективу оказаться под немецким владычеством. “Победа советской власти в этой войне сомнительна, – писал в 1941 году начальник стройуправления «Интурист» товарищ Курбанов. – Если в 1919–1920 годах народ шел за свободу, за свои права, то теперь ему не за кого умирать. Советская власть довела народ до крайнего озлобления”[695]. Позднее в романе “Живые и мертвые” Константин Симонов напишет: “[Б]ыло невыносимо вспоминать Москву этого дня, как бывает невыносимо видеть дорогое тебе лицо, искаженное страхом”[696].
Мы знаем о царившей в Москве панике и о содержании частных писем, потому что в это время в НКВД читали каждое письмо, посылаемое из столицы. Государство так слабо верило своим собственным гражданам, что в день немецкого вторжения в июне 1941 года приказало начать массовые аресты. Кроме того, были изданы приказы, призывавшие ускорить расстрелы политических преступников[697]. Аресты и расстрелы продолжались на протяжении всей войны. Именно НКВД навело порядок в Москве во время паники в октябре 1941 года.
Мародеров и всех, кого подозревали в распространении панических настроений, ставили к стенке. Среди расстрелянных было много тех, кто пытался бежать из города. Подлинный патриотизм советских людей был усилен террором. В череде приказов, адресованных войскам (большая часть директив не обнародовалась вплоть до 1980-х годов), солдатам напоминалось, что трусость будет сурово караться. “Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории…” – заявил Сталин в знаменитом приказе № 227 от 28 июля 1942 года, известном как приказ “Ни шагу назад!”. Те, кто не мог удержать свой клочок земли в несколько метров, подлежал расстрелу без суда и следствия или был обречен на почти неминуемую гибель в одном из так называемых штрафбатов. “Отныне отступающие с боевой позиции без приказа свыше являются предателями Родины”, – гласил сталинский приказ.
Врачи, с которыми я беседовала, соглашаются: “Никто не хотел умирать, но все были готовы погибнуть, если придется. Мы все были готовы. Война требует жертв”. Я вспомнила артиллериста Бориса Леонидовича, вернувшегося домой после семи мучительных лет в ГУЛАГе и считавшего, что смерти, свидетелем которых он был на фронте, были “в порядке вещей”. 30 июля 1942 года газета “Правда” заявила: “Стойкость и железная дисциплина – условия нашей победы”, “Советские солдаты! Ни шагу назад!”[698] Валентина Михайловна проработала в ленинградской городской больнице всю блокаду. Она даже не смогла вспомнить первую смерть, которую ей пришлось наблюдать[699].
О героизме говорить легко. Жестокость – куда более опасная тема для разговора. Валентина Михайловна ни словом ее не упомянула. Ее московские коллеги даже отметили, что война сделала их добрее. Бывшая санитарка, служившая на фронте с 1941 года, утверждала: “Наши сердца стали больше”. Армейские врачи с фронтовым опытом, как один из них объяснил мне, “исходят из сердца, из души, из патриотизма”. Это полезное свойство, которое сохраняется у них на всю жизнь. “Вы не услышите от нас фраз вроде «я не могу, я не хочу»”, – говорит еще одна санитарка. Все они согласились с тем, что война сделала их лучше, человечнее и, уж конечно, профессиональнее как врачей и медсестер, способными больше сопереживать пациентам и лучше заботиться о них. Спустя шестьдесят лет после окончания войны у меня нет никаких основания разубеждать их и объяснять, что они обманываются.
Однако в то время, в 1943 году, находились люди, которые не были так уж уверены в добродетельности патриотической морали. Лев Копелев, с такой решительностью экспроприировавший у крестьян хлеб во время голода 1933 года, не скрывал тревоги. По мере того как он и его часть продвигались через территорию Польши по направлению к границе Пруссии, он начал размышлять о том, как именно воюет Советская армия, и особенно о последствиях того безграничного вранья, на которое она опирается: “Миллионы людей озверели, развращены и гитлеровщиной, и самой войной, и нашей собственной пропагандой, воинственной, националистической, лживой. Такая пропаганда была необходима накануне и тем более во время войны, в этом я тогда не сомневался, но понимал, что она принесет отравленные плоды…”[700]
Особенно Копелева тревожило то, что он определил как “релятивистскую мораль” войны: “дескать, все относительно; все, что полезно нам, – хорошо, а все, что полезно врагу, – плохо”. Его волновало, кем станут после войны эти молоденькие солдаты, ушедшие на фронт со школьной скамьи, ничему “не учившиеся, кроме как стрелять, окапываться, перебегать и переползать, швырять гранаты”. Но он также знал и о более глубинной проблеме – дело было не только в армейской службе как таковой и, уж конечно, не в героических сражениях из военных песен и реляций, но и в повседневной, обыденной жестокости: “ [Эти пареньки] привыкли видеть смерть, кровь, жестокость и ежедневно убеждались в том, что газеты, радио, их собственные командиры на митингах рассказывают о войне совсем не то, что они сами видят и испытывают. Привычка к насилию и ко лжи, недоверие к слову, исходящему сверху, должны были обратиться против нас… Как избежать этого?”[701] Эту пропагандистскую ложь сам он считал неписанной лицензией на жестокость.
Преданность Копелева идеям коммунизма притупила его способность критически осмыслить действие тех же самых эвфемизмов и уверток в 1930-е годы. В сталинской России образца 1941 года военный, милитаризированный язык не был новшеством. “Отечество в опасности”, “страна как осажденная крепость в кольце врагов” – отсылки к таким фигурам речи были излюбленной тактикой советской пропаганды, опробованной и доведенной до совершенства во многих областях жизни еще со времен Гражданской войны. Растождествление с происходящим бывает чрезвычайно полезно. Вполне вероятно, что способность советской армии оправдывать жестокость и зверства и помогла ей выиграть Великую Отечественную войну, особенно зимой 1942–1943 годов. Тогда страна действительно находилась в критическом положении, и в международной борьбе с фашизмом на кону была не только безопасность Советского Союза. Тем не менее культура жестокости и забвения дорого обошлась всей Восточной Европе, и дороже всего она обошлась самому советскому народу.
Как обычно, ложь и цинизм сначала утвердились на самом верху властной пирамиды. В 1945 году югославский коммунист Милован Джилас пожаловался Сталину на случаи изнасилования югославских женщин советскими солдатами. Диктатор ответил: “А разве не знает Джилас, который сам писатель, человеческое сердце и его страдания? Вообразите человека, который воевал от Сталинграда до Белграда, прошел тысячи километров через кровь, огонь и смерть – как такой человек может нормально реагировать? И что страшного в том, что после всех этих ужасов он хочет развлечься с женщиной или взять себе какую-нибудь безделушку?”[702] Солженицын писал о том, что в советских войсках широко бытовало отношение к изнасилованиям и расстрелам немецких женщин почти как к боевой доблести. Однополчанин Копелева, офицер по фамилии Беляев, разделял это мнение “Награбили фрицы во всем мире, вот у них и много добра. Они у нас все жгли, а теперь мы у них. Жалеть нечего”[703].
С Беляевым были бы солидарны тысячи советских солдат. Ужасные времена превратили их в убийц, одержимых местью, напрочь позабывших о конвенциях и приличиях гражданской жизни. В 1943 году это настроение отмечал и Верт. В свой последний день в Сталинграде он пришел к руинам Дома Красной армии. Зрелище, открывшееся его глазам во дворе дома, было омерзительно: “Здесь валялось еще несколько конских скелетов, а немного правее видна была колоссальная и страшная выгребная яма, к счастью совершенно замерзшая. И вдруг в дальнем конце двора я заметил человеческую фигуру. Человек этот присел на корточки над другой выгребной ямой. Завидев нас, он начал поспешно подтягивать штаны, а затем шмыгнул в дверь подвала. Но пока он проходил мимо, я успел рассмотреть лицо бедняги, на котором страдание смешалось с идиотическим непониманием происходящего. В эту минуту мне захотелось, чтобы вся Германия была сейчас здесь и могла полюбоваться этим зрелищем”. Для Верта в этой сцене, “в этих замерзших выгребных ямах, в этих обглоданных лошадиных скелетах и желтых трупах умерших от голода немцев во дворе Дома Красной армии в Сталинграде” было “знамение суровой, но божественной справедливости”[704].
Однако к 1944 году, когда война была практически выиграна, Лев Копелев позволил себе чувство глубокого отвращения к советской жестокости. Промозглым вечером, едва опустились сумерки, он и его часть достигли прусского города Найденбурга. Но они были не первыми красноармейцами, успевшими побывать здесь: “В городе было светло от пожаров: горели целые кварталы. И здесь поджигали наши. ‹…› На одной из боковых улиц под узорной оградой палисадника лежал труп старой женщины: разорванное платье, между тощими ногами – обыкновенный городской телефон. Трубку пытались воткнуть в промежность. Солдаты кучками и поодиночке не спеша ходили из дома в дом, некоторые тащили узлы или чемоданы. Один словоохотливо объяснил, что эта немка – шпионка, ее застукали у телефона, ну и не стали долго чикаться”[705].
Это был самый распространенный предлог – более неубедительного и беспочвенного и придумать было нельзя – для истязаний, пыток и убийства тех немногих мирных жителей, которые не спаслись бегством. Чуть дальше по дороге мужчины наткнулись на еще одну женщину, на этот раз живую, “в длинной плюшевой потертой шубейке, с облезлой горжеткой и в шляпке, обмотанной шалью, как башлыком”. Она была из тех, кто не убегает (“мы очень бедные… а зачем бедным удирать?”), – в возрасте, растерянная, не способная осознать настигшую ее трагедию. Она продолжала просить русских помочь ей найти ее дочь. Солдаты единодушно решили, что старуха “наверное, сумасшедшая”, “блажная”.
Между Копелевым и Беляевым разгорелся спор. Беляев хотел, чтобы старуху пристрелили. Никакого приказа не поступало, да он был и не нужен. Копелев пишет: “Сзади возня. Оглядываюсь. Младший из солдат оттолкнул старуху с дороги в снег и выстрелил почти в упор из карабина. Она завизжала слабо, по-заячьи. Он стреляет еще и еще раз. На снегу темный комок, неподвижный… Мальчишка-солдат нагибается, ищет что-то, кажется, подбирает горжетку”[706].
Официальная пропаганда активно подогревала ненависть, которая вела к подобным проявлениям жестокости. Эта ненависть произрастала из неоспоримой реальности, из факта немецких зверств и злодеяний, из пыток и истребления мирных жителей, из многократно повторяемой угрозы тотального уничтожения. Сам Гитлер объявил, что Ленинград и Москва должны быть полностью разрушены. Москву, согласно его плану, нужно было стереть с лица земли, а на ее месте должно было появиться огромное озеро. Советским ответом была священная месть. В статье “Убей!” Илья Эренбург писал: “Если ты не убил за день хотя бы одного немца, твой день пропал. ‹…› Если ты убил одного немца, убей другого – нет для нас ничего веселее немецких трупов. Не считай дней. Не считай верст. Считай одно: убитых тобою немцев. Убей немца! – это просит старуха-мать. Убей немца! – это молит тебя дитя. Убей немца! – это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!”[707]
Эренбург вторит стихотворению Константина Симонова “Убей его!”. Оно было опубликовано в газете “Красная звезда” 18 июля 1942 года:
Если дорог тебе твой дом, Где ты русским выкормлен был… ‹…› Если мать тебе дорога – Тебя выкормившая грудь, Где давно уже нет молока, Только можно щекой прильнуть; Если вынести нету сил, Чтоб фашист, к ней постоем став, По щекам морщинистым бил, Косы на руку намотав; ‹…› Если ты не хочешь отдать Ту, с которой вдвоем ходил, Ту, что долго поцеловать Ты не смел, – так ее любил, – Чтоб фашисты ее живьем Взяли силой, зажав в углу, И распяли ее втроем, Обнаженную, на полу; Чтоб досталось трем этим псам В стонах, в ненависти, в крови Все, что свято берег ты сам Всею силой мужской любви… ‹…› Так убей фашиста, чтоб он, А не ты на земле лежал, Не в твоем дому чтобы стон, А в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, – Пусть горит его дом, а не твой, И пускай не твоя жена, А его пусть будет вдовой. Пусть исплачется не твоя, А его родившая мать, Не твоя, а его семья Понапрасну пусть будет ждать. Так убей же хоть одного! Так убей же его скорей! Сколько раз увидишь его, Столько раз его и убей![708]Подобного рода стихотворения были адресованы не элите. Солдаты, описывающие свой путь на Берлин в 1944 году, вспоминают лозунги и стихи, которые прикрепляли к бортам своих грузовиков, традиционные русские частушки, адаптированные к военной тематике. Главным мотивом этого фронтового фольклора была ненависть к “фрицу”. В лучшем случае он именовался “немцем-перцем-колбасой”[709].
Если верить ветерану войны, этнографу Леониду Пушкареву, ненависть к врагу больше, нежели что-либо другое, гнала Советскую армию на запад. Один из товарищей Копелева напомнил ему о “Гайдамаках” Тараса Шевченко, поэме, в которой герой разрубает на куски своих собственных детей: “Ведь Гонта своих – понимаешь, своих власных – сынов зарезал? Это война, брат, а не философия, не литература. То в книгах, конечно, есть: мораль, гуманизьм, интернационализьм. Это все хорошо, теоретически правильно. Вот пустим Германию дымом, тогда опять будем правильные, хорошие книжки писать за гуманизьм, интернационализьм… А сейчас надо, чтоб солдат еще воювать хотел, чтоб в бой шел… Это главное звено!”[710] В 1942 году один полковник сказал Верту, что “если бы [немцы] обращались с нашими пленными хорошо, это вскоре же стало бы известно. Это звучит чудовищно, но, подвергая наших пленных пыткам и заставляя их умирать голодной смертью, немцы помогают нам”[711]. Девяносто пять процентов немецких солдат, захваченных в плен под Сталинградом, умрут на советской земле. Четыре из пятерых советских военнопленных погибнут в немецком плену. В обоих случаях некоторые были казнены (что по стандартам далекого западного мира было, конечно, совершенно противозаконно), некоторые подверглись пыткам, а некоторых просто бросили умирать голодной смертью[712].
Фронтовые врачи говорят мне: “Мы сражались за нашу страну, за нашу землю”. Они не задумывались о социальных издержках этой битвы. Но были и другие, кто был убежден, что война бросила тень на человечность каждого. Василий Гроссман был далек от процитированного выше убеждения, что люди действовали по велению души, и ему не давали покоя ожесточенность и грубость человеческих отношений, то, какими они стали к концу войны: “[Л]юди ‹…› точно сговорились вести себя не по-людски. Они точно сговорились опровергнуть взгляд, что добро можно заранее уверенно определить в сердцах тех, кто носит замасленную одежду, у кого потемнели в труде руки”[713]. У Иосифа Бродского было схожее впечатление. Он описывал “первозданный хаос”, царивший на платформе пригородной электрички в Ленинграде в 1945 году, отчаяние толпы, “осаждавшей” поезд: “Люди осаждали теплушки, как обезумевшие насекомые; они лезли на крыши вагонов, набивались между ними и так далее. Почему-то мое внимание привлек лысый увечный старик на деревянной ноге, который пытался влезть то в один вагон, то в другой, но каждый раз его сталкивали люди, висевшие на подножках. Поезд тронулся, калека заковылял рядом. Наконец ему удалось схватиться за поручень, и тут я увидел, как женщина, стоявшая в дверях, подняла чайник и стала лить кипяток ему на лысину. Старик упал… броуново движение тысячи ног поглотило его, и больше я его не увидел”[714].
Война сама по себе в значительной степени объясняет подобное огрубение нравов и сердец. Именно об этом говорили свидетели и современники в то время, включая Александра Верта, именно об этом и поныне говорят многие бывшие солдаты и партизаны. Одна из героинь книги Светланы Алексиевич “У войны не женское лицо”, партизанка-разведчица из Белоруссии, признается: “У меня до сих пор стоит в ушах крик ребенка, которого бросают в колодец. Слышали ли вы когда-нибудь этот крик? Ребенок летит и кричит, кричит, как откуда-то из-под земли, с того света. Это не детский крик и не человеческий… А увидеть разрезанного пилой молодого парня… Наш партизан… И после этого, когда идешь на задание, сердце одного просит: убивать их, убивать как можно больше, уничтожать самым жестоким способом. Когда я видела пленных фашистов, мне хотелось вцепиться в любого. Душить. Душить руками, грызть зубами. Я бы их не убивала, это слишком легкая смерть им. Я бы их не оружием, не винтовкой…”[715] Однако за каждым рассказом о зверствах и жестокостях остается главный вопрос – об их причинах. Остервенение с каждой стороны не было случайным порождением культуры или географии. Возможно, в первую очередь оно было сформировано идеологией. В России, как и в нацистской Германии, государство оказывало сильнейшее давление на жизни людей. По словам Гроссмана, “сверхнасилие тоталитарных социальных систем оказалось способным парализовать на целых континентах человеческий дух”[716]. Нет никаких причин предполагать, что писатель имеет здесь в виду лишь нацистскую версию тоталитаризма.
Более сложный вопрос касается той роли, которую сыграло в этом недавнее прошлое, уроки довоенного опыта. Народ, на который напали немцы 22 июня 1941 года, к тому времени пережил десятилетие сталинизма, голод, массовые аресты. Поколением ранее родители фронтовиков стали свидетелями революции, Гражданской войны, испытали боль от раскола семей, видели целые кварталы, охваченные пламенем. Этот период советской истории отмечен ежедневными расстрелами, виселицами, пытками, голодом, страхом. Прошло десять лет, и коллективизация, раскулачивание и голод вновь сделали существование невыносимым и безнадежным, когда выживание зачастую было вопросом жесткой конкуренции. Непосредственно перед самым началом Великой Отечественной войны появились слухи о массовых убийствах, расстреле польских офицеров в лесах Катыни, истязаниях и расстрелах тысяч заключенных на оккупированных территориях Галичины и Прибалтики.
Трудно сказать, как именно обыкновенные люди относились к убийствам и жестокостям (взгляды верхушки в этом отношении как раз достаточно понятны), живя в обществе, которое было ареной для такого рода преступлений. Трудно сказать, какие именно старые или новые традиции подпитывали жестокость и насилие, совершенные Красной армией. Практики, усвоенные в деревнях – например, традиции самосуда, – не были забыты ни в провинции, ни в ГУЛАГе, и они были по-прежнему живы в сознании многих городских рабочих. Но куда важнее то, что люди выработали свой взгляд, усвоили урок, привитый каждодневным опытом, о том, какую цену нужно заплатить, чтобы избежать смерти. Они вовсе не были тупым скотом или отморозками, отпрысками какого-то ущербного биологического, не вполне человеческого вида. Они были реалистами в условиях и обстоятельствах своего собственного мира. Подданные Сталина выучили, что в критической ситуации никаких рамок, кроме необходимости выживания, не существует. Бывшие блокадники часто рассказывают об опыте своих матерей, спасшем им жизнь, о тех уроках, которые они усвоили в своих семьях в детстве. Солдаты упоминают деревню – деревню 1930-х годов – и сурово рассуждают о тяготах жизни. Их отсылки звучат так, как будто подчерпнуты из мудрости древних: “Бог высоко, а царь далеко”, однако специфические детали биографий этих людей позволяют говорить о более мрачной, непосредственной связи с тяжелыми испытаниями и невзгодами. Человеческое существо могло выучиться врать и воровать – иными словами, могло и научиться убивать несмотря на свою добропорядочность, на свои надежды, на свои стихи и письма в кармане солдатской шинели.
Еще одним уроком, который усвоили советские люди, стал урок стоицизма. Как писал Василий Гроссман в 1946 году о начале обороны Сталинграда, “это первая страница эпопеи обороны Сталинграда, – страница, написанная огнем и кровью, мужеством рабочих и любовью”[717]. Почти каждый автор, писавший о войне, прибегает к подобным образам[718]. Свою роль в этом сыграла и идеология. Образ вождя, образ Сталина, кажется, закалил многие нерешительные сердца. Но когда дело касалось смерти, коммунизм неизменно являл свою слабость. Люди могли сражаться за Родину и за Сталина – некоторые утверждают, что именно так и было, – но, как правило, они не собирались умирать за социализм, за Маркса и за абстрактные ценности политической мечты. Их мысли обращались к своей земле, к своей семье, к России в ее мифической, духовной ипостаси. Война заполнила церкви прихожанами. Миллионы вернулись к открытому соблюдению религиозного ритуала.
Церковь – или, по крайней мере, некоторые ее части – быстро присоединилась ко всеобщему делу борьбы с захватчиками. В своем послании от 22 июня 1941 года Митрополит Московский и Коломенский Сергий заявил: “Православная наша церковь всегда разделяла судьбу народа. ‹…› Не оставит она народа своего и теперь. Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя»[719]”. В советском тылу бытовало распространенное (но ошибочное) убеждение, что немецкое правление положит конец русской религиозной жизни. На самом деле оккупационные войска на Украине завоевали сердца многих местных жителей тем, что открыли церкви и разрешили христианское богослужение[720]. Оба руководства – как нацистское, так и советское – сразу осознали ценность и важность восстановления избранных форм религиозной жизни.
Начиная с осени 1941 года, со всеобщего молчаливого согласия ограничения, наложенные Сталиным на работу церкви, были забыты. 4 апреля 1942 года граждане Москвы отметили первую Пасху военного времени крестным ходом и публичными богослужениями. Неся иконы по запущенным, опустевшим улицам, верующие рыдали, преисполненные благодарности и облегчения. “Боже мой, наш Сталин разрешил нам ходить всю ночь под Пасху. Дай ему Бог здоровья”, – радовалась одна москвичка[721]. Людям позволили праздновать жизнь вечную, и вскоре им будут помогать молиться об утешении в горе. В 1943 году куратор ленинградского Музея истории религии и атеизма (расположившегося в бывшем Казанском соборе) разработал меморандум об утешении. Его первые строчки были исполнены такта: “Атеистический материализм прогрессирует в рядах нашей партии, но личное горе от утраты родственников и страдания в связи с отсутствием информации о любимых ‹…› способствуют подъему религиозных чувств”.
Автор критиковал официальные общественные организации – профсоюзы, рабочие клубы и другие добровольные объединения. По его словам, все они делали недостаточно для того, чтобы утешить осиротевших, и из-за их недоработок люди “ощущают изоляцию и одиночество”, что в свою очередь “способствует подъему религиозных чувств”. Что касается агитационных клубов Красной армии и красных уголков, то эти учреждения “и вовсе не работают, если слово «работа» здесь вообще уместно”. По словам автора, когда люди пребывали в трауре, в горе, они отправлялись в церковь. Традиции, собственно, никогда и не исчезали. Оказывается, люди нуждались в них даже при социализме. Куратор Музея истории религии и атеизма рекомендовал открыть новые церкви[722]. В действительности священноначальники как в Ленинграде, так и в Москве уже вносили значительный вклад в борьбу с фашизмом через проповеди, наставления и молитвы.
Когда сегодня люди говорят об этом, в их словах до сих пор ощущается сила православной веры, особенно в связке с мистическими концепциями “русскости”. Вам поведают, что Ленинград спасла икона Казанской Божией Матери, самая его драгоценная реликвия, которую крестным ходом обнесли вокруг осажденного города. Один петербуржец рассказывал мне: “Мой отец был политруком, он должен был инструктировать людей и придерживаться правильной идеологической линии. В 1930-е годы он был немного фанатиком. Но я видел дневник, который он вел во время блокады. Это был частный дневник, который он писал только для себя. И все, что он все время писал в нем: «Господи, спаси нас!», «Господи, спаси нас!», снова и снова. Думаю, что во время войны он перестал верить в партию”. Фронтовые врачи, как правило, тоже откладывали свои идеологические убеждения в сторону, если говорили о смерти как таковой. Многие солдаты перед смертью молились, и многие из тех, кто на первый взгляд казался атеистом, просили в самом конце дать им крестик. “Одно дело – заигрывать со смертью, а совсем другое – умирать наверняка”, – сказал один мой собеседник. Даже непоколебимый Николай Викторович соглашается: “О да, большинство призывников в тот или иной момент покрестились. И в самом конце для них это было важно”.
Религия оставила свой след и на памяти. На патриотический миф бросает свой отблеск сияние искупления, жертвы ради праведного дела. Именно в этом духе рассуждают ветераны и бывшие фронтовые врачи: “На самом деле мы никогда раньше всего этого не говорили. Мы сражались не за Сталина. Мы сражались за свои семьи, за свой город. Говорят про родину и Сталина, но это все выдумки”. Сама русская земля, русская почва была для них священна. Считается, что страдание заставляет человека оказаться один на один со своим естеством, осознать, что для него действительно важно. Боль содрала с людей тщеславие городской жизни, напомнила русскому человеку о его душе. В конце концов, стойкость и выносливость всегда стоят того.
Истории, которые рассказывают другие люди, и песни, которые они хорошо знают и поют, почти неизменно возвращаются к этой теме. Даже смерть становится нереальной. Знаменитое стихотворение Константина Симонова “Жди меня…”, известное каждому ветерану, заканчивается так:
Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой, – Просто ты умела ждать, Как никто другой[723].Сборник журналистских статьей о войне, который сделал Илья Эренбург, в английском переводе называется “Russia at War” (“Россия в войне”), как и великая хроника Александра Верта, как и эта глава. Другие писатели пошли по их стопам, выбирая для своих книг названия, которые позволяли им избежать уродливой терминологии, бывшей прежде в ходу в Советском Союзе[724]. Несмотря на все их усилия, эти работы все же описывают войну, которая носила отчасти идеологический характер. Многие с обеих сторон воспринимают эту войну как конфронтацию между большевизмом и нацизмом, построенном на расовых фантазиях. Политработников Красной армии, какой бы национальности они ни были, нацистские Einsatzgruppen отделяли от общей группы военнопленных и расстреливали в нарушение международных правовых конвенций. По крайней мере, полмиллиона политработников было расстреляно уже в первые месяцы войны[725]. Многих подвергали публичной казни через повешение на разрушенных площадях Харькова, Киева, Орла и других городов. Влиятельные нацистские генералы игнорировали “традиционные” правила ведения “джентельменской войны”. Один из них нацарапал на полях документа, разрешавшего разного рода зверства: “Это идеологическая война на уничтожение, поэтому я одобряю и разрешаю меры, перечисленные в этой директиве”[726].
Великая Отечественная война коснулась всех советских людей. Иначе говоря, в нее оказались вовлечены практически все советские народы и народности, а также носители многочисленных религиозных верований и представители самых разных конфессий, идеологий и культур. Особая судьба некоторых из этих групп и рассказы о непропорциональном страдании долгое время были поглощены образом общей родины-матери. Сталина поддерживали далеко не все, и все с этим соглашаются, однако также не были безусловно принимаемыми ни православие, ни любовь к России. Некоторые люди, особенно представители нерусских этнических групп (и неевреи) в западных регионах страны, встречали немцев с облегчением, по крайней мере, в первое время. Позднее антисоветские партизанские войны на Украине и в Прибалтике стали одними их самых горьких и ожесточенных эпизодов всей войны. Но еще более дискредитирует миф о российском патриотизме тот факт, что подавляющее большинство советских граждан с энтузиазмом присоединилось к великой битве за свою страну. Те человеческие потери, которые принесли в этой битве нерусские народности СССР, потерялись в общей, универсальной истории. И это исчезновение было не вполне случайным.
Например, граждане сегодняшней Беларуси пострадали куда больше, чем их восточные соседи. Массовые захоронения на окраинах белорусских городов позволяют предположить, что многие из этих смертей – а речь идет о десятках тысяч – предшествовали немецкому вторжению. Однако затем Белоруссия оказалась на передовой фронта. Ее леса, болота и города начиная с лета 1941 года были заняты нацистами. Лавки, фермы и дома были разграблены и сожжены. Еврейское население республики было почти полностью уничтожено. Тех, кто не сумел убежать, сжигали живьем, умерщвляли газом и расстреливали в лесах и полях возле их домов или в печально известных лагерях в восточной Пруссии и Польше.
Бывший белорусский партизан объяснил мне: “Думаю, в моих краях был убит каждый четвертый, вероятно, погибло даже больше людей. Немцы уничтожали целые деревни. То есть особенно там, где были активны партизаны. Просто сжигали дома дотла. Колодцы были забиты телами: старики, крошечные дети, все подряд, я все это видел своими собственными глазами… Семь или восемь деревень просто сгорели за одну ночь… После войны, когда вы приезжали в города вроде Гомеля, было заметно, что вокруг гораздо меньше людей”[727]. Другая женщина рассказывала мне, что ей невыносимо приезжать в Минск, потому что ей кажется, что даже отстроенные заново улицы до сих пор пахнут отсыревшим кирпичом и горелым мясом.
Крах советской империи превратил эту и подобные ей истории в основополагающие мифы недавно обретших независимость наций. Украинские историки составляют списки погибших украинцев, писатели из других стран собирают свежие свидетельства на латышском, польском и диалектах провинциальной Галичины[728]. Мертвых снова ставят на службу “полезным” задачам и снова, как это обычно и бывает, мифы, в укрепление которых они должны внести свой вклад, нельзя назвать ни лживыми, ни абсолютно правдивыми. Скорее, это просто версии исторической правды. Некоторые сражались за национальное освобождение, некоторые – за свои семьи, за возможность выжить и за любую сторону, которая могла бы победить. Иногда люди сражались за несколько вещей одновременно или просто сражались, потому что по-другому нельзя было выжить. Но миллионами мужчин и женщин действительно двигали идеалы коммунизма и интернационализма, тот самый советский патриотизм. Многие из украинцев и белорусов, служивших в Советской армии, с гордостью носили свои погоны, и то же самое можно сказать о евреях, узбеках, абхазцах, казахах и других. При жизни этих людей их идентичность видоизменялась, принимала новую форму и снова изменялась по мере того, как их захватывало течение истории. И по мере того как менялись живые, менялось и смысловое значение мертвых.
Алексей Григорьевич живет в украинском городе Львове, столице фанатичного национализма, сердце этнической украинской культуры. Однако солдатские воспоминание самого Алексея Григорьевича и его друзей – это воспоминания о советской войне, которую они прошли плечом к плечу с русскими. Он рассказывает: “У нас до сих пор есть традиция. Первую стопку водки мы выпиваем стоя и молча, в память о погибших товарищах. В этом городе в живых осталось только двое – один из моей дивизии и один из моей армии. Только подумать, моей армии. Но мы до сих пор чтим эту традицию, за мертвых… И мы помним их всех поименно, по крайней мере наших друзей. Даже сейчас, когда у меня такой склероз, что я вообще все забываю, я все еще помню их имена”[729]. Его лучший друг, погибший на фронте, был осетином с Северного Кавказа. Алексей Григорьевич побывал в деревне убитого товарища: его семья считает его родственником.
За фасадом советского патриотизма скрывается проблема множественной идентичности. Никогда не знаешь, какой смысл Алексей Григорьевич вкладывает в каждую из описываемых смертей в данный момент, в какой контекст их помещает. У него украинское гражданство, и, как и у Беларуси, у Украины тоже есть свой новый исторический нарратив страдания (включая историю голодомора – голода-геноцида), который разросся после обретения страной независимости. Но помимо всего этого, Алексей Григорьевич – еврей и когда-то был советским гражданином. В силу разных причин каждая из этих идентичностей вызывает у него дискомфорт, и часто в его повествовании они соперничают.
Один аспект его раздираемой конфликтами жизни меня как британку насторожил, но самого Алексея Григорьевича, кажется, не особо тревожил (по его словам, самое важное его воспоминания касалось смерти фронтового друга). В моем мире невозможно было бы рассказать его историю так, как сделал это он. Для Алексея Григорьевича его еврейство не было источником горькой гордости, или праведной ярости, или священного чувства вины. Он утверждает, что на войне “ничего этого не было, абсолютно никаких различий между национальностями”. Затем он меняет тему. Больше всего он боялся не смерти, хотя в случае его гибели его мать осталась бы совсем одна. “Я боялся оказаться трусом. А поскольку я еврей, у меня не было права быть трусом”, – признается он. Его товарищи убеждали его, что с ним все порядке: “Ты один из нас, ты ни капельки не похож на еврея”. Его отец погиб в первые недели войны. Алексей Григорьевич так и не узнал, как именно это случилось. “Согласно документам, он пропал без вести на фронте, – объясняет он, – однако после войны соседи рассказывали, что видели его в оккупированном Киеве. Так что он наверняка попал в Бабий Яр. Других вариантов быть не могло”.
Холокост на советской земле был, пожалуй, самым зловещим из всех эпизодов войны, замалчиваемых официальными мемориальными церемониями. По сей день большинство людей говорит исключительно о той общей жертве, которую принес советский народ в целом. Киевский священник сказал мне: “Так они убивали евреев, ну и что? Мы знаем, что на евреях много вины. Они тоже убили много украинцев”. Только вмешательство Магдалены Алексеевны, внучки архиерея, помогло удержать его от того, что неминуемо полилось бы потоком шовинистской лицемерной отповеди: “Они убивали евреев потому, что те были евреями. Разве вы не понимаете? Все остальные умерли по какой-то причине. Потому что были коммунистами, или потому что были партизанами, или потому что мешались под ногами. Но евреев убивали только потому, что они были евреями. В этом разница”. Священник был вынужден замолчать, но переубедить его ей не удалось. Магдалена Алексеевна обладала некоторым авторитетом в его глазах – набожная женщина, прихожанка его церкви. Однако своих убеждений он не поменял.
Комментарий священника кажется еще более непристойным и омерзительным, если поместить его в контекст. Киев, где состоялся наш разговор и где мой собеседник провел войну, был местом печально известной массовой расправы над евреями. В сентябре 1941 года овраг на окраине города, в месте под названием Бабий Яр, стал могилой для более чем 33 тысяч человек. Один из выживших вспоминает: “Моя бабушка пошла с немцами. Она была такой доверчивой. Они просто сказали ей: «Пойдемте же, тетушка». Даже улыбались”.
Убийство всех киевских евреев заняло два дня – 29 и 30 сентября[730]. Те, кто расстреливал, работали посменно, меняясь каждый час, а ночью отдыхали, запирая тех, кто был жив, в пустые гаражи дожидаться рассвета. Закончив работу, они забросали рвы песком и щебенкой. Там, где слой опавших листьев и земли был тоньше, из-под земли торчали пальцы и конечности. Из-за газов от разлагающихся трупов происходили небольшие взрывы, видно было странное свечение. Но только когда в начале осень 1943 года немцы готовились покинуть Киев, они заставили узников Сырецкого лагеря, в основном евреев, скрыть свидетельства произошедшего на этом месте, сжигая человеческие останки, взрывая урочище динамитом и закапывая оставшиеся кости[731]. В других районах Украины и Белоруссии евреев заставляли рыть собственные могилы на окраинах городов и деревень, где их семьи жили и работали на протяжении многих поколений. По некоторым оценкам, около полутора миллионов из шести миллионов евреев – жертв Холокоста были гражданами СССР[732].
Местные жители прекрасно знали, что происходит. Немногие сделали хоть что-то, чтобы предотвратить массовое убийство. Некоторые – например, печально известные полицаи – готовы были принимать активное участие в убийствах. Еврейские ветераны часто настаивают на том, что в некоторых частях Украины всю “черную работу” выполняли отнюдь не немцы. Этот исполненный гнева предрассудок подпитывается современным антисемитизмом, который никуда не делся. Уцелевшие с осторожностью говорят о прошлом[733]. Даже украинцы, помогавшие им, (и одна из них – Магдалена Алексеевна) тщательно подбирают слова, говоря о войне.
Опасность антисемитских погромов – не единственная причина, по которой выжившие предпочитают хранить молчание. В отличие от рассказов о Великой Отечественной войне, история геноцида на бывшей советской территории вспоминалась не часто, это практически похороненная память. После наступления так называемой гласности и выхода на экраны фильма Стивена Спилберга “Список Шиндлера” (1993) некоторые свидетели пытались поведать о том, что им довелось увидеть и пережить, многих просили дать интервью сотрудникам таких организаций, как Фонд Шоа Спилберга, собирающего свидетельства о Катастрофе. Рассказывая об этом, социальные работники, занимающиеся этими людьми, качают головами[734]. Говорят, что многим стало плохо после записи. Им пришлось вновь вызывать к жизни свои воспоминания и искать слова, чтобы оправдать ожидания зарубежных интервьюеров. Мне рассказывали, что некоторые после интервью не могли говорить ни о чем другом, кроме как о лагерях смерти, а у других случались сердечные приступы, начались полные тревоги бессонные ночи, приступы депрессии. Истории, рассказанные этими людьми, знакомы в Западной Европе, Северной Америке или Израиле каждому. В странах же бывшего Советского Союза они все еще кажутся откровением, тайнами, которые способны сбить с толку и зачастую вызвать отчетливое чувство дискомфорта как у рассказчика, так и у слушателей.
Люди, согласившиеся поговорить со мной, сумели спастись. Они вспоминали, как бежали от немцев по лесам, вступали в партизанские отряды. Другие описывали, как росли в чужих семьях. Чтобы спасти им жизнь, родители отдавали их в младенчестве на воспитание украинским приемным родителям. У каждого из тех, с кем я говорила, погибла бóльшая часть друзей и родственников. Некоторые были свидетелями смерти близких, другие так никогда и не узнали, где погибли их родители, братья или сестры. Сегодня они стремятся выяснить больше подробностей о заново открытом прошлом, добавить каких-то личных деталей к голым фактам, да хотя бы поименный список своих погибших родных.
Лишь немногим это удастся. Судьба украинского еврейства стала темой одного из самых эмоциональных военных писем, которые писатель Василий Гроссман отправил домой, когда участвовал в наступлении Красной армии на запад: “Ни в одном украинском городе или селе нет такого дома, где бы вы не услышали негодующего слова о немцах, где бы за эти два года не были пролиты слезы, где бы не посылали проклятий немецкому фашизму; нет дома без вдов и сирот. ‹…› Но есть на Украине села, в которых не слышно жалоб, не видно заплаканных глаз, где тишина и покой”. Одним из таких сел были Козары, где на Пасху 750 семей были заперты в своих домах и сожжены. Никому не удалось выжить. Гроссман пишет:
Тишина эта страшнее слез и проклятий, ужаснее стенаний и криков боли. И я подумал, что так же, как молчат Козары, молчат на Украине евреи. Нет евреев на Украине. ‹…› Безмолвие. Тишина. Народ злодейски убит. ‹…› Все убиты, много сотен тысяч – миллион евреев на Украине. Это не смерть на войне с оружием в руках, смерть людей, где-то оставивших дом, семью, поле, песни, книги, традиции, историю. Это убийство народа, убийство дома, семьи, книги, веры. Это убийство древа жизни, это смерть корней, не только ветвей и листьев. Это убийство души и тела народа, убийство великого трудового опыта, накопленного тысячами умных, талантливых мастеров своего дела и интеллигентов в течение долгих поколений. Это убийство народной морали, традиций, веселых народных преданий, переходящих от дедов к внукам. Это убийство воспоминаний и грустных песен, народной поэзии о веселой и горькой жизни[735].
Гроссман попытается заполнить это молчание, собирая свидетельства Холокоста на советской земле для публикации их вместе с Ильей Эренбургом в “Черной книге”. Однако в 1948 году все русскоязычные экземпляры книги были уничтожены, как и сам типографский набор, с которого книга печаталась. Пройдут годы, прежде чем свидетельства, собранные в ней, вновь зазвучат в российских домах. Когда читаешь их сегодня, особенно поражают острая тоска, негодование, потрясение и чувство утраты, которыми пронизаны эти тексты, а также страстное желание получить последнее послание от мертвых. В декабре 1944 года сержант С. Н. Грутман писал Илье Эренбургу: “В начале сентября сего года мне пришлось быть в гор. Ковель для розысков своей матери и тещи”. В Ковеле, что в Волынской области Западной Украины, евреи жили на протяжении многих веков, и этот город был одним из первых оккупирован немецкими войсками в 1941 году. “Я знал уже их судьбу, однако мне хотелось найти хоть что-нибудь, оставшееся от них, на память, может быть, фото или что другое”, – писал солдат.
То, что представилось его глазам, будет впредь неотступно преследовать его. Он обнаружил, что большинство синагог и молельных домов были разрушены. Уцелела только одна, самая большая. Скрепя сердце, он вошел внутрь. Здание могло вместить по меньшей мере полторы тысячи человек. Теперь в нем было пусто: “Алтарь снесли. Свитки Торы сожжены, скамеек нет, а стены испещрены дырками от автоматных очередей. Два огромных льва, единственные «живые» свидетели ужаснейшего зверства, которое творили гитлеровцы в этом некогда Божьем храме”. Грутман собрался было уйти, но ему захотелось поближе рассмотреть поврежденную штукатурку стен, ощутить под своими ладонями ее выбоины и шрамы. Когда глаза привыкли к полумраку, он увидел, что стены испещрены и другими знаками, не только следами от пуль. Все куски потрескавшейся штукатурки были исписаны карандашом: “Стены заговорили… ‹…› Это последние слова обреченных. Это прощание людей с белым светом. Сюда гитлеровцы сгоняли людей, отсюда они их, обобрав до нитки, голыми уводили на расстрел где-то за Ковель, на ковельское кладбище, болота и леса, а может быть, в Майданек. ‹…› Сильно забилось мое сердце, защемило, заныло. ‹…› Может быть, тут последнее «прости» и моей матери?.. Я начал внимательно перечитывать надписи. Я спешил, ибо чувствовал, что ноги подкашиваются, слезы душили и мешали читать. Три с половиной года войны я крепился, крепился и заплакал. Мне почему-то было стыдно стен, как будто они говорили или думали обо мне: «Ты ушел и нас оставил, нас не взял с собой, ты знал, что с нами так будет, и оставил нас одних»”.
Для Грутмана самым важным посланием оказалась надпись из одного слова: “Отомстите”. Но большая часть их была полна отчаянием. “Знай, что всех нас убили. Теперь иду я с женой и детьми на смерть”, – нацарапал сестре некий Аврум. “Я нахожусь в синагоге и жду смерти. Будь счастлива и переживи ты эту кровавую войну. Помни о сестре”, – обращалась к сестре Поля Фридман. Лишь немногие из тех, кому были адресованы эти строки, выжили и могли прочесть последние письма родных. Семьи, которые не погибли в этой резне, часто ожидала смерть в других гетто или лагерях, но все они были под одним и тем же оккупационным режимом. “Лиза Райзен, жена Лейбиша Райзена, – начиналась одна карандашная строчка. – Мечта матери увидеться с единственной дочерью Бебой, проживающей в Дубно, не осуществилась. С большой болью уходит в могилу”. 5 октября 1942 года Дубно, еще один городок в соседней с Ковелем Ровненской области, тоже стал местом массового расстрела евреев[736].
Старые еврейские общины были почти полностью уничтожены, те, кому удалось уцелеть, прятались или бежали. Без семей и социальных связей эти беженцы скоро заново отстроили свои жизни, став “белыми воронами”, плохо приспособленными к чужой среде. Они постарались сделать все возможное в тех обстоятельствах, в которых оказались, начать новую жизнь на обломках прошлого, влиться в большой, советский мир. Их история и их вера стали грузом, который необходимо было скрывать. Чаще всего к ним относились как к чужакам, в лучшем случае – терпели. Самым мудрым решением в их положении стал конформизм. Ирина Матвеевна, которой удалось сбежать из Киева вместе с родителями и братом, вспоминает: “Мы были так голодны, что начали есть траву. Но местные нас выгоняли, потому что мы крали подножный корм для их скота”[737]. Семья сбежала в горный Узбекистан. И они не могли даже общаться с хозяевами своего временного пристанища, не говоря уже о том, чтобы преодолеть ту подозрительность, с которой местные жители относились к чужакам.
Мужество, которое помогало семье выжить в те недели, когда им угрожала смертельная опасность, отказало им, когда пришло время где-то осесть. И отец, и мать буквально “сгорели” за несколько дней. Двое оставшихся в живых детей, Ирина и ее брат, ютились на одной больничной койке. На следующее утро брат был мертв: он лежал рядом и, казалось, спал. Маленькая девочка, единственная уцелевшая из всей семьи, была вынуждена начать зарабатывать себе на пропитание сразу, как только смогла встать на ноги после болезни. До этого за ее еду частично платила местная женщина, которая по доброте душевной согласилась взять и продать обручальное кольцо ее матери.
Было множество других историй и других ссылок. Некоторые были инициированы сталинским правительством, которое на разных этапах войны объявляло целые этнические группы – среди них были давно и крепко укоренившиеся в России поволжские немцы, а также чеченцы, крымские татары и турки-месхетинцы – угрозой безопасности страны и приказывало выселить всех до единого на восток или север, в основном в Сибирь и республики Средней Азии. Самые ранние этнические депортации немцев и поляков описывали как предупредительные меры безопасности. Позже, когда немецкая армия отступала, целые народы, включая чеченцев и оказавшихся под оккупацией крымских татар, были объявлены предателями и коллаборационистами[738]. В любом случае общее число людей – мужчин, женщин и детей – пострадавших от этнических депортаций в годы Великой Отечественной войны, составляло не менее двух миллионов человек[739]. Их истории, утраты, расставания, тысячи смертей не повлияли на формирование официального образа героической борьбы советского народа. Парадигматическими в этом отношении остаются Сталинградская битва и блокада Ленинграда, бывшей столицы империи.
Патриотизм в этой последней из многонациональных империй Европы был и остается предметом эмоциональных споров, дебатов, перекосов и искажений реальности. Одна из санитарок сказала мне: “Больше всех боялись умирать азербайджанцы. И таджики. Эти… азиаты. Русские меньше всех боялись. Это у нас в характере”. Теперь, когда Советского Союза больше нет, концепция русской войны стала основой для формирования доброй части нынешнего самосознания россиян и помехой в построении современной российской личной идентичности.
Можно рассказать сколько угодно историй о Великой Отечественной войне – все они будут чрезвычайно важны для понимания ее значения, – но в конце концов ничто не способно умалить реальность огромных потерь, понесенных Россией, смертей миллионов человек, реальность той правды, что стоит за военным мифом. Людское горе было оглушительным, невыносимым. Павших на поле боя, убитых на войне хоронить всегда трудно. В культуре, в которой почва, кости и сопричастность играют столь важную роль, поиски призраков, ждущих упокоения, могут занять всю жизнь. Когда Константин Симонов хотел, чтобы перед его читателем в поэтическом пейзаже возникли могилы, он описывал “Деревни, деревни, деревни с погостами, / Как будто на них вся Россия сошлась”, но реальность была куда безжалостнее[740].
Александр Верт писал о Сталинграде: “На заводе «Красный Октябрь» и вокруг него бои продолжались несколько недель. Заводские дворы и даже помещения цехов были изрыты окопами. И сейчас еще на дне окопов лежали замерзшие зеленые трупы немцев, серые трупы русских и мерзлые куски человеческих тел. Среди обломков кирпичей валялись советские и немецкие каски, до половины наполненные снегом. Здесь была колючая проволока, и полузасыпанные мины, и снарядные гильзы, и причудливая путаница искореженных стальных ферм. Трудно было себе представить, как кто-то мог остаться в живых в таких условиях. Один из русских показал на стену, на которой было написано несколько имен. Возле этой стены одна из советских воинских частей полегла до единого человека. Теперь же в этом окаменелом аду все молчало и было мертво, как будто буйный сумасшедший внезапно умер от разрыва сердца”[741]. Я вспоминаю: “Они всегда лгали о количестве погибших”. Лгали и об обстоятельствах смерти. Медсестра, которая писала письма родным умерших в госпиталях от ран, рассказывала: “Мы всегда говорили их матерям, что они пали смертью героев”. Часто они сообщали родственникам и о могиле, даже когда это была всего лишь неглубокая траншея, безымянное поле без опознавательных знаков, даже когда от человека не оставалось ничего, что можно было бы предать земле.
В романе “Жизнь и судьба” Василий Гроссман, сам прошедший на передовой битву за Сталинград, представляет, как мать навещает могилу сына: “Людмила Николаевна подошла к могильному холмику и прочла на фанерной дощечке имя своего сына и его воинское звание. ‹…› Рядом, вправо и влево, вплоть до ограды, широко стояли такие же серые холмики, без травы, без цветов, с одним только стрельнувшим из могильной земли прямым деревянным стебельком. На конце этого стебелька имелась фанерка с именем человека. Фанерок было много, и их однообразие и густота напоминали строй щедро взошедших на поле зерновых…”[742]
Эта безрадостная картина – далеко не самое страшное, что могло ожидать матерей вроде Людмилы Николаевны. Алексей Григорьевич сразу внес свои поправки в этот сюжет. Когда я попросила его описать смерть и похороны во время войны, он на какое-то время замолчал, а затем сказал: “Это очень болезненный вопрос. Во время боев мы, конечно, никого не хоронили. Мы просто продолжали идти вперед… а наши друзья оставались позади. Существовали специальные команды, их называли похоронные команды, они были за линией фронта… в основном люди постарше, как говорили, не годные к строевой службе. Они подбирали тела и хоронили их. Хоронили разными способами. Обычно в окопах или траншеях. В противотанковых рвах, которые там часто были. Не было никаких кладбищ”. Он замешкался, тяжело дыша, так что я попыталась подтолкнуть его к дальнейшему рассказу, задав вопрос об опознавательных знаках. “Были ли какие-то знаки – кресты, звезды или камни, чтобы обозначить эти временные захоронения?” В ответ Алексей Григорьевич воскликнул: “Господи Боже! Нам хлопот хватало с поиском мест, где можно было бы зарыть тела! Их просто запихивали в землю, конечно, без всяких там гробов, и, если повезет, мы могли раздобыть какую-нибудь деревяшку, чтобы воткнуть над этим местом, как напоминание. Приметой могло быть немного фанеры, возможно, с красной звездой – это если у нас была красная краска, конечно. В противном случае просто небольшой кусок фанеры”.
Те, кого не предали земле, просто оставались лежать в камышах или среди берез. Возможно, никого не оставалось в живых, чтобы выкопать для них могилу. Даже сегодня на прежних полях сражения осталось много старых костей. Местные жители вспоминают, как отводили взгляд от непохороненных трупов, валявшихся в руинах на окраинах городов или в лесах. Первая весна и первая оттепель после любой битвы были самым жутким временем. Одна женщина рассказывала Светлане Алексиевич: “Весной лед тронулся на Волге… И что мы видели? Мы видели, как плывет красно-черная льдина и на льдине два-три немца и один русский солдат. Это они так погибали, вцепившись друг в друга. Они вмерзли в эту льдину, и эта льдина вся в крови. Вся матушка Волга была в крови…”[743]
Чтобы увидеть, как останки собирали, помещали в ящики и хоронили после окончания войны, достаточно посетить один из больших мемориалов постсталинской эры. Типичный пример – блокадное Пискаревское мемориальное кладбище на севере Санкт-Петербурга. В центре мемориала – шедевра геометрии, мозаики из солидного мрамора, чья утешительная симметрия тяготеет всей своей массивностью к земле, – возвышается бронзовая скульптура доблестной “Родины-Матери” с каменной гирляндой в руках. Мемориал вызывает в сознании посетителя мысль о колоссальной жертве, принесенной народом, но ничего не говорит о мучениях. В 1970-е здесь проводились парады и патриотические митинги. На фотографиях можно увидеть школьников в аккуратных школьных формах: девочки в белых носочках, волосы завязаны сзади накрахмаленными белыми бантами. Дети несут знамена, маршируют и поют. Участники изображали бодрость и жизнелюбие, но видно, что происходящее вызывало у них ощущение неловкости. Выглядит все это как парад скаутов.
Главная надпись на памятнике оканчивается строчкой Ольги Берггольц: “Никто не забыт, и ничто не забыто”. Конечно, это неправда, но история забвения гораздо сложнее, чем просто рассказ о цензуре. Существует бесчисленное множество письменных мемуарных свидетельств о ленинградской блокаде. В начале, как скажет вам любой свидетель тех событий, ленинградцы говорили и говорили – бесконечно, повторяясь, одержимо, страстно[744]. Но спустя какое-то время бóльшая часть их историй, как и их военные награды, превратились в “предметы на показ” для особых случаев. Когда летом 1943 года некоторые защитники Ленинграда получали бронзовые медали “За оборону Ленинграда” (в торжественной обстановке, среди портретов вождей, цветов, лозунгов и знамен), они испытывали гордость, а некоторые были тронуты до слез, но медали не были предназначены для повседневного использования. Информационная сводка A. A. Жданову о настроениях населения в связи с вручением медали гласила: “О большом значении, которое придают ленинградцы медали, свидетельствуют многочисленные факты бережного и любовного отношения награжденных к хранению награды. Многие рабочие и служащие перестали носить медаль, боясь, что бронза может потемнеть, а ленточка запачкаться. Некоторые, желая избежать этого, обертывают ленточку целлофановой бумагой. ‹…› Старый рабочий завода им. Калинина инструментальщик т. Иванов так оценивает полученную им награду: «Награждение ленинградцев войдет в историю человечества. Мы должны хранить медаль как зеницу ока, оправдывая каждым своим поступком. Моя одежда часто бывает грязной, а медаль пачкать нельзя. Носить я ее буду только по праздникам. За эту награду нас, ленинградцев, везде уважать будут»”[745]. Так и с историями. Их не хочется запачкать или истрепать, вытаскивая на свет божий по неподобающим случаям. В конце концов, они предназначены для бережного хранения, и вам решать, как и кому их рассказывать.
Во время ленинградской блокады погибло в десять раз больше человек, чем при атомной бомбардировке Хиросимы[746]. Сначала люди гибли под бомбежками. Позднее, уже во время осады, они умирали от голода и холода. Немцы окружили город к 8 сентября, и Ленинград пробыл в кольце почти 900 дней до 18 января 1943 год. C началом первой блокадной зимы власти начали проводить подсчеты людских потерь. “Смертность в городе по причине голода, суровых морозов и отсутствия дров резко выросла в декабре, – говорилось в докладе властей. – К сожалению, в городе нет организации, которая могла бы назвать точную цифру умерших в Ленинграде людей за период с 1 декабря 1941 г. по 1 июня 1942 г. Это объясняется тем, что по неточным данным произведенных кладбищами захоронений, последние в декабре 1941 г. по отношению к ноябрю выросли на 247 %, в январе 1942 г. по отношению к декабрю – на 408 % с лишним, в феврале по отношению к январю – на 108 % с лишним. Никто к таким размерам смертности и молниеносности ее роста не только не был подготовлен, но никто никогда и не мог мыслить о чем-либо подобном.‹…› По данным кладбищ города, далеко не точным, возможно завышенным, ими за период с 1 июля 1941 г. по 1 июля 1942 г. захоронено 1 093 695 покойников”[747]. На самом деле, вскоре точное число смертей и вовсе станет невозможно подсчитать. Тела были свалены в кучу, некоторые фрагменты тел и вовсе исчезали в глубине хозяйственных сумок голодных горожан.
Ни больницы, ни похоронные службы не справлялись с тысячами смертей. Гробов не хватало, грузовики были наперечет, горючего не было вовсе, и к началу зимы не осталось мест в братских могилах-траншеях, которые предусмотрительный местный совет по плану МПВО загодя приготовил летом. Рабочие треста “Похоронное дело” (подотдел Ленгорсовета) работали на износ, сверхурочно, но и они слабели и тоже умирали от истощения. Начальник УПКО исполкома Ленгорсовета писал: “Отдельные работники кладбищ, учитывая важность и срочность проводимой работы, работали до последних сил. Некоторые могильщики, вырыв с неимоверным напряжением сил могилу, не в силах были без посторонней помощи из нее выбраться или, опуская покойника в могилу, падали в нее сами”[748]. Те, кто еще в состоянии был идти пешком так далеко, самостоятельно оттаскивали на кладбища тела своих умерших родственников. На фотографиях первой блокадной зимы – фигуры, с трудом бредущие сквозь снег, отбрасывающие в тусклом длинные тени. Некоторые тянут саночки, другие – груз, завернутый в ковер или тряпки. В некоторых свертках – дрова, в других – покойники. Чиновник системы здравоохранения писал, что своеобразные неформальные похоронные процессии производят “тяжелое впечатление на население города”: “В густой дымке трескучих морозов закутанные человеческие фигуры медленно и молча с сумочками-авоськами двигались по улицам осажденного, непокоренного города, волоча за собой саночки, фанерные листы с уложенными на них в самодельных гробах, ящиках или зашитыми в одеяла или простыни одним или несколькими покойниками, и иногда толкая перед собой ручную тележку с покойником, или двигающие перед собой детскую колясочку с покойником, зашитым в одеяло-простынь и усаженным в нее”[749].
Останки умерших служили немым укором тем, кто был еще жив. Один из блокадников искал себе комнату в городе. Во время артобстрелов было уничтожено столько домов, что найти жилье было трудно даже после начала эвакуации и нескольких тысяч первых смертей. Если ваше жилье было разрушено, вы просто отправлялись искать тихие дома и толкали любую дверь, которая была не заперта. Этот человек, как и многие другие, нашел двухкомнатную квартиру и осторожно попробовал щеколду. Внутри он обнаружил труп взрослого мужчины, насквозь заледеневший. Рядом с ним на стуле сидел подросток лет четырнадцати, тоже мертвый, а в углу в люльке был труп младенца. Во второй комнате на кровати лежала их мертвая мать. Девочка, последний остававшийся в живых ребенок в этой семье, мыла тело матери мочалкой. На следующий день она тоже умерла[750].
По мере сокращения численности населения, увеличивалось количество бесхозных покойников. Груды тел скапливались в больницах, пока, наконец, внутри не оставалось больше места[751]. Тогда врачи оставляли трупы во дворах, складывая их штабелями у стен или около ворот. Сотрудники городского статистического управления, которые все еще прилежно собирали данные для учета смертности, отмечали, что большинство умерших падали замертво на работе или даже на улице[752]. Во многих случаях жители домов, слишком истощенные и обессилевшие для того, чтобы оттащить трупы на кладбище, просто сваливали их в парадных или даже оставляли на помойке. Зловещее свидетельство этой практики вскрылось в Эрмитаже: когда упаковщики, которых послали в хранилища музея подготовить его художественные сокровища к эвакуации, спустились в подвал, они обнаружили более ста трупов. Это были тела сотрудников музея, которые умерли на рабочем месте. Их оставили под землей их коллеги, у которых не было для них ни времени, ни более подходящего места[753].
Городские морги представляли собой не менее макабрическую картину. Составитель официального отчета, описывавший их состояние в тот период, использовал термин “жуткий”. Проблема заключалась в том, что у работников треста “Похоронное дело” и у бригад добровольцев, каждый день занимавшихся уборкой улиц, не было времени деликатничать. Полки морга были доверху забиты “обезображенными трупами”, сообщалось в отчете, и даже частями трупов: “здесь можно было видеть… оторванные головы, ноги, руки, размозженные черепа, трупы грудных детей, трупы женщин с крепко обнятыми в агонии смерти трупиками грудных и других возрастов детей”. Население не было милосердно избавлено от этого наводившего ужас зрелища. Иногда люди отправлялись на поиски пропавшего ребенка или супруга в больницы, прочесывали улицы, дворы, подвалы и каналы. Но в конце концов, если эти поиски не приносили успеха, они всегда оказывались в очереди к окошку приема посетителей в местном морге, мяли шапку в руках, перебирали пальцами видавший виды шарф, крепко держали за руку испуганных детей и надеялись, и плакали. В том же процитированном выше отчете городского управления предприятиями коммунального обслуживания за первый год войны говорилось: “В моргах с утра до наступления темноты бродили люди с унылыми, озлобленными лицами и искали: родители – погибших детей, дети – погибших родителей, братья – сестер, сестры – братьев и просто знакомых”[754]. Городские власти делали черно-белые фотографии моргов. Сегодня они похожи на средневековые изображения ада[755].
Осажденный Ленинград был примером стойкости, но не только ее. В блокаду пышным цветом расцвела преступность. “Спекулянты” и “тунеядцы” предлагали свои услуги по захоронению умерших в обмен на водку, пиво или хлеб, обещали достать гроб, требовали оплаты вперед куском мяса или продуктовой карточкой. Некоторые вообще отказывались переносить тело, не получив прежде щедрую взятку[756]. Местные преступники тоже предлагали помощь с доставкой трупов на кладбища. Обычно они сваливали несколько покойников на телегу, быстро разгружали ее, составляли фальшивые отчеты. За каждый труп полагалась пайка водки, а раздуть цифры не составляло никакого труда. Кто бы стал проверять их в такой холод, в темноте, в густом морозном тумане? Водка, как и хлеб, была эквивалентом денег, а деньги, как и хлеб, означали возможность выжить.
Городские власти пытались противостоять преступности, проверяя документы и выписывая справки на каждый труп. Но это лишь создало новую проблему. Многие вообще не хотели связываться с официальными органами, их отпугивала эта бюрократическая волокита. Родственники умерших боялись, что у них не окажется нужных документов, поэтому сами перестали отвозить тела в морги и на кладбища[757]. Это нежелание – а скорее, неспособность из-за слабости от истощения – заниматься транспортировкой трупов родственников самостоятельно лишь увеличило количество новых тел: “покойников стали в массовом порядке подбрасывать к больницам, поликлиникам, выбрасывать на лестницы, во дворы и даже на улицы города”[758]. В конце концов с кризисом удалось справиться, когда под захоронения были отведены специальные блокадные кладбища на окраинах города (включая Пискаревское кладбище). Специально для такой чрезвычайной ситуации старый кирпичный завод № 1 был превращен в крематорий[759]. Чудом за долгие месяцы осады Ленинграду удалось избежать масштабных эпидемий.
Однако настоящим убийцей был голод. Он неизбежно толкал некоторых на самый отчаянный шаг – людоедство. Официальный доклад не обходит эту тему стороной: “Кладбища охранялись плохо из-за отсутствия нужного количества людей и занятости их на других работах. С кладбищ начали похищаться части разрубаемых трупов, особое пристрастие проявлялось к детским трупам, разрубались и похищались трупы, брошенные в городе”[760]. Одна женщины была арестована в марте 1942 года, когда возвращалась с кладбища, везя что-то на санках в наматраснике. При осмотре в мешке нашли пять детских трупиков. Оставленные в больничных дворах трупы разделывали на куски, отрубая мягкие ткани, так часто, что и там, и на кладбищах, и в моргах приходилось выставлять охрану. Один из блокадников вспоминает: “Я ходил в булочную недалеко от дома. По дороге туда я проходил мимо мертвых, лежавших на улицах, а по дороге домой я опять шел мимо тех же трупов, но у них уже были вырезаны мягкие части тела”[761]. Одна блокадница добавляет: “Я по сей день не покупаю пирожки с мясом у уличных продавцов. Всегда боюсь, что может быть в начинке”. Каждый ленинградец содрогается от этой мысли.
Однако превалирующее сегодня воспоминание о блокаде – это память о непоколебимой стойкости и выносливости. Людмила Эдуардовна объясняет: “Мы не испытывали сочувствия к тем, кто просто сдался. Все в какой-то момент чувствовали себя плохо, но мы продолжали ходить на работу, это был единственный способ сохранить разум живым”. После окончания рабочего дня в осажденном городе проходили концерты. По словам Людмилы Эдуардовны, те, кто перестал на них ходить, и были теми, кто в конце концов умер. Те, кто жаловался, кто мог думать только о хлебе, в конце концов переставали работать и умирали. Она помнит репетиции “Ленинградской симфонии” Шостаковича. Еще до начала блокады Симфонический оркестр Ленинградской филармонии был эвакуирован в Новосибирск, и единственный музыкальный коллектив, еще остававшийся в городе, Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета, насчитывал всего 14 музыкантов – остальные умерли от голода и холода. Однако руководителю оркестра, дирижеру Карлу Элиасбергу, каким-то чудом удалось найти подкрепление (он позвал вышедших на пенсию музыкантов и любителей), и 9 августа 1942 года была исполнена новая, Седьмая симфония Шостаковича. Зритель, побывавший на этом историческом концерте, вспоминает, что “люди, казалось, разучившиеся ронять слезы страдания и горя, теперь плакали от абсолютного счастья”[762].
Подобные истории рассказывать нетрудно. Солидарность жителей города до сих пор производит сильное впечатление, а слезы радости стыдными не бывают. Но совсем иначе эти истории звучали бы, если бы их герои дали волю отчаянию и горю. Такие истории есть, но их не воспевают и не превозносят. Память о травме – травме умов и тел, окоченевших от страха и от того ужаса, который все были вынуждены наблюдать, – была практически полностью утрачена. Даже некоторые профессиональные психиатры забыли, что у многих людей шрамами была иссечена не просто плоть и увечья были не только физические. Одна из санитарок призналась мне: “У меня действительно были ночные кошмары. Но вот что это за постдраматический стресс такой, о котором вы говорите?”.
Одна из наиболее уважаемых в Санкт-Петербурге специалистов в области психиатрии, женщина сорока с лишним лет, уверяла меня, что после блокады у населения не наблюдалось никаких признаков посттравматического стрессового расстройства. Ее старшая коллега, уже вышедшая на пенсию, поправила ее: “Все это было, но сегодня об этом никто не говорит. Были даже случаи самоубийств. И была масса других проблем”[763]. Документы подтверждают как раз вторую точку зрения. Они также демонстрируют, с какой легкостью были подавлены воспоминания о калечащем, уродующем страхе. В 1948 году группа врачей описала синдром, который получил название “ленинградская (блокадная) артериальная гипертония”. Они писали, что в основе этого явления лежат два фактора: длительная и интенсивная нервно-психологическая травма и нехватка питательных веществ, – но первый, нервно-психологический фактор имеет первостепенную важность. Кроме того, добавляли специалисты, симптомы, невротическая природа которых наиболее прозрачна – и которые в другое время приписывали бы пережитой контузия, – были более распространены среди тех, кто выжил под бомбежками и артобстрелом, чем среди тех, кто только голодал[764].
Эту проблему обошли вниманием отчасти из-за нехватки ресурсов, требовавшихся для помощи всем, кто страдал от невротических заболеваний и мучился кошмарами пережитого. “Травма? – рассмеялись медики, с которыми я заговорила на эту тему. – Да мы были бы рады, если бы еды было вдоволь”. На самом деле, витамины – первое лекарство, которое выписывали врачи, лечившие амбулаторно пациентов, обращавшихся к ним после войны с тревожностью и расстройствами психики. Было ли это средство достаточным и подходящим или нет, но зачастую им больше нечего было предложить своим больным. Да и экспертных знаний в этой области практически не было. Даже военных медиков, как они мне объяснили, не учили уходу за контуженными, хотя некоторые из их старших коллег, сталкиваясь с паникой или параличом неизвестной природы у пациентов, опирались на опыт предыдущей, Первой мировой войны. К 1940-м годам предпочтительным методом лечения, применявшимся на фронте, было тотальное фармакологическое вмешательство: применение химических препаратов. Идея была в том, чтобы как можно быстрее вернуть пациента в строй – лучше, если за несколько дней, максимум за три недели, предписанные правилами[765]. Фронтовые бригады врачей-неврологов, на создание которых надеялись врачи царской России, так и не появились на фронтах Великой Отечественной войны. Сталинские теоретики медицины никогда особо не принимали в расчет страдания отдельного солдата, тот мрак, в который было опрокинуто его сознание.
Госпитали в тылу были не слишком хорошо приспособлены для подобных страдальцев. Они были захудалыми, обшарпанными, холодными, страдали от нехватки персонала (в стране повсеместно ощущалась нехватка рабочих рук) и, мягко говоря, не отличались особенной чистотой. Среди санитаров практически не было мужчин, чтобы усмирить пациентов, заболевания которых делали их агрессивными, склонными к вспышкам насилия. В результате все, кто мог, предпочитали держаться от таких госпиталей подальше, и даже пациенты с травмами головы отказывались от операций, которые им могли быть показаны[766]. Это общество стигматизировало любого, кто отклонялся от нормы, клеймило позором “слабаков” или так называемых трусов. В стремлении очистить улицы от калек с фронтовыми ранениями власти вскоре выслали их из городов. После 1946 года количество направлений к врачу с гипертонией, тревожными расстройствами и неврозами резко сократилось. Даже люди с ампутированными конечностями стали реже появляться в больницах. Они знали, что у врачей в арсенале есть лишь скудный набор медикаментов.
“Простите меня за мою слабость”, – сказала одна из медсестер, когда, предавшись воспоминаниям, она вдруг разрыдалась. Она не могла говорить. Но та же самая женщина еще полчаса назад описывала, как в блокаду думала об умирающих. “В тот вечер один из мужчин пришел в себя, – говорит она, – я только помню, что почувствовала облегчение. Подумала: «Хорошо, что теперь я могу узнать у него фамилию для справки»”. Иначе говоря, она прибегла к иронии. Другие смотрят на память сквозь призму невероятного, фантастического. “А вы знаете, что было в первом поезде, в самом первом поезде, прорвавшемся через кольцо блокады? – спросила меня Людмила Эдуардовна. – Кошки, целый поезд кошек, – рассмеялась она. – В городе кишмя кишели крысы, и в живых не оставалось никого, способного их истребить. В конце концов, все кошки перевелись. А крысы были реальной проблемой, особенно если вспомнить обо всех этих трупах. Когда прибыл поезд, мы пошли посмотреть. И там были эти кошки, глядящие в окошки. Очень забавно”.
Людмила Эдуардовна потеряла мужа на фронте и сама чуть не умерла от голода. В ее глазах нет слез. Татьяна Евгеньева тоже сидит с прямой спиной и не вспоминает о боли. Говорит: “Помогало то, что мы были молоды. Не хотела бы я пройти через все это сейчас”. Но затем, как всегда, я спросила ее о первой смерти, которую ей довелось наблюдать. Это был шестнадцатилетний паренек, такой же подросток, как и она сама, которого она знала по школе. Он стал жертвой Советско-финляндской войны зимы 1939–1940 года. Татьяна Евгеньевна принялась было рассказывать его историю своим обычным тоном, но не смогла. Мы остановили запись. Практически всегда наступает момент, когда приходиться остановиться. Вам дают понять, что эти слезы – неподобающий материал для фиксации на пленку. Они накладывают определенные требования, которые не пройдут (это мир, в котором требованиям редко идут на встречу). Плакать стыдно. Слезы – это что-то личное, тайное, не соответствующее общепринятым нормам поведения. Россияне не желают, чтобы в их военных мемориалах из бетона, бронзы и гранита были закодированы безутешное горе и калечащая травма.
Глава 9 Пантеон
Александр Верт был в Москве 9 мая 1945 года, в день, когда советский народ праздновал победу над фашизмом в Европе. По его словам, это был “незабываемый день”, отмеченный “чувством стихийной радости, гордости и облегчения”: “Мне еще не приходилось видеть в Москве, чтобы так искренне и непосредственно выражали свою радость два, а может быть, и три миллиона людей, заполнивших в тот вечер Красную площадь, набережные Москвы-реки и улицу Горького на всем ее протяжении до Белорусского вокзала. Люди танцевали и пели на улицах; солдат и офицеров обнимали и целовали. Возле американского посольства толпа кричала «Ура Рузвельту!» (хотя он и умер за месяц до этого)”. Люди до рассвета гуляли по широким бульварам, собирались под окнами грозных правительственных зданий и хохотали, пели, кричали, вновь наслаждаясь своим городом, нетерпеливо и страстно ожидая того, что обещало им мирное будущее. Верт отмечает, что молодые люди были так счастливы, что им необязательно было напиваться: “На какое-то время Москва отбросила всякую сдержанность. Такого эффектного фейерверка, как в тот вечер, мне еще не доводилось видеть”[767].
Девятое мая и по сей день остается одним из самых важных праздников для ветеранов войны. Старые люди, разменявшие восьмой десяток, до сих пор встречаются в весенних парках и на площадях, купаясь в солнечных лучах под плотными бутонами сирени. Они надевают свои ордена и медали, обмениваются историями и недоуменно наблюдают, как мимо проходят ничего не понимающие представители нового, диковинного поколения, в этих своих западных тряпках, с кричащим макияжем, сытые и благополучные. В 1945 году самое большое празднование состоялось вовсе не 9 мая, а 24 июня, когда под затяжным дождем, нетипичным для этого времени года, по Красной площади победным парадом прошли тысячи солдат и их офицеры. Они несли захваченные штандарты неприятеля, сотни нацистских знамен, чтобы швырнуть их на ступеньки Мавзолея к ногам Сталина как трофеи, завоеванные ценой невероятной стойкости, ценой стольких смертей. Это был не только день триумфа Красной армии, но и день, когда состоялся знаменитый кремлевский прием в честь Победы, день, когда Сталин начал присваивать войну, произнеся свою знаменитую, убийственную речь, в которой восхвалял “маленьких людей”, “винтики” гигантской машины, без которых его собственная великая победа была бы невозможна[768].
Налицо был контраст между частными воспоминаниями людей и тщательно срежиссированными церемониями официального триумфа. В первый же послевоенный год эйфория победы быстро разбилась о реальность потерь, растерянность и продолжающиеся житейские тяготы и невзгоды. Официальное празднование победы, состоявшееся в июне, было довольно безрадостным и мрачным, как будто генералы шли не в ногу с настроениями значительной части общества. Некоторые с нетерпением ждали появления триумфаторов – Сталина и его генералов. “Наконец-то будет демонстрация, которую я так ждал на протяжении четырех лет. На Мавзолее народ опять увидит т. Сталина”, – писал один москвич, но другие не горели столь сильным желанием “стоять и мучиться в колонне демонстрантов” и наблюдать военный парад, белых лошадей, сверкающую медь духового оркестра. Одна вдова, беспартийная работница птицефабрики писала: “Положение у меня очень тяжелое: двое детей, а помощи ниоткуда нет. Праздновать поэтому нет возможности, радоваться нечему”, – а инженер завода объяснял: “Мне не до демонстрации – сына убили. Я скорее пошел бы на панихиду”[769].
Даже солдаты, возвращавшиеся в то лето с фронта домой на попутных грузовиках и в переполненных душных вагонах поездов, знали, что их военные воспоминания слишком сложны, чтобы вписать их в какой-то единственный акт поминовения. Перспектива возвращения домой была похожа на сон, на волшебную сказку, но ностальгия по войне, по боевому товариществу, предвкушение путешествия и удовольствие от разговоров, сырого табака и немецкого шнапса все еще наполняли их жизни здесь и сейчас. Некоторые думали о друзьях, которых они потеряли, другие, напротив, пытались не думать о совершенном постыдном убийстве – не в бою, а возможно, о ноже, пронзившем темноту, об украденных часах. Все было слишком свежо, слишком чуждо, слишком живо в сознании, и разобраться в этом было трудно. В стихотворении, написанном в 1946 году, некий солдат размышляет над всем этим, складывая солдатскую гимнастерку и убирая с глаз долой материальные свидетельства войны: “Но как мне расстаться с военными днями? Вовеки не сбыть их с рук? Что делать? Большая солдатская память никак не лезет в сундук”[770]. Выглядывая из окна вагона, бывшие солдаты, должно быть, задавались вопросом о том, какими окажутся их соседи в мирной жизни и смогут ли все они устроить свои судьбы так, как мечтали об этом монотонными, безрадостными месяцами в 1942 и 1943 годах.
Железнодорожное путешествие на восток от Берлина для возвращающегося домой солдата пролегало среди руин Пруссии и Польши, почерневших городов Белоруссии. Этот маршрут все еще таил в себе опасности: отступающая немецкая армия подорвала сотни мостов, повредила во многих местах железнодорожное полотно, заложила бессчетное количество мин, часть которых покоилась в деревянных ящиках специально для того, чтобы их было труднее обнаружить. Обе стороны на разных этапах войны уничтожили тысячи зданий – сараев, изб и амбаров, заводов и многоквартирных домов. Сровняли с землей свыше 1700 городов и более 70 тысяч деревень[771]. В большинстве городов в бывшей зоне оккупации для жизни остались пригодны менее половины домов[772]. Киев лежал в руинах, его самая знаменитая улица Крещатик превратилась в завалы. Минск, Гомель, Псков представляли собой такое же зрелище – груды кирпичей и пепла. Пригороды города-героя Ленинграда были разрушены отступающими войсками. Исторические дворцы крушили молотками, испещряли пулями. На территории Петергофского дворца немцы срубили три тысячи вековых деревьев. В других пригородах, например в Пушкине, где в 1942 году немцы проводили аресты и брали заложников, местные жители могли продемонстрировать приезжим многострадальный пейзаж, изрытый свежими могилами[773].
“ [От] Сталинграда ничего не осталось – камня на камне. Если бы это от меня зависело, я бы отстроил Сталинград заново где-нибудь в другом месте – это было бы куда проще. А это все я превратил бы в музей”, – признавался Александру Верту один из бойцов[774]. Гектары территории промышленного порта являли собой картину опустошения: полуразрушенные стены, полуразрушенные трубы, железки, торчащие из бетонной осыпи. Должно быть, силен был соблазн оставить все как есть, не восстанавливать и не отстраивать заново. Илья Эренбург, посетивший Ленинград в 1945 году, разделял мысль о том, чтобы можно сохранить часть руин как вечный мемориал. Он хотел, чтобы Пушкин и Петергоф частично остались в развалинах и обломках: возможно, это было бы опасное, но не лишенное лиризма свидетельство вандализма и жестокости врага[775].
Однако еще до того, как была прорвана блокада, граждане Ленинграда и особенно команда, работавшая с его главным архитектором Н. В. Барановым, вынашивали планы восстановления всего того, что было разрушено во время войны: и самого города, и великолепных дворцов в пригородах. Задача, стоявшая перед ними, устрашала своим масштабом, но была таким же этапом выздоровления города, как и прибытие первых поездов, украшенных красными флагами. Еще в 1944 году 1-й секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрей Жданов сформулировал это так: “Наша задача не просто восстановление, но и реконструкция города… изменить его фасад, создать город, где жизнь будет гораздо лучше, комфортабельней, чем прежде”[776]. При подобном оптимистическом взгляде разрушение Ленинграда представало даром свыше, возможностью перестроить, переделать целый мир. Слово “перестройка”, пусть и в сугубо утилитарном, а не в политическом значении, впервые зазвучало в советских разговорах именно в 1944–1945 годах.
Желания было не занимать, но ресурсы для реализации мечты о восстановлении и даже перестройке города были по-прежнему скудными. Побывавший в Ленинграде после блокады Эренбург отмечал: “Повсюду виднелись следы страшных лет, что ни дом – то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно”. Но город потерял не только здания: “Не дома наводили грусть – люди. Я всматривался в толпу: до чего мало коренных ленинградцев! В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень”[777]. Гуманитарные последствия войны были такими тяжелыми, что даже заезжий наблюдатель, без всякой цели прогуливавшийся вдоль обнесенных заборами руин, мог заметить зияющее отсутствие тех лиц, которые прежде пестрели в ленинградской толпе. Каждому запомнится своя жутковатая деталь. Для интеллектуала Эренбурга такой деталью стали букинистические магазины, заваленные “грудами редких книг – библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии”[778].
Характерными приметами этого мира лишений и утрат были брезентовые мешки и рюкзаки, железнодорожные билеты, чужаки, гнетущая нужда, экономика товарообмена. В 1945 году 25 миллионов человек по всей советской империи куда-то ехали: речь не только о солдатах, возвращавшихся с фронта, но и о тех, кто возвращался из заключения или ехал в ссылку, о правительственных чиновниках, отчаявшихся крестьянах, партизанах, уголовниках и бандитах. Для всех этих миллионов человек война была далека от завершения. Например, в некоторых регионах Западной Украины партизанская война против советской власти продолжалась до 1950-х годов. Другие категории граждан ощутили на себе пристальное внимание государства, его подозрительный взгляд. Возвращавшимся с фронта военнопленным, целым народам, подвергшимся депортациям, и так называемым остарбайтерам грозили арест и допрос уже со стороны своих. После победы страны во Второй мировой войне миллионы советских граждан были сосланы в Сибирь. Продолжились также депортации и преследования целых народов, жертвами которых стали калмыки, немцы, литовцы, латыши, эстонцы, крымские татары, чеченцы и ингуши[779]. Но даже для русских, даже для войск, триумфально возвращавшихся с фронта домой, победа имела горький привкус. Фронтовикам предстояло пройти психологическую адаптацию, привыкнуть к новым, странным для них законам мирного времени, где их уже поджидали старые враги: сначала голод, а затем нужда, тяжелый труд и репрессии.
Разрушенная промышленность не могла обеспечить базовых потребностей. Объем советского производства, точнее, той его части, что еще функционировала после стольких лет разрушений и перегрузки, к 1945 году сократился приблизительно вдвое. Упор на обеспечение военных нужд означал, что из всего объема произведенных товаров на товары потребительского назначения, транспорт, жилье, здравоохранение приходилась еще меньшая доля, чем прежде[780]. Объем сельскохозяйственного производства также был низким даже по стандартам бедственных в этом отношении 1930-х годов. Деревня была опустошена демографически: сельское население понесло чудовищные потери и по большей части состояло из женщин, детей и глубоких стариков. Одна вдова рассказывала белорусской писательнице Светлане Алексиевич: “У меня трое сыночков осталось… И снопы на себе тягала, и дрова из леса, бульбочку и сено. Все сама… Плуг самотугом, на горбу своем, волокла и борону. А что ж?! У нас через хату, две – и вдова, и солдатка. Пооставались мы без мужиков. Без коней. Коней тоже на войну позабирали”[781].
После войны, вспоминают деревенские женщины, бабы заняли место мужиков и лошадей: “А кончилась война, в колхоз пошли. И жала, и косила, и молотила. Плуг на себе тягали вместо коней. Коней не было, и их убили”[782]. В действительности, в послевоенном Советском Союзе женщин было на 20 миллионов больше, чем мужчин. В некоторых регионах страны количество женщин трудоспособного возраста превышало количество мужчин в шесть раз[783]. Паспортная система привязывала их к земле. Они не могли сняться с места и уехать в поисках лучшей доли, спутника жизни, другого, нового уклада жизни. В период холодной войны западные сатирики будут высмеивать фигуры и стиль этих женщин, их крестьянскую одежду, огрубевшую кожу и столь же грубые манеры. Но если говорить серьезно, социолог Кент Гейгер, изучавший структуру советской семьи, писал о центральной роли матери в такой семье, о властных, доминирующих характерах послевоенных матриархов. По его наблюдению, эти женщины отчасти черпали свою власть из неравенства, потому что “многие из погибших преждевременно мужчин были самыми энергичными, решительными и отважными представителями своего пола”[784].
На самом деле, правильнее было бы говорить не о кухонной тирании, а о беспросветном изнуряющем труде, о неблагодарной монотонной работе, которые сформировали “бабушек” 1970-х. У Надежды Мандельштам был собственный взгляд на женщин сталинской эпохи, а также на смерть, которая сначала забирала самых сильных: “Все мы вышли потрясенными и больными из первых лет революции. Сначала это сказалось на женщинах, но все же они оказались живучими и, проболев полжизни, уцелели. Мужчины были вроде покрепче и устояли после первых ударов, но загубили сердца, и редко кто доживает хотя бы до семидесяти лет. Тех, кого пощадила тюрьма и война, унесли инфаркты или ‹…› болезни ‹…›. Нечего и говорить, нас потрепали как следует. Только беспристрастная статистика все время твердит о неустанном повышении среднего срока жизни. Наверное, за счет женщин и детей, потому что моя женская раса действительно оказалась двужильной”[785].
Слова Мандельштам звучат правдоподобно, однако, отсылая к мифу о невероятной стойкости и “двужильности” – этому достоянию уцелевших, – она упускает из виду тот факт, что некоторые – те, кто не мог оставить о себе никаких свидетельств, – все же были сломлены. Психиатр Валентина Карловна рассказала мне, что в городах ситуация была еще не такая отчаянная, как в провинции. (Другие городские женщины, которым сегодня не меньше семидесяти, до сих пор хихикают, когда их спрашиваешь о том, как им жилось в мире, в котором оставалось так мало мужчин. Говорят: “Ну, мы делились, конечно”[786].) Валентина Карловна работала в Ленинградской области, и в 1940-е годы ей довелось наблюдать женщин как с окраины, так и из сельской местности. Она рассказывала: “В деревнях им было очень, очень тяжко. Они, по сути, перестали быть женщинами. У них, конечно, прекратился менструальный цикл, но дело было не только в тяжелой работе или голоде. Все потому, что они больше не были женщинами. Говорили, что больше не думают обо всем этом – о сексе или даже о прежней жизни. Просто выживали. Даже монахинями их не назовешь. Было ужасно, ужасно тяжело”[787]. Замечания Валентины Карловны, отзвуки которых повторялись в рассказах и других очевидцев, представляют собой удручающий комментарий, который стоит рассмотреть в контексте другого послевоенного новшества – введения института матери-героини, – которое стало ответом режима на его собственный преступно халатный расход человеческих жизней. В 1940–1950-е годы за многодетность давали награды, а бездетных и желающих развестись, наоборот, облагали высоким налогом. Несмотря на все эти меры, отмечает в своем демографическом исследовании французский историк и демограф Ален Блюм, в Советском Союзе так и не произошло взрыва рождаемости, подобного американскому беби-буму[788].
В памяти каждого, кто вспоминает о том времени, остался тяжелый труд: как носили ведра молока или картошки, чистили, мыли, подметали, ходили за скотиной. Деревенские дети помогали взрослым в колхозах, находившихся в бедственном положении, а те, кто оказался в разрушенных городах, работали с матерями на расчистке завалов, таскали кирпичи и мусор, передавали ведра из рук в руки по цепочке, составленной из добровольцев. Магдалена Алексеевна вспоминает, что именно так был восстановлен Крещатик, а Людмила Эдуардовна была свидетельницей строительства новых площадей и театров в Ленинграде. Занимались всем этим тяжелым трудом главным образом женщины, так что люди даже в шутку говорили о “косметическом ремонте”[789]. Людмила Эдуардовна работала, чтобы закончить учебу. По ее словам, у нее и времени не было горевать. С ней согласна и Ирина Матвеевна, которая после школы уже работала на полставки телефонисткой в далеком новом мире, вдали от дома и больших столичных городов.
Луиза Карловна проводила все свое свободное время дома. Ее мать была больна и из дома не выходила, и семья зарабатывала себе на пропитание, клея конверты. Садясь вместе за работу, женщины постоянно говорили об отце. Его “десять лет без права переписки” подходили к концу в 1947 году, и, как и тысячи других женщин по всей стране, они ждали его возвращения. Пройдет еще десять лет, прежде чем они узнают, что его уже давно нет в живых и что его расстреляли через несколько часов после ареста. Освободившись из лагеря в 1947 году, Юдифь Борисовна столкнулась с тем же долгим, томительным ожиданием, с той же неопределенностью. И ей, и ее матери был запрещен въезд в Москву, так что свои первые годы на свободе она провела в Казахстане. Но как только ей позволено было съездить в столицу, Юдифь Борисовна отправилась в путь, взяв с собой маленького сына. Она могла думать лишь о том, чтобы отыскать своего отца, или, по крайней мере, доподлинно выяснить, где именно он умер. Пока Сталин был жив, слухи передавались шепотом, но постепенно приглушенный гомон отдельных голосов и вопросов, которые задавали люди, становился громче, сливаясь в полнозвучный хор. К 1950-м годам люди по-настоящему изголодались по информации. Эти голоса еще не попали в центр общественного внимания и звучали пока не слишком громко и стройно, не требовали справедливости (кто бы на такое отважился!), но уже волновали, будоражили душу. Их обладатели пытались собрать воедино картину случившегося с их родными, которая могла бы избавить их от неизвестности и дать и им право предаться горю[790].
Смерти и исчезновения взрослых оказали огромное влияние и на советских детей. Сын Юдифи Борисовны, как и Луиза Карловна, и Ирина Матвеевна, был типичным представителем в широком смысле поколения детей, которые, как правило, росли без отцов. Некоторые матери – а Юдифь Борисовна была именно такой матерью – усердно занимались образованием детей, настаивали на том, чтобы они читали, беспокоились, освоили ли они таблицу умножения и правила сложения. Однако другие матери, особенно те, чья работа не позволяла им проводить много времени дома, не успевали задумываться о том, что происходит в головах у их детей. Многих послевоенных мальчиков и девочек – а затем и их собственных детей – воспитывали бабушки, другие же не знали практически никаких взрослых родственников. Это было дикое, безнадзорное детство, вдохновленное историями героизма, но проживалось оно в реальном мире голода и изнуряющего труда. Дети, выучившиеся воровать сапоги, стягивая их с замерзших трупов немцев, теперь были вынуждены жить среди взрослых, которые, как правило, пребывали в мрачном расположении духа, придавленные грузом проблем. Когда я спросила такого ребенка военных лет, выросшего в Киевской области, в какие игры он играл в детстве, он на мгновение задумался. “Да мы особенно и не играли, – ответил он, призывая сперва на помощь знакомую мифологию. – Нам пришлось рано повзрослеть. Мы же были первым послевоенным поколением. Никаких книг, никакого радио. И так вплоть до 1950-х годов. Ну, наверное, в футбол гоняли”. Но затем ему вспомнилось еще кое-что: “О да, точно, мы играли в «овраг ужаса». Бросали найденные гранаты в балку рядом с городом и ждали, какие из них окажутся действующими”. Это развлечение стоило его приятелю обеих рук[791].
Тысячи солдат возвращались с фронта – иногда в свои довоенные дома, иногда в новые семьи или вообще не находили никого из близких. Но в целом ход гражданской жизни выбивал бывших фронтовиков из колеи, лишал силы и решимости. Переход к мирной жизни каждому давался нелегко. Одним из проявлений этого были повторяющиеся ночные кошмары[792]. Женщины рассказывали Светлане Алексиевич: “Я ходила в разведку после войны лет пятнадцать. Каждую ночь. И сны такие: то у меня автомат отказал, то нас окружили. Просыпаешься – зубы скрипят. Вспоминаешь – где ты? Там или здесь? (Альбина Александровна Гантимурова, старший сержант, разведчица) По ночам все время кричала. Ночью мама с сестрой сидели со мной… Я просыпалась от собственного крика… (Нина Владимировна Ковеленова, старший сержант, санинструктор стрелковой роты) Это теперь я просыпаюсь ночью от страха, мне приснится, что я на войне… Самолет летит, мой самолет, набирает высоту и… падает… Я понимаю, что я падаю. Последние минуты… И так страшно, пока не проснешься, пока этот сон не улетучится (Анна Семеновна Дубровина-Чекунова, гвардии старший лейтенант, летчица)”[793]. Забыть было непросто, но не легче было и избавиться от рефлекторной ненависти, от вечного поиска скрытых врагов. Многие не перестали воевать даже тогда, когда замолчали пушки. Ходили слухи, что скоро начнется новая война. Милиция тщательно записывала все слухи, передававшиеся шепотом, которые удавалось перехватить. “Я слыхал, что война идет уже в Китае и в Греции, куда вмешались Америка и Англия. Не сегодня-завтра нападут и на Советский Союз”, – говорили одни, в то время как другие были уверены, что “Америка порвала мирный договор с Россией, скоро будет война. Говорят, что в город Симферополь доставили уже эшелоны с ранеными”[794]. Первые несколько месяцев послевоенной жизни подобные воображаемые войны казались, вероятно, более заманчивой и уж точно более естественной перспективой, чем груз мирного времени со всей его однообразностью и безотрадностью, который вскоре лег на плечи переживших войну.
Сын бывшего фронтовика попытался объяснить мне этот психологический механизм: “Видите ли, солдаты стали взрослыми. Сначала, когда они вернулись домой, они стучали кулаками по столу и требовали, чтобы администрация навела порядок, разобралась. Орали о неуплатах за работу и обо всем таком. Но постепенно даже их удалось усмирить и подчинить”. Когда я спросила его, куда делся весь их пыл, мой собеседник пожал плечами: “Да анекдоты травили и много пили. Тогда в деревнях самогона было хоть залейся”[795]. В послевоенный период также значительно выросла преступность, особенно были распространены кражи, но в некоторых регионах были отмечены бандитизм, терроризм и отчаянное вооруженное сопротивление навязанной советской власти. Однако тяга к переменам и переустройству мира скоро начала иссякать. “Всем как-то хотелось наладить свою жизнь. Ведь надо же было жить. Кто-то женился. Кто-то вступил в партию… Надо было приспосабливаться к этой жизни. Других вариантов мы не знали”[796].
Этот мрачный фатализм стал неожиданным постскриптумом оптимизма 1943–1944 годов. Александр Верт описывал “беспечность” Москвы 1944 года, “желание уйти от действительности”. Он отмечал “легкомысленную уверенность в «возврате к нормальному положению» и процветанию в послевоенный период, и это тогда, когда еще продолжалась очень тяжелая война… ‹…› Советский народ в 1944 году склонен был думать, что жизнь скоро станет легче”[797]. Тогда же писатель Всеволод Вишневский предсказывал: “Когда война закончится, жизнь будет очень приятной. В результате нашего опыта появится великая литература. Будет активное движение и множество контактов с Западом. Каждому будет разрешено читать то, что ему хочется. Будет обмен студентами, поездки за рубеж для советских граждан будут упрощены”[798]. Солдаты без конца говорили о послевоенном мире по пути домой от Берлина, и у тех, кто дожидался их, тоже были свои мечты. Эвакуированные с тоской рассказывали о доме, населяя его родственниками, которых многим из них не дано уже было увидеть. В Ленинграде и в переполненных городах Средней Азии, куда многие были эвакуированы, десятки тысяч человек могли мечтать только об одном: чтобы наконец у них было вдоволь еды. Какие бы фантазии ни рисовало воображение людей о послевоенной жизни, она просто обязана была улучшиться – иначе и быть не могло, учитывая ту огромную цену, которую они за это заплатили.
По мере того как затвердевал и ожесточался послевоенный мир, оптимизм оборачивался разочарованием. Журналист Б. Галин вспоминал: “В армии мы часто говорили о том, что будет после войны, как мы будем жить на другой день после победы, – и чем ближе было окончание войны, тем больше мы об этом думали, и многое нам рисовалось в радужном свете. Мы не всегда представляли себе размер разрушений, масштабы работ, которые придется провести, чтобы залечить нанесенные немцами раны”[799]. Писатель Виктор Астафьев добавляет пронзительную ноту самобичевания: “И самая большая боль, самое горе горькое в нашей жизни было как раз сознание, что от усталости военной, от надсады послевоенных лет мы не удержались сами на той нравственной высоте, которой достигли на войне и которую сами себе сотворили, несмотря на бездушие и препятствия безнравственной, преступной верхушки нашей, возглавившей изнасилованную страну”[800].
В действия этой безнравственной, преступной верхушки и впрямь невозможно было поверить. Настроения, царившие в послевоенном обществе, которые многие описывали как “спонтанную десталинизацию”, были безжалостно искоренены. Среди наиболее заметных жертв этого витка репрессий были военачальники, включая маршала Жукова, чья популярность, считалось, затмевает славу самого Сталина. Власти ограничивали и контролировали встречи и воспоминания, стремясь сделать их как можно менее заметными. Сталин требовал от своих подданных преданности в настоящем, а не ностальгического служения прошлому[801]. За репрессиями против бывших военнопленных, этнических меньшинств, тех, кого подозревали в инакомыслии, партизан, отщепенцев и местных начальников, проявлявших чрезмерную рьяность, последовали две новые кампании, основными мишенями которых стали интеллигенция и евреи. “Конечно, я потерял работу, – говорит бывший коммунист и фронтовик Семен Павлович, – я был евреем, а на дворе стояли 1940-е годы. Они так и говорили в то время. Ты еврей. Тогда этого было достаточно”. Пока он был на фронте, куда ушел добровольцем, ведомый чувством патриотизма, нацисты уничтожили всю его семью. Дома его ждали лишь подозрительность, предрассудки и загубленная карьера[802].
Одной из мишеней новых кампаний были военные герои, а другой – города-герои. Жители Ленинграда сами собрали материал для музея, задокументировав пережитые ими испытания. В коллекцию “Музея обороны Ленинграда” должны были войти документальные источники, фотографии и другие экспонаты, увековечивавшие блокадную эпопею. В 1949 году музей был закрыт, а многие из тысяч его экспонатов – варварски уничтожены. Пройдет целое десятилетие, прежде чем власти разрешат открыть новый музей, который окажется безликим, примитивным, непритязательным и, по словам одного из историков блокады, абсолютно неадекватным поставленным задачам. Под удар попали и наиболее выдающиеся поэты. Среди тех, кто в эту инквизиторскую эпоху стал объектом официальной травли, оказалась Анна Ахматова. Несмотря на ее лояльность власти и усилия по поддержанию боевого духа в обществе, 14 августа 1946 года вышло постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) “О журналах «Звезда» и «Ленинград»”, в котором творчество Ахматовой подверглось разгромной критике. “Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. ‹…› Ахматовская поэзия совершенно далека от народа”, – ораторствовал Андрей Жданов[803]. Овации, которыми публика стоя встречала стихи поэтессы, были забыты, по крайней мере, на официальном уровне. Но сигнал, который власть посылала ленинградской интеллигенции, был понятен. К 1948 году у большинства представителей творческих профессий был по крайней мере один знакомый в опале. Добрая часть интеллигенция снова держала наготове чемоданчики со сменой белья и зубной щеткой – самым необходимым на случай ареста[804].
Основой нового общества, его опорой станет группа, которую, вынося за скобки марксистско-ленинскую терминологию, можно назвать средним классом. Инженеры, учителя, врачи, управленцы среднего звена и конторские служащие послевоенного периода станут бенефициарами того, что Вера Данэм назвала Big Deal – “Большой сделкой”[805]. Сталинизм предлагал этим людям комфортную жизнь и мещанскую благопристойность (если, конечно, им посчастливилось избежать лагерей): горячую воду, сентиментальную поэзию и гарнитуры мягкой мебели – в обмен на политическую пассивность. Пока их собственные дела шли хорошо, а политика была работой других, эти люди не имели ничего против легкой, хорошо сбалансированной цензуры. Они не возражали, когда улицы внезапно были очищены от безногих и безруких калек, они не вступали в споры о природе интеллектуальной свободы или этичности подневольного труда. Данэм объясняет, что режим апеллировал к частным, шкурным интересам этой страты, работая в партнерстве с ее представителями, “обращаясь к соображениям престижа, гордости за свою работу, удовлетворения, которое люди получают от собственного профессионализма и от аполитичного конформизма”[806]. Снова на передний план вышла старая антипатия между “нами” и “ими”, между хорошим гражданином-конформистом и всеми остальными – аутсайдерами, чужаками, преступниками и инакомыслящими.
Этот элемент послевоенного времени в существенной мере подпитывался лицемерием. Цензоры были представителями тех немногих профессий, которые в 1940-е годы могли рассчитывать на стабильно растущие оклады. Контекст для существования цензуры был создан всепроникающим страхом, который, как дурная погода, никогда не рассеивался, хотя его могли не всегда замечать или отмечать. Однако поток желающих приобщиться к послевоенной кампании очищения нравов и вымарывания всего чуждого и неподобающего не иссякал. Взять, например, проблему детских сказок. Русская сказочная традиция ничуть не беднее других, а сами сказки, как правило, довольно зловещи: в них часто присутствуют жестокость, пытки, истязания, мизогиния и убийства, а также универсальный архетип – злая мачеха. К 1949 году все эти темы стали казаться неуместными для подобного жанра. Сказка начала угрожать социальной сплоченности. Поэтому одним ноябрьским вечером группа специалистов по фольклору, среди которых были ученые-исследователи, любители древностей и закаленные полевыми исследованиями этнографы, собралась в Москве и решила эти сказки переписать.
Есть своя ирония в том, что люди, посвятившие жизнь изучению народной, массовой культуры, заговорили о том, чтобы эту самую культуру переделать, перекроить. “Нам нужен фольклор, который бы воспитывал любовь к родине, любовь к труду, который бы помогал воспитывать мужество и несгибаемость”, – заявил один из них. Другие были с ним согласны. Сказки, описывающие “безнравственный успех” героев вроде Емели или Ивана-дурака, истории, в которых встречалась незаслуженная, необоснованная, чрезмерная жестокость вроде сказок о Василисе Прекрасной и неизменно популярной Бабе-яге, были рекомендованы к цензуре. Мысль о том, что судьба человека заранее предначертана и что ее нельзя избежать, глубоко укорена в русской культуре. За нее, как за спасительную соломинку, хватались те, кому удалось выжить в исторических российских катастрофах. Теперь же эта самая мысль была признана “идеологически ошибочной”. Кто-то было спросил, какому ребенку понравится читать безликие и пресные сказки, которые вышли из-под коллективного пера всех этих специалистов, руководствовавшихся благими намерениями. В комнате повисла неловкая тишина. Но кое с чем даже этот скептик готов был согласиться: злой мачехе не место было в детских сказках[807]. В стране с 26 миллионами погибших слишком много детей вынуждены были привыкать жить в подобной коллизии в реальной жизни.
Десять лет спустя, в 1960 году, другая группа специалистов – на этот раз редколлегия уважаемого журнала “Знамя” – собралась, чтобы обсудить рукопись Василия Гроссмана. Встреча началась с речи главного редактора журнала Вадима Кожевникова, которые решил поручить своим сотрудникам помочь Гроссману преодолеть его “идеологический кризис”, который, по общему мнению собравшихся, привел писателя к “огромной политической ошибке”. Ошибкой, о которой шла речь, была рукопись, точнее черновик романа о войне “Жизнь и судьба”. Любой, кто знаком с этим романом, согласится, что это одна из самых обжигающих и пронзительных книг о Второй мировой войне, гениальная в своей проницательности. Причем это замечание относится к мировой литературе в целом, не говоря уже о том, что роман Гроссмана – одна из самых сильных книг о войне, написанных на русском языке. Однако Кожевников и его подчиненные не горели желанием публиковать этот текст: “Жизнь и судьба” не вписывалась в правила и условности, которым должен был соответствовать послевоенный патриотический роман.
Это книга не о великих подвигах, не об исторической победе наших войск под Сталинградом, не о тыле, не о нашем боевом духе, жаловался один из участников встречи своим коллегам. Она – о неукротимой жестокости, подлости и двуличности. Даже самые благородные герои вынуждены притворяться, лицемерить, ловчить и в целом “играть в изнуряюще сложную игру”, чтобы избежать предательства и репрессий. По мнению собравшихся, Гроссману следовало быть осмотрительнее и благоразумнее. Он же сам был ветераном Сталинграда. Полноватым мужчинам в костюмах пришлась не по нраву та настойчивость, с которой Гроссман хотел обсуждать трусость и страх (в то время как они ждали от него рассказов о героизме), они возражали против того, что он периодически изображал смерть.
Гроссману так и не довелось увидеть роман напечатанным. До самой своей смерти в 1964 году он продолжал верить, что все копии рукописи были уничтожены. Редакторы журнала “Знамя” сказали ему, что его персонажам “не хватает человеческой теплоты”. Его обвинили в том, что он намекал на то, что в стране как во время войны, так и до нее, была установлена тоталитарная система, бесчеловечная и враждебная человеческому духу, обрекающая людей жить в страхе, вести себя безнравственно по отношению друг к другу, предавать друг друга, лгать, обманывать, бросать жен и детей. Невольно задумаешься о том, что должны были испытывать обитатели именно такого мира, обличая книгу. Их вывод: книге не хватает исторической объективности[808].
Лицемерие редко бывает привлекательным, и трудно противиться искушению просто осудить его со всем высокомерием, свойственным ретроспективному взгляду в прошлое. Однако послевоенные эвфемизмы и героические мифы выполняли определенные важные функции, облегчая – обезболивая – хотя бы отчасти неловкость и муки адаптации, горя и вины. Подобно традиционным ламентациям, которые избегают упоминаний о крови и костях и бесконечно идут по заведенному кругу чувства, прежде чем принять более формальные, управляемые очертания, безвкусная военная поэзия и кинофильмы создавали мир, лишенный внутренних противоречий, фантазию о стойкости и выживании. Это был акт коллективного побега, эскапизма, добровольная анестезия, и те, кто вспоминает об этом сегодня, верят, что она срабатывала.
Советские люди, выжившие на войне, не помнят травму. Они видят себя не жертвами, а героями. Это правда, что их жизнерадостность зависела от постоянной сосредоточенности, коллективного ободрения и отказа пристальнее вглядеться в тяжелые, мрачные подробности недавнего прошлого. Были и те, кто не справился, сломался – ленинградские врачи хорошо знали такие случаи. Если верить их объяснениям, “люди с самой слабой нервной системой” сдавались первыми и умирали, однако никто не может сказать наверняка, сколько людей продолжали страдать от неотступных воспоминаний о прошлом, от отзвуков и образов войны[809]. Государство постаралось, чтобы некоторые из этих выживших исчезли с глаз долой: их высылали и запирали в лечебницы для хронических больных. Но ни у государства, ни у медиков не было монополии на использование принуждения и методов давления на таких людей, с тем чтобы заставить их продолжать жить, оставаться в живых, заново отстроить свой мир.
У давления и принуждения было несколько источников. Фундаментальное значение здесь имела коллективная традиция, а также привычка прибегать к иносказаниям и отмалчиваться. Отчасти свою роль сыграло огромное бремя работы – каждый, кто рассказывает вам о послевоенной жизни, обязательно упоминает, что людям в то время просто некогда было вглядываться в себя и заниматься самоанализом. Однако в результате у общества оказалось слишком много тайн и секретов (истории голода, воровства, людоедства, воспоминания о тех, кто исчез без следа, рассказы о жестоком кровопролитии военного времени, о пуле в спину товарища, о массовых изнасилованиях и расправах с гражданским населением в Пруссии), а молчание стало всепобеждающим правилом. Некоторые говорят, что всегда обсуждали все эти темы в кругу семьи. Луиза Карловна утверждает, что ее мать рассказала им обо всем. “Мы об этом всегда говорили, – вторит ей и более молодая женщина, внучка большевика-интеллектуала, – сидели на кухне по вечерам и вспоминали”. Но не у всех была семья, а у многих не было и частного пространства личной кухни.
Послевоенная Россия была страной мигрантов. Первые послевоенные десятилетия, 1940–1950-е, стали временем роста городов. Люди добывали необходимые документы и перебирались в города, многие фронтовики также старались по возможности зацепиться в городе. У таких людей не было семьи, с которой можно было бы поделиться рассказами, да и частного уединенного пространства для таких разговоров часто тоже не было. Большинство горожан теперь обитали в коммуналках, в каждой из комнат которой могла жить целая семья (по три поколения вместе) или группа плохо сочетающихся друг с другом посторонних людей. Все общественные пространства, включая кухни и ванные комнаты, были местами общего пользования. Стены были тонкими. Некоторые звуки – болтовня, пение, работающее радио, ругательства строптивого пьянчужки – стали настолько привычным и обыденным фоном, что его не замечали. Однако приглушенные голоса и слезы, любые искренние слова, признания, на которых строится и о которые подчас разбивается дружба, – совсем иное дело. Милиция проявляла к таким вещам неусыпный интерес. Сплетни разносились мгновенно.
У подобного молчания были самые разные последствия. Ветераны войны говорят, будто едва замечали его, что было нетрудно: частный шепот тонул в шуме официальных или, по крайней мере, дозволенных воспоминаний. Однако у жертв других катастроф есть иные истории, которые стало возможным (и безопасным) обнародовать только с наступлением эпохи гласности. В то время многие, подобно Анне Тимофеевне, предпочитали говорить о войне как о самом ярком периоде своей жизни, торжестве коллективных усилий. Но для некоторых, как, например, для матери Анны Тимофеевны, их судьба (которую они считали исключительной, особой) стала источником тайной гордости. Они жили столь изолированно от всего, с таким ощущением собственной исключительности, что у них не было инструментов для того, чтобы осмыслить историю своей жизни.
Для каждого человека, в судьбу которого вмешалось государство, наиболее эффективной стратегией было похоронить прошлое и сделать вид, что его никогда и не было. Это неминуемо влекло за собой одиночество, но его можно и нужно было перетерпеть. Анна Тимофеевна продолжала заниматься музыкой. Другие люди из семей бывших кулаков вроде педиатра Нины Антоновны, которую я встретила в Санкт-Петербурге, сделали не менее успешную карьеру. Теперь их жизни зависели от их способности скрывать правду о своем детстве. В конце 1940-х годов Нина Антоновна второй раз вышла замуж (ее первый муж погиб на фронте). Новому мужу она не рассказала ровным счетом ничего[810]. Луиза Карловна поведала мне, что когда ее брат указал в анкете при поступлении в университет, что его отец был репрессирован, дорога в вуз оказалась для него закрыта навсегда. Сама она, отвечая на официальные вопросы, решила сказать лишь часть правды. “Я всегда указывала, что отец умер от кровоизлияния в мозг”, – признается она.
Конечно, просто держать язык за зубами было недостаточно. Как это ни парадоксально, а иногда и просто жестоко, большинство было вынуждено поддерживать официальную линию о том, что жизнь становилась “лучше, веселее”, благополучнее. Как пелось в популярной песне, “я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек”. Поскольку люди были обречены петь эту песню и дальше, возможно, было лучше не знать о тех секретах, которые их соседи держали при себе. На некоторых подействовало бесконечное повторение одного и того же. Они начали верить в ложь и небылицу. Эти люди приняли для себя официальную идеологию, размахивали флагом и славили советские достижения на ежегодных первомайских демонстрациях. Но были и другие, по большей части мужчины, которые нашли утешение в выпивке. К началу 1960-х годов домохозяйства в среднем тратили до 20 процентов своего дохода на алкоголь. Бедные в пропорциональном отношении тратили больше, возможно до 40 процентов дохода[811]. Водка, производимая государством, продавалась в бутылке с крышечкой из металлической фольги. Предполагалось, что это продукт не длительного хранения и подлежит незамедлительному употреблению.
Все, с кем я говорила, помнят, что испытывали чувство вины, хотя продолжали натужно петь в общем хоре и строили все новые и новые монументы, с годами становившиеся лишь помпезнее. Воспоминания бывших солдат постоянно возвращаются к смертям, которые они не могут искупить. В тот день, когда погиб его лучший друг, Алексей Григорьевич был в полевом госпитале за линией фронта. Утрата была сокрушительна и сама по себе, но еще тяжелее было чувство, что он мог бы как-то помочь, даже если в действительности он мог просто стать свидетелем гибели своего друга. Это чувство вины тяжким грузом лежало на его душе все это время. Другой мой респондент, когда я упомянула чувство вины, улыбнулся: “Конечно, у меня это в генах, ведь так? Во всех наших русских генах”. В одной из своих последних лекций о войне историк и бывший фронтовик Михаил Гефтер описал собственное чувство вины, процитировав популярное стихотворение Александра Твардовского:
Я знаю, никакой моей вины В том, что другие не пришли с войны, В том, что они – кто старше, кто моложе – Остались там, и не о том же речь, Что я их мог, но не сумел сберечь, – Речь не о том, но все же, все же, все же…По словам Гефтера, сомнение, которое “терзает нашу память”, состоит именно в том, “что я их мог, но не сумел сберечь”[812].
Чувство вины было так широко распространено, что, подобно горю и молчанию, стало таким же заурядным фоном жизни, как осенний дождь. Но обыденность и распространенность не сделали его менее острым. “Я сказал, что буду рассказывать о себе”, – ответил бывший диссидент, когда я спросила его, горевал ли он о смерти своей тети. Ее убили фашисты, но никто не прочитал по ней кадиш кадиш, еврейскую поминальную молитву. “Я прекрасно понял ваш вопрос, – сказал этот старый человек, – но для меня важнее всего то, что я был арестован”[813].
Семья Маши тоже была еврейской, причем нетипичной, потому что ее родители были крестьянами. Нетипично было и то, что им удавалось оставаться в живых в течение нескольких месяцев, после того как Белоруссию оккупировали немцы. Но, в конце концов, случилось неизбежное, и кто-то их выдал. Семья была вынуждена бежать в леса. То, что произошло дальше, остается неясным. Обоих родителей расстреляли, причем мать погибла на глазах дочери. Однако рассказ Маши о том, как ей самой удалось уцелеть, расплывчат, и она противоречит сама себе, когда пытается описать свое спасение. Когда мы разговаривали, у меня никак не получалось прояснить для себя подробности ее истории. Если я задавала вопросы, которые Маше не нравились, эта решительная женщина шестидесяти с лишним лет просто переводила разговор на другую тему. Мы говорили о смерти и утрате, но успели обсудить йогу, шоколад и цену новых очков. В конце концов, мы затронули проблему еврейской идентичности. “Теперь-то я знаю, – сказала мне Маша, – что евреи распяли Иисуса Христа. И их религия говорит, что ты должен отнять «око за око». Поэтому теперь я православная”. Мы выпили еще один чайник чая, и я осторожно задала вопрос о человеке, чью судьбу она вынесла за скобки своего рассказа. “Что случилось с вашим братом?” – спросила я ее. Впервые за наш трехчасовой разговор она разрыдалась. Больше мы к этой теме не возвращались[814].
В 1998 году меня пригласили встретиться с группой мужчин средних лет из Киевской области, чтобы услышать их истории. Никто их них не был на передовой – во время войны им было слишком мало лет, – но каждый в этой группе был инвалидом войны. Принимавший меня Степан Устимович ослеп в результате несчастного случая в 1951 году, в возрасте семи лет. Он с готовностью протянул мне руку для рукопожатия – она была без пальцев. Другие мужчины в этой группе потеряли руки целиком. Их, как и тысячи других детей военного и послевоенного времени, искалечили зловещие находки, оставшиеся после сражений. Возможно, дети играли в лесу, или подобрали в пыли странного вида железку, или нашли пистолет или гранату. Украина до сих пор остается смертоносным краем в этом отношении. Только за первые шесть месяцев 1997 года на окраинах городов и деревень, в лесах и полях было обнаружено 1300 неразорвавшихся снарядов, бомб и мин. По словам Степана Устимовича, каждые пять лет в украинской земле находят до четверти миллиона разного рода взрывчаток времен Второй мировой войны[815].
В то время как советская пропаганда превозносила до небес социализм, восстановление страны, победу и упорный труд, люди продолжали получать ранения и гибнуть. Жертвы, как обычно, не находили сочувствия у окружающих, и общество практически ничего не знало о количестве пострадавших. Один из товарищей Степана Устимовича рассказал мне: “Нам говорили, что мы просто хотим избежать призыва в армию”. Он был тогда совсем ребенком, даже не достигшим подросткового возраста, но его обвинили в намеренном членовредительстве. “В качестве наказания нас пытались заставить уехать из города”, – говорит Степан Устимович. Его собственная история звучит особенно пронзительно и горько. Его отец, сам инвалид Первой мировой войны, когда его ребенок ослеп, решил написать Сталину. Поскольку отец был неграмотным, он вынужден был искать помощи у чиновника в местном горсовете. Отправив письмо, отец и сын стали ждать ответа, но, когда ответ наконец пришел, никто из них не мог его прочитать. Поэтому они снова отправились в горсовет. Сегодня Степан Устимович убежден, что в письме предлагалась помощь на лечение ребенка в размере тысячи рублей, но, так как отец был неграмотным, ему выдали только двести рублей. На операцию, которая могла бы вернуть ему зрение, денег не хватило. Было бесполезно умолять и бесполезно рассказывать о том, в какой нужде жила семья. Степан Устимович выучился читать по Брайлю. Сегодня у него два философских образования, он известный на Украине журналист.
История Степана Устимовича не просто очередной рассказ об ожесточении и бессердечном отношении к людям, перекликающийся с историями, описанными Бродским и Гроссманом в Ленинграде и Куйбышеве 1945 года. Дело не только в том, что люди привыкли видеть трупы и слезы других. Вторая половина 1940-х была тяжелым временем, потому что были и лишения, и голод. Люди по-прежнему должны были держать в голове те уроки выживания, которые усвоили прежде, например, готовность в любой момент расстаться с собственностью и бережливое, экономное отношение к еде. В 1946 и 1947 годах снова наступит массовый голод.
Сразу после войны колхозники работали фактически за еду. Нормы выдачи продовольствия по карточкам неизменно оставались скудными. “Получаем 200 граммов хлеба за трудодень, – писал крестьянин из украинского города Каменец-Подольский. – А без хлеба сидим уже очень давно. Не знаем, что будет дальше, но долго мы так не протянем”. Другой ему вторил: “Многие голодают, даже картошки нет, и люди выходят работать в поле голодными”[816]. В 1947 году Степану Устимовичу было три года, но он помнит, что значило голодать: “Сначала закончился хлеб, и мы ели картошку. Потому стали есть листья, а затем лебеду”[817].
В 1946 году весна наступила позже обычного. Во многих областях земля не оттаивала до середины мая. Однако удлиняющиеся дни не принесли особенной надежды. Июнь и июль выдались необыкновенно жаркими и сухими. Посевы в полях поредели, пшеница сгорела на солнце, а картошка, если где и выросла, была такой мелкой, что уже в июле заговорили о настоящем голоде. “Мы не хотим умереть с голоду, – писал крестьянин из Киевской области. – Будет все так, как в 1933 году”. Другой жаловался: “И это пока еще лето, что же будет зимой? Я прошел всю войну, я все еще жив, но теперь, кажется, мне суждено умереть от голода”[818].
Сразу после Нового года женщина из Полтавской области на Украине написала своему мужу, который жил в Брянске, в двух днях езды от семьи:
Пожалуйста, попроси у начальства отгулы или, по крайней мере, хоть какие-то документы для меня, чтобы детей приняли в детдом. Дети уже распухли [от голода], не знаю, что с ними станет. У меня самой руки отекли… не могу больше носить муку… Лена особенно распухла, но мы все болеем. На рынках обстановка уже хуже, чем была в 1933 году, все такое дорогое. Умоляю тебя последний раз, найди выход для своей собственной семьи… Мы дохнем как собаки: холодные, голодные и босые[819].
Этот голод затронет как промышленные районы на севере, так и сельскохозяйственные районы на юге Украины. Он продлится восемнадцать месяцев и унесет десятки тысяч жизней. Хотя государство снова попытается замять происходящее, занижая количество погибших и отрицая реальность, во многих отношениях этот голод был менее свирепым, чем голод 1933 года. Безусловно, реакция правительства на этот раз была куда менее бездушной и бесчеловечной. Война и вправду сделала некоторых местных управленцев более чувствительными и, вероятно, более уважительными по отношению к вдовам и отцам тех, с кем они совсем недавно плечом к плечу сражались на фронте. Некоторым председателям колхозов удалось придержать в ходе реквизиции 1946 года некоторое количество зерна и продуктов. И хотя многие поплатились за это арестом, наказания, которые они получили, оказались мягче, чем можно было ожидать. Было даже несколько попыток запросить гуманитарную помощь через ООН, Красный Крест и другие международные организации[820]. Однако голод 1947 года был не просто постскриптумом к войне. Смерть от голода ужасна всегда, а память о 1933 годе была все еще свежа в сознании переживших те события. Голод вселил в людей панику и отчаяние. Казалось, что правительство просто в очередной раз намеревается забрать зерно и масло у крестьян, чьи дети пухли и умирали от голода. А значит, война не разрешила абсолютно никаких внутренних противоречий.
К февралю 1947 года тень голодомора была видна повсюду: на испуганных лицах ребятишек, в отчаянии тех, кто оттаскивал тела умерших родственников в общие ямы, служившие братскими могилами, и в непривычной тишине, которая неминуема наступала после того, как убивали и пускали в пищу последних собак и воробьев. Один из выживших вспоминает: “Мы ели животных, разделывали лошадей. Когда все они были съедены, мы стали охотиться на сусликов, зайцев и воробьев… Весной 1947 года, когда прилетели лебеди, мы стали есть лебедей: варили их с отрубями и кукурузной мукой”[821]. Следом наступали слабость, дизентерия, а затем и первые смерти. “Многие умирают, а теперь их отвозят на кладбища и просто бросают там. Местные власти вырыли могилы побольше, общие могилы, и начали хоронить в них людей гуртом, всех вместе”[822].
Один пожилой человек вспоминал: “В нашем доме умер дедушка, хотя он был совсем не старый – ему было только 60 лет. Но в деревне были семьи, где умерли все. Люди были слишком слабыми, чтобы хоронить тела своих родственников, и иногда трупы лежали непохороненными по несколько дней”[823]. Умерла и мать Степана Устимовича. “Большинству людей удалось каким-то образом выжить, – рассказывал он мне. – Варили кашу из шелухи и очисток, даже кошек ели. По большей части люди выжили. Но мать простудилась, а врачей не было. А потом начались осложнения, и ей стало хуже. Думаю, что дело было в феврале – мне было три года, – в феврале 1947 года. Я помню ее последние дни, как сидел у нее на коленях, а потом помню похороны”[824]. В некоторых деревнях смертность была намного выше, чем запомнилось Степану Устимовичу. Уцелевшие поступили так же, как и их родители менее пятнадцати лет назад: покинули деревни[825].
И снова голод, но на этот раз в стране, в которой ученые занимались разработкой новой атомной бомбы, довел некоторых людей до каннибализма. 19 февраля 1947 года под одним из мостов в Киевской области была обнаружена сумка с человеческими останками. Тело идентифицировали – убитый был юношей 16–17 лет, но от него остались только голова и “обе ноги, с которых острым ножом было срезано все мясо”. Три недели спустя была арестована женщина, убившая собственную семилетнюю дочь. К тому времени мать и вторая дочь, старшая сестра девочки, почти доели труп убитого ребенка. Примерно в то же самое время всплыла еще одна история: женщина убила своего семидесятилетнего мужа, после чего разделала и засолила его труп[826].
Таким образом, за фасадом эвфемизмов и сокрытия правы, за пределами того мира, в котором существовал сталинский средний класс, шла борьба за элементарные средства к существованию. Для того чтобы объяснить отчаяние и безысходность, охватившие советскую деревню в 1947 году, не требуется никакой теории долгосрочного ожесточения. В публичном официальном пространстве сохранялся фасад благопристойной скорби по погибшим, беззлобной зависти к павшим героям и старый добрый непоколебимый стоицизм. Однако в стране, где цензура вымарывала строчки детских стишков и песенок, мальчишки играли на улицах в футбол черепами непогребенных солдат, а летними ночами их отцы отправлялись на бывшие поля сражений, ища, чем бы поживиться. Вплоть до 1970-х там еще находили трупы солдат с золотыми коронками. Их военная форма к тому времени уже истлела, но металлические знаки различия или пуговицы для коллекционирования вполне могли сохраниться, а в удачную ночь можно было найти и пистолет, чтобы затем его почистить и вернуть в рабочее состояние[827].
Но не массовая катастрофа с множество смертей, а одна-единственная смерть взорвала этот послевоенный, наполненный официально одобренными фантазиями мир. Илья Эренбург писал:
Был холодный день. Чтобы занять себя и отогнать хотя бы на несколько часов черные мысли, я сидел – переводил Вийона. Вдруг пришел сторож Иван Иванович: “По радио, значит, передавали, что Сталин заболел, паралич, положение тяжелое…” Помню, как ехал в Москву. Было много снега. В сугробах тонули детишки. В голове вертелись слова: “Товарищ Сталин потерял сознание”. Я хотел задуматься: что теперь будет со всеми нами? Но думать я не мог. Я испытывал то, что тогда, наверное, переживали многие мои соотечественники: оцепенение[828].
Каждый запомнил горе, дурные предчувствия и публичные рыдания. Люди были растеряны: “Что теперь будет? Это ужасно, как же теперь жить?”[829] Появились даже слухи о грядущей гражданской войне. Но не это отличало смерть Сталина от кончины Ленина. Эренбург шел домой по улице Горького в ночь похорон, когда внезапно ему в голову “пришла простая мысль”: “[Н]е знаю, будет хуже или лучше, но будет другое…”[830] Поэт Борис Слуцкий сформулировал ту же мысль более изящно:
Эпоха зрелищ кончена, пришла эпоха хлеба. Перекур объявлен у штурмовавших небо[831].Здоровье Сталина уже давно ухудшалось, однако никто не отваживался строить планы на случай его смерти. Когда ночью 1 марта 1953 года у него случился инсульт, ватага политиков, чьи жизни напрямую зависели от вождя, не знали, как им следует реагировать на случившееся. Ходили слухи, что парализованного генералиссимуса оставили умирать на ковре в его кабинете, там, где он и упал. Некоторые были уверены, что Сталина отравили. Как бы то ни было, только спустя четверо суток группа врачей, приехавших на сталинскую дачу, заявила со всей определенностью, что он скончался. Лишь тогда газеты начали придавать ситуацию огласке, известив своих читателей о том, что у Сталина случился инсульт, наблюдается “учащение и нарушение ритма пульса (мерцательная аритмия)” и состояние его очень серьезное[832]. К тому моменту, когда в прессе появилось сообщение о смерти Сталина, он был мертв по крайней мере сорок восемь часов[833].
Первые заявления в печати звучали в свойственной советской прессе манере казенно и банально. “Бессмертное имя СТАЛИНА всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества”, – говорилось в официальном заявлении ЦК КПСС, Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР[834]. Специалисты по бальзамированию уже приступили к работе. Телу Сталину, как и телу Ленина, нельзя было дать разложиться. Однако преемники Сталина с куда меньшим энтузиазмом отнеслись к его политическому наследию. После смерти Ленина приоритетной задачей его соратников было доказать, что его истинные наследники смогут взять в свои руки тяжелую ношу его революционного дела. Но никто из сталинского окружения не готов был таким же образом продолжить его дело. В тот март в воздухе повеяло переменами. Задача заключалась в том, чтобы одновременно сглаживать эти предощущения и эксплуатировать их, сдерживая скорбь, в которую погрузилась нация.
В каждом городе, в каждом населенном пункте по всей стране на площадях стали собираться толпы людей. Сначала люди стояли в молчании и прислушивались к радиосообщениям, доносившимся из трескучих громкоговорителей. Мужчины и женщины рыдали, потрясение сменилось ощущением тяжелой утраты и растерянности. Толпы охватила истерика. Массовые демонстрации продолжались до самого дня похорон, а в нескольких городах, в Москве и в Тбилиси, столице родины Сталина, Грузии, сотни людей погибли в давке. Одна из женщин, с которой я разговаривала о том дне, настаивала: “Любой, кто скажет вам, что не плакал из-за смерти Сталина, просто лжет. Все были в слезах. Мы не знали, что произойдет дальше. Мы никогда не знали ничего другого”.
Тело Сталина было на три дня выставлено для церемонии публичного прощания в Колонном зале Дома союзов. Возле гроба дежурил почетный караул, как и во время прощания с Лениными, звучала траурная музыка, под которую в молчании проходили скорбящие. В течение нескольких часов в Москву съехались сотни тысяч человек. Главные участники церемонии были в строгих костюмах. В 1953 году в Москву смогли добраться лишь немногие крестьяне в валенках, а партийные активисты отказались от кожаных тужурок в пользу габардиновых пальто. Остальные были одеты по погоде, некоторые – в шубы или пальто с воротниками из лисьего, медвежьего или кроличьего меха, которые им удалось кое-как справить себе в то тяжелое, голодное время, что Сталин был у власти. Больше прочих в толпе выделялись священники – своей несообразностью месту и поводу. Большинство представителей московской властной верхушки пришли на торжественную церемонию прощания: без сомнения, они отлично отдавали себе отчет в стратегической важности присутствия на траурном бдении у гроба диктатора. Для элиты резервировались места в очереди к гробу, распространялись билеты и специальные пропуска. Простым смертным, как всегда, оставалось только томиться в бесконечной очереди, которая на многие километры змеилась по обледеневшим улицам, как темный шрам на теле города.
Зрелище, которого ждали все эти люди, внушит каждому из них благоговейный трепет. Фасад Колонного зала Дома союзов был украшен огромным изображением вождя. Снаружи, у входа в здание, и внутри, подле катафалка, возвышались горы венков, по большей части перевитые алыми лентами. Надпись на ленте, вплетенной в венок-подношение от ЦК КПСС, была простой: “ВОЖДЮ И УЧИТЕЛЮ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО НАРОДА, И. В. СТАЛИНУ”. Надписи на других венках вторили старым лозунгам: “ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!” Пальмовые ветви, еловый лапник, красные розы и лилии мерцали в тусклом электрическом свете. Казалось, все было на своих местах, хотя нашлась пара посетителей, настоящих знатоков иконографии официальных похорон и трупов, которая раскритиковала мелкие детали церемонии. Посетитель из Москвы обращался к ЦК: “Уважаемый Центральный Комитет КПСС, не сердитесь, но ради всего святого, измените положение рук тов. Сталина, потому что он выглядит ужасно. Я не единственный заметил это, все это заметили. Понятия не имею, кому пришла в голову идея сделать это так, как сделали это вы”[835]. Не существует никаких свидетельств того, что на это письмо был получен ответ. Подробности мумификации тела Сталина также остаются засекреченными. Руки покойника бессильно лежали вдоль тела все время, пока он соседствовал в Мавзолее с Лениным. Остается только догадываться, что произошло с ними, когда через несколько лет тело тайно вынесли из усыпальницы и захоронили.
Затем 9 марта с подобающими церемониями Сталин был похоронен, а вернее, водворен для всеобщего обозрения под стеклянную крышку саркофага. За одну ночь на фасаде Мавзолея на Красной площади рядом с именем Ленина появилось вырезанное в камне имя Сталина. Оркестры исполняли музыку Чайковского, Бетховена, Шопена и Грига: “Интернационал” с его призывом к мировой революции во время войны был “понижен в ранге” из уважения к капиталистическим союзникам Советского Союза. Сам гроб покоился на запряженном лошадьми орудийном лафете. На фотографиях кортежа можно увидеть крепко сбитого, заметно встревоженного возницу и целую группу солидных мужчин в зимних пальто и теплых шапках, которые по большой части сохраняют непроницаемое, исполненное чувством собственного достоинства выражение лица. Однако и в действительности нельзя было сказать, чтобы лица участников процессии выдавали их истинные эмоции. Чтобы увидеть подлинные чувства, придется взглянуть на толпу, на женщин в платках и потрепанных пальто, на жмущихся к ним детей, на мужчин с усталыми лицами, в кои-то веки без сигарет – все они стоят в молчании, в слезах.
Новые лидеры страны – Маленков, Берия и пользовавшийся особым вниманием Молотов – поднялись на трибуну Мавзолея и обратились к собравшейся толпе так же, как сделали это их предшественники на похоронах Ленина в 1924 году. Однако в их речах чувствовалась неискренность. Маленков пообещал, что партия продолжит свою работу, но о самом Сталине говорил сравнительно мало. Он подчеркнул, что люди должны сохранять бдительность, и заверил, что благополучие народа в надежных руках, ибо главная задача партии и правительства – “неослабно заботиться о благе народа, о максимальном удовлетворении его материальных и культурных потребностей”[836]. Несколькими днями ранее схожие заявления сопровождали первые бюллетени с сообщением о смерти вождя[837]. Молотов был заметно расстроен, куда больше остальных, Берия, который в своем выступлении пообещал, что “правительство будет заботливо и неустанно охранять права [граждан], записанные в Конституции”, держался с решительным хладнокровием и невозмутимостью. В частных разговорах он уже проклинал память диктатора[838]. Не каждому человеку выпадают похороны, которых он заслуживает, но не зря так трудно было считать подлинные эмоции с лиц присутствовавших на похоронах Сталина, не зря в них угадывался цинизм.
Речи вождей были темны и непонятны, но излияние чувств простых советских людей оказалось совершенно невероятным. В воздухе ощущались паника, неуверенность относительно будущего, смущение и тревога. Например, рабочие одной из фабрик Москвы соглашались, что им “было тяжело, невыразимо тяжело, потому что человек, подаривший счастливую жизнь миллионам людей – вождь, учитель, друг рабочих, – ушел из жизни, величайший из великих всех времен и народов… Наша партия осиротела, осиротел советский народ, рабочие всего мира осиротели”[839]. Другой пылкий гражданин писал: “У меня нет силы, нет слов, которыми я мог бы выразить горе, боль, горечь, охватившие весь наш народ и все прогрессивное человечество из-за кончины нашего дорогого, любимого вождя, друга, учителя, отца и военачальника”. Еще одно письмо начиналось так: “Сталина больше нет, больше нет у нас нашего любимого и великого вождя партии, друга и учителя всего прогрессивного человечества. Его горячее сердце перестало биться”. Советская молодежь не уступала взрослым в красноречии и в пылкости выражения своих чувств. “Дорогое имя И. В. СТАЛИНА – одно из первых слов, которые учится произносить любой ребенок в Советской стране”, – утверждал один из представителей комсомола. Группа школьников принесла клятву почтить память величайшего человека на земле, посвятив себя выполнению его заветов “учиться, учиться, учиться”[840].
Чаще всего местом, где могло выплеснуться людское горе, становилось траурное собрание в рабочем коллективе. Эти собрания начались уже 6 марта и проводились буквально в каждом учреждении, в каждом колхозе, на каждом заводе в стране. По всей стране машинистки каждый вечер стучали по клавишам: “Мы, рабочие и инженерно-технический персонал Московской желатиновой фабрики… Мы, рабочие, работницы, инженеры, технический персонал и администрация Сосенского бетонного завода… Мы колхозники колхоза имени тов. Сталина…” Каждая резолюция непременно должна была завершаться обещанием. “Мы обязуемся посвятить себя делу улучшения народного здравоохранения, потому что мы должны заботиться о людях так, как заботился о них сам Сталин”, – писала группа администраторов медицинских учреждений[841]. Когда машинистка смахивала последнюю слезу и заканчивала свою работу, эти и подобные ей резолюции проверялись, на них ставилась официальная печать, и они сразу же передавались в нужный кабинет в Отделе пропаганды и агитации ЦК. Когда читаешь эти документы сегодня, трудно отделить горе от истерики и невозможно проверить их искренность. Одна резолюция поясняла: “В эти дни люди рыдали в один голос и не стыдились плакать прилюдно, однако наша невыразимая любовь к Сталину осушила наши слезы”[842]. В некотором смысле реакция на смерть вождя зависела от того, где в тот момент находился человек. Одна женщина из Казахстана рассказывала мне: “Бабушка прочитала извещение в газете и просто сказала: «Сталин умер. Ну и хорошо»”[843].
Проблема заключалась в том, что Сталин также был героем войны. Считалось, что он неустанно трудился на благо всего народа. Директор одного из заводов заявил: “Сталин отдал всю свою жизнь, всю свою кровь капля за каплей, служа народу”[844]. Непросто было найти адекватные формы увековечивания для такой степени самопожертвования, но ответственные работники знали, что им придется сказать хотя бы что-то. Советские люди годами были лишены подлинных, искренних, настоящих слов. В отчаянии они хватались за привычные безжизненные суррогаты. Металлург призвал своих товарищей “еще крепче сплотиться вокруг Центрального комитета Коммунистической партии… следовать дорогой, которая приведет нашу страну к коммунизму, дорогой, которую указал и проложил для нас И. В. Сталин… Память о Великом Сталине будет жить в сердце каждого советского человека, и память эта не умрет в веках”. Раздавались призывы “стоять на страже единства партии”, “воспитывать коммунистов и весь рабочий класс в духе политической бдительности, в духе беспощадной и бескомпромиссной борьбы с внешними и внутренними врагами”. Герой Советского Союза полковник С. Гришин напоминал: “Великий Сталин учит нашу партию и наш народ, что для победы над внутренними и внешними врагами нужна постоянная революционная бдительность, нужны непримиримость и твердость в борьбе. Советские люди всегда будут следовать этому указанию своего мудрого вождя”[845].
На адрес ЦК КПСС также хлынул поток писем и телеграмм с выражениями личной скорби. В первые недели после похорон граждане обращались в ЦК и к местным партийным лидерам с предложениями о будущем. Хотя в некоторых письмах содержались рекомендации относительно внутренней политики (“Товарищ Маленков, поскольку сейчас вы стали нашим любимым вождем, мы надеемся и верим, что вы пойдете верным курсом”)[846], в большинстве своем советы касались увековечивания памяти Сталина. Наиболее консервативные предлагали массовую высадку деревьев, чеканку новых монет с профилем Сталина, переименование Красной площади и введение на веки вечные пятиминутного молчания в годовщину смерти вождя. Однако куда отвратительнее были письма, авторы которых призывали возвести пантеон, некое сооружение, которое действительно прославит мертвых советских лидеров, сооружение куда более монументальное, чем знаменитый гранитный куб построенного Щусевым Мавзолея. Одно из этих писем начиналось так: “Я не архитектор и не инженер-строитель, но мое предложение идет прямо из сердца и души”. Эксцентричная гипербола, следовавшая за этим вступлением, была типичной для такого рода обращений: предложение о возведении самого величественного здания в стране, подле которого должен будет появиться “фонтан слез”, до скончания веков льющий свои воды в память о вожде.
Пантеон мыслился не просто как могила, не просто как памятник Сталину, “величайшему человеку из всех когда-либо живших на Земле”. Все авторы писем, выступавшие с предложениями, кажется, уловили, что смерть Сталина ознаменовала собой окончание первого этапа строительства советского коммунизма. Это ощущение конца зачастую было подлинной причиной того смятения, которое охватило их после смерти вождя, поэтому многие настаивали, что сооружение должно выражать именно эту законченность исторического цикла. Одно из предложений начинается так: “В основании пантеона должен находиться квадрат из зеленого минерала, символизирующий собой примитивное общество собирателей”. Два следующих яруса из черного и серого гранита будут олицетворять рабовладельческое и феодальные общества соответственно, а капитализм лучше всего увековечить при помощи серого мрамора с красными прожилками. Верхний уровень здания должен быть выстроен из “темно-красного мрамора, отражающего счастливую жизнь в нашей стране. А на самом верху будет возвышаться колонна, которую я здесь для вас нарисовал”[847]. Ежедневная торжественная церемония в самом центре этого сооружения вместо служб и молитв должна проходить в формате лекций о марксистском историческом учении и эре ленинизма-сталинизма[848].
С архитектурной точки зрения предлагаемые проекты не отличались особенной изобретательностью. Большинство следовало привычным канонам псевдоклассицизма с его колоннами, фронтонами, поднятыми атриумами: пантеон, как было сказано, должен выглядеть как Театр Советской армии, только куда большего размера. В доброй половине рекомендаций относительно облика сооружения упоминалась модель земного шара, которая, как настаивают авторы, непременно должна быть включена в окончательный проект. Обычно это аргументировали тем, что коммунизм символизирует собой будущее народов всей Земли. “Хочу, чтобы вы построили глобус, большую модель Земли, – писал, обращаясь к Маленкову, крестьянин из Ленинградской области, – и хочу, чтобы на нем были изображения Иосифа Виссарионовича и вас, Георгий Максимилианович, чтобы глобус демонстрировал великий проект строительства коммунизма и будущего рая на Земле”[849]. А возможно, не стоило ограничиваться будущим одной планеты. “Второй раздел моего пантеона посвящен космосу, – писал некий москвич. – В нем будет демонстрироваться жизнь и развитие нашей Вселенной, Солнечной системы и Земли в соответствии с принципами марксистско-ленинской диалектики”[850].
Иными словами, пантеону предстояло стать собором, и, как и любой другой собор, возводиться он должен был на костях. Кроме того, он призван был стать мемориалом той вечной жизни, которая была уготована избранным представителями ЦК КПСС. Автор одного из писем заявляет: “Весь мир должен увидеть, что Сталин жив и будет жить до полной победы коммунизма”. В другом письме вновь возникает отсылка к космизму, так как автор предлагает реанимировать мозг и другие жизненно важные органы покойного вождя. Однако популярной науке так и не удалось победить религию, и фанатичные приверженцы диалектического материализма по-прежнему вдохновлялись верованиями куда более древними, чем православие. Например, несколько проектов будущего пантеона предполагали использование земли – ключевого элемента русской погребальной культуры. Некоторые настаивали, что посетители должны приносить в это место горсть родной земли, другие – что в строительстве нужно использовать цветной песок и камень из каждой из союзных республик, “потому что И. В. Сталин похоронен не только в Москве, но и в каждом уголке нашей страны”. Охваченный ностальгическими чувствами этнограф из Украины даже предложил возвести на Красной площади курган, традиционное погребальное сооружение, и поколение за поколением в него должна добавляться земля, взятая из каждой республики СССР.
Пантеон так и не был построен. Подобно Дворцу Советов, который предполагалось возвести в том же месте, он так и остался высокопарной мечтой. Письма людей – вот и все, что сохранилось от этой их фантазии. Они прекрасно иллюстрируют смятение и путаницу последних лет сталинизма, сомнения и неуверенность относительно природы смерти и загробной жизни, а также религии, науки и атеизма, которые оставили по себе несколько десятилетий противоречивой пропаганды и непоследовательных догматов. Нельзя забывать также об увлечении наукой, о вере в идеологию марксизма, о решимости построить пролетарское государство, о планах мировой революции, то есть обо всем том, что вдохновляло целые поколения советской молодежи в великую эпоху социалистического строительства. И еще один слой: страх, суеверия, магия, отчаянные попытки цепляться за героев и выдающиеся личности, наследие старого мира царей и святых, тень отсутствующего Бога. Заявки проектов пантеона можно рассматривать как памятный альбом нереализованных планов и надежд, фрагменты духовного дискурса того поколения, чей мир давно исчез.
Когда приходил черед умирать представителям уже этого поколения, погребальные церемонии, которые устраивали люди, обычно были тоскливо функциональными. По некоторым подсчетам, более 60 процентов населения в эти годы хотели бы отправления религиозного обряда на своих собственных похоронах хотя бы в какой-то форме, но священников на всех не хватало. Их было так мало, что чаще всего на похоронах молитвы читали просто верующие. Если под рукой не оказывалось текста, люди читали то, что могли вспомнить. В деревнях молились в основном женщины, и женщины бросались на могильный холмик заходясь в жутком вневременном плаче с повторяемыми по кругу причитаниями[851].
Городские похороны были, по крайней мере, более упорядоченными. Но те, кто посещал их, вспоминают унылые, однообразные, выхолощенные церемонии. Жизнь вечная для широких народных масс отменялась, так что единственным, на чем могли сосредоточиться скорбящие, была их работа. Если повезет, на похоронах мог присутствовать оркестр, исполнявший коммунистические гимны, или кто-то из родственников, у кого хватало самообладания, мог встать и прочитать стихотворение. Чрезвычайной популярностью все еще пользовалось стихотворение Константина Симонова “Жди меня”. Были те, кому коммунистический ритуал отлично подходил, потому что он соответствовал их убеждениям. Некоторые пожилые люди до сих пор просят, чтобы на их похоронах все было устроено именно так. Дедушка моей подруги попросил ее в 1998 году: “Похорони меня с оркестром, мне твои молитвы не нужны”. Однако те, кто не верил в коммунистические догмы, находили центральный элемент церемонии скучным: он состоял из публичного перечисления заслуг усопшего – его работы, фронтового опыта и партийной деятельности[852]. Каждый коллега дополнял перечисление одним-двумя предложениями (подобные мероприятия были утомительно однообразными и изобиловали повторами), а затем присутствующие, неуклюже шаркая, проходили мимо гроба для последнего прощания.
Только земля по-прежнему сохраняла свои магические свойства. Некоторые хранили землю дома в специальном стаканчике, чтобы после смерти родственники могли рассыпать эту землю на их могиле. Некоторые привозили ее из своих родных деревень, другие, сняв шапку, в слезах зачерпывали ее с кургана братской могилы где-то возле Курска, в Поволжье или в опустошенной нацистами Белоруссии. Прах и глинозем соединял семьи безо всяких молитв. В глазах некоторых верующих этот ритуал обладал такой наглядной силой, что появились заочные “похороны по переписке”: священник мог благословить чашку земли и выслать ее обратно отправителю по почте. К концу 1960-х годов больше половины всех погребальных церемоний в сельской местности (в некоторых районах этот показатель мог доходить до 80 процентов) совершались с использованием освященной земли[853].
Выжившие верующие рассказывали мне: “Даже когда мы не знали, где находятся тела покойных, мы все равно читали молитвы”. Хотя церкви снова были закрыты или превращены в музеи или свинарники, самые отважные верующие приносили пироги к кладбищенской ограде в родительские субботы. Старые ритуалы даровали утешение, ощущение связанности в эпоху лжи и вранья. Однако для миллионов тех, кто больше не верил в легенды, дела обстояли совсем иначе. Для них миф о воскрешении исчерпал себя, и мало кого мог вдохновить его официальный суррогат. А когда человек оборачивался назад, на прожитую жизнь – как бы вы ни смотрели на события прошлого, – неизбежно в памяти возникали и личные, частные воспоминания: колючие, неудобные моменты сильных чувств, странности, отважный нонконформизм, неуклюжие слова и картинки. Все это сильно расходилось с пресной реальностью агитпропа. Эти воспоминания всплывали на поверхность сознания неожиданно, совершенно обескураживая человека. Они превращались во внезапные доверительные признания, которыми обменивались незнакомцы в купе поезда или приятели на рыбалке. Они трансформировались в анекдоты, истории и даже подпольную поэзию. Можно сказать, что люди как будто одновременно верили в официальную линию партии и правительства и высмеивали ее. “Мы боялись”, – говорят они сейчас. В чем бы ни заключалась важнейшая причина – в страхе, в стремлении уйти от действительности, в ханжестве или в тоске и унынии, но она лишила целое поколение советских людей свободы исследовать и оценивать достоверность той коллективной правды, в которую они верили.
“Подмосковный сад зимой кажется умершим, но в стволах или только в корнях происходят незримые процессы, подготовляющие весеннее цветение”, – писал Эренбург, пытаясь объяснить природу оттепели[854]. У Эренбурга, как у зачарованного представителя сталинской литературной элиты, были веские причины утверждать, что весна наступила только со смертью диктатора. В общем и целом он был прав. Его собственная книга “Оттепель”, которая вышла в 1954 году, стала настоящей вехой в этом процессе. За ней последовала знаменитая речь Хрущева на XX съезде партии (1956), а в 1961 году очередной съезд принял решение вынести тело Сталина из Мавзолея и тихо захоронить его в более простой могиле. На следующий год был опубликован “Один дня Ивана Денисовича” Александра Солженицына, ставший классикой описания жизни в ГУЛАГе.
Никакой случайности в том, что самым известным продуктом оттепели стала книга бывшего узника, или, как называли политических, зэка, нет. Лагеря были одним из немногих мест, где пережившие войну продолжали помнить о ее жестокой, грубой реальности. Условия содержания были ужасающими. Век узников был недолог и наполнен тяготами и страданиями. Но как заметил бывший зэк, коммунист и историк Лев Разгон, среди всей мерзости и убожества существования в ГУЛАГе было и ощущение свободы[855]. Подобный парадокс, сам факт того, что лишь самые обездоленные и несчастные являются носителями правды об обществе, жертвами которого они стали, подтверждает замечание одного петербургского психиатра, которого я спросила о последствиях массовых возвращений узников ГУЛАГа в 1950-е годы. “Вы должны иметь в виду, – сказал он мне, – что в то время общество целиком было ну… не совсем нормальным”[856].
То, как общество встретило многих из освободившихся заключенных, стало одной из трагедий хрущевского времени. Некоторых радостно приветствовали дома, некоторые смогли найти себе место и устроиться, даже несмотря на подорванное здоровье и на то, что окружающая реальность казалась странной и чужой. Однако десятки тысяч других освободившихся из лагерей жертв репрессий, возвращавшихся на улицы и во дворы своей молодости, ожидал весьма холодный прием. Их семьи чувствовали себя с ними неловко. Многие боялись, что вернувшиеся станут разносчиками различных инфекционных болезней. Героиня повести Гроссмана “Все течет”, невестка вернувшегося из лагеря Ивана Григорьевича, озабочена именно этим:
Подавляя волнение, глядя затуманенными слезами глазами на двоюродного брата, Иван Григорьевич сказал:
– Николай, прежде всего вот что: у меня к тебе не будет никаких просьб – ни о прописке, ни о деньгах и обо всем прочем. Кстати, я уже в бане побывал, зверья не занесу.
Николай Андреевич, утирая слезы, стал смеяться.
– Седой, в морщинах, и тот же, тот же, наш Ваня.
Мария Павловна посмотрела на Николая Андреевича – она утром доказывала мужу, что Ивану Григорьевичу лучше помыться в бане, в ванне никогда так не помоешься, да и после мытья Ивана ванну не отмоешь ни кислотой, ни щелоком[857].
Мир неволи продолжает жить в воображении бывших зэков. Их слова, их рассказы совсем не похожи на чопорные, казенные рассказы сталинского среднего класса. Многие из тех, с кем мне удалось встретиться, цитировали девиз: “Умри ты сегодня, а я завтра”[858]. Тюремные песни и стихи отличались прямотой, грубостью и жестокостью[859]. Бывших узников до сих пор возмущают принятые в обычной жизни эвфемизмы. В коротком рассказе Шаламова “На представку” с человека живьем снимают кожу из-за свитера ручной вязки. Один из бывших зэков кричал на меня: “Прочитайте этот рассказ! Вы ничего не поймете, ничего не узнаете, пока вы его не прочитаете”. Это был мягкий человек, работавший плотником, и мы оба были поражены, когда внезапно осознали, что он кричит, потрясая кулаком перед моим лицом.
Бывшие зэки без всякой почтительности и благоговейного трепета говорят о смерти Сталина. Характер их воспоминаний об этом эпизоде, как, впрочем, и о многих других, остается прямолинейным, предельно откровенным, лишенным всякого притворства. Одна женщина описывала его так:
Мы были на работе… был очень холодный день, настоящий жестокий мороз. И мы были там все вместе, с политическими, рецидивистами, и теми, кто сидел по бог знает какой статье, ну вы понимаете… Я вам говорю, мы были настоящей элитой! Так вот, мы были на работе, а мороз был минус сорок градусов, по крайне мере минус сорок градусов, и снега было много, и все было как каменное от мороза. Все вокруг было белым, и вдруг появились какие-то офицеры и начали говорить с нашими конвоирами и рассказали им, что отец народов, Сталин, умер, и что это такая боль, такое горе, такая потеря – ну все эти дурацкие прилагательные. А мы стояли и орали “Ура!”. Мы начали петь, мы пели огромное количество песен, мне особенно запомнилась “Ой, цветет калина”[860].
Василий Гроссман умел вместить эту спонтанную радость в художественную прозу:
Ликование охватило многомиллионное население лагерей.
…Колонны заключенных в глубоком мраке шли на работу. Рев океана заглушал лай служебных собак. И вдруг словно свет полярного сияния замерцал по рядам: Сталин умер! Десятки тысяч законвоированных шепотом передавали друг другу: “Подох… подох…” и этот шепот тысяч и тысяч загудел, как ветер. Черная ночь стояла над полярной землей. Но лед на Ледовитом океане был взломан, и океан ревел.
Немало было ученых людей и рабочих людей, соединивших при этом известии горе и желание плясать от счастья[861].
В последующие годы десятки тысяч узников отправились в длинное железнодорожное путешествие на запад. По словам психолога Арона Белкина, “их охватила эйфория, им казалось, что теперь все возможно, все в их руках. Они думали о жизни, а не о смерти. Хотели вернуть себе свою прежнюю жизнь, прежнюю работу, семью”[862]. Проблема заключалась в том, что они отправлялись в жизнь, которая изменилась до неузнаваемости, а сами были свидетелями того мира, который большинство изо всех сил постаралось забыть как страшный сон. Травму такого масштаба невозможно залечить за короткий срок. Ни одна из сторон не была готова к встрече. Конечно, были и моменты катарсиса, одним из которых стали публикации текстов вроде солженицынского “Одного дня Ивана Денисовича”. Жертвы сталинских репрессий с нескрываемой благодарностью и уважением скажут вам: “Мы все это читали”. “Хрущев поменял ситуацию коренным образом, благослови его Бог”, – говорит Людмила Эдуардовна. Но живая вода, про которую писал Эренбург, все еще была покрыта толстой коркой льда, а весна оказалась длинной и холодной.
Первое открытие, ожидавшее возвращавшихся узников ГУЛАГа, заключалось в том, что они не могли никому рассказать о своей жизни в заключении. Персонаж повести “Все течет” Гроссмана, бывший зэк Иван Григорьевич сразу осознает, что не может довериться своему брату. До этого он представлял себе, как “сидя в дачном кресле и попивая винцо, он стал бы рассказывать о людях, ушедших в вечную тьму”. Но в реальности все оказалось совсем не так. Вглядываясь в изменившиеся черты брата, сидящего напротив него (“Где же он, Коля: тот ли, в потертой сатиновой рубахе, с английской книжкой под мышкой, веселый, остроумный и услужливый, или этот – с большими мягкими щеками, с восковой лысиной?”), он понимает, что судьба многих из этих ушедших в полярную тьму людей “казалась так пронзительно печальна, и даже самое нежное, самое тихое и доброе слово о них было бы как прикосновение шершавой, тупой руки к обнажившемуся растерзанному сердцу. Нельзя было касаться их”[863]. Все, с кем мне удалось поговорить об этом, пережили то же самое. Откровение, которое пусть и мельком довелось узреть заключенным, было слишком свежим, слишком живым. Самые честные из них об этом знали, и знали также, что их выживание напрямую зависит от их способности забывать прошлое. Подобно многим другим, Лев Разгон пережил и выдержал свое возращение на свободу благодаря конформизму: “Я стал двуликим. Внутри меня все еще жил страх. Но снаружи я был абсолютно такой же, как все вокруг”.
Лагерные сроки были длинным, и многие родственники, остававшиеся на свободе, к моменту возвращения уже успели попрощаться с мечтой о воссоединении с арестованными близкими. Когда поезда прибывали в город, бывшие зэки взваливали на плечи свои узлы с вещами и выходили из вагона в совершенно чужую, чуждую толпу. Обыватели и тогда шептались, что возвращавшиеся были врагами народа, шпионами, преступниками. Свобода во времена правления Хрущева необязательно означала реабилитацию. “Нам говорили, что, не будь мы виновны, нас бы никогда не арестовали”, – рассказывает Юдифь Борисовна. Когда она отводила сына в школу, соседи глумились: “Вон, пошла, из тех, кого мы не додавили”[864]. Среди многочисленных последствий сталинизма одним из самых стойких была привычка к бдительности. Одну женщину прямо предупредили: “Только заикнешься об отце – и загремишь работать в какую-нибудь богом забытую дыру”. А других и предупреждать об этом было необязательно. Они и сами прекрасно понимали, что к чему.
Правильный советский способ обращения с эмоциями заключался в том, чтобы продолжать работать, публично присягая на верность идеологическим установкам системы. Дочь одного убитого большевика вспоминала: “Моя мать была большой оптимисткой. Она была убеждена, что ее дети не должны усложнять себе жизнь. Она воспитала нас советскими людьми. Мой брат погиб в 1943 году с именем Сталина на устах… Ему был 21 год. Правда, моего старшего брата судьба пощадила. Но всю свою жизнь, до последнего вздоха – он умер два года назад – он был членом Коммунистической партии, ходил на все демонстрации и считал, что вся эта перестройка была чепухой. Говорят, что наш отец оставил нас в 1935 году. Но я больше ничего о нем не знаю”[865]. Это был не просто самообман. Люди верили в свою утопию. Юдифь Борисовна вступила в партию после своего освобождения сразу же, как только это стало возможно. Лев Разгон, который первые два года на свободе писал детские книжки, до конца жизни считал себя коммунистом.
Нелли, дочь бывшего полковника, вспоминала: “Мама говорила мне, что отца убили на фронте. Пропал без вести. Она так говорила. Я спала с его фотографией под подушкой. Я читала «Повесть о настоящем человеке» – не знаю, читали ли вы ее – но там все умирают от переохлаждения, замерзают, такая история про войну. И вот так я представляла себе смерть отца.…А потом я выросла. Мне было восемнадцать, когда пришло письмо. Когда умер Сталин? В пятьдесят третьем? Должно быть, сразу после этого”. Нелли взяла это письмо с собой в школу и открыла его, сидя за партой. Она вспоминает, как ее раздражало то, что одна из подруг заглядывала ей через плечо, когда она читала. Оно начиналось так: “Моя дорогая дочурка…” “Конечно, оно было от отца. В нем говорилось, что все это время в живых его сохраняла только любовь к дочери. Письмо было об отцовской любви. Моя мать… ну, не мне ее судить, но боюсь, что она меня иначе воспитывала”.
В то время мать Нелли была в больнице, через несколько дней ей предстояла операция. Когда дочь рассказала ей о письме, та замерла: “Да, это от твоего отца. Он был в тюрьме. Он враг народа”. Нелли продолжает: “Я не знаю, что случилось. Я сдавала экзамены, думаю, что я была сбита с толку, в голове у меня все перемешалось. У моей матери больше ничего и никого не осталось, кроме меня. Я написала ответное письмо отцу. В нем говорилось что-то о том, что я от него отказываюсь. Там была такая фраза: «Я не хочу тебя знать…» Я не хотела встречаться с этим человеком – беззубым, лысым…”[866] Она с ним так и не встретилась. Ее отец не сошел с поезда, когда тот подошел к Москве. Он уехал во Львов и начал там новую жизнь.
Глава 10 Смерть в эпоху развитого социализма
Бывшие узники, как, например, отец Нелли, по возвращении сталкивались с тем, что соседи, близкие родственники или незнакомцы не всегда готовы услышать – не говоря уже о том, чтобы понять, – то, что те должны были поведать. Некоторые избегали возвращавшихся зэков, другие выгоняли их. Немногие слушавшие брали на себя этот тяжкий труд, поскольку даже вообразить то, что те рассказывали, было трудно. В мире, который с таким трудом и такой огромной ценой пытался перестроить и переустроить свое прошлое, сам факт существования возвращавшихся из лагерей жертв репрессий служил упреком, а возможно, и угрозой, резким диссонансом разрушал молчание. Но советская жизнь претерпевала изменения: через два или три года после смерти Сталина сохранять удобные, утешительные иллюзии было уже гораздо труднее. Невозможно было бесконечно закрывать глаза на рассказы бывших зэков о несправедливости и издевательствах, выпавших на их долю.
К 1955 году зрелого возраста достигло то поколение советской интеллигенции, взросление которого пришлось на последние годы войны, время наиболее сильных личных надежд на счастливое будущее. Этим людям не пришлось испытать на себе всю тяжесть политического террора. Новые люди – бывшие фронтовики, за редким исключением избежавшие ГУЛАГа, – пришли в редакции влиятельных журналов или стали определять региональную экономическую политику, сменив поколение своих дедушек и бабушек (потому что у многих в годы террора погибли родители или старшие братья и сестры) в управлении, в науке и на партийных постах. Эти люди начали задавать новые вопросы, затрагивать темы, прежде окутанные молчанием, а некоторые попытались даже подсчитать, какую цену заплатила страна за диктатуру. Дети раскулаченных и сосланных, в частности дети политических жертв репрессий Сталина, после смерти диктатора начали заново осмысливать свое молчание, пассивность и те компромиссы, на которые им пришлось пойти с самими собой, чтобы приспособиться к системе. Меньшинство, те, кто никогда не позволял себе забыть о том, что с ними сделали, воспользовались возможностью потребовать реабилитации или восстановления в рядах партии[867].
Шестидесятым и семидесятым годам XX века суждено было стать десятилетиями неявного, скрытого от глаз конфликта, борьбы за будущее коммунистической идеологии (хотя борьба эта редко перерастала в попытку свергнуть коммунистический режим). Пока Хрущев находился у власти и далее вплоть до смерти его преемника Брежнева в 1982 году, официальные государственные органы могли сдерживать, но не могли искоренить эту борьбу. Они пользовались поддержкой некоторых ветеранов войны (тех, кто все еще почитал своего вождя), консервативных представителей технической интеллигенции (того самого сталинского среднего класса, с его выдержанностью и гарантированными занятостью и заработком), а также значительной части бюрократии, армии, партии и КГБ. Даже новый генсек КПСС Михаил Горбачев, представитель уже нового поколения, обнаружит, с каким трудом приходится преодолевать сопротивление противников реформ с их железобетонными установками относительно советского прошлого и того, что оно означает.
У нового поколения на вооружении было два типа языка. Первый, знакомый нам по текстам диссидентам, был языком покаяния, угрызений совести, самобичевания и вполне правомерного гнева. Примером этого языка может служить запрещенное стихотворение Александра Твардовского о вине и памяти “По праву памяти”, посвященное размышлениям автора о его собственном отце-кулаке[868]. Писатели, журналисты, историки и поэты начали исследовать сталинское прошлое. В основном они избегали темы тоталитаризма и вслед за Хрущевым с его секретным докладом на XX Съезде КПСС ограничивались темами единоличной диктатуры и коррупции, но, несмотря на это, их работы производили на читателей оглушительное впечатление, глубоко волновали их и становились для них откровением. Противников тоже было достаточно. Как показала история запрета романа Гроссмана “Жизнь и судьба”, даже внутри литературного истеблишмента оставались те, кто предпочитал правде безопасное и комфортное существование. Брежнев, сменивший Хрущева на посту генсека в 1964 году, тоже отнесся к вопросам, которое ставило это новое поколение, как к угрозе. “Оттепель”, воспетая Эренбургом, в конце концов окончилась заморозками.
Но даже Брежневу было не под силу остановить расцвет и распространение антисоветских анекдотов. Истоки самых старых из этих шуток отследить непросто. В сталинские времена органы отфильтровывали юмор, направленный против режима, и делали они это, конечно, не для того, чтобы хорошенько посмеяться[869]. Подобного рода юмор не был и частью печатной, официальной, воспеваемой культуры: сталинский режим не приветствовал бурлеск. И тем не менее наряду с избитыми шутками о национальности и цвете кожи, о пилящих мужей женах и о мужьях-пьяницах все это время не иссякал поток подпольной язвительной критики и шуток, направленных против системы. Как только мрак террора немного рассеялся, вновь проявились острые образцы жанра. Например, лагеря стали местом, где выработалась убийственная ирония. К началу 1960-х годов представители среднего класса рассказывали эти анекдоты у себя на кухнях. Артисты и исполнители, выступавшие с критикой номенклатуры, попробовали представить их со сцены – иногда в эстрадных монологах, иногда в песнях[870]. В домашней обстановке, при закрытых дверях люди также начали затрагивать в разговорах тяжелые темы. Ходили анекдоты про сталинские чистки, расстрелы (жертвы зачастую умоляли палачей расстрелять их побыстрее), самого Сталина, шутки о трупах, и все они рассказывались наряду с бесчисленными байками о других советских лидерах[871].
К юмору прибегали (особенно молодое поколение) для того, чтобы облегчить непосильный груз прошлого, взорвать старые табу, создать контркультуру. Из действующих представителей советской номенклатуры получались отличные мишени. Например, в анекдотах безжалостно эксплуатировали эпизод с подписями под фотографиями Хрущева на свиноферме (“Товарищ Хрущев в кругу свиней”, “Третий слева – товарищ Хрущев”) или очевидную немощность Брежнева[872]. Хотя, на первый взгляд, этот тип иронии и юмора ниспровергал устои, как и новая литература, опубликованная с позволения цензоров, на самом деле он не подрывал основ мира партийных бонз. Он обращал внимание на рядовой абсурд жизни и высмеивал ложь (и это само по себе было глотком свежего воздуха после десятилетий удушливого страха), но система выдержала смех и насмешки людей. Как говорилось в старом анекдоте, “мы все были против, но голосовали за”.
Непреходящим поводом для иронии служило несоответствие между официальной риторикой единства, прогресса и повышения благосостояния граждан, этими избитыми лозунгами “развитого социализма”, и реальностью неполадок, трудностей, недовольства, диссидентских настроений, коррупции, да и просто плохого, некомпетентного управления. Казалось, честный советский гражданин был просто обречен отвлечься от своих задач и попасть под соблазнительное влияние коварных сирен религии, памяти, вины, национализма, наживы, консьюмеризма и моральной вседозволенности, которые были вызволены теперь из узилища диктатуры. После речи Хрущева на XX Съезде компартии требования большей открытости системы, большей свободы передвижения, более либерального руководства и ослабления цензуры все вместе тоже представляли реальную угрозу системе. В ответ режим не только сохранил, но и усилил политический контроль. Общественная полемика пресекалась, иностранное радиовещание целенаправленно глушили. Видные диссиденты в 1970-е годы подвергались каждодневным нападкам со стороны властей. Открытые протесты подавлялись при помощи армии, имевшей в своем арсенале танки, пули и слезоточивый газ. Таким образом, юмор советских 1960–1970-х годов был по большей части юмором подневольных людей. Какими бы ни были шутка или анекдот, они были неминуемо самоуничижительны по своей сути. “Учитель спрашивает ученика: «Является ли коммунизм наукой?», – и ребенок отвечает: «Нет, потому что иначе его сначала опробовали бы на собаках»”.
Кажется, не было ни одного человека, который бы всегда и всюду со всей серьезностью относился к коммунизму. В 1970-е годы, позже названные эпохой застоя, советским людям приходилось жить двойной жизнью, так же как прежде, в 1920-е годы, двойное существование вели граждане Совдепии. На партийных собраниях требовалось говорить на особом языке, перегруженном абстракциями и оксиморонами – “выполнить и перевыполнить”, “реально существующий социализм”, – и важные выступления неизменно оканчивались “бурными и продолжительными аплодисментами”. Но когда советский человек покидал зал заседаний, ослаблял узел галстука и наливал себя первую (из многих) рюмку водки, он начинал травить анекдоты. Собственно, в этом состояла привилегия власти – первым в любой группе высмеять систему, продемонстрировав отточенное остроумие. Но пока в одной комнате происходил обмен шутками, резолюция, торжественно принятая часом ранее, уже была отпечатана и передана кому следует для исполнения. Шутки смешны, ирония соблазнительна, в тени сталинизма преступления и зверства кажутся лиллипутскими, но последствия у этой новой формы диссоциации были зачастую довольно мрачные, а иногда и вовсе трагические.
Вызов, который стоял перед системой, заключался в том, чтобы переформатировать, создать новый имидж коммунизма в эпоху массовой коммуникации. Вслед за эпохой революционного энтузиазма и за эпопеей Великой Отечественной войны настало время идеологического разочарования, “пустого места”. Некоторые политики затыкали дыры в этой идеологической конструкции товарами народного потребления. Другие, как, например, Хрущев, с рвением взялись за строительство нового жилья. Появились новые программы вооружений, самопальные джинсы, спутники, спортсмены, космонавты и собаки на орбите. Но для того, чтобы советская империя не потеряла смысла своего существования, необходимо было сохранить ее идеологию. Одним из последних врагов коммунизма стала апатия по отношению к главенствующей идеологии, а другим – соперничающие с идеологией глубокие религиозные убеждения. Два главных полемических вопроса эпохи – история и вера, в каждом из которых видное место занимали темы памяти и смерти. Война, чистки, возобновившиеся поиски правды, которые были делом рук обыкновенных людей, все новые и новые свидетельства сохраняющейся в народе религиозной веры – все это по-прежнему осложняло работу партийным пропагандистам.
1960-е и 1970-е стали настоящим торжеством увековечивания памяти о войне: огромные статуи вознеслись над Волгой и Днепром, был создан мемориальный комплекс на Пискаревском кладбище в Ленинграде, открыт памятник “Могила Неизвестного Солдата” в Москве[873]. Государство делало ставку на память, решив поддерживать патриотизм и культ священных потерь. В глазах целого поколения – миллионов людей – эти памятники имели глубокий смысл, ибо воплощали собой лелеемый образ прошлого. Однако эти статуи и мемориалы были установлены в странные времена. В брежневскую эпоху историкам и ветеранам, писавшим о войне, разрешалось упоминать только о том, что уже было описано в каких-либо иных источниках. По словам генерала Горбатова, даже мемуары главных действующих лиц должны были пройти проверку, чтобы можно было удостовериться, что они не поднимают никаких новых тем. “Если новые тексты предлагали иную трактовку событий или персоналий, чем уже опубликованные мемуары военачальников, новые данные должны были быть… удалены или подкорректированы, чтобы привести их в соответствие с предыдущими публикациями”, – объяснял Горбатов[874].
Авторы мемуаров не могли писать о вопиющих военных ошибках и просчетах, о бездарно и бесцельно растраченных жизнях солдат, о политических репрессиях военного времени. Геноцид тоже был темой, о которой не полагалось говорить. Судьба советских евреев, примером которой послужила кровавая массовая расправа в Бабьем Яре, была вписана в общий обширный нарратив коллективных потерь и лишений. Жертвы смертоносной расовой политики были всего лишь “советскими гражданами”. Подобно многим советским секретам, этот секрет просто так не исчез, хотя многим было удобно забыть о нем. Для того чтобы ускорить и облегчить процесс забвения, коллективной амнезии и закрыть дорогу низовым, народным, спонтанным попыткам увековечить произошедшее на этом месте, партия разработала планы благоустройства этого пригородного участка – оврага Бабий Яр и прилегающей к нему поросшей кустарником территории. Существовал проект строительства на этом месте дамбы и спортивного стадиона, но в 1961 году эта идея была оставлена. 13 марта того года после бурного таяния снега селевые потоки прорвали ворота дамбы. “Девятиметровая стена жидкой грязи обрушилась из жерла Бабьего Яра, – вспоминал очевидец трагедии, – множество людей было мгновенно проглочено селевым потоком… Конечно, о точном количестве погибших никогда не сообщалось”[875].
Конфликт вокруг Бабьего Яра и погребенной в нем истории продолжился, наглядно доказывая, что споры вокруг памяти, войны и смерти все еще способны вызывать тревогу, ярость и ощущение незащищенности, уязвимости. В том же 1961 году Евгений Евтушенко опубликовал свою небольшую, не больше ста строк, поэму-размышление о Бабьем Яре:
О, русский мой народ! – Я знаю – ты По сущности интернационален. Но часто те, чьи руки нечисты, твоим чистейшим именем бряцали. Я знаю доброту твоей земли. Как подло, что, и жилочкой не дрогнув, антисемиты пышно нарекли себя “Союзом русского народа”! ‹…› “Интернационал” пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит[876].Поэма привела нового брежневского секретаря ЦК по идеологии Леонида Ильичева в ярость, и он обрушился на Евтушенко: “Время ли поднимать эту тему? Что случилось? И на музыку кладут! Бабий Яр – не только евреи, но и славяне. Зачем выделять эту тему?”[877]
Евтушенко был не единственным, кому пришлось испытать на себе холод хрущевского неудовольствия. Композитор Дмитрий Шостакович, чья Тринадцатая симфония отчасти была вдохновлена мрачной поэмой Евтушенко, с большим трудом смог добиться ее публичного исполнения. Хотя зрители встретили премьеру симфонии восторженно, критики предпочли ее проигнорировать. “Дмитрий Дмитриевич! – выпалил коллега Шостаковича. – Почему же вы выбрали эту поэму, когда в Советском Союзе нет никакого антисемитизма?”[878]
Аплодисменты, которые срывала спорная первая часть симфонии во время редких ее концертных исполнений, стали свидетельством мощной поддержки – по крайней мере, среди ценителей музыки – протеста Евтушенко и сочувственного отклика на него композитора. Сила инакомыслия, как подводное течение, билась под косной, застойной поверхностью коммунистического режима. Это были годы поэтических чтений, проходивших с аншлагами при переполненных залах, авторской песни на сцене под гитару, сложноустроенных вкрадчивых, иносказательных текстов, которые все знали наизусть[879]. Но у диссидентства, как и у религии, есть как свои последовательные приверженцы, так и колеблющиеся “попутчики”. Первые посвящали диссидентской деятельности все свое свободное время, устраивали акции протеста, писали стихи и часто терпели лишения за свои убеждения и принципы. Достучаться до так называемых широких народных масс, которые могли с одинаковой вероятностью сочувствовать инакомыслящим, относиться к ним враждебно, испытывать страх, исповедовать вполне шовинистические взгляды, а скорее всего, просто заниматься собственными делами, было не в пример сложнее. Ни партия, ни ее критики не могли быть уверены, что пользуются долговременной и прочной народной поддержкой. Смерть играла на руку обеим сторонам. Дни памяти о войне превращались в патриотические демонстрации. Но, с другой стороны, как бы странно и парадоксально это ни звучало, смерти тех, кто выступал против режима, тоже вызывали подъем очень сильных чувств и выводили на улицу толпы народа.
Люди, чей язык был изнасилован и искалечен, глубоко скорбели по своим поэтам. Целое поколение до сих пор вспоминает похороны Бориса Пастернака, чьи последние месяцы жизни были особенно тяжелыми. Хотя его роман “Доктор Живаго”, опубликованный за рубежом в 1957 году, удостоился Нобелевской премии по литературе, власти вынудили писателя отказаться от этой высокой чести, а на саму книгу обрушился Союз писателей СССР, обвинив Пастернака в том, что тот изобразил Гражданскую войну с антисоветских позиций. При жизни автора роман так и не был опубликован в России. Пастернак умер 30 мая 1960 года и был похоронен на кладбище в подмосковном Переделкине, дачном поселке, где обитали советские литераторы и художники. Никто и представить не мог, что столько людей захочет проститься с писателем и поэтом. Паломники вытоптали весенние леса, наводнили дачные тропинки и станции электричек. На самом кладбище яблоку негде было упасть. В воздухе ощущались отголоски старых “красных похорон”, праведного протеста против официальной травли писателя, что смогли ощутить иностранные журналисты, присутствовавшие на церемонии. Сотрудники органов “в штатском” позднее опишут эти общественные настроения в своих донесениях. Люди открыто говорили не просто о таланте умершего, а об общечеловеческих ценностях, о свободе слова, честности, достоинстве.
За похоронами Пастернака последовали и другие массовые собрания. В мае 1965 года состоялся вечер памяти Осипа Мандельштама. Среди выступавших была его вдова Надежда Яковлевна, а также Илья Эренбург, Варлам Шаламов и Арсений Тарковский. Спустя год, когда умерла Анна Ахматова, проститься с ней приехали не менее замечательные деятели литературы и искусства, почтив молчанием память той, которая видела свою миссию в “сохранении русской речи, великого русского слова” “свободным и чистым”[880]. На этот раз среди тех, кто выступил с речью над гробом поэтессы, был Лев Копелев[881].
Некоторым поэтам суждено было стать настоящими культовыми фигурами. Всенародно любимый бард и актер Владимир Высоцкий умер в июле 1980 года, и горе от этой утраты затмило в сознании миллионов людей радость от летних Олимпийских игр, проходивших в Москве в то же самое время. Некоторые говорили, что ничего подобного Москва не видела с момента смерти Сталина в 1953 году. Вот как описывает это Джеральд Смит: “Высоцкий умер в пятницу утром. Как только новости об этом просочились в народ, рядом с Театром на Таганке стала собираться толпа. Люди приходили все дни, до понедельника, когда даже тем, у кого не было специальных приглашений, разрешили зайти внутрь для последнего прощания с телом, которое привезли в театр в субботу”[882]. Высоцкого похоронили на Ваганьковском кладбище. Его могила, как и могила Пастернака, стала местом паломничества. В любое время года на ней свежие цветы.
Однако вышеописанные похороны были все-таки исключениями из правил, сопровождавшие их ритуалы были уникальными, вдохновленными личностью и творчеством умершего, и организованы и проведены они были теми, кто умел обращаться со словом. Энергию толпы подпитывали солидарность и протест. В отношении кончины лояльного представителя истеблишмента такие лирические чувства испытывать было не в пример труднее, каких бы заслуг за покойным ни числилось. Например, похороны Шостаковича, скончавшегося в августе 1975 года, были чопорными, холодными и организованы были, что называется, без души. В своем завещании композитор попросил не приглашать оркестр на гражданскую панихиду, да в ту пору в Москве и нельзя было найти оркестр, потому что гастрольный сезон был в самом разгаре. Отсутствие музыки сделало и без того тяжелую атмосферу еще более гнетущей.
Тело Шостаковича было выставлено для прощания в Большом зале Московской консерватории. Это было официальное, государственное мероприятие. Присутствовала пресса, а также представители правительства и артистического истеблишмента. В толпе, как всегда, курсировали “искусствоведы в штатском”. Из динамиков звучала музыка композитора. Произносились обычные в таких случаях речи. Чиновники на все лады талдычили: “А прежде всего он был коммунистом”. Друг композитора, скрипач Марк Лубоцкий писал: “Все выступавшие заявляли, что Шостакович гений, это были утвержденные «наверху» формулировки”[883]. Утвержден сверху был и сам церемониал. Пришедшие последовали за гробом от Большой Никитской до престижного Новодевичьего кладбища, куда более величественного, чем Ваганьковское, места на котором удостоится Высоцкий. Вот как об этом вспоминал Марк Лубоцкий: “Было холодно. Военный оркестр терзал «Траурный марш» Шопена. Мы стояли вокруг платформы, слушая очередные речи… Застучали молотки. Приколачивали крышку гроба. Тронулись с места. Остановились. Заиграл советский гимн. Было холодно, начал моросить дождь”[884].
Основная проблема состояла в том, что партии непременно требовались слова, “послание”. Людям не всегда нужна была загробная жизнь или Бог. На светских похоронах они жаждали музыки во всей ее невербальности и трансцендентности. Но пропагандистам невыносима была сама мысль о том, чтобы предоставить людей их мыслям. Шла борьба, в которой система должна была одержать победу. Коммунизм сдавал свои позиции. Традиционная религия получала все новых и новых обращенных. Определенные формы религиозных обрядов даже становились модными. Появлялись новые группы, новые секты, и некоторые представители молодежи даже стали носить на шее крестик (на это у людей могло быть множество причин)[885]. Уже успевшие завоевать прочную репутацию объединения верующих также продолжали собираться, часто эти встречи проходили в так называемых домашних церквях. “У нас был кухонный стол, накрытый так, как будто бы отмечался день рождения, – рассказывала Магдалена Алексеевна. – Тогда, если бы к нам неожиданно нагрянул сосед, чтобы проверить, что мы делаем с таким количеством гостей в квартире, мы могли ответить, что мы празднуем. Они не видели, что в другой комнате молились”[886].
В 1970 году молодой человек, с которыми разговаривали исследователи, сказал, что “религия дает верующему надежду на что-то в жизни. Мифологическая эта вера или нет, но он верит во что-то, а без веры жить невозможно”[887]. Как это ни парадоксально, государство было с ним согласно, с той лишь разницей, что вера, которую оно стремилось внушить своим гражданам, была светской. Государственная кампания, вдохновленная этими соображениями, получилась двояко направленной. 1960-е были отмечены новым витком борьбы с церковью – количество действующих в стране церквей сократилось примерно с 20 тысяч в 1961 году до 6,5 тысячи в 1970-е годы[888] – и новыми репрессиями против духовенства и активистами, возглавлявшими приходы. Одновременно с этим система возобновила попытки создать новые ритуалы, заменить предрассудки и древнюю веру на что-то более светское и современное. Партию не удовлетворяла ирония, угрюмое и неохотное согласие с догмами: она требовала энтузиазма, горячей поддержки масс. Меморандум 1960-х годов разъяснял: “Требуется тщательно выработанный и продуманный комплекс мер по распространению новых советских традиций, обычаев и практик наряду с возрождением и укреплением тех прогрессивных форм и институтов, которые достались нам от прошлого, некоторых народных традиций и обычаев, очищенных от религиозного подтекста”[889].
Специалисты в области пропаганды разработали цикл советских ритуалов. Среди них были как традиционные обряды – такие, например, как женитьба, рождение или наречение новорожденного именем, – так и новые церемонии, отмечавшие первый и последний день в школе (первый и последний звонок), получение паспорта, первую зарплату[890]. Были изданы брошюры, объяснявшие населению смысл и форму этих новых обрядов. Белорусская версия, например, рекомендовала проводить День памяти 2 или 8 мая, “а еще лучше, в последнее воскресенье апреля или первое воскресенье мая”, потому что в эти дни люди традиционно посещают кладбища и приводят в порядок могилы родственников[891]. Идея заключалась в том, чтобы сместить фокус с так называемых негативных пережитков традиции. В отличие от множества других новых обрядов, День памяти, посвященный павшим на войне, а не победе как таковой, оказался успешным нововведением. Многие ветераны вспоминают, что этот день значил для них больше, чем День Победы, отмечаемый 9 мая. Однако чаще новый государственный праздничный день просто добавляли в календарь, который шел своим чередом, как прежде. В родительские субботы на специальных столах в церквях появлялись сладости, выпечка и банки со сладким консервированным горошком, а могилы на кладбищах украшали лапником, веточками вербы и ивняка[892].
Пасха была вечным бельмом на глазу у коммунистических агитаторов. Празднование жизни вечной подвергалось нападкам со всех сторон: верующих травили и притесняли, а телевизионная программа была составлена столь чрезвычайно хитроумно, чтобы отвадить людей от посещения пасхальной службы. Толпы прихожан, приходивших в храмы на всенощное бдение и крестный ход, заметно поредели[893]. Но все помнят – а я это наблюдала лично – как люди ели кекс “Весенний”, закончив смотреть концерт Аллы Пугачевой по телевизору или матч киевского “Динамо”. Смыслы, которыми разные люди наделяли пост, могли существенно отличаться. Даже верующие больше не принимали комплекс догм и верований целиком. Как выяснили исследователи, большинство сомневалось в реальности жизни после смерти. Не только партии и церкви приходилось теперь бороться за веру[894].
При этом частные похороны нередко оборачивались бессмысленной суетой. Церемониал был призван в конечном счете дать выход эмоциям скорбящих и вовлечь их в переживание смерти. Но автор одного из докладов, написанных в 1964 году, отмечал, что “наш похоронный и поминальный ритуал абсолютно неразвит. В Москве часто приходится наблюдать, как неверующие предпочитают хоронить своих мертвых по религиозному обряду, потому что ритуал гражданских похорон до сих пор не сложился. Похороны простых рабочих или пенсионеров часто проходят по религиозному образцу”[895]. В сельской местности привычка соблюдать церковные ритуалы была укоренена куда глубже. Исследователи, работавшие в деревне Вирятино в Центральной России, обнаружили, что за пять лет, с 1952 по 1956 год, здесь состоялись только три нерелигиозные похоронные церемонии[896].
Советские агитаторы и пропагандисты видели в религиозных похоронах вызов. Один из них писал в 1970 году, что “борьба между старым и новым проходит не только на баррикадах, не только в экономической или политической сфере, но и по местам последнего упокоения мертвых”[897]. Относительно простой частью этой проблемы и ее решения была бы трансформация пространства, создание новых кладбищ и контроль над обликом общественных памятников. Однако самая сложная часть, тот твердый орешек, который властям так и не удалось расколоть, состояла в молитвах, во всех тех словах, которыми сопровождались похоронные ритуалы. Оправдывая этот свой провал, пропагандисты ссылались на то, что религиозные обряды отвечают неким базовым, фундаментальным человеческим потребностям и стремлениям. По словам этнографа Сергея Александровича Токарева, похороны были не просто пережитком религиозных верований и обрядов, а произрастали из универсальных человеческих побуждений и мотивов, свойственных человеку как существу социальному[898]. Таким образом, сохранение культа было свидетельством слабости не коммунизма или механизмов экономического распределения, а человеческой слабости мужчин и в особенности женщин.
Агитаторы были вынуждены признать, что им не под силу победить некоторые привычки прошлого. Однако они могли распоряжаться публичным пространством, в котором проходили ритуалы. Их мегаломания удачно совпала с политическими требованиями и задачами. На окраинах крупнейших городов были разбиты новые кладбища, до некоторых из них приходилось добираться по часу и больше. Власти, видимо, надеялись, что люди дважды подумают, прежде чем отправляться в такое далекое путешествие, станут реже посещать кладбища, и в итоге старые обычаи естественным образом отомрут сами собой, и это пойдет на пользу общественному здоровью. Все остальные детали – заполнение бесконечных форм, требование справок, очереди, стоимость захоронения – не были задуманы, чтобы поиздеваться над людьми, хотя именно такими их и запомнили. Просто именно так зачастую функционирует бюрократия.
Хованское кладбище в Москве, открытое в 1972 году, считается самым большим кладбищем в Европе. Оно занимает поражающую воображение площадь в 206 гектаров, то есть превышает размером большинство среднестатистических английских деревень. Посетив его, можно увидеть воплощение чаяний разработчиков новых ритуалов. Пейзаж, который предстанет перед вами, довольно уныл и мрачен. Добираться сюда (особенно без машины) тяжело, долго и неудобно. А когда вы все-таки оказываетесь на кладбище, вам еще предстоит отыскать нужную могилу, кружа в лабиринте дорожек и аллей. Двигаться приходиться осторожно, потому что место это топкое, болотистое и часто затапливается. Честно говоря, лучше приезжать сюда зимой, потому что тогда, по крайней мере, у вас под ногами будет твердая, замерзшая почва. Вам потребуется карта. Перевернув ее и следуя многочисленным линиям и стрелкам, вы увидите тысячи, многие тысячи памятников. Вы будете проходить мимо столиков с ритуальной едой, мимо изображений умерших родственников, выгравированных на могильных камнях, мимо позолоченных надписей и дат, мимо пластиковых и настоящих цветов, лент, красных звезд. У некоторых могил есть маленькие навесы, чтобы духи умерших не озябли, путешествуя под ледяной крупой.
Пожалуй, самый странный элемент кладбищенского убранства – фотографии на могильных памятниках. Не существует единого мнения о том, что именно они призваны означать. Возможно, это все, что осталось от культуры икон, победа искусства гравировки или доказательство того, что дух умершего человека действительно обитает в этом маленьком надгробном вместилище. В любом случае могилы представляют собой гибридные явления, наследующие древним традициям (специальное угощение для мертвых и освященная земля) и использующие элементы современности (красные звезды, надписи, пластиковые цветы или венки). Пока вы заняты исследованием устройства российского кладбища, ваши друзья поеживаются при виде мусора и грязи, трупика птицы, валяющегося среди могил, брошенных сигаретных бычков. Хованское кладбище, расположенное к юго-западу от города, как и немного уступающее в размерах Николо-Архангельское кладбище на востоке, предназначено для тех, кто не может позволить себе похоронить родственников в более престижном месте. Самое приятное, что можно сказать об этих кладбищах, – это то, что погребенные здесь оказываются в хорошей компании. Политики, а в 1990-е годы и мафиози, обычно находят последнее пристанище на кладбищах в центре города[899].
Существование древних обычаев и обрядов, какими бы неблагородными и неблизкими они ни казались, гарантировано самим фактом захоронения покойника в землю. Кремация, как считалось, напротив, наверняка покончит с преобладанием религиозной традиции в этой сфере. Говорили, что кремация тоже может удовлетворять всем требованиям момента, давать силы снова смотреть в будущее и в целом быть чем-то прекрасным. Проблемы, которые сопровождали эту процедуру в прошлом, можно забыть, ведь все зависит от самого крематория.
Киев стал одним из городов, где был проведен этот эксперимент. Столица Украина была колыбелью христианства для восточных славян, и к 1960-м годам здесь уже были воздвигнуты впечатляющие памятники, поводом для которых послужила смерть. Если вы приедете в Киев сегодня, вы, скорее всего, пожелаете увидеть Софийский собор, в котором находится могила Ярослава Мудрого. Вам также наверняка захочется посетить Киево-Печерскую лавру, в катакомбах которой почивают мощи множества святых. Как объяснил мне Владимир Мельниченко, один из архитекторов киевского крематория, “по-настоящему судить о цивилизации можно по тем памятникам, которые она оставляет после себя. У египтян были пирамиды. Мы хотели создать нечто, что символизировало бы значение и ценность жизни в нашем обществе”.
Мельниченко – человек серьезный, даже суровый. В его словах нет ни намека на иронию. Но судьба его великого проекта, реализация которого заняла тринадцать лет, очень многое говорит о том мире, в котором он жил. Горсовету не нравился существующий крематорий. Власти считали, что он нарушает каноны соцреализма, те самые, которые после недавней смены правительства они пересмотрели. Само здание и прилегающая к нему территория были намеренно обезличены. Сегодня само это место практически заброшено.
Решение о начале строительства крематория в Киеве было принято в 1960-е годы. Бюджет проекта ограничили тремя миллионами рублей, большая часть которых была отведена под закупку технического оснащения: печи и рефрижераторных камер для морга. Большинство архитекторов предпочли держаться в стороне от этого проекта и не подавать заявку на конкурс. Два местных художника, Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко, получили проект в свое полное распоряжение. По словам Рыбачук, ее коллеги просто испугались и не захотели иметь ничего общего со смертью. Рыбачук и Мельниченко оказались настоящими фанатиками, энтузиастами своего дела. “Для нас все складывалось очень удачно”. Все. Даже первые наброски выглядят чрезвычайно амбициозно, когда они демонстрируют их сегодня. Инженеры уверяли, что спроектированное сооружение невозможно построить, но подобные комментарии часто предшествуют архитектурному триумфу. Денег тоже не хватало, однако последние этапы строительства – семь лет работы – были выполнены с привлечением добровольцев, работавших бесплатно. Рыбачук рассказала мне, что люди приезжали посмотреть на работу, интересовались, для каких начальников возводится это здание, и не верили, когда архитекторы отвечали, что оно предназначено для всех.
Когда Мельниченко и Рыбачук рассказывают эту историю, с энтузиазмом разворачивая перед вами цветные чертежи спроектированного ими крематория, самое мощное впечатление на слушателя производит их идеализм. Они и правда стремились сформировать новое отношение к смерти, вернуть, как описала это Рыбачук, “художественную составляющую”. Она поясняет: “Смерть превратилась во что-то тривиальное, обыденное. Мы хотели все это изменить, сделать ее красивой, серьезной, чем-то, что стоит размышлений и обдумывания”. Символ, который проектировщики выбрали в 1960-х годах для того, чтобы выразить свой замысел, не просто имел внешнее сходство со зданием Сиднейского оперного театра. За чаем мы по очереди изучаем бумажную модель крематория с тремя пересекающимися арками. Здание было выполнено из бетона и возведено на искусственном холме в самом сердце престижного киевского Байкова кладбища[900]. Один из архитекторов объясняет: “Это не просто здание, мы планировали создать целый комплекс ритуальных услуг, заняли для этого все пространство. Хотели описать путешествие по дороге жизни, объяснить, что смерть – это еще не конец. Все это мы рассказали властям. Это и стало одним из камней преткновения”.
Даже друзья критиковали замысел Рыбачук и Мельниченко: “Говорили, что мы стараемся навязать что-то новое, заменить традиционные похороны. Говорили, что захоронение в землю есть часть славянской традиции. Люди не хотели, чтобы мы связывались с кремацией”. Однако Рыбачук и Мельниченко настаивали – и совершенно справедливо, – что культура сожжения мертвых существовала в степи и в дохристианские времена. Они без устали занимались научными изысканиями: предприняли экспедицию в Карпаты в поисках аутентичных славянских обрядов предположительно существовавших в этом регионе в древности, зачитывались старыми текстами в киевских библиотеках. В результате их проекта включил в себя отсылки к духам этой местности и захоронение в погребальных урнах. Даже бумажная модель дает представление о том, что центр ритуального пространства должен был находиться под открытым небом. Прототипы погребальных урн до сих пор можно увидеть в доме Рыбачук и Мельниченко: архитекторы подвесили их у себя на кухне над плитой и выстроили в ряд вдоль стены за массивным столом.
Однако планам повторного внедрения кремации в Киеве помешали воспоминания куда более позднего периода, чем эпоха принятия христианства. Архитекторы хотели, чтобы их работа вызывала правильные ассоциации. Оказалось, что в Киеве идея сожжения неизбежно пробуждала в воображении образы, связанные с Холокостом и Бабьим Яром. Владимир Мельниченко объяснил: “В Советском Союзе до войны [в крематориях] всегда использовались немецкие печи, технологически в точности совпадавшие с теми, что нацисты применяли в лагерях смерти. И думать было нельзя, чтобы использовать их в Киеве. Нельзя было использовать немецкую печь, так что мы заказали английскую, производства Mason and Dawson, хотя она была и дороже”. Также было решено установить ее под землей. Ада Рыбачук считала, что крематорий не должен загрязнять воздух: “Да мы и не хотели, чтобы сооружение хоть в чем-то напоминало фабрику”.
Рыбачук и Мельниченко были по-настоящему одержимы своей идеей. Они планировали соединить в проекте погребальную архитектуру Мексики и Древней Руси, они хотели, чтобы в их проекте угадывались очертания многоступенчатых зиккуратов и степных курганов, представлявших целиком земляное сооружение. Практически каждая стена здания должна была быть украшена бетонными рельефами, огромными, ярко раскрашенными антропоморфными фигурами, живыми и праздничными. Огромная территория кладбища подверглась перепланировке: было выкопано искусственное озеро и проложены извилистые дорожки. Рыбачук добавляет: “Мы хотели, чтобы в зале был источник с водой. Никакого «фонтана слез», ни в коем случае! Никаких тропинок, усаженных мрачными липами. Ничего такого. Просто вода. – Она стучит по столу чайной ложкой. – Стекло мы привезли из Чехословакии. Нашли место, где они делали его в точности так, как нам было нужно”. Сейчас стекло исчезло, рельефов тоже больше нет. Огромные фигуры, часть из которых так и не была доделана, были выброшены в кусты. Некоторые из них до сих пор там и валяются. Решение использовать в отделке интерьера здания яркие цвета вызвало яростную критику. Внутренние помещения крематория были в основном выкрашены в черный цвет (чтобы перекрыть яркие тона) или выцвели до грязновато серого. Озеро осушили. Теперь в нем покоятся пустые бутылки, старый буфет и опавшие листья.
Мельниченко достает еще один замусоленный чертеж, карту кладбища и фотографии здания на каждом этапе строительства. Он переворачивает чайное блюдце и ставит сверху модель бумажного крематория, как на подставку. На улице начался дождь, и комната с ее огромным открытым окном внезапно заполнилась ароматами вечера в южном городе – запахом мокрого камня, подгоревшего кофе, табака, листьев каштана, весны. Слова и фотографии казались нереальными, словно отголоски далекого прошлого. Добрые намерения архитекторов, их идеализм и рвение начинали раздражать. В капиталистическом Киеве для идеализма не осталось места. В наши дни городу нужно совсем другое, его нужды материальны, а проблемам нет числа. Мельниченко пристально посмотрел на меня. Он подвинул перевернутое блюдце поближе к лампе: “С этой стороны был север”. Я кивнула. Это был семинар по истории, и он только что начался.
Алексей Смирнов – психиатр, работающий в Петербурге. Крах коммунистического режима пришелся на годы его учебы по профессии. Другими словами, Смирнов является носителем сразу двух мировоззрений – как советского, так и российского постсоветского. Сегодня он находится в ловушке безжалостной посткоммунистической экономики, ориентированной исключительно на извлечение прибыли, и пытается не обижаться на свой мизерный оклад или непрестижность работы. Он полон иронии, которой он умело пользуется как противоядием против пессимизма. Мы встретились для того, чтобы обсудить ту работу, которую он провел с ветеранами войны, но Смирнов воспользовался возможностью и через час после начала нашей беседы завел более общий разговор о жизни и смерти. “В вашей стране или, по крайней мере, в Америке бытует представление о том, что здоровье – это нечто ценное, – говорит он и замолкает, чтобы открыть окно в занесенный снегом двор. – Если ты не куришь, не пьешь, не потребляешь холестерин, жиры или сахар, то ты здоровый человек. Все тебя будут любить, и ты заработаешь много денег. То есть если у тебя и с психологическим здоровьем все в порядке. Если ты не безумен, все будут думать, что ты отличный человек, ты преуспеешь. Если что-то не заладится, ты несешь свой организм к специалисту в «починку». А у нас нет такого отношения к этим вещам”. Он зажигает сигарету и с наслаждением затягивается. Улыбается: “Думаю, это называется аутоагрессивным поведением”[901].
Агрессия, точнее, изучение агрессии – одна из специализаций доктора Смирнова. Он предполагает, что агрессия является прямым следствием некоторых других проблем, порожденных коммунистическим режимом, наследием репрессивной политики, ответом на насилие со стороны государства. Он рассуждает об устойчивой “лагерной ментальности”, свойственной как больным, так и здоровым, о глубоком недоверии к государству и к закону, которое рушит все шансы на строительство в стране демократии. Он считает, что большинство людей предпочитают не задумываться о проблеме агрессии, не разбираться с ней, как не задумываются они и о смерти. Он объясняет: “Это наше странное свойство, у других обществ оно тоже есть, но у нас оно доведено до абсурда, до крайности. Диссоциация. Каждый знает, что означает несоответствие между словом и делом. В нашем обществе мы превратили это в какую-то нелепость, в анекдот. Это не исключение из правил, а само правило: сказать одно, а сделать другое. Это правило жизни советского человека. И знаете, что это такое? Это шизофрения. Я имею в виду, в символическом смысле. Происходит раскол, расщепление… Человек думает, что им управляет сборище монстров, но вслух говорит: «Да здравствует наша партия, да здравствует наше правительство»”. Он делает паузу между затяжками и добавляет: “О, и я не оговорился: советский человек. Этот типаж не изменился”.
Мы могли бы весь день проговорить о противоречиях и парадоксах советской культуры. Но мы не упомянули важное обстоятельство: это признание российской специфичности, даже если оно ограничено областью психиатрии, в свою очередь порождает парадокс. Потому что, хотя Смирнов незамедлительно добавляет, что Россия – это не Запад и что у людей в этой стране свои традиции, сам он посвятил первый этап своей профессиональной карьеры западной диагностической концепции. Тема его докторской диссертации – “посттравматическое стрессовое расстройство”. В своей работе он исследует случаи ПТСР среди ветеранов войны, которую Советский Союз вел в Афганистане, а также изучает последствия травматического опыта для семей афганцев.
Даже в Соединенных Штатах Америки ПТСР было добавлено в утвержденный перечень психических расстройств сравнительно недавно[902]. Оно понимается как реакция на исключительные, обычно связанные с насилием события – неестественную смерть (в бою, например), природную катастрофу, несчастный случай с летальным исходом, – свидетелем которых оказался страдающий теперь от ПТСР человек. Это психическое расстройство включает в себя целый ряд симптомов – от паралича и потери речи до ночных кошмаров, фобий и флешбэков, мучающих человека, причем флешбэков настолько ярких и живых, что человек может воссоздать в своем сознании целый мир, например, повторяя агрессивное поведение, которое было уместно в этом мире, или прячась под столом, чтобы спастись от воображаемой бомбежки. В некоторых западных обществах постановка подобного диагноза играет важнейшую роль в судебных разбирательствах по делам о компенсации, и, как следствие, расширяется диапазон признанных стрессогенных факторов. Многие международные организации считают, что посттравматическое стрессовое расстройство является практически автоматическим, неизбежным следствием войны, повсеместным и всеохватывающим элементом опыта жертвы насилия[903].
Хотя в Советском Союзе насилие и жестокость имели место, не так-то просто применить концепцию травмы к его гражданам. Никто здесь не жаждет получить диагноз ПТСР, а получив, не гордится им. До определенной степени подобное отношение объясняется тем, что в постсоветских государствах психическое расстройство не просто не предполагает компенсации, а, напротив, стигматизируется. Но есть и другие причины. Нет сомнений, что боль – опыт общечеловеческий, универсальный, хотя люди выносят и переносят ее по-разному. Однако культурные ресурсы, которые общество может разработать, чтобы с этой болью примириться, могут отличаться, как могут отличаться другие проблемы – например, беспросветный голод или повсеместная бездомность, – на фоне которых и вместе с которыми люди вынуждены переносить психологические травмы. Отнюдь не в каждом человеческом сообществе разум, рассудок отдельного человека стоят во главе угла. Каждый раз, когда бывшие советские граждане пытаются объяснить, как сталинская Россия не рухнула под грузом отчаяния, в их рассказах возникают слова “коллективизм” и “общее усилие”. Чем больше люди избегали обсуждать то, что мучало их и причиняло им беспокойство, тем большие издержки и большую цену предполагала эта стратегия. Однако десятилетиями люди были лишены сколь бы то ни было эффективной альтернативы.
Афганский кризис был особым случаем в силу того исторического момента, с которым он совпал. Старые способы абстрагироваться от столкновения с реальностью – идеологическое рвение и тяжелый физический труд – на глазах теряли свою действенность. Цинизм стал повсеместным явлением. На смену полной трудовой занятости и послевоенному восстановлению страны пришла новая реальность, в которой, как говорилось в старом анекдоте, “мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что платят нам”. В многоэтажках брежневской эпохи не было места духу общинного добрососедства и коллективизма. На пороге своего последнего, оказавшегося роковым кризиса Советский Союз вступил в войну, суть которой никто толком не понимал и которую практически никто не одобрял. В 1945 году ветеранов Великой Отечественной войны, по крайней мере, согревал устойчивый отблеск моральной победы. Афганцы подобного компенсаторного ощущения моральной правоты будут лишены. Им придется найти новые способы осмысления военных потерь, и некоторые из ветеранов этой войны – какая ирония! – обратятся за помощью к Западу. Сам Смирнов решительно отказался от репертуара советских доморощенных реакций на травму и смерть. “Мы любим считать, что нам есть чему научить все остальное человечество, – говорит он, – однако мы можем по-настоящему научить вас только тому, как поступать не следует”. Освободившись от старых советских ограничений, специалисты вроде Смирнова незамедлительно обратились за идеями и вдохновением к западному опыту. ПТСР пришло в Россию полностью сформированным понятием, как экономическое ноу-хау или картофель фри из “Макдоналдса”. Когда больничные врачи могут себе позволить уделить этому явлению время (что в наши дни случается в России нечасто), постановка диагноза и назначенное лечение иногда помогают, но одновременно с этим ставят множество вопросов.
Советская армия вторглась в Афганистан в 1979 году. Последовавшая война велась под неясным идеологическим предлогом – дескать, хрупкий коммунистический режим обратился за советской помощью, но одновременно с этим война была призвана укрепить позиции Москвы в регионе, который традиционно славился нестабильностью. Как всегда, в комплексе причин был и элемент расизма. Об афганских повстанцах советская пресса писала на разные лады как о примитивных варварах, исламских экстремистах, террористах, промышлявших контрабандой оружия и наркоторговлей, проповедниках ислама. Помимо этого, существовали опасения, что Соединенные Штаты воспользуются гражданской войной в Афганистане для укрепления происламских движений в прилегающих республиках СССР. Однако советская интервенция не решила ни одной из этих проблем, стоявших перед Брежневым. Напротив, она еще больше разожгла дух антикоммунистического сопротивления и священной войны в самом Афганистане и вызвала бурю негодования в остальном мире[904]. Экономисты и военные наблюдатели сходятся во мнении, что война в Афганистане в конечном счете сыграла важнейшую роль в крахе советской системы.
Опыт, которые получили афганцы, мужчины и женщины, воевавшие в Афганистане, несопоставим ни с чем. Очередное поколение, пусть и не поголовно (несмотря на всеобщую воинскую обязанность, все те, у кого были правильные связи, пытались откупиться от необходимости отправлять своих детей в “афганский тур”), готово было распрощаться с эвфемизмами. “Думали ли мы о смерти заранее? – говорит бывший воин-интернационалист. – Конечно, нет. Я вас умоляю! Мы же были совсем дети, малолетки. Нам было по восемнадцать лет. Все, что я знаю о смерти – точнее, о ценности жизни, – я узнал в то время. До этого я ничего не знал, и с тех пор ничего не изменило моего мнения. Эти годы, с восемнадцати до двадцати лет, в жизни любого мужчины переполнены событиями. Но особенно в военное время”. Его друг смеется: “Может, мы больше думали в то время, потому что у нас было полно времени. В конце концов, поспать нам не удавалось”.
В книге Светланы Алексиевич “Цинковые мальчики” другой ветеран-афганец объясняет: “Для людей на войне в смерти нет тайны. Убивать – это просто нажимать на спусковой крючок”[905]. Эта мысль стала потрясением для многих подростков-призывников, которые оказались на призывных пунктах в 1980-е. Для них, как и для всех остальных советских людей, героизм и военные сражения ассоциировались с Великой Отечественной войной. Дети воспитывались на историях своих дедушек и бабушек. Ветераны приходили в каждую школу, чтобы поведать учащимся о своих подвигах[906]. Эти рассказы и нескончаемый поток фильмов и книг о войне служили неподдельным вдохновением для доброй части молодых людей, призванных на военную службу в брежневскую эпоху. Один бывший афганец объяснил мне: “Я хотел делать то, о чем всегда рассказывал мой дедушка”. Другие вспоминают, что испытывали огромный страх перед будущим, но он был смешан с любопытством. “Восток, знаете, я совсем не думал о Великой Отечественной войне, совсем не думал. Это было другое, и это обещало быть таким увлекательным: воевать на границе, в таком романтическом месте. У меня даже была возможность избежать отправки в Афганистан. Это был сознательный выбор, который я сделал”, – рассказывает бывший солдат. Его друг добавляет: “Мы никогда не думали, что нас собираются убить. С детства нам втемяшивали в головы, что наша страна самая лучшая, а наша армия самая сильная и тому подобное. Но так и надо. Так и должно быть в любой стране”[907].
Призывники, отправлявшиеся на войну в Афганистан, чтобы “выполнить интернациональный долг”, быстро убедились: они действительно могли сражаться только за то, чтобы выжить. Они обнаружили, что в героических рассказах о Второй мировой были опущены подробности настоящей партизанской борьбы. Все, будь то рядовые, медсестры или вспомогательный персонал, вспоминают свое потрясение. Советское государство оказалось отнюдь не всемогущим, его якобы правое дело в исторических терминах марксизма-ленинизма было совсем не волшебным щитом, делавшим бойцов неуязвимыми, а неприятель, которого власти описывали как пешку в руках средневековых религиозных фанатиков, вовсе не был непоследовательным или даже злонамеренным. Один из афганцев “стал ориенталистом, будучи в Афганистане, начал интересоваться их религией”. По его словам, сегодня он “немного дзен-буддист и немного таоист или синтоист”. Среди других его интересов, отчасти почерпнутых во время поездки в Калифорнию, – отказ от применения насильственных методов и управление посттравматическим стрессовым расстройством. Он называет себя intercultural facilitator, человеком, призванным облегчить межкультурную коммуникацию.
В предгорье Гиндукуша советских воинов-интернационалистов ожидали и более суровые открытия. Одним из первых стало дикое, свирепое варварство наземной войны. Светлана Алексиевич приводит воспоминание одного из уцелевших: “Уже в космос люди летают, а как убивали друг друга тысячи лет назад, так и убивают. Пулей, ножом, камнем… В кишлаках наших солдат вилами деревянными закалывали…”[908]. Как и все партизанские войны, война в Афганистане была беспощадной в своей жестокости, и дело было не только и не столько в минах или снайперском огне. Каждое утро приносило новые трупы тех, кому не повезло оказаться в заложниках у моджахедов. У одних могли быть выколоты глаза, другим на животе или спине вырезали звезды[909]. Некоторые советские солдаты перед боем зачастую надевали две именные бляхи – одну на шею, другую на ноги – в надежде, что найдется кто-то, кто в случае их гибели соберет останки и пошлет их домой. Возможно, так и произойдет. Однако даже геройская смерть на поверку оказывалась несбыточной химерой. Снова вспоминают герои Алексиевич:
Мы ехали делать революцию! Так нам говорили. И мы верили. Представлялось впереди что-то романтическое. Пуля натыкается на человека, ты слышишь – его не забыть, ни с чем не перепутать – характерный мокрый шлепок. Знакомый парень рядом падает лицом вниз, в едкую, как пепел, пыль. Ты переворачиваешь его на спину: в зубах зажата сигарета, которую только что ему дал… Она еще дымится… ‹…› Чтобы испытать ужас, оказывается, надо его запомнить, привыкнуть к нему. Через две-три недели от тебя прежнего ничего не остается, только твое имя. Ты – это уже не ты, а другой человек. ‹…› Этот человек при виде убитого уже не пугается, а спокойно или с досадой думает о том, как будет его стаскивать со скалы или тянуть по жаре на себе несколько километров[910].
Солидарность афганцев была выкована не только и не столько пережитым страданием, хотя и его, конечно, было бы достаточно, но прежде всего изоляцией. Жертву, которую они принесли, “выполнив свой интернациональный долг”, оттеснили на обочину общественного внимания или даже просто проигнорировали. Один из ветеранов-афганцев рассказал мне: “Это была небольшая война, нас было не так много, поэтому теперь мы держимся вместе. Так же будет и с теми, кто воевал в Чечне”. Война была непопулярной, и никто не спешил благодарить тех, кто на ней воевал. “Мы вас туда не посылали”, – вот одна из тех фраз, которую бывшие афганцы до сих пор повторяют, выплевывая слова с горечью, которую не облегчили прошедшие с момента ее окончания десятилетия мира. Многие из них столкнулись с открытой дискриминацией. В Советском Союзе ветеранам войны полагались некоторые привилегии. Украшенные орденами и медалями ветераны Великой Отечественной войны были избавлены от стояния в очередях; им даже были положены льготы вроде бесплатного проезда или бесплатного санаторно-медицинского лечения. Однако для афганцев система редко предусматривала подобные бонусы:
Дали мне инвалидную книжечку – положены льготы! Подхожу к кассе для участников войны:
– Ты куда, пацан? Перепутал.
Зубы стисну, молчу. За спиной:
– Я Родину защищал, а этот…
Незнакомый кто спросит:
– Где рука?
– По пьянке под электричку попал. Отрезало.
Тогда понимают. Жалеют[911].
Как и следовало ожидать, государство сыграло в этом свою негативную роль, пытаясь скрыть человеческие потери, которыми пришлось заплатить за эту войну. Пройдут годы, прежде чем станет известно, сколько именно войск было дислоцировано в Афганистане, а точная цифра потерь остается неизвестна и по сей день. На родину солдат отправлялись цинковые гробы, но на некоторых были надписи “умер”, а не “погиб в бою”. “Никто не задавался вопросом: а почему вдруг начали умирать восемнадцатилетние”, – заметил кто-то. Медсестра вспоминает: “Мы не могли даже правду написать в похоронках. Они подрывались на минах… От человека часто оставалось полведра мяса… А мы писали: погиб в автомобильной катастрофе, упал в пропасть, пищевое отравление. Когда их уже стали тысячи, тогда нам разрешили сообщать правду родным”[912]. В общем и целом семьи даже не знали наверняка, отправили ли их сына в Афганистан или нет. Один из моих респондентов писал матери, что находится где-то в Монголии на военных учениях. Письма не подвергались цензуре, он просто не хотел, чтобы мать знала о том, где он в действительности находился. В случае его гибели она могла так и не узнать, почему это случилось[913].
Более того, семьям было запрещено хоронить афганцев на специальных военных кладбищах. Могилы были разбросаны по гражданским кладбищам в надежде, что так их количество произведет на непосвященных меньшее впечатление, а на надгробных памятниках редко указывали причину и место смерти[914]. В своей работе о войне и поминовении павших Джордж Мосс описывает нововведение: устройство отдельных военных кладбищ (в Европе до 1914 года они были редкостью) как этап создания патриотического мифа. Таким образом, наглядно подчеркивается, что эти священные мертвые отличаются от простых смертных[915]. Брежневский режим не воздал подобных почестей тем призывникам, которым суждено было погибнуть в Афганистане.
Как обычно, советское правительство начало эту войну, толком не подготовившись к тем смертям, которые она неминуемо должна была за собой повлечь. Гробов не хватало. Один из кинооператоров, снимавших загрузку “черного тюльпана” на этой войне, рассказывал, “как мертвых одевают в старую военную форму сороковых годов, еще с галифе, иногда кладут, не одевая, бывает, что и этой формы не хватает. Старые доски, ржавые гвозди…”[916]. Когда от тела не оставалось ничего и послать домой было нечего, в гроб клали старые тряпки и запечатывали его, чтобы родственники никогда не узнали правды. Тела, готовые к отправке, помещались в примитивные холодные хранилища: “В холодильник привезли новых убитых. Как будто несвежим кабаном пахнет”[917]. Вспоминая мертвых, никто не рассказывает о ритуалах. Ветеран Афганской войны признался мне, что, если и проводились погребальные церемонии, когда хоронили погибших, его на них не приглашали. И тут же стал, как все остальные, говорить о дешевых цинковых гробах, личинках и запахе мертвечины.
История трагическая, но для многих ветеранов Афганистана она не заканчивалась демобилизацией. Большому количеству афганцев – среди респондентов Смирнова они, конечно, преобладают – предстояло узнать, что образы войны будут преследовать их и в мирной жизни. Все мужчины, с которыми мне удалось поговорить, были уверены, что пострадали от тех или иных проблем (отнюдь не все ветераны описывали их словами вроде “стресс” и “эмоциональная перегрузка”). Потребовалось много времени, чтобы эти тени отступили. Некоторые из афганцев вспоминают, как казалось, что им никогда уже не удастся обрести душевное спокойствие. Группа ветеранов рассказала мне: “Одному из парней постоянно сны снились. Дошло до того, что он боялся засыпать. Ему постоянно снилось, что у [ «духов»] автоматы, что они пришли за ним, что его сейчас возьмут в плен”.
Другие начали странно себя вести, подвергали своих любимых, да и самих себя опасности. Они рассказывают, как во время праздничного салюта в ужасе бросались на землю и как их накрывала паническая атака лишь при запахе дизельного топлива на местной автобусной станции. Один из пациентов Смирнова проснулся от собственного крика из-за ночного кошмара: ему приснилось сражение, но вместо воображаемого неприятеля он обнаружил свою спящую жену, которую пытался придушить. Те, кто пострадал особенно сильно, начали пить. В опросе, который провел Смирнов, “едва ли не каждый первый опрошенный” использовал алкоголь сразу после возвращения домой для того, чтобы снять напряжение. Большинство и дальше не отказались от этой привычки. Меньшинство, хотя и значительное (примерно каждый пятый), в конце концов, стало алкоголиками. Даже те, кто “заключил мир с алкоголем”, как сформулировал это один ветеран, обнаружили, что выпивка переносила их обратно в пустынный пейзаж, в темноту зловещей ночи. Другим, практически повсеместным симптомом так называемого афганского синдрома является повышенная агрессивность, особенно как следствие употребления алкоголя. Как отмечает Смирнов, большинству ветеранов, чтобы прийти в ярость, достаточно услышать от кого-нибудь “мы вас туда не посылали”.
К мирной жизни приспосабливаться нелегко. Ощущение безопасности само по себе стало для вернувшихся афганцев своеобразным потрясением. Мужчины возвращались домой в города, где улицы казались им пугающе тихими. Они не могли понять, почему окружающие не испытывают страх. Для некоторых жизнь без военных приказов и товарищей оказалась слишком сложна, практически невыносима. Другие были не в состоянии провести четкую границу между двумя мирами – Афганистаном и Россией. “Мне постоянно снилось, что я выхожу из своей квартиры, сажусь в лифт, а когда выхожу из дома и за мной захлопывается дверь, то оказываюсь в Афганистане, в полном одиночестве и без оружия”, – рассказывал один ветеран. Другой пациент Смирнова, парень двадцати с лишним лет, приходил домой и уединялся в своей комнате. В течение многих месяцев единственный человек, общество которого он мог выносить, был его бывший товарищ. Вдвоем они часами сидели на кровати, вспоминая войну. Эти разговоры не только не помогали им забыть, но оказались бессильны даже сдержать их воспоминания или придать им некую форму. Парень начал опасаться, что меняется сам склад его личности, характер. И года не прошло, как развалился его брак, а сам он помимо всего прочего становился все более ожесточенным и несдержанным. Помощь ему была оказана только после того, как он напал на однокурсника и чуть не убил его, и в данном случае “помощь” означала всего лишь госпитализацию в советскую психиатрическую больницу.
В своих научных работах Смирнов определяет подобное поведение как часть посттравматического стрессового расстройства. Еще одно проявление ПТСР – желание вновь испытать опасность, характерное для многих ветеранов Афганской войны. “Они так привыкли к стрессу и эмоциональным перегрузкам, что не могли без них жить, – объясняет он, – поэтому некоторые из них так никогда по-настоящему и не перестали воевать”. Некоторые добровольно отправились наемниками в страны бывшей Югославии, другие стали силовым хребтом для уличных банд и мафиозных группировок, которые контролируют существенную часть российского банковского сектора и торговли. Большинство афганцев с негодованием отвергают концепцию психической травмы, не признают саму возможность того, что врач в больнице может излечить от так называемых душевных расстройств. “Парни не ходят к психиатрам, – объясняет Смирнов. – Ну что с того, что они пьют, не могут спать и тому подобное. Зато они могут разговаривать друг с другом. Они не воспринимают это как проблему, которую могли бы решить врачи. Пошла молва, что со мной можно иметь дело, но те, у кого настоящие проблемы, по-прежнему ни к каким врачам не обращаются”. В представлении большей части этих бывших солдат, стресс, эмоциональная перегрузка – это не повод для медицинского вмешательства.
Как бы то ни было, некоторые ветераны в конце концов получат помощь из неожиданного источника. В конце 1980-х группа американских психологов организовала программу обмена между советскими ветеранами войны в Афганистане и американцами на поколение старше, воевавшими во Вьетнаме в 1960-е годы. Параллели между двумя этими войнами были очевидны, и включение советских солдат в американские программы реабилитации, казалось, благотворно действовало на обе стороны. Участник одной из таких программ обмена рассказывал мне: “Нам были не нужны переводчики, ребята мгновенно друг друга поняли. Не было никакого языкового барьера. Это было похоже на невербальное понимание”[918].
Значительная часть терапии тоже была невербальной. В рамках одной из калифорнийских программ обмена участников ждали стандартные способы терапии разговорами и проговариванием, а кроме того, традиционные церемонии очищения (так называемые sweat lodge ceremonies), напевы североамериканских индейцев и долгое уединение на лоне дикой природы[919]. Сегодня горстка специалистов пробует на практике в России схожие подходы. Валерий Михайловский, психолог по образованию, возглавляет Центр социальной адаптации инвалидов и участников войн в подмосковном Зеленограде. Он идеалист, и в его случае это только к лучшему, потому что его центр не получает никакой финансовой поддержки от государства и существует на очень скудные средства. Тем не менее, несмотря на острую нужду в деньгах и ветхость здания, атмосфера в этом месте абсолютно несоветская. В день моего приезда люди (в русском языке нет удобного эквивалента слову “клиент”, а сам Михайловский отказывается называть этих людей “пациентами”), с которыми работает Валерий Михайловский, занимались китайской гимнастикой тай-чи. Меня пригласили участвовать в групповом занятии, дискуссии, посвященной работе над собой, и продолжительной сессии дыхательных упражнений[920]. Подход, который практикует Смирнов, работая в государственной больнице в Санкт-Петербурге, куда более традиционен и действует в русле бережной терапии, которую практиковали дореволюционные психиатры, изучавшие боевой посттравматический синдром. Как и они, Смирнов цитирует в основном британские, американские и немецкие публикации на эту тему, а не работы отечественных коллег. Его наблюдения о способах лечения ПТСР также базируются на общепринятой в Штатах клинической практике.
Бывшие военнослужащие, опробовавшие на себе эти способы лечения, и особенно те из них, кому довелось побывать за границей, выглядят так, как будто пережили второе рождение. Некоторые из тех, кто смог поучаствовать в калифорнийской программе обмена, убеждены, что повсеместное официальное признание ПТСР коренным образом изменит жизнь всех ветеранов. Они даже верят, что различные методы терапии могут быть с пользой применимы к большей части населения России. Один из этих людей признался мне, что хотел бы увидеть, как больницы ставят решение этой проблемы на поток. “Знаете, что-то вроде клиник, которые Святослав Федоров создал для глазных операций”, – предложил он, и его друзья его поддержали. Этот бывший солдат с сожалением и даже негодованием воспринимает пренебрежительное отношение со стороны старшего поколения ветеранов, мужчин и женщин, переживших Великую Отечественную войну. У этих пожилых людей было “совершенно иное психологическое восприятие”, объясняет он: “К тому же, после Второй мировой войны они не знали, что такое эмоциональная перегрузка, ее не принимали во внимание. Даже сегодня большинство стариков думает, что это такая модная новая штука. Это такой принцип: если бы не были открыты бактерии, не существовало бы никаких болезней”.
Однако подобные взгляды исповедует только крошечное меньшинство. Смирнов прекрасно знает, что многие из его коллег – хотя отнюдь не все – просто не заметили результатов его работы[921]. Большинство афганцев, с которыми мне удалось поговорить или о которых я читала, также не слишком впечатлены его открытиями. Значительное число переживших эту войну нашли для себя индивидуальные способы существования, жизни со своим прошлым. Эти мужчины говорили мне: “Кто захочет пойти к психиатру? Это ничем не облегчить. Для начала вспомните об истории наших психиатрических больниц. Это не наш метод, да?” Только те, кто из-за своих проблем теряет трудоспособность и возможность вести нормальный образ жизни, добровольно обращаются за медицинской помощью[922]. В прочих случаях афганцы предпочитают держаться вместе. Когда один из них умирает – насильственной смертью или от отравления алкоголем, от последствий наркотиков или малярии, его товарищи, как правило, помогают семье оплатить расходы на похороны и надгробный памятник[923].
И в наши дни мужчины, прошедшие Афганистан, которые до сих пор называют себя “парнями”, немногословны. Бывший солдат признался в разговоре со мной: “Нет сил отвечать на одни и те же вопросы. Если я прихожу в школу, меня всегда спрашивают одно и то же: принимал ли я наркотики и случалось ли мне убивать. Конечно, случалось. Не знаю, скольких я убил. В конце концов, об этом перестаешь думать”[924]. Почти половина респондентов в исследовании Смирнова неохотно делилась своими воспоминаниями с теми, кто не был на войне, а около четверти предпочитала вообще не говорить на эту тему[925]. Эту скрытность и неразговорчивость можно интерпретировать по-разному. Смирнов объясняет это тем, что “попытка избежать повторного переживания травмы” является стандартным элементом ПТСР.
Однако, возможно, эту проблему следует описывать иначе. Вряд ли кто-то решит поспорить с тем, что среди советских ветеранов войны были случаи травмы. Да и большинство солдат из тех, что отслужили в армии положенный по призыву срок, рассказывают об армейских обрядах инициации: не обязательно было оказаться на войне, чтобы испытать издевательства, перенести побои, изнасилование, получить ожоги или быть облитым мочой. Даже в лучшие времена жизнь советского солдата-срочника была полна жестокости. Однако понятие травмы объясняет далеко не все проявления. Дело не только в том, что изучение афганского синдрома как медицинского факта само по себе остается спорным. Не стоит забывать и о более широкой проблеме, скрывающейся за этим сюжетом. Ее неотъемлемыми элементами также являются государственное насилие, политические репрессии и долгие годы забвения. Ветераны признавались, что жизнь на гражданке зачастую оказывалась “тяжелее, чем в Афганистане”[926]. Их тревога и нервозность вовсе не обязательно сигнализируют о нездоровье. Было бы странно, если бы в их обстоятельствах эти люди не испытывали гнева, чувства вины, изолированности и даже агрессии, которые они привезли из Афганистана домой, в европейскую часть России.
Список проблем, с которыми сталкиваются афганцы, впечатляет. Одна из них – бытующие в отношении ветеранов Афганистана предрассудки. Общество, в котором выпало жить афганцам, отрицает саму законность и обоснованность их усилий, их военного опыта, предпочитая игнорировать их рассказы о реальной жизни и смерти. Советское правительство прятало тела их погибших товарищей. Оно лгало о том, что им пришлось совершить, “выполняя интернациональный долг”. Эти люди не почувствовали никакой общественной поддержки, не видели никаких публичных протестов в свою защиту, не получили практически никакой материальной компенсации. Ветеранов Афганской войны, вернувшихся с нее навсегда искалеченными, не высылали из больших городов, как в сталинское время, но, чтобы выжить, им зачастую приходилось побираться на улицах. Многие из инвалидов Афганской войны, промышляющих попрошайничеством, работают под охраной здоровых афганцев, давая почву слухам о мошеннических аферах и мафии фальшивых попрошаек. Однако у многих из этих людей просто нет другого выхода. Для того чтобы попасть в московское метро, безногому инвалиду нужен кто-то, кто может отнести его вниз на платформу, где многие из них просят подаяние. То, как обыватели отворачиваются от этих людей и сторонятся их, говорит нам куда больше о свойственном гражданской России ощущении незащищенности и неуверенности в себе, чем о собственно поведении самих ветеранов. Иными словами, невротические реакции и воображаемые угрозы присущи не только бывшим участникам боевых действий. То же можно сказать и о других реакциях на травматический опыт – например, об алкоголизме и сопутствующих ему насилии и преступности.
Некоторые из этих идей были впервые сформулированы еще в 1970-е годы в США ветеранами войны во Вьетнаме[927]. Однако параллели между двумя этими обществами не слишком глубоки. По наблюдению Смирнова, главная особенность советского отношения к травматическому опыту состояла в диссоциации, расщеплении. Советское государство редко позволяло себе прямоту в отношении смерти. За долгие годы сложился паттерн, механизмы уклонения, избегания этой темы, частью которого была цензура самой базовой информации о ней. Отчаяние, даже как тема исследования в области психиатрии, было практически полностью табуировано, и о самоубийствах тоже почти не упоминали[928]. Даже у милиции не было свободного доступа к соответствующей статистике, а в некоторых областях статистический учет, на самом деле, просто не велся[929]. Эти свойства советской действительности сохраняли главенствующее, определяющее значение в обществе, так что неудивительно, что афганцы стали сомневаться в том, какой из миров был пустыней, а какой – безвозвратно потерянным домом.
Весной 1986 года надеяться на то, что Советская Россия покончит с привычкой отрицать реальность и нежеланием признавать факты, не приходилось. Очень уж удобной была эта советская особенность для слишком многих людей. Хрущевская оттепель пролила свет на некоторые аспекты неудобного прошлого. Но в стране была и масса других проблем. Советский Союз очевидно отставал от Соединенных Штатов по производительности труда, научным инновационным разработкам, производству товаров народного потребления, распределению продовольствия, освоению космоса и военным технологиям. Когда Михаил Горбачев стал генеральным секретарем КПСС в 1985 году, отставание в этих областях стало первоочередным пунктом реформаторской повестки. Некоторые считают, что политика гласности, которую Горбачев ввел спустя полтора года, подорвала возможности проведения экономической реформы сверху. Открытость не всегда является самой лучшей политикой, когда государству требуется закрыть фабрику или повысить цены на хлеб[930].
Форсировать события Горбачева заставила ядерная катастрофа. Взрыв четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС в ночь на 26 апреля 1986 года стал частью европейской истории. Облако радиоактивных частиц, выброшенных в воздух в результате аварии, не могло остаться внутренним делом СССР. Облако начало дрейфовать над территорией Польши. Пчеловоды заметили, что пчелы, собиравшие мед, погибали от смертельных укусов сородичей по возвращении в ульи, однако в первые дни после катастрофы польское правительство не спешило выражать свой протест по поводу возможных последствий. Затем облако было замечено в небе над Швецией, и именно шведы первыми на международном уровне подняли вопрос о том, что именно произошло. В конце концов, облако отнесло на запад, и радиоактивный цезий и стронций выпали с осадками в нагорной части Уэльса и в Озерном краю в Северо-Западной Англии, а также отравили леса во французском департаменте Вогезы. Тем временем в самом Советском Союзе руководство Коммунистической партии в Москве было потрясено, осознав масштабы коррупции, дезинформированности, должностных злоупотреблений и бесхозяйственности в своих собственных рядах. Чернобыль стал последней катастрофой старого порядка, и его последствия вынудили страну пересмотреть все те принципы и ценности, на которых этот порядок зиждился.
Чернобыльская АЭС расположена приблизительно в ста километрах к северу от Киева. В течение многих лет жизнь вокруг атомной электростанции ничем не отличалась от жизни любого советского города. Люди, жившие поблизости от реактора, знали о возможных рисках и даже о нарушениях эксплуатации, но предпочитали заниматься рыбалкой. Вокруг раскинулись красивейшие леса, неподалеку было и озеро, а земля давала особенно хорошие урожаи. На самом деле люди подозревали, что небывалым урожаем на своих грядках они обязаны помимо всего прочего радиоактивному выбросу с АЭС[931]. Когда в тот роковой вечер на четвертом энергоблоке начался эксперимент, впоследствии приведший к пожару, большинство местных жителей собирались ехать на дачу и радостно паковали шляпы от солнца, бутылки, снедь и только что купленный дачный инвентарь. Наступили первые по-настоящему весенние выходные, когда внезапно ветер становится теплым и природа разом пробуждается к жизни. Оставаться в городе в такие дни практически невыносимо, и невозможно усидеть дома.
Дальнейшие события больше ни для кого не секрет. Серия экспериментов не была должным образом подготовлена, ситуация вышла из-под контроля, энергоблок охватило пламя, и сбой в работе АЭС в течение нескольких минут обернулся катастрофой, которую невозможно было локализовать. Работавшие в ту ночь сотрудники АЭС – большинства из них сегодня уже нет в живых – сделали все, что было в их силах, чтобы предотвратить взрыв реактора. В течение нескольких недель после аварии добровольцы и мобилизованные служащие милиции, армии и пожарной службы выходили на тяжелые и зачастую оказывавшиеся смертельными смены, пытаясь остудить и герметизировать тепловые стержни, очистить территорию от завалов и построить бетонный саркофаг вокруг разрушенного здания. Стены киевского музея Чернобыля украшены посмертными свидетельствами мужества ликвидаторов. Официальная же реакция на чернобыльскую трагедию, то есть реакция Коммунистической партии и местных министерств, была по большей части абсолютно позорной и возмутительной.
Мы никогда не сможем точно подсчитать, сколько жизней было загублено впустую из-за советской привычки к отрицанию и нежелания признавать факты. Да, население Чернобыля, Припяти и близлежащих деревень было эвакуировано в первые же выходные после трагедии, и власти не знали, что еще делать с этими людьми. Однако достоверная информация о произошедшей катастрофе так и не была обнародована. Возможно, даже в Москве не все были в курсе деталей произошедшего[932]. Представители власти, находившиеся на месте происшествия, а также должностные лица в Киеве старались не выдавать подробностей случившегося. На самом деле, если им удавалось избежать ответственности, их первой реакцией было сгрузить вещи в багажник машины и уехать от греха подальше. Вдова армейского офицера, которого в ту роковую субботу вызвали на работы по ликвидации прямо с семейного застолья и который затем работал на расчистке завалов в течение трех месяцев, рассказала мне, что в первый же рабочий день после трагедии ее внучка пошла в школу, как обычно. “Это была одна из элитных школ, – рассказывала мне она. – Мы туда попали, хотя мы не принадлежали к этим кругам, ну вы понимаете, что я хочу сказать. Так вот, она отправилась в школу после каникул, а в классе никого не осталось. Она была единственным ребенком. Партийные номенклатурщики свои детей увезли в те выходные. Мы не знали, что происходит, а они знали и сбежали при первой же возможности”[933].
Если бы гражданское население знало о случившемся, неминуемо началась бы паника. Но кто-то должен был принять на себя ответственность за хотя бы базовое информирование населения. Вышедшие на первомайскую демонстрацию киевляне понятия не имели, что лучше бы им было остаться дома с закрытыми окнами. Один из респондентов, с которыми мне удалось поговорить, склонил голову, вспоминая своего сына-подростка: “Он был энтузиастом, он верил во все это советское. Очень хотел пойти на первомайскую демонстрацию. Он всегда на нее ходил. Нам никто не сказал, что лучше бы было не выходить на улицу. Он был спортсменом, наверное, больше вдохнул вредных выбросов, чем все остальные”[934]. Но микроскопическая пыль была не единственной проблемой. Выяснилось, что британский студент, который в разгар кризиса летел домой из Киева, привез с собой частицы ядерного топлива на подошве обуви, а у другого туриста фрагменты этой опаснейшей субстанции обнаружились на брюках[935].
Правда просачивалась наружу очень медленно. Некоторые из ходивших тогда слухов противоречили друг другу. Из-за огромного количества вранья в прошлом у людей больше не было веры в официальную информацию. Стоит ли выходить на улицу или, наоборот, запереться дома? Остаться ли в Киеве или собираться и ехать в Москву? Какие продукты еще не заражены? Лжет ли правительство или говорит правду? Никто не верил сообщению властей о “допустимом уровне радиации”. Предполагалось, что “биороботы”, лопатами сбрасывавшие пыль с крыши реактора (многие из них были призывниками, проходившими службу в армии), получают “максимально допустимую дозу” радиации каждый раз, когда они пробегают по бетонному покрытию блока, но большинство получило дозу облучения куда большую и прекрасно знало об этом. Считалось, что в Киеве “безопасно”, но горожане до сих пор подозревают, что его почва, его пыльные улицы были заражены. А в сельской местности множество людей отказывались верить версии правительства о том, что их земля, воздух и вода внезапно стали токсичными. Те, кто жил за пределами зоны отчуждения, в то лето начали предпринимать вылазки в район Припяти, и к осени некоторые уже вовсю сушили первые грибы из небывалого урожая, который в тот год выдался в местных лесах.
Говорят, что Горбачев был потрясен открывшимися ему в результате чернобыльской трагедии фактами. Правительство было обязано призвать на помощь иностранных специалистов и обратиться за международным содействием. Катастрофа, свидетельства халатности и неэффективного управления и вынужденное взаимодействие с Западом – все эти факторы подтолкнули Горбачева к тому, чтобы радикальным образом пересмотреть курс реформ[936]. Одним из результатов этого переосмысления стала политика гласности, которая уже летом 1986 года открыла возможности для изучения скрытого в густом историческом тумане прошлого. Однако потребуются годы на то, чтобы открытость лидера страны изменила советские взгляды, привычки и глубоко укоренившиеся убеждения обычных граждан. Никто не доверял государству, его ученые обманули людей, а врачи, неспособные излечить детей от странных видов рака, лишь усугубляли ситуацию. Наука и суеверия столкнулись в эпической битве. Люди не верили государству и не верили физике. В критическом положении они обратились к Богу и магии.
С точки зрения эсхатологических откровений того времени Чернобыль был катастрофой, предсказанной в Откровении Иоанна Богослова. Однако возможные реакции на произошедшее не исчерпывались одним лишь фатализмом. Против отравления радиацией никаких деревенских снадобий не было, но советское общество десятилетиями жило импровизацией. Начали поговаривать, что очистить организм от радиоактивных частиц помогает водка и что в рацион экипажей советских атомных подводных лодок всегда включен алкоголь. Говорили, что средство действует еще лучше, если одновременно с водкой принимать красное вино. Вероятно, тот факт, что авария на Чернобыльской АЭС произошла в разгар горбачевской антиалкогольной кампании, не был простым совпадением[937]. В ту весну очереди за водкой (а также за сахаром, чтобы гнать самогон) и даже за некоторыми видами одеколона и без того были огромными. Теперь же среди интеллигенции началась паника. Моя подруга, которая в то время была на седьмом месяце беременности, умоляла меня купить ей водки в валютном магазине. Напрасно я увещевала ее, ссылаясь на здравый смысл западной культуры, который подсказывал мне, что крепкий алкоголь опасен для плода. Семейный совет вопрошал: а откуда я знаю, что британское правительство тоже не сочиняет лживые истории?
Слухи, возникшие вокруг той аварии, не исчезли до сих пор. Некоторые из них правдивы. Истории о двухголовых жеребятах и младенцах, родившихся без лица, похожи на апокалиптические кошмары. Но если вы посетите музей Чернобыля, то обнаружите все эти экспонаты, которые, как призраки, плавают в желтых колбах. В эпидемии детской лейкемии, в опухолях легких, горла, щитовидной железы нет ничего аллегорического. Однако что действительно поражает во всей этой истории, так это жизнестойкость и несгибаемость киевлян, а особенно некоторых эвакуированных, серьезно больных или находящихся при смерти, но живущих в изгнании, вдали от своих зараженных домов. Международная американо-украинская команда врачей и психологов обнаружила, что семьи справляются с переживаниями по поводу произошедшей трагедии в общем и целом именно так: просто продолжают жить[938].
Однако вдали от АЭС страх апокалипсиса привел к настоящей вакханалии суеверий и предрассудков. Радиоактивный мусор стал одной из центральных тем российских городских легенд. Говорят, что на него можно наткнуться, просто идя по улице, и все слышали о спятившем старике, который складирует его в соседском подвале. Когда я впервые поселилась в московской квартире, я тут же услышала от соседа предупреждение: “Никогда не покупайте овощи у продавцов с украинским акцентом. И все проверяйте. Они такие ловкие, знаете. Они нанимают людей со среднеазиатской внешностью, чтобы те продавали их товар, а мы думали, что он безопасен”. “Безопасным” считается только “наше”, то, что получаешь от близких родственников, будь то покупки, еда или другие предметы, или импортные товары, предпочтительно американские, немецкие или японские. Эта слепая вера в импорт – в электронные приборы ничуть не меньше, чем в политические рецепты – расстраивала меня и приводила в замешательство. Ведь зачастую она оказывается неоправданной или неуместной. Тот же самый сосед подарил мне на новоселье карманный счетчик Гейгера с инструкцией на японском и запасными батарейками. Кажется, это была самая дорогая модель, которую в то время можно было купить на местном рынке, и он с жаром настаивал, что я просто обязана им пользоваться. Многие месяцы я страдала от чувства вины, потому что так никогда и не опробовала этот счетчик в деле. Однажды друг из Кембриджа отнес его в свою лабораторию, чтобы протестировать. Лампочки на приборе выразительно вспыхивают тремя разными цветами, но сам прибор не работает.
Глава 11 Прошлое выходит на поверхность
В 1970-е и 1980-е годы не заметить и пропустить День Победы было невозможно. Обычно к началу мая уже таял снег, грязь отступала, и сквозь асфальт пригородных улиц начинали пробиваться первые листья одуванчиков. А тем временем в центре городов разворачивалось действо. Все начиналось за несколько дней до 9 мая, когда местные службы приезжали развешивать флаги. Между правительственными учреждениями сновал разбитый грузовичок, нагруженный тросами и стремянками. Женщины и мужчины в синих робах выпрыгивали из кабины и принимались спорить, раздражаясь друг на друга, напряженно работать, курить в перерывах. Когда полотнища – тысячи полотнищ – огромного размера наконец занимали свои места, казалось, под облаком кумачовой ткани меняется даже дневной свет. Из хранилищ также извлекались монументальные плакаты, которые вешали на фасады административных зданий. Шестиметровые портреты Маркса и Ленина, полотна с серпом и молотом и бесконечное количество изображений Брежнева, обычно в полупрофиль, позирующего так, чтобы продемонстрировать потрясающие ордена и медали, которыми он сам себя наградил. А в магазинчиках на углу внезапно “выбрасывали” тепличные гвоздики, водку и химический бисквитный десерт, который в России именуется тортом.
Иными словами, никто не заставлял людей выходить на демонстрацию, но если они планировали остаться дома, а особенно если они собирались взять собаку, детей, кое-какие вещи и сесть в пригородную электричку, едва ли им удавалось избежать столкновения с официальным празднованием, дополнительными нарядами милиции и милицейскими ограждениями, которыми регулировалось движение толпы. Дети 1970-х годов сегодня говорят, что это был просто еще один праздник. В то время они загодя, за неделю или две, начинали готовиться к Дню Победы в школе, рисовали красные флаги и зеленые танки, писали короткие сочинения, отвечали на вопросы контрольных работ. А тем временем их матери, торопясь с работы, волновались, как бы не опоздать на автобус и успеть приготовить одежду на выход.
Праздничная суета, огни и шум призваны были потеснить в сознании людей их личные, частные воспоминания и тревоги. Однако пространства и время, не охваченные официальной коллективной памятью о войне, не были сплошь заполнены мраком и молчанием. Даже у самых восторженных патриотов были свои собственные воспоминания. Хотя их личные секреты были абсолютно неупорядоченными. Ни церковь, чьи обряды во всей полноте соблюдали очень немногие, ни государство с изобретенными им безвкусными ритуалами не были властны над тем, как именно люди вспоминали и оплакивали потери. Устойчивость и разнообразие этого частного опыта долгие годы оставались невидимыми: они проявились и вышли на поверхность лишь в конце 1980-х годов. Катализатором этого процесса стало обнаружение останков погибших.
Как только были обнаружены первые братские могилы сталинского времени, люди отправились в путь. Они совершали свои паломничества на автобусах, пешком, на чьей-то разболтанной машине, втиснувшись на заднее сиденье между внуками. Они оставляли на местах захоронений фотографии, обернутые в целлофан копии недавно полученных документов, свечи, хлеб. Никаких очевидных правил на этот счет не существовало. В Левашово, что под Петербургом, где только в одном 1937 году было расстреляно несколько тысяч мужчин и женщин, сосновый лес пестрит фотографиями, пластиковыми цветами и оплавившимися свечами. Некоторые просто сооружали пирамидки из шишек, другие поступали более формализовано: расплющивали лист жести и выбивали на нем имена и даты жизни и смерти. В одной части леса среди деревьев возвышаются столбики, к каждому из которых прибит металлический северный олень. Они установлены в память о погибших здесь финнах.
Сегодня люди утверждают, что всегда помнили своих мертвых, даже в 1970-е, несмотря на давление сверху и попытки отвлечь их внимание. В любом случае трудно сказать, так ли это на самом деле. Некоторые, несмотря ни на что, продолжали задавать вопросы. Однако для остальных их воспоминания оказались расплывчатыми, трудноуловимыми, ненадежными: в силу того что в обществе данная тема обсуждалась так мало, эти воспоминания было легко растерять. Уцелевшие материальные символы этой памяти, предназначенные для того, чтобы быть переданными следующим поколениям, оставались фрагментарными, двусмысленными, подчас даже искореженными – как, например, фотографии, которые люди хранили в своих семейных альбомах и часть которых была обезображена и обезличена – в буквальном смысле, при помощи черной полосы на глазах у человека – чтобы предотвратить возможные меры со стороны органов в случае обыска. Некоторые, как Юдифь Борисовна, продолжали цепляться за официальные документы – извещение о смерти или ответ на официальный запрос о судьбе репрессированного. На этих бумагах были официальные печати, как если бы с прошлым было покончено. Для тех, кто дожил до наступления другого времени и выяснил, что информация, содержавшаяся в этих справках, была сфабрикована, это открытие стало шоком. У многих родственников погибших не было вообще никаких свидетельств. Жизнь и память проживали и справлялись с ними на разных уровнях; у людей появлялись более свежие рассказы о горе, счастье и достижениях. Разговоры и открытия 1980-х годов породили новые истории о прошлом, а не просто воскресили старые.
Помимо прочего, в Левашово также очевидны попытки централизованного, коллективного переписывания прошлого, стремление заявить свои права на мертвых и наделить их социальной, общественной ролью. Существует несколько вариантов того, как это делается. Прежде всего можно произвести акт покаяния государства, поставить неуклюжий памятник из черного камня напротив входа в лес. Это уродливый монстр, похожий на робота или огромные тиски, в которые зажата добыча: полуобнаженная человеческая фигура пассивно свешивается из его чрева через наковальню. Фигура эта мужская и своей мускулистостью напоминает героев памятников социалистического реализма, с той лишь разницей, что обращена она лицом к земле и не подает признаков жизни. Сообщества выживших узников ГУЛАГа от этого памятника не в восторге. Большинство из них сегодня предпочитают новую версию памятного знака – большой православный крест, установленный в лесу на груде камней, первый из целой серии крестов, украшенный ксерокопией иконы Богоматери с младенцем. Церковь прикладывает множество усилий для того, чтобы вернуть души россиян, в том числе коммунистов, в лоно православия. На любой церемонии, проходящей в Левашово, обязательно присутствует священник. Если и этот мемориал вам не по душе, в вашем распоряжении есть музей, в котором обитает хорошо откормленная рыжая кошка. Музей представляет собой избушку из двух комнат со старой печкой, и если найдется кто-нибудь, чтобы отпереть дверь и впустить вас внутрь, вы сможете погреться возле печки, изучая избранные документы, статистику, фотографии и планы местности.
В конце концов, вы бредете обратно в лес. Одна из надписей сообщает: “Мы искали тебя 52 года и будем помнить вечно”. Как известно, мемориалы придают памяти определенные очертания, но в процессе, именно в силу своей избирательности, они способы эту память и заморозить. В истории России был период – с 1986 года, начала политики гласности, и до начала 1990-х годов, когда повторное открытие прошлого было активным процессом, вызывавшим живые эмоции: ярость, чувство вины, горе, иногда раскаяние. Сегодня мы имеем дело с мемориалами. Их значение и смысл – служат ли они свидетельством чьей-то правды (триумфом для уцелевших), большей открытости, разобщенности общества, набожности, желания сохранить память или ее противоположность – зависят от того, кто вы.
Конечно, до начала публичной кампании бесхозные, неопознанные кости в советской земле были делом совершенно обыденным. Перезахоронения этих останков шли уже не одно десятилетие. В большинстве случаев эти церемонии воспринимались как часть гражданского воспитания. Группы мальчишек-подростков, называвших себя поисково-разведывательными отрядами, при поддержке воспитателей занималась поисками и захоронениями останков советских солдат, которые десятками тысяч гнили в лесах. Один из руководителей такой группы рассказал американскому туристу, что “для молодых людей очень важно понимать, что эти кости когда-то были людьми. Только когда мы отдадим полную дань уважения мертвым, мы начнем уважать живых людей”[939]. Его слова – классический образчик советского самообольщения, попытки выдать желаемое за действительное. В конце концов, параллельно с поисковиками существовала другая команда, как говорят, действовавшая в тайне, захоранивавшая – и скрывавшая – трупы совсем другого рода, среди которых были жертвы стихийных бедствий вроде армянского землетрясения 1988 года[940]. Важно было непременно избавиться от улик и материальных свидетельств и ни в коем случае не подсчитывать потери.
Даже спустя десятилетия после окончания войны и смерти Сталина к найденным детьми обрывкам солдатских гимнастерок и костям относились с известным равнодушием, как к чему-то обыденному. Один из тех, кто посетил лагерь бывшего ГУЛАГа, рассказывал, что на Колыме повсюду так много костей, что “летом дети ходят по голубику с человеческими черепами”[941]. В других частях страны местные жители “всегда” знали, что тот или иной участок находился в “их” юрисдикции, то есть принадлежал органам. Подобного рода репутация может прилипнуть к любому пейзажу: к насыпям с клоками травы, огороженным уголкам поросшей кустарником местности или болотам, к высаженному по линейке ельнику. Даже в годы застоя бывали случаи, когда мертвые навязывали себя живым. Коммунистическая партия была не властна над погодой. В 1979 году в результате весеннего паводка на сибирской реке Оби в подмытом берегу реки обнаружились захоронения с телами погибших в ныне заброшенной тюрьме НКВД[942]. Вместо того, чтобы похоронить останки более чем четырех тысяч расстрелянных в Колпашевском яре, по приказу КГБ и лично тогдашнего Первого секретаря обкома партии Егора Лигачева их уничтожили. В течение нескольких дней буровая установка на берегу вскрывала новые захоронения, а обнаружившиеся кости перемалывались винтами двигателей теплоходов. Добровольцы из числа дружинников и местных жителей привязывали к уплывшим трупам железные ломы и топили их в Оби.
Раскопки, начавшиеся в конце 1980-х, были совсем иными. Поиски останков были более прицельными и политически мотивированными. Они происходили в контексте ограниченной горбачевской политики гласности, но люди, возглавлявшие охоту за уликами, отнюдь не были поклонниками советского правительства. Идея заключалась в том, чтобы обнаружить и даже идентифицировать труп, вернуть ему имя, восстановить его историю. Александр Мильчаков, один из знаменитых активистов этого движения (именно он обнаружил могилу отца Юдифи Борисовны), объяснил американскому социологу, что жертвы сталинизма “не могли просто так исчезнуть, должны же где-то быть их останки”[943]. Когда он их находил, будь то черепа или пепел, КГБ под его напором вынужден был против воли признать некоторые из тех преступлений, что были совершенны и сокрыты его предшественниками. Кости были эксгумированы, чтобы служить свидетельством этих преступлений.
Мильчаковым двигала жажда доказательства и материальных свидетельств, журналистские амбиции – докопаться до правды. Однако у других поисковиков, посвятивших эксгумации останков многие годы даже после падения коммунистического режима, были свои мотивы. Юрий Дмитриев, обнаруживший могильник Сандармоха в Карелии, где были расстреляны тысячи узников Соловков, – человек неугомонный. Он много чего перепробовал в жизни. Был инженером, пытался заниматься политикой, а сейчас это разведенный отец двоих детей, которые иногда помогают ему в его необычной работе. Его миссия (он называет ее “мой крест”) состоит в том, чтобы эксгумировать и перезахоронить как можно больше жертв сталинизма в Карелии.
Дмитриев много говорит о физической реальности останков, о пыли и костях. Его глаза светятся, его скуластое лицо постоянно в движении. По его словам, важно работать голыми руками, без перчаток. Нужно просеять, прочувствовать на ощупь землю, в которой могут покоиться кости. Ваши руки ощутят что-то более гладкое, твердое, даже более теплое, но отчаянно хрупкое. Дмитриев говорит, что больше не пьет, но всегда держит под рукой бутылку водки для мужчин, которые присоединяются к нему в поисках, чтобы помочь им справиться с нервами. Например, однажды один из помощников закричал. Он раскапывал песок в поисках черепов и наткнулся на стеклянный глаз. Казалось, глаз следил за ним из могилы. Рассказывая эту историю, Дмитриев наблюдает за моей реакцией. Подозреваю, что это лишь одна из многих таких историй, которые у него припасены на всякий случай. Приближается полночь, и мы беседуем в узком гостиничном номере. Восточноевропейская овчарка, которая еще час назад, когда я приехала, пыталась вцепиться мне в горло, сейчас мирно спит, заняв каждый сантиметр пола между мной и Дмитриевым.
В отличие от Дмитриева, Сергей Алексеев говорит вкрадчиво и тихо. Этот круглолицый человек – ученый, занимающийся археологией и этнографией. Мы разговаривали весенним утром в пыльной комнате на задворках этнографического музея МГУ. Алексеев в течение нескольких лет принимал участие в работе с захоронениями на Бутовском полигоне под Москвой, однако единственные кости, которые фигурируют в нашем разговоре, покоятся в стеклянных витринах позади нас в качестве объектов устаревшей науки, а не памяти. Алексеев и его единомышленники давно решили, что жертвы, похороненные на Бутовском полигоне, должны покоиться с миром, пусть даже их останки никак не упорядочены. Поэтому вместо раскопок эти волонтеры в сотрудничестве с Православной церковью занимаются строительством. Их деревянная часовенка стоит на краю одного из длинных рвов. По полигону разбросаны и другие памятники – например, огромный крест. Если вы спросите, Алексеев объяснит, что среди расстрелянных здесь было много священников. Так как сам он человек верующий, он добавляет, что каждый, кто погиб в этом месте, во что бы этот человек ни верил при жизни, стал мучеником и молится на том свете за нас.
Каждого, кто когда-либо занимался раскопками или писал об этом, интересуют факты. Материальность костей и пуль потрясает и шокирует, но это потрясение имеет очистительную силу. Какой бы ни была правда, она предпочтительнее, чем китч и вранье советского режима. Среди тех фактов, которые занимают сегодня общественное внимание, важнейшую роль играет статистика. Цифры вызывали и вызывают такую острую полемику, что возникает искушение просто сесть рядом с могилами и заняться подсчетами. Дмитриев стремится перебрать кости своими собственными руками, а Алексеев использует опросы. Вместе с друзьями он обнаружил несколько траншей для захоронений в три метра шириной и до ста метров длиной. Рвы тянутся под яблонями, под фруктовым садом, специально посаженным здесь в 1960-е и 1970-е годы для маскировки. Согласно документам, с августа 1937 по октябрь 1938 года в Бутово были расстреляны 20 765 человек, но расстрелы продолжались и в 1940-е, и в 1950-е годы. На основании наземных исследований команда Алексеева предполагает, что общее число покоящихся здесь тел может доходить до 100 тысяч[944].
Однако цифры не единственное, что позволили вскрыть раскопки. В 1989 году группа волонтеров обнаружила человеческие останки в заброшенном военном госпитале. Тела принадлежали пациентам, которые погибли одновременно: каждый получил по одной советской пуле[945]. Едва ли какое-то иное свидетельство сталинской тактики “выжженной земли” образца 1941 года могло быть более убедительным. Вместо того чтобы эвакуировать пациентов госпиталя в ожидании немецкого наступления, их расстреляли. Долгие десятилетия во многих регионах страны подобные зверства были содержанием коллективных воспоминаний, передаваемых простыми людьми из поколения в поколение, однако материальные доказательства сделали их частью разделяемой всеми реальности. Пусть временно, но эти воспоминания стало невозможно игнорировать.
Обнародование подобных доказательств также разрушило представление о политических чистках как явлении, существовавшем в определенных границах и даже в чем-то рациональном. В 1989 и 1990 годах на первых страницах популярных газет и журналов появилось несколько не совсем обычных фотографий. Среди летних лесов стояли, обливаясь потом, молодые волонтеры. Подле них виднелись свежие, недавно разрытые рвы, и высились сложенные штабелями ящики, наполненные позвоночными костями, острыми реберными каркасами, обломками тазовых костей. Использованные советские пули были выложены в ряд на мешковине специально для камеры, и кадр неизменно включал в себя ряды черепов, сотни и сотни черепов – раздробленных, почерневших, безымянных. Те, что находились в первом ряду, были тщательно отобраны, так что каждый демонстрировал единственное, аккуратно симметричное отверстие, от вида которого у зрителя пробегал мороз по коже[946].
Нет сомнений, что это столкновение с исторической реальностью оказалось болезненным. Для молодых людей, которые выполняли физическую часть работы и которые, можно сказать, пострадали меньше всех, кости были просто историей. Однако те вопросы, которые эти находки всколыхнули в сознании старшего поколения, были очень личными. Родственники жертв сталинских чисток наконец-то вернули себе свои семейные истории. Однако в условиях продолжающегося конфликта выход на поверхность этого похороненного когда-то прошлого не сулил им никаких гарантий. Им требовалось больше, чем гласность. Большинству нужны были денежные компенсации репарации, все страстно желали получить личные извинения, хотя бы какое-то признание их страданий и потерь. Для большинства поиски “их” могилы, того места, в котором покоился прах отца, больше не были невозможными, но оказались изматывающей задачей, потребовавшей много сил и времени.
Между разными ветеранами вспыхнула вражда. По-прежнему преданные сталинизму участники войны, которые чудом выжили в кровавой бойне, длившейся четыре года, и бывшие узники ГУЛАГа, которые в те же годы голодали, замерзали и работали на измор в лагерях, – все внезапно стали сравнивать меру пережитого страдания. Для второго и третьего поколений, для тех самых людей, которые в прямом и переносном смысле раскопали правду, вскоре стали невыносимы и сами истории, и полемика вокруг них. Свидетельства очевидцев, повествующих о голоде, войне, смертоубийстве, из уст ваших собственных бабушек и дедушек, рассказанные о вашей деревне, слишком изобличительны, изобилуют повторами и крайне однообразны в своей просительной, умоляющей интонации. Невозможно наслаждаться собственной жизнью, застряв в густой тени прошлого. После нашей беседы молодой историк со вздохом сказал: “О, эти старики, вечно им что-нибудь нужно. И я так устал от одних и тех же старых историй”.
Уцелевшие жертвы сталинских репрессий сегодня обрели вещественные доказательства преступлений и землю с мест массовых захоронений. Немногие из них могут надеяться найти ту самую могилу, к которой они могли бы прикоснуться и из которой могли бы перезахоронить останки некогда любимых ими мужчины или женщины. Однако многие сегодня могут приехать в населенный призраками лес или встать рядом с гранитными надгробиями в уверенности, что наконец после долгих лет официального молчания они узнали всю правду. Они говорят, что теперь и сами могут спокойно умереть. Многие клянутся, что на просеке слышали слова благословения, как будто теперь их поняли и простили. Невозможно измерить ценность этой новообретенной свободы.
Однако за пределами круга выживших и родственников полемика вокруг костей и фактов продолжается. Возможно, мертвые и посылают благословение своим потомкам, но вслух ничего не говорят. Работа по интерпретации прошлого ложится на плечи живых, на плечи новых поколений. Побуждения, двигавшие этими активистами, были далеко не так просты, а те выводы, которые они сделали из своих открытий, противоречат друг другу. Процесс, который остается священным обрядом посвящения для тех, кто пережил личную утрату, является частью продолжающейся политической борьбы для их союзников. Одним скелетам, выражаясь фигурально, вручили знамя национального освобождения, другие в эпоху, когда православие внезапно снова стало модным, превратились в мучеников той веры, в которой мало кто из них признался бы при жизни. Мильчаков был прав: кости никуда не исчезли, они существуют. Но для тех, кто считает их историческими фактами, вопрос права собственности, обладания этими костями остается нерешенным.
В середине 1980-х годов, когда поиск следов прошлого только начинался, в стране царила совершенно другая атмосфера. В то время авторитарное государство было противником, враждебной стороной, а активисты были полны оптимизма, энергии и, казалось, были едины. Три поколения работали бок о бок: политические радикалы, бывшие диссиденты, старшее поколение уцелевших жертв сталинских репрессий. Гласность служила контекстом их деятельности, однако популярная коалиция была гораздо более амбициозна, чем позволял принятый в стране официальный политический курс. В конце концов центром сосредоточения их усилий стала одна-единственная организация. “Мемориал” – а именно так называлась одна из первоначальных ассоциаций – начинался со столичных встреч интеллектуалов, которые были слишком молоды, чтобы помнить Большой террор. Но вскоре деятельность организации расширилась, и к “Мемориалу” примкнули дружественные и идеологически близкие группы со всей территории Советского Союза. К началу лета 1988 года, то есть спустя всего полгода после основания, организации удалось собрать сорок восемь тысяч подписей в поддержку своих инициатив[947].
Активисты определили несколько насущных целей и задач. В августе 1987 года члены “Мемориала” планировали посвятить себя “сохранению памяти о жертвах репрессий”[948]. Для этого организация намеревалась проводить кампании в поддержку создания общественных мемориалов и памятников (самый заметный из которых должен был появиться напротив штаб-квартиры НКВД-КГБ на Лубянской площади в Москве), а также создать сеть исследовательских центров, призванных собрать как можно больше информации о репрессиях. Деятели “Мемориала” планировали проводить резонансные общественные кампании, собирать петиции, писать открытые письма, обнародовать имена, публиковать мемуары и инициировать как можно более широкую дискуссию вокруг этой темы.
Осенью и зимой 1987 года многие из ведущих активистов “Мемориала” подверглись преследованию со стороны властей, а некоторые даже были арестованы[949]. Их радикализм ставил неудобные для руководства страны вопросы, ведь оно пока не согласилось открыть свое прошлое для тщательного изучения. На этом этапе гласность была лишь одной из нескольких возможных стратегий экономического и социального обновления. Подобно хрущевской политике десталинизации, гласность способствовала определенной форме публичного раскаяния, хотя в ограниченном масштабе. Первоначально не было никаких планов проведения ничем не ограниченной политики признания правды ивозмещения причиненного ущерба.
Горбачев намеревался при помощи всех этих дискуссий и разговоров добиться принятия идеи о том, что плюрализм и инновации могут вписываться в рамки структуры однопартийного управления и контролироваться ею. В связи с этим в 1980-е годы ЦК провел реабилитацию собственных бывших членов. Одним из первых вернулся из небытия Николай Бухарин, большевистский теоретик социалистического рынка, расстрелянный в 1938 году[950]. В 1988-м – посмертно – стал знаменитостью, его лицо украсило собою обложки лучших журналов страны. За Бухариным вскоре последовали и другие: Чаянов, Рютин, Рыков, Томский и наконец – полное безобразие! – ренегат Троцкий собственной персоной[951]. На какое-то время официальная политика состояла в своего рода “кремленологии наоборот”, отлично срежиссированном возвращении в пантеон бывших отщепенцев. Под бдительным присмотром Института марксизма-ленинизма были вновь открыты избранные личные дела, их подробности выборочно предавались широкой огласке.
Но власти не смогли предвидеть, что развернется более широкая полемика о политической системе, допустившей репрессии, и представить себе не могли ее конечный масштаб и абсурдность. В кои-то веки советская история вышла из-под контроля. Свою лепту в этот процесс внес “Мемориал”, однако основная тяжесть легла на плечи не организаций, а конкретных людей: режиссеров, писателей, журналистов, поэтов и в редких случаях даже историков-любителей[952]. Но через несколько лет от прежних святынь не осталось камня на камне. Даже фигура Ленина больше не была неуязвима для критики[953].
Причины той неудачи, которую в конце концов потерпела гласность как политика сдерживания, сложны и многообразны. Политическая революция конца 1980-х годов в куда большей степени была порождением экономических проблем. Кроме того, советскую систему подорвали череда экологических катастроф, эскалация межэтнической напряженности, растущее ощущение собственной неадекватности по сравнению с Западом и даже тот простой факт, что в жизнь вступало новое поколение, навсегда занявшее место старой гвардии. Однако нет сомнений, что свою роль в разрушении советского режима сыграло давление многих десятилетий молчания. Несколько человек из числа основателей “Мемориала”, включая историка Арсения Рогинского, которым в 1987 году было совсем немного лет, от 25 до 35, уже успели поплатиться за свое любопытство и нежелание скрывать свои убеждения[954]. Дмитрия Юрасова, который еще подростком начал собирать имена репрессированных, раз за разом выгоняли с работы в архивах после того, как становилось известно, что он интересуется политическими убийствами[955]. Однако нападки и преследования не могли надолго помешать людям задаваться вопросами и проводить исследования[956]. И в этом смысле гласности с ее ханжеством и самодовольством было недостаточно.
Однако поначалу власти относились к подобной деятельности с немалой подозрительностью, и “Мемориал” был уязвим до тех пор, пока оставался платформой для молодых радикалов. Спас его только альянс, который быстро сложился между молодыми инициаторами создания “Мемориала” и некоторыми представителями диссидентской интеллектуальной элиты. Многие из выдающихся публичных фигур эпохи гласности решили присоединиться к популярному движению. Среди них были правозащитники, в том числе академик Сахаров, и целая плеяда поэтов, писателей и критиков – Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Анатолий Рыбаков, Михаил Шатров. В общественный совет “Мемориала”, избиравшийся заочным голосованием, также вошел политик-популист Борис Ельцин, который в то время все еще находился в оппозиции к властям из-за прежнего публичного конфликта с Горбачевым[957]. Участие диссидентов 1960-х годов сделало движение сильным и влиятельным. Дело было не только в громких именах. Многие из этих людей были умелыми публицистами, политическими тактиками. Активист “Мемориала” признавался мне в 1997 году: “Они нас многому научили в смысле того, что следует делать”. “Мемориал” превратился в реальную политическую силу, организацию, которая не ограничивалась исключительно кампанией по восстановлению прошлого и занималась также стратегиями будущего.
Уверенные в себе молодые активисты утверждали, что даже самого честного и прямого разбирательства с историческим прошлым было недостаточно. Они ничуть не меньше стариков, переживших советский террор, были полны решимости не допустить очередной попытки замалчивания некоторых фактов из истории тоталитарных репрессий, как это было в годы правления Брежнева. Кроме того, они хорошо осознавали, что последние свидетели того времени постепенно уходят из жизни. Справедливость требовала помнить мертвых. Но не менее важно было не дать ни малейшего шанса возвращению сталинизма в России. Пришло время, как сформулировал это чуть ранее Евтушенко, “из наследников Сталина Сталина вынести”.
Работа “Мемориала” дала толчок первому на пространстве Советского Союза публичному исследованию масштаба тех массовых убийств, которые произошли при советской власти. Одновременно “Мемориал” побуждал людей вспоминать, и именно это воскрешение к жизни частной памяти может оказаться его самым устойчивым достижением. В 1988 году влиятельная в то время “Литературная газета” от лица “Мемориала” обратилась к читателям с просьбой предоставить информацию. В редакцию сразу же стали приходить письма. Это не были литературные шедевры, гладкие, отшлифованные воспоминания знаменитостей. Чаще всего это были частные истории обыкновенных людей, жителей провинциальных городков, написанные от руки на дешевой бумаге, лагерные воспоминания, рассказы об аресте, допросах, исчезновении близких. Некоторые письма пришли от бывших сотрудников органов, которые описывали, как отдавались и приводились в исполнение приказы. Среди писем были и просьбы о помощи, первые из многих тысяч, которые хлынули позднее. Каждый жаждал информации, подробностей о последнем дне потерянных родителей, мужей, братьев и сестер. Архив “Мемориала”, в котором к тому времени уже были фотографии, учетные карточки и переписка самих членов организации, теперь многократно увеличился в размерах благодаря тысячам свидетельств выживших жертв советского террора[958].
Об уровне общественного интереса к сталинским репрессиям свидетельствует отражение этой темы в печатных медиа. В 1989-м, 1990-м и 1991-м годах несколько газет, среди которых была популярная ежевечерняя газета “Вечерняя Москва”, регулярно публиковали специальные материалы с именами и короткими биографическими справками, а иногда даже с фотографиями погибших. Репрессии, которые прежде казались чем-то далеким, имеющим отношение к “ним” – к партии, поэтам, элите, – стали частью сознания обыкновенных людей. Со страниц газет на современного советского читателя смотрели лица машинистов, священников, учителей, крестьян. У мужчин на фотографиях видны усики, кепки, наградные значки в честь забытых агитационных кампаний. Женщины – будь то державшиеся демонстративно, с вызовом революционерки или представительницы буржуазии – в основном выглядели куда опрятнее. Они смотрели прямо в объектив глазами, которые уже успели повидать достаточно войн и голода, хотя мало кто из изображенных на фотографиях был сильно старше сорока. Некоторые из снимков были сделаны органами, в профиль и анфас, во время ареста. Другие были сняты в фотостудиях – и это были портреты, сохраненные на память о более счастливых временах. Иногда фотографии размещались рядом с копиями официальных обвинений, которые обычно состояли в каком-либо нарушении печально известной 58-й статьи. Среди документов были отпечатков пальцев узников и образцы их подписей, словно призванные напомнить читателю о той жизни, той плоти, которой были облечены иссохшие останки.
Люди на фотографиях не сводили пристального взгляда с читателей, материал за материалом, однако самое страшное было впереди. Позднее газеты стали публиковать фотографии, взятые из менее доступных разделов личных дел, хранившихся в НКВД, которые были сделаны с целью задокументировать поведение заключенного на разных этапах допросов, принудительного лишения сна, избиений и пыток. Письменные свидетельства всего этого были абсолютно душераздирающими. Хотя брежневское безразличие по отношению к этому прошлому и страсть к эвфемизмам лишили само слово “репрессия” его человеческой силы, невозможно было спокойно и бесстрастно читать эти заново открывавшиеся истории пыток и издевательств. Впервые о сталинизме – а само это слово было идеологической абстракцией – было подробно рассказано в частных нарративах, сплетенных из переживаний и страданий. То не были истории из далеких тюрем или заполярных лагерей. Местом действия этих рассказов обычно была хорошо известная улица, “Большой дом” в центре города (так в любом городе обыкновенно называли здание, в котором размещался НКВД-МГБ-КГБ), а лица наиболее выдающихся фигурантов – “старых большевиков”, художников, интеллектуалов и поэтов – были хорошо знакомы каждому еще по школьным учебникам. Известные фотографии этих людей были безжалостно размещены рядом со снимками неизвестными, на которых те же самые люди представали растрепанными, израненными, изможденными, страдающими от боли и голода[959].
В течение полувека в соответствии с советской стратегией диссоциации история относилась к этим мужчинам и женщинам так, будто они жили-были, а потом в один прекрасный день взяли да и сгинули без следа, были “репрессированы”. Сам процесс репрессии теперь должен был быть разоблачен во всех подробностях. Документы рассказывали, как мучители заставляли арестованных стоять дни и ночи напролет, вытянув руки, лишали их сна, еды и воды. Некоторых обливали водой и оставляли замерзать, а других – например, больного Зиновьева – кормили соленой баландой и содержали в душных камерах без воздуха, где они страдали от жажды. Мейерхольд в своем рассказе о пытках, которым его подвергли, говорит об избиениях и о том, что, помимо всего прочего, его заставляли пить мочу. Других арестованных вынуждали глотать содержимое плевательниц[960]. К заключенным применялись побои, им ломали кости, следователи на допросах прижигали кожу папиросами, пытали электрошоком. Эти истории необязательно должны были быть сенсационными, технология пытки имела вторичное значение. В 1990 году пожилая женщина привлекла к себе внимание международной телевизионной аудитории, описывая свое внезапное похищение, страхи за детей, которые дожидались ее дома, и боль, которую она испытала, когда мужчины – ей так и не удалось понять их мотивов – начали методично выбивать ей зубы по одному.
О подобных реалиях непросто размышлять хоть сколь-нибудь долгое время. Люди начали жаловаться. Естественно, консерваторам не по нраву был обвинительный тон родственников жертв сталинизма, но и некоторые уцелевшие жертвы репрессий считали, что подробности пыток были настолько неприятны и тошнотворны, что лучше бы было их не обнародовать[961]. С другой стороны, хотя среди сотрудников “Мемориала” есть те, кто предпочитает беречь пожилых от этой напрасной боли, каталогизация каждой истории, раз начавшись, была практически неизбежной задачей. Если один-единственный рассказ был достоверным, если окончание одной-единственной жизни свидетельствовало о бесстыдстве всей политической системы, эти истории необходимо было собрать. Репрессии не были уникальной “привилегией” элит, а среди живущих ныне, напрямую пострадавших от их последствий, были наиболее обездоленные и обойденные вниманием граждане страны. Говоря словами Ахматовой, настало время “всех поименно назвать”. Эти ее слова нанесены на мемориальный камень, установленный в память жертв политических репрессий в ставшем для Ахматовой вторым родным городом Петербурге[962].
Со времен падения коммунизма в 1991 года общий уровень интереса к истории снизился, однако правозащитные организации вроде “Мемориала” продолжили собирать фотографии, имена и биографические справки. Брошюры с названиями вроде “Списки расстрелянных”, “Книга памяти” и “Как это было” до сих пор печатаются на дешевой бумаге и самыми большими тиражами, которые только могут позволить себе общественные организации. Помимо этого, периодически выходит газета “58-я. Жертвы и палачи”, номера которой распространяются бесплатно, чтобы люди продолжали писать и помнить. Материалы обычно собирают исследователи, не получающие за свой труд вознаграждения. К результатам их изысканий добавляется любая информация, которую они могут разузнать от родственников погибших, местных историков и журналистов. Часть информации была получена из архивов КГБ и судебных архивов. Опубликованные книги не назовешь гладкими и выверенными: исследовательская работа, которая в них отражена, не отличается скрупулезностью или стилистической безупречностью, а темы, которые вновь и вновь поднимают авторы, знакомы сегодня каждому. Тем не менее оставшиеся экземпляры, которые не розданы уцелевшим жертвам репрессий или зарубежным гостям, обычно расходятся без остатка в считанные месяцы. В России до сих пор остаются десятки тысяч человек, у которые есть насущная потребность увидеть свои истории напечатанными.
Одним из проектов “Мемориала” был сбор личных свидетельств, другим – кампания по увековечиванию погибших в камне. В отличие от составления списков репрессированных, возведение монумента требует базового консенсуса. Общественные мемориалы, построенные на пожертвования и одобренные на собраниях комитетов, одновременно являются и плодами, и носителями коллективной памяти. Если не существует единой истории, которая ни у кого бы не вызывала нареканий, трудно представить физическую форму, в которую следует облечь прошлое. Когда умер Сталин, в Кремль хлынули письма от населения со всевозможными экстравагантными проектами его мавзолея. Конечно, письма выражали целый спектр идей о смерти, но относительно самого умершего лидера их авторы были единодушны. При жизни Сталина не было недостатка в пропаганде, объяснявшей всем и каждому, какое место вождь занимает в истории человечества. Но совсем другое дело – найти единый образ, способный адекватно выразить целый диапазон смыслов и значений, которые, возможно, несли в себе смерти жертв Сталина.
Как всегда, у идеологической верхушки Коммунистической партии наготове была целая серия стандартных предложений, часть которых была главным образом призвана лишить “Мемориал” морального права заниматься этой темой[963]. Если бы гласность осталась в предназначенных ей границах, в конце концов было бы довольно просто увековечить только знаменитые “имена”. Универсальные, многоцелевые постаменты, установленные в каждом российском городе, могли с тем же успехом нести бюст Бухарина, как прежде несли бюст Дзержинского. Проблема заключалась в том, чтобы найти адекватную форму репрезентации для остальных жертв. Не существовало одной признаваемой всеми версии нарратива о том, что случилось с широкими слоями населения. Судьбы масс только начинали проступать в публичной дискуссии. Миллионы обычных мужчин и женщин, жертв советских репрессий, были оплаканы тайком, по ним тосковали и горевали вдали от чужих глаз. В 1974 году по инициативе диссидентов был установлен День памяти жертв политических репрессий, и начиная с 1980-х годов у идеи проведения памятных мероприятий в этот день стало появляться все больше сторонников. Однако до наступления гласности им интересовалось меньшинство, и о нем практически не сообщали средства массовой информации[964]. Другими словами, когда “Мемориал” начал свои поиски более прочных, материальных форм увековечивания памяти жертв репрессий, не приходилось говорить о существовании полномасштабной коллективной памяти или национального мифа, которые могли бы интерпретировать и с которыми могли бы работать искусные архитекторы. Память и поминовение были публичными лакунами, пустотами без определенных формы и сценария. В то время как Советский Союз прикладывал все силы для того, чтобы избавиться от наследия авторитарного правления, “Мемориал” стремился к тому, чтобы окончательную форму будущего мемориала определило не государство, а люди.
В ответ от общественности поступили самые разнообразные предложения о том, каким должен быть будущий памятник, и их диапазон несколько обескураживал. Некоторые хотели видеть траурные фигуры, которые воплощали бы собой безутешное личное горе и утрату. Другие ожидали более грандиозного по масштабу напоминания о тоталитаризме как системе. Эти две крайности отражали формы памяти о мертвых – памяти тайной, зияющей пустоты или более сухой и схематичной официальной истории. В этом отношении даже увековечивание, казалось, отражало состояние советского государства накануне его краха. Не хватало промежуточной позиции, того уровня, на котором сообщество погружено в траур и оплакивает своих погибших, на котором существуют местные организации и объединения, привычные к политическим компромиссам и уступкам, и которое политологи называют гражданским обществом. “Мемориал” стал одной из первых организаций, попытавшихся заполнить эту лакуну. Гражданское общество чрезвычайно важно для коллективной памяти, но его трудно создать с нуля[965]. Активисты хотели найти особый язык, новую идиому, но первые предложения не сулили ничего хорошего. Один вариант проекта предполагал лабиринты, башни и колючую проволоку, другой – простую могилу или – специально для христиан – крест[966]. Бесполезно было ожидать, что люди, которые только вчера начали учиться делиться своим прошлым в публичном пространстве, придут к соглашению по поводу этих проектов.
Собственная политика “Мемориала” в области увековечивания памяти погибших насильственной смертью за годы советской власти, сформулированная в 1980-е годы, намеренно включала в себя каждую жертву тоталитарной системы. Другими словами, в ней не было различия между заключенным и охранником, который разделял с ним ссылку, женщиной, вынужденной под давлением сообщить какую-то информацию органам, высланным кулаком и священником, лишенным духовного сана. Неслучайно расцвет “Мемориала”, когда казалось, что подобное отношение может иметь право на существование, совпал с коротким периодом надежды, по крайней мере среди интеллектуалов, поддерживавших организацию. Советский Союз распадался на части, однако возможности, которые нес его распад, казались многообещающими. Открытая, многовариантная фаза идей по сохранению памяти жертв отразила это настроение, единство, основанное на нереализованных мечтах. Аналогичным образом постепенное сужение коридора возможностей, сценариев будущего, холодные реалии экономической депрессии, безработица и гнетущий страх насилия сыграли свою роль в том, чтобы ясно очертить границы общественной щедрости и подточить ее в последующие годы. Широкое, всеобъемлющее движение начало раскалываться на части. Среди уцелевших жертв развернулась борьба за главенство.
Расколы и размежевания между разными группами жертв прошли по тем же линиям разлома, которые обозначают текущие политические трения. Крах коммунистической системы в 1991 году ускорил этот процесс, но первые его признаки можно было заметить и раньше, в республиках бывшего СССР, где историческая проблема репрессий была быстро поглощена национально-освободительными движениями. В большинстве этих нарождающихся национальных государств увековечивание памяти свелось к воспоминаниям о мучениках, партизанах и борцах за свободу.
В этом смысле вполне типичен нарратив, который возник в пересказе истории сталинизма во Львове, столице Галичины, наиболее националистическом анклаве Украины. В 1941 году, отступая под давлением немецкого наступления, Советы расстреляли много заключенных, находившихся в местной тюрьме. По мере того как после 1985 года националистическое движение в Галичине стало набирать обороты, расстрелянные мужчины и женщины, не все из которых были этническими украинцами, были заново “открыты” для общественных целей как жертвы имперского угнетения. Последовавшие за немецким вторжением массовые убийства евреев в 1941–1943 годах, нацистская операция, в ходе которой произошли новые массовые расстрелы и появились новые братские могилы, практически исчезли из украинского нарратива. Из центра города довольно трудно добраться до места массового расстрела евреев, и путеводители едва касаются этой темы[967]. А тем временем православная церковь вновь начала враждовать с Москвой. Украинская православная церковь, базирующаяся в Киеве, не приемлет великорусский шовинизм, в то время как Греко-католическая церковь (“Греческая по форме, католическая по содержанию”) отвергает православных в целом, к какой бы церкви они ни принадлежали[968]. История прошлого подверглась пересмотру, были изменены приоритеты, и на сегодняшний день победители размышляют о новом процессе увековечивания памяти.
В самой России религия, а не национализм, стала инструментом, при помощи которого удалось свернуть процесс поиска памяти. Церковь начала принимать все более деятельное участие в увековечивании памяти жертв Сталина, и в некоторых регионах возвышаются мемориалы, которые полностью основаны на православной иконографии. Удачным примером здесь могут служить массовые захоронения в Бутово, апроприированные церковью и отмеченные часовенкой, затейливым крестом и серией информационных материалов, подчеркивающих христианские аспекты мученичества. Именно духовенство в полном церковном облачении, окутанное благовониями, в 1991 году возглавило церемонию передачи этого места в общественное пользование[969]. В Левашово дела обстоят ровно так же, и похожие “голгофы” появились в разных точках архипелага ГУЛАГ.
“Мемориал” как организация избежал идентификации с Церковью, однако сами уцелевшие жертвы репрессии зачастую находят утешение именно в ней. Частично это объясняется тем, как подчеркивает сама официальная церковь, что духовенство и верующие были среди наиболее заметных противников коммунистического режима[970]. Однако набожность не является исключительной прерогативой истинно верующих. Подобно национализму, религия вышла на поверхность после семидесяти лет репрессий. Она говорит на языке подполья, а точнее, говорила на этом языке в первые годы гласности. Помимо этого, она предлагает альтернативный взгляд на мир, такой же базовый, простейший, как и национализм, взгляд на русскость, согласно которому люди могут воспринимать самих себя как носителей исторического смысла несмотря на падение коммунизма. В этой степени религия заполняет вакуум, оставленный исчезнувшим тоталитаризмом, заменяя одну догму и одну касту жрецов другой.
Парадоксально, но общим механизмом действия в обоих случаях остается кровавое жертвоприношение. Когда-то, почти сразу после своей гибели, убитые в Сандармохе, Левашово и других подобных местах массовых расстрелов, считались идеологическими изгоями, врагами пролетариата, которые погибли из-за того, что не смогли разглядеть подлинное будущее истории. Теперь те же самые люди считаются мучениками. Мироздание, в котором их смерти обретают смысл, остается местом, требующим дани, местом, в котором все и вся направлено на ожидание недосягаемого, недостижимого будущего. Согласно этому старому принципу, смерть становится осмысленной, потому что нельзя обойтись без какой-либо формы оплаты и расплаты (тот свет по-прежнему сулит искупление) за лучшее будущее. И тогда мертвые перестают быть людьми, личностями, чьи жизни были жестоко прерваны, и превращаются в жертвоприношение, сжигаемое на алтаре ради лучшей жизни.
Как заметил американский исследователь мемориальной культуры Холокоста Джеймс Янг: “Как только мы облекаем память в монументальную форму, мы тем самым до определенной степени снимаем с себя обязательство помнить”[971]. “Мемориал” со своими группами исследователей и архивом, прикладывал и продолжает прикладывать огромные усилия для того, чтобы избежать этой ловушки. Однако сегодня те памятники, которые были установлены благодаря усилиям мемориальцев в лучшие годы существования организации, как правило, воспринимаются как временные. Они недостаточно, по нынешним временам, используют историю и недостаточно проповедуют и наставляют на путь истинный. Критики утверждают, что в наше время самой своей простотой они предают то дело, ради которого были воздвигнуты. Однако, возможно, открытость и щедрая всеохватность, готовность включить в себя всех и каждого, наряду с текстами и исследованиями являются лучшим откликом на вызовы мемориализации. В этих памятниках поражает их минимализм. Соловецкие камни, установленные на Лубянке в Москве или на Троицкой площади в Петербурге, типичны в своем роде: простые, голые глыбы гранита, не украшенные ни лицами, ни фигурами жертв. Подобные монументы (их вряд ли назовешь скульптурами) не содержат отсылок к религии или конкретным событиям. В истории советского насилия, санкционированного государством, нет ничего, что эти камни не могли бы охватить, и именно в этом состоит их главная ценность.
Крах коммунизма был мгновенным и окончательным. В течение пяти лет, с 1987 по 1991 год, практически каждая неприкосновенная догма, каждая святыня советской системы была подвергнута сомнению, и многие давно устоявшиеся структуры уничтожены. Одним из наиболее впечатляющих актов в этой череде разрушений был распад самого Советского Союза в 1991 году. Ему на смену пришел блок независимых государств, часть которых нашла пристанище в ельцинском проекте нового содружества (СНГ), в то время как другие – три прибалтийских государства и Грузия – в итоге отправились в самостоятельное плавание[972]. Как националисты, так и демократы на всех бывших советских территориях в основном приветствовали этот процесс, однако в самой России многие наблюдали закат империи в смятении и тревоге. Убежденные коммунисты приходили в отчаяние, глядя на руины своей морально-нравственной системы; повсеместно слышались предсказания грядущей гражданской войны и экономической катастрофы. Казалось, от новых, открывающихся возможностей выиграют только молодые. Люди старшего возраста, будь то пенсионеры, заводские рабочие или сотрудники окостеневшей и насквозь дискредитированной государственной бюрократической системы, пережили острое потрясение. Они испытывали бессилие, как это часто бывало и прежде, и просто наблюдали, как тают их реальные доходы и исчезают виды на будущее.
Таким образом, распри и трения, которые проявились между многочисленными наследниками сталинизма, следует рассматривать в контексте этого отчаяния. Вовлеченные в эти конфликты люди десятилетиями жили в тени государственного насилия. Традиция недоверия, состязательности и страха, взращенная им, не могла исчезнуть за одну ночь. Если говорить о жертвах, вине, ответственности, коллаборационизме, то история сталинизма была явлением столь сложным и многосоставным, что бессмысленно было мечтать о простом и легком решении, о мгновенном облегчении груза памяти. Постепенный отход “Мемориала” на второй план был легко предсказуем, как предсказуемы были растущие разногласия и разобщенность в рядах его сотрудников после 1991 года. Однако последствия для общества в целом могли быть не такими горькими, если бы не настороженность и дурные опасения людей, не их цинизм, не голод. К 1991 году даже в Москве благоразумные горожане закупали впрок макароны, соль и спички. На самом деле они боялись настоящего и ближайшего будущего, но их гнев нашел свое выражение в куда более древних и примитивных историях – этнического и семейного притеснения, неотмщенного предательства, изнасилования, мошенничества и антисемитизма.
Какие бы еще нужды ни испытывали пенсионеры, они обнаружили, что единство пользовалось высоким спросом и было в большом дефиците. Советская привычка к молчанию никуда не исчезла, системы связей, обеспечивавших самозащиту и гарантировавших выживание в прошлом, продолжали функционировать. То же можно сказать и о мировосприятии, которое никак не могло избавиться от подозрения, что “зря не сажали”, что арест или тюремное заключение – когда они случались с кем-то еще – обычно были оправданы. Как будто бы каждая группа, каждое сообщество должно было отчасти определять себя через отсылку к кому-то, кого они исключали из своих рядов, – “чужакам” или “врагам”. Подобный образ мыслей напоминал прежний менталитет советского человека времен сталинизма, и даже еще более древний – крестьянский менталитет, но по существу он был выученной реакцией на невзгоды, страх и нехватку материальных ресурсов.
Параллельно разворачивалась борьба вокруг попыток отстоять смысл жизней, уже подходивших к своему концу. Различные формы самообмана, эвфемизмы и непубличные, частные истины были такими же ценностями, как старые медали, а вызов, который бросало людям появление новой информации, мог подчас ощущаться как глубокая рана. Даже сегодня старики настаивают на важности их собственных свидетельств, героических, магических и судьбоносных секретах их стойкости и выносливости. Когда я выходила со встреч со старыми друзьями или соседями моих пожилых респондентов, мне часто приходилось слышать от стариков: “Да не слушайте вы их, давайте я вам расскажу, как все было на самом деле”. Групповые интервью, за редким исключением, оставались бесформенной какофонией монологов. Лишь немногим из моих респондентов действительно нужно было послушать других, и практически никто не готов был изменить свою точку зрения. Перерыв на чай с печеньем, который призван был помочь им расслабиться, превращался в очередную возможность доказать свою правоту: я знаю истину, моя жизнь была важна, мое страдание тому доказательством. Меня, меня сначала послушайте.
Ветераны Великой Отечественной войны по-прежнему были самой большой группой уцелевших. Они все так же считали, что их обиды и жалобы были самыми серьезными и самыми правомерными. Как жертвы с правом на специальное пенсионное обеспечение они не без основания утверждали, что их страдание заслуживает особого внимания. Их вклад в общее благо, конечно, был очевидным и непреложным: они победили фашизм. За долгие годы они привыкли к своим привилегиям: небольшой доход, продуктовые “заказы”, право на обслуживание вне очереди, позволявшее не стоять в самых длинных очередях. Помимо этого, ветеранам помогали с медицинским обслуживанием, а они в нем нуждались: многие страдали от физических увечий, шрамов, ран и нарушений здоровья, лечение которых стоило не дешевле, чем лечение бывших зэков с их гипертонией или плевритом.
Получается, что помощь, которая оказывалась ветеранам, имела для них большое, даже важнейшее материальное значение, но, кроме того, была знаком моральных привилегий, морального превосходства. Люди, пережившие Великую Отечественную войну, те, кто хотя бы номинально, был достаточно свободен, чтобы принимать участие в сражениях, внесли свой вклад в величайшую победу советского социализма и видели себя членами одного из самых сильных и ценных сообществ в истории человечества. Эта память и этот миф бросали отсвет даже на самые унылые жизни. А кроме этого, с участием в войне был связан определенный статус, который ветераны ревностно охраняли. Для сохранения этого статуса они настаивали на его исключительности, взирая свысока на ветеранов молодого поколения вроде афганцев и отказываясь воспринимать просьбы и мольбы тех, кто выжил в тылу, а не на фронте, как это делали те инвалиды, с которыми я говорила в Киеве.
Все это изменилось в конце 1980-х годов с началом распада Советского Союза. К тому времени уже были очевидны первые признаки возрастающих раздражения, с которым общество внимало историям о войне, жажды потребления, неприязни к старикам с их медалями и льготными проездными. Конец почтительного отношения к войне можно отнести к 1970-м годам, когда школьники, чьи родители были слишком молоды, чтобы успеть побывать на фронте или погибнуть на войне, стали отпускать шутки, вертеться и шалить, когда старики-ветераны выступали со своими рассказами в школах. Но на официальном уровне ничего не изменилось. Каждый год возводились новые мемориалы, устраивались парады, не утратившие пышности и размаха, а государство продолжало воздавать почести своим ветеранам, награждая их пластиковыми медалями и дополнительной колбасой в заказе. Однако сорокалетие победы, отмечавшееся в 1985 году, окажется последним безмятежным празднованием этой даты. Последующие годы будут отмечены возрастающими невзгодами и трудностями, обесцениванием денег и продуктовых заказов, колбаса стремительно исчезала, а пластиковых побрякушек, наоборот, становилось все больше.
Ветеран войны, который рассказал мне обо всем этом, решил в качестве доказательства продемонстрировать коробку конфет, которые ему вручили на пятидесятилетнюю годовщину окончания войны в 1995 году. “Отвратительные, да? Это даже не качественный шоколад”, – бормотал он. Он обвел рукой свою крошечную комнатушку, ее потрепанное убранство, единственную сломанную книжную полку и батарею пузырьков с лекарствами. “Лучше бы что-то с этим сделали. Мы воевали, наши товарищи погибали. Мы жизнь готовы были отдать. А теперь… только взгляните на все это”[973]. Экономические трудности, которые переживал этот ветеран, были делом повсеместным и всеобщим, он сам отнюдь не был исключением. Но в его случае они знаменовали собой острую потерю и вызывали ощущение куда большей горечи, потому что нарратив ветеранов о самопожертвовании теперь тоже подвергался сомнению. Оказалось, что репрессии – не единственный аспект сталинского режима, переоценку которого стремились произвести молодые активисты. “К сожалению, – писала одна из противниц новой открытости, – некоторые публицисты, кажется, забыли о гордости, достижениях и триумфах нашего великого советского народа”[974].
Процесс переоценки ценностей начался в 1988 году. После пробного старта советские либеральные газеты начали публиковать рассказы о войне, невиданные доселе их читателями. В последующие месяцы в печати появились истории ошибок и злонамеренной расточительности руководства страны, доказательства продолжавшихся в годы войны репрессий, нетронутые цензурой образы реальных смертей и увечий, давно забытые рассказы о предполагаемой трусости, панике и отступлении. Смерть сама по себе стала одной из первых тем, подвергшихся пересмотру. Благодаря демографам, а также публичным обсуждениям и калькуляциям в архивных делах были обнародованы факты занижения и сокрытия советских потерь в официальных советских подсчетах. К 1991 году ветераны услышали, что число военных потерь было значительно больше, чем они привыкли думать; некоторые утверждали, что реальные цифры превышали официальные в два раза![975] В то же самое время на свет вышли подробности того, при каких именно обстоятельствах произошли некоторые из этих смертей. Советские войска были утоплены в крови, когда немецким танкам противостояла советская конница, когда пехоту вынуждали сражаться посреди голого поля, когда солдат бросали на смерть лишь для того, чтобы они доказали свою преданность власти, когда свои же “особисты” стреляли им в спины. Даже сакральный нарратив обороны Сталинграда не избежал нового критического исследования[976].
Не то чтобы все эти истории были в свое время забыты, просто наряду со многими другими аспектами сталинизма они были засекречены, стали достоянием диссидентов, очевидцев, уцелевших и их семей. В официальном мифе о войне не было места для трусости и понапрасну растраченных жизней. Новая история в большинстве случаев подразумевала лишь смещение акцентов, фокусирование внимания на тех аспектах известного нарратива, которые прежде этого внимания были лишены. Однако бывшие солдаты со всем своим консерватизмом воспринимали эти полные горечи рассказы и критику как личное оскорбление. Они неловко перелистывали страницы последних номеров журналов, покупали и давали друг другу почитать мемуары, но зачастую вычитывали в этих текстах не историю, а скорее ретроспективную и бесцеремонную переоценку ценности своих жизней.
В различных частях Советского Союза этот пересмотр истории войны означал разные вещи. Альтернативные истории не побочные ответвления сюжета; каждый уцелевший имеет дело с наиболее драматическим, а часто и определяющим событием своей жизни. И было бы неверно утверждать – особенно если речь идет о бывших республиках СССР, – что процесс переоценки этой истории неизменно заставлял ветеранов страдать. В некоторых частях страны, в том числе в Украине и Беларуси, а также в странах Балтии, Латвии, Литве и Эстонии, в переписанной истории войны особое внимание уделялось советским (“имперским”) злодеяниям, с одной стороны, и не сломленному ими выносливому национальному духу – с другой[977]. Вновь стала достоянием широкой общественности замалчиваемая история советского вторжения в эти страны в 1939 году и первых месяцев репрессий[978]. В Западной Украине и Прибалтике самые широкие слои населения помнили зверства, связанные с приходом советской власти, включая убийства партизан-националистов, однако на протяжении пятидесяти лет любое обсуждение этих событий было запрещено[979]. Националистически ориентированные историки в этих регионах могли также подчеркивать, что их республики понесли самые тяжелые военные потери. Предстояло заново обнаружить неизвестные могилы, вновь предать земле тела и воздать им почести, утвердить возведение новых памятников, наполненных националистическими смыслами. Пересмотр истории – по крайней мере, с точки зрения титульных национальностей – в каждом из этих случаев стал частью коллективного акта освобождения.
А значит, переписывание истории войны в границах вновь обретших независимость национальных государств оказалось относительно простой задачей. Однако для этнических групп, для которых национальное самоопределение оставалось недоступной роскошью, этот процесс был гораздо более болезненным, а вопросы компенсации ущерба и восстановления справедливости – куда более трудноразрешимыми. Национальным группам, высланным Сталиным в 1940-х годах, оказалось не так-то просто вернуться на земли предков. Например, крымские татары столкнулись с долгими судебными тяжбами в попытках отстоять свои права на дома и небольшие хозяйства, которыми владели до того, как их принудительно выслали в Казахстан в 1944 году. Мало кому это удалось. Нынешние обитатели этого края считают эти земли своей собственностью. Татары, вернувшиеся из мест ссылки домой, нередко обречены влачить нищенское существование. Хорошо, если им удается хоть одним глазком взглянуть на добротные, удобные дома, построенные их дедами, – обычно лишь из-за высокого забора, возведенного новыми владельцами[980].
Как всегда, особняком стоит проблема Холокоста. Политика гласности сделала возможным возвращение к этой теме. Ей были посвящены исторические исследовательские проекты и серия великолепных публикаций, которые частично были профинансированы из-за рубежа[981]. Стоит упомянуть и группы поддержки, и ту помощь, что американское и израильское правительства оказывают тем уцелевшим еврейским жертвам Холокоста, которых им удается отыскать[982]. Однако этот процесс до сих пор сопряжен с определенными трудностями. Сама мысль о том, что еврейский народ был коллективно обречен на уничтожение, как ни один другой, до сих пор вызывает сопротивление и в России, и в бывших республиках Советского Союза.
Попытки возведения памятников, посвященных Холокосту, также встречают противодействие. Намерение вписать подобный памятник в мемориал парка Победы на Поклонной горе в Москве вызвало настоящий скандал. Этот мемориальный комплекс, занимающий огромную площадь там, где прежде росли леса, а затем был разбит парк, стал последним и самым крупным памятником брежневской эпохи, хотя его строительство закончилось только в 1990-е годы. Отсылки к евреям в концепции этого мемориала кажутся вторичными и запоздалыми, вписанными задним числом. Местные жители любят саркастически замечать, что недовольство памятником вызвано его стилем, а не содержанием. И правда, памятник “Трагедия народов” представляет собой прекрасный образец китча: это вереница из все более тонких и похожих на призраков человеческих фигур, последние из которых как будто бы падают навзничь с пьедестала. С другой стороны, весь мемориальный комплекс, который включает в себя православный храм великомученника Георгия Победоносца и ангела, как будто бы насаженного на ярмарочный позолоченный шест-штык, ничуть не менее неуклюж с точки зрения замысла и концепции. Совершенно ясно, что общественное недовольство памятником жертвам фашизма имело под собой иную подоплеку. Российский парламент объяснил, что противится идее возведение специфически еврейского памятника из опасений, что его появление может спровоцировать межэтнические трения. Журналисты тогда пренебрежительно называли эту косную и предвзятую резолюцию Думы по поводу памятника “посмертной победой Гитлера”[983].
Сейчас памятник появился в Бабьем Яру. Вернее, памятник наконец стоит в верховьях Бабьего Яра, над оврагом, на подлинном месте расстрелов и представляет собой уместный символ – бронзовую менору, светильник из семи ветвей. Установленный 29 сентября 1991 года, в 50-летнюю годовщину тех событий, он контрастирует с уродливым образчиком соцреализма – отчаянной уступкой общественному давлению, – скульптурой, увековечивающей только советских, а не еврейских жертв нацизма, которую брежневские ваятели в конце концов установили в нескольких километрах от этого места. К тому времени, когда в Бабьем Яру была установлена менора, спонсоры этого проекта в Киеве столкнулись не столько с общественным сопротивлением, сколько с апатией. По словам Александра Шлаена, киевского режиссера, сыгравшего важную роль в организации и финансировании проекта установки памятного знака в Бабьей Яру, антисемиты Киева нашли новые мишени для своей ярости. В то время как коммунистический режим переживал обрушение и распад, они начали гонения на живых евреев[984].
Если вы приедете к меноре лично, то даже в большей степени, нежели если вы посмотрите на фотографии, которые Шлаен хранит с того времени, когда вел кампанию за установку этого памятника, и на части которых запечатлены видные политические деятели вроде Джорджа Буша или Билла Клинтона (надевшего по случаю визита кипу, которая выглядит на нем довольно нелепо), вас поразит контраст между американским и бывшим советским отношением к этому месту, в котором произошла первая крупная массовая казнь в истории Холокоста. Для украинцев Бабий Яр не является местом паломничества. Многие из них даже не знают, как сюда добраться.
Все это не особо удивляет Илью Альтмана, нынешнего директора московского Фонда “Холокост”. Сам фонд создан в 1992 году, его можно назвать плодом последних лет эпохи гласности. Как и “Мемориал”, Центр и Фонд “Холокост” занимается исследованиями, увековечиванием памяти о катастрофе и социальной поддержкой – насколько это в его силах – постоянно сокращающегося сообщества бывших жертв Холокоста, все еще живущих в Москве. В рамках своей образовательной миссии центр и фонд организует курс лекций для университетских студентов. Многие из тех, кто слушает этот курс, евреи. И тем не менее, объясняет Альтман, на отношение этих молодых людей к Холокосту повлиять оказалось совсем непросто. Даже после десяти лекций – целого семестра, посвященного этой теме, – Альтман обнаружил, что молодые люди неохотно принимают тот факт, что Холокост был актом адресного геноцида, то есть геноцида, имеющего своей целью полное уничтожение евреев. В сознании россиян до сих пор глубоко укорено представление о том, что нацисты хотели уничтожить советский народ в целом. Многие из студентов Альтмана даже не помнили, сколько именно советских евреев погибло в катастрофе[985]. Я была так поражена всем этим, что решила спросить нескольких своих московских друзей, молодых ученых тридцати с лишним лет, двое из которых оказались евреями, что такое Холокост в их представлении. Вопрос был встречен полным непониманием и смущением. “Геноцид? – попыталась подсказывать я. – Евреи?” “Ах, это! – наконец сказали они, обменявшись взглядами, которые подтверждали, что в тот день я показала себя особенно недалекой. – Конечно, мы все об этом знаем. Недавно ведь кто-то сделал фильм об этом, да? Как там он назывался? «Список Шиндлера», да”.
А значит, в то время как продолжает жить история газовых камер и лагерей смерти в Польше, история Холокоста на советской земле, скорее всего, постепенно померкнет на фоне не прекращающейся еврейской эмиграции. Те, кто еще остается в стране, неохотно идентифицируют себя с помощью отсылок к истории и памяти, которые не встречают уважения у их соседей. Мало кто добровольно назовет себя жертвой. Иногда это просто опасно и влечет за собой дискриминацию и нападки. Когда в середине 1990-х годов правительство Израиля впервые предложило помощь еврейским пенсионерам Украины, социальные работники зачастую с трудом могли убедить людей эту помощь принять. Один из организаторов проекта объяснял: “Они живут в труднодоступных районах, многие из них. Те, кто мог выбраться и уехать в Израиль, в Штаты или в куда-то еще, давно уже это сделали. Так что мы говорим о стариках, по большей части людях простых, и они с большой осторожностью рассказывают что-либо чужакам. Особенно сейчас. Нам приходилось привозить раввинов, чтобы те объясняли людям, зачем мы приехали, и когда раввины поговорили с людьми, сразу появилось много желающих встретиться с нами”. Он добавил, что у пожилых людей были все основания бояться, что раздача гуманитарной помощи разожжет неприязнь и вызовет раздражение у их соседей. “Мы пытаемся держать ситуацию под контролем. Если у нас есть лекарства с коротким сроком годности или что-то вроде того, мы раздаем их всем нуждающимся. Но это все непросто”[986].
История уцелевших евреев Украины – одна из многих, которые наводят на мысль о том, что некоторые виды бытования в качестве жертвы как части социальной идентификации являются необязательными, опциональными. Отнюдь не всегда признание себя частью пострадавшей, травмированной группы выживших, и пересказ собственной жизни в терминах коллективной травмы представляются выгодными или даже возможными. Открытие прошлого, повторное к нему обращение на пространстве бывшего Советского Союза остается делом избирательным. Репарации, возмещение ущерба одному зачастую оборачиваются стыдом для другого человека. Подавляющее большинство ветеранов войны, особенно среди этнических русских, не являются выжившими жертвами или свидетелями Холокоста. Их жалобы и обиды куда меньшего масштаба, но от этого они не менее горьки. Большую часть своей жизни эти люди официально считались героями. Теперь они обеднели, понижены в социальном статусе и по большей части обделены вниманием, если не сказать унижены и лишены прежних почестей. Но в то же время они совершенно не склонны считать себя жертвами. Потому что они все еще верят, что спасли мир от фашизма, по крайней мере они сами и те сакральные павшие, от чьей памяти они никогда не отрекутся, сегодня воспринимают необходимость обращаться за помощью как унижение. В конце концов, тот факт, что они выжили, уцелели, должен служить доказательством силы, а не слабости этих людей.
Однако некоторые ветераны живут в такой нищете, что у них просто нет выбора. Важно не упустить те крохи и копейки, которые им может неохотно предложить скупое государство. Деньги – а речь, как бы уныло это ни звучало, идет о совсем крошечных суммах – остаются одним из тех ресурсов, которые поставлены на карту в соперничестве между различными “наследниками Сталина”. Другой ресурс, значение которого особенно важно в эпоху, когда история кажется такой непредсказуемой, – вопрос личного самооправдания. В отличие от молодого поколения, от новых русских, из стариков мало кто верит, что успех определяется материальным благополучием. Общество, сформировавшее их ценности, всегда куда выше ставило самопожертвование ради всеобщего блага, борьбу за счастье мирового пролетариата, Родину и Сталина. Важно было быть хорошим товарищем. Компенсации или, по крайней мере, право на минимальную пенсию символизирует их статус и права. Однако подобно героизму военного времени или высокой продуктивности на рабочем месте эти права определяются в терминах конкуренции.
Вот почему, описывая 1990-е, ветераны склонны говорить об утратах. Те, кто уцелел во время сталинских репрессий, как правило, настроены позитивнее, но это лишь оттого, что их прежняя позиция была такой слабой. Крах и дискредитация коммунизма помогли многим из тех, кто искал справедливости, подарив им, наконец, возможность найти документальные доказательства того, что случилось с ними или с их родными, а после указа президента Бориса Ельцина от 1991 года даже присудив право на особые компенсационные пенсии[987]. Бывшие кулаки были признаны жертвами репрессий наряду с бывшими “политическими” и членами их семей. Но эти пенсии и выплаты были крошечными, а признание, которое они собой воплощали, ощущалось как подачка, как шаг, на который государство пошло с большой неохотой. Разговаривая со мной в своем московском офисе, Валерия Оттовна начала плакать, объясняя мне суть самого недавнего подлого оскорбления: “Мы должны просить о реабилитации. Как будто бы мы когда-то сделали что-то неправильное. Мы должны написать, подать заявление – очередное заявление, знаете, такое, по форме, «настоящим прошу», но это они должны просить нас. Это они должны бы просить у нас прощения. А вместо этого мы вынуждены просить у них. Нам столько писем пришлось написать и всегда приходится умолять”.
Как разъяснила мне Валерия Оттовна, довольно значительное число людей отказались подавать подобные заявления с просьбой о реабилитации; среди них был и один из инициаторов создания “Мемориала”, историк и правозащитник из Петербурга Вениамин Иофе (1938–2002) и один из московских основателей “Мемориала” Лев Разгон. Они не считают себя преступниками. Ту цену, которую они платят и которая включает отказ от формальных прав на получение пенсии “жертвы”, уравновешивается пользой, которую они извлекают, поддерживая в себе живую ярость. Они требуют не примирения, а справедливости. Однако их принципы – роскошь, доступная немногим. “Они не станут ни о чем умолять, – резюмирует Валерия Оттовна, – но мы – старые люди, нам нужны пенсии. У нас нет выбора, не правда ли?”[988]
Когда дело касается денег, те, кто уцелел во времена сталинских политических чисток, имеют все основания рассчитывать на особое обращение. Валерия Оттовна напомнила мне, что лишь очень немногие из этих людей в свое время могли получить профессиональное образование. Им были закрыты доступ в университеты и институты и даже возможность обучения рабочим специальностям, и многие провели долгие годы в ссылке, с благодарностью берясь за любую работу. Их здоровье было подорвано, что делало невозможными некоторые виды физических работ. Сегодня части жертв политических репрессий требуются дорогие лекарства. Многие, в том числе бывшие кулаки, во время высылки лишились всего имущества, а тем, кому удалось спрятать какую-либо ценность – будь то часы, золотое кольцо или серебряная ложечка, – обычно приходилось расставаться с ними в обмен на самое простое пропитание. Юдифь Борисовна, единственная дочь большевистского бонзы, сегодня хранит в имеющейся в ее распоряжении комнате груду картошки на зиму, сваленной под окном и накрытой одеялом. Люди вроде нее подвергались унижениям большую часть жизни. Это новая рыночная система просто обрекает их на медленную гибель, не позволив хотя бы последние пару лет жизни провести без привычных тягот и невзгод.
Проблема заключается в том, что практически каждый человек старше пенсионного возраста пострадал после революции 1980–1990-х годов. Ветеранам и бывшим заключенным ничего не остается, кроме как встать в миллионную очередь таких же страждущих. Каждый пережил обесценивание пенсии, в больницах, куда им приходится обращаться со своими многочисленными недугами (которые, к слову, сопутствуют преклонному возрасту в любой стране), больше не осталось для них лекарств. Их всех тревожит уличное насилие, будущее внуков, никто из них не в состоянии позволить себе те похороны и тот участок на кладбище, которые им бы хотелось.
Многие, в том числе на удивление большое число бывших жертв (одна из них Юдифь Борисовна), добавляют, что крушение коммунистического режима само по себе стало причиной морально-нравственного кризиса. Как и многие убежденные коммунисты, на всю жизнь оставшиеся верные своим идеалам, Юдифь Борисовна старается разделять идеологию в ее утопической форме и безнравственные, преступные искажения этой идеологии, которые привели к ее краху в советском случае. Однако многие из ее современников путают эти явления. Сталинистов 1990-х выводило на улицы сочетание экономического и идеологического отчаяния: чаще всего они стояли перед Гостиным Двором в Петербурге и осыпали критическими замечаниями туристов и покупателей или выходили на шествия в старых пальто и изношенных сапогах, неся высоко над головами красные знамена. Система, вдохновлявшая их когда-то, исчезла, а то, что пришло ей на смену (а в их представлении это – порнография, безудержный рост цен, дискотечная музыка, играющая ночи напролет), кажется по сравнению со старыми догмами аморальным и безвкусным. Ожидая под снегом прибытия автобусов, которые в наши дни ходят так редко, они в недоумении глазеют на плакаты, рекламирующие Nescafé, недоступный для них отпуск в Египте, новую модель Mercedes. Большинство пожилых людей не могут себе позволить самые простые, базовые удовольствия: билет на поезд, видеокамеру, которую выпрашивает внук, добротные зимние сапоги, – а возможность смотреть мексиканские сериалы по телевизору едва ли является адекватной компенсацией за утрату империи.
Когда страдают все, стороннему наблюдателю трудно распознать иерархию различных опытов страдания. Дополнительно усложняет дело то, что огромное количество людей переживали многократные страдания, оказывались жертвами несколько раз: они в равной степени могут говорить о себе как о ветеранах войны, жертвах репрессий, детях репрессированных и даже уцелевших жертвах массового голода. Случай Александры Матвеевны, которая написала в “Мемориал” в 1988 году, представляется весьма типичным. Его отец был арестован в 1937 году после глупого разговора в колхозе, где он упомянул имя Троцкого. Вся семья была уверена, что его больше нет в живых, но он появился вновь в 1948 году: его освободили из лагеря, и он вернулся домой, чтобы рассказать своим теперь уже взрослым детям некоторые истории, которые им никогда не удастся забыть. Однако за те годы, что отсутствовал отец, изменились и их собственные жизни. С 1942 года их деревня находилась под немецкой оккупацией, мать расстреляли по подозрению в партизанской деятельности. Их дом, как и все остальные, сожгли дотла, а самих детей бросили голодать[989]. Архив “Мемориала” переполнен письмами, которые документируют подобного рода истории. Его стратегия увековечивания памяти обо всем этом кажется полностью оправданной. “Мемориал” пытается не поощрять антагонизм между жертвами. Он настаивает на том, что уцелевшие жертвы сталинизма могут объединиться только тогда, когда признают общность своего опыта. Их жизни были сформированы одной и той же немыслимой, жестокой, порочной, унижающей человеческое достоинство и неправомерной политической системой. Некоторые из них понимают это, но многие это понять не в состоянии.
Горечь наследия сталинизма в полной мере открылась мне в неприглядной истории с получением партии сухого картофельного пюре. Этот вожделенный продукт гуманитарной помощи, присланный с капиталистического Запада, был направлен перегруженным работой Моссоветом в местный совет ветеранов Великой Отечественной войны. Ветеранам сообщили, что пакеты с белой пушистой субстанцией будут розданы всем местным пенсионерам, включая жертв репрессий. Юдифь Борисовна пояснила: “Нам нравится сухое пюре, нам, старикам. Картошку не нужно скоблить или чистить, и зубов не нужно, чтобы есть пюре, так что мы думаем, что это хорошая штука. Но никакого пюре мы так и не увидели. Они с нами им вообще не поделились. Сказали, что нас не было в списках. Но мы тоже пострадали. И мы трудились. Но они не признают то, что мы делали в войну. Некоторые из них до сих пор называют нас преступниками”[990].
Подобные истории происходят практически ежедневно, хотя роль сухого пюре в них иногда играют билеты в театр, льготные обеды в столовой или новые галоши. Культурное наследие сталинизма продолжает жить рядом с современными банкоматами или интернет-кафе. Так энергия, которая могла бы быть направлена на коллективное усилие по переустройству страны, распыляется в миллионах распрей и личных крестовых походов. А между тем то государство, что установило законы, к которым апеллируют старики, и породило союзы и соперничество между ними, умерло и было попрано более десяти лет назад.
Еще более душераздирающее впечатление производят истории узников ГУЛАГа, осужденных по политическим статьям, которые своим каторжным, подневольным трудом, несомненно, внесли свою лепту в победу в войне. Правительство Ельцина наконец согласилось признать их вклад, так что оставшиеся в живых бывшие “политические” получили свои медали Победы, как и остальные ветераны войны и бывшие фронтовики. Юдифь Борисовна продемонстрировала мне свою медаль. Это дешевый, легкий кругляш, образчик советского китча. Юдифь Борисовна всю жизнь страдала из-за советской власти. Ее отца расстреляли, ее мать была арестована, а сама она перенесла заключение, допросы, угрозы и многолетнюю ссылку. Однако медаль, символизирующая ее вклад в сталинскую войну, в великое коллективное усилие людей, которые плевали в нее на улице после ее освобождения из заключения, едва ли не самое дорогое ее достояние, которым она невероятно гордится. Она позволила мне забрать с собой копию каждого свидетельства о смерти ее отца, а также несколько фотографий с его могилы, но когда она передавала мне эту медаль, в ее глазах заблестели слезы. Юдифь Борисовна устала. Наш разговор был непростым для нее. Но плакала она не от измождения, ее растрогала не жалость к самой себе. Улыбаясь, она призналась, что это были слезы окончательного оправдания, восстановления в правах.
Ельцинское правительство не было глухо к подобным историям. После 1991 года широко ощущалась необходимость торжественного, декларативного финального жеста, который подвел бы черту под прошлым. Как известно, таким выбранным символом стала еще одна груда костей. В данном случае – в отличие от множества других подобных – кости были идентифицированы, подсчитаны и тщательно протестированы на предмет ДНК. В последнюю минуту перед началом торжественной церемонии захоронения этих останков начались даже поспешные поиски пары недостающих позвонков, которые сейчас считаются украденными. Кости принадлежали последнему русскому царю Николаю II и его семье, расстрелянной вместе с ним в подвале Ипатьевского дома в уральском Екатеринбурге, позднее переименованном в Свердловск.
За некоторое время до описываемых событий, в бытность свою Первым секретарем Свердловского обкома Партии, Борис Ельцин отдал приказ о сносе Ипатьевского дома, в котором последний царь и его семья провели последние два с половиной месяца своей жизни и в подвале которого были расстреляны. Теперь же Ельцин надеялся, что погребение останков царской семьи поспособствуют примирению враждующих лагерей в российском обществе, предаст земле призраки прошлого и сплотит людей вокруг фигуры еще одного мученика. “Предавая земле останки невинно убиенных, мы хотим искупить грехи своих предков”, – заявил он, выступая на церемонии торжественного погребения царской семьи 17 июля 1998 года в Петропавловском соборе[991]. Газета “Советская Россия”, само название которой некогда могло наводить на мысль о несколько иной политической позиции, пошла еще дальше:
Совершая в этот день панихиды во всех храмах, Русская православная церковь от всего народа принесла покаяние за грех вероотступничества и цареубийства, который за 80 прошедших с екатеринбургской трагедии лет так и не был раскаян. Ибо память о совершенном беззаконии, чувство нераскаянной вины, как подчеркивается в послании Патриарха и Священного синода, не изгладились из памяти поколений и тяжким бременем лежат на народной совести[992].
На самом деле, конечно, состоявшаяся в июле 1998 года церемония перезахоронения останков царской семьи была очередным трюком. Николай II был ничуть не более способен сотворить чудо после смерти, чем при жизни. Критики ворчали, что Ельцин пытается загладить акт собственного вандализма в связи с уничтожением Ипатьевского дома[993]. Отмечали, что народа, специально вышедшего на улицы Петербурга в день похорон, было определенно немного. По словам обозревателя газеты “Труд”, Николай II к тому же был не самым выдающимся аристократом[994]. Другие указывали на то, что предлагаемое раскаяние было выборочным:
В начале перестройки кто-то точно подметил, что Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Тогда эта шутка казалась очень смелой и, может быть, поэтому смешной. Но прошло десять лет, а так ничего и не изменилось. “Исторические приоритеты” нам по-прежнему навязывают “сверху”. На рубеже веков чуть ли не задачей номер один на самом высшем уровне было объявлено захоронение останков царской семьи и вынесение тела Ленина из Мавзолея. До Владимира Ильича добраться пока не удалось, но точку в деле царской семьи, кажется, поставить удастся[995].
В итоге диссонирующие голоса несогласных, возможно, звучали более настойчиво, чем слаженные гимны верующих. В то время другой исход был маловероятен, потом что еще столько историй оставались неразрешенными. Долги прошлого нельзя оплатить такими простыми жестами. Как смог убедиться организатор торжественной церемонии в Петербурге, губернатор Владимир Яковлев, событие с непреодолимой силой привлекло к себе внимание эксцентричных городских сумасшедших и чудаков. На его адрес стали приходить бесконечные просьбы о специальных пропусках на церемонию от не слишком вменяемых граждан, а также фиктивные притязания на принадлежность к царской семье от псевдопотомков царя и безумные свидетельства о святости и праведности покойного самодержца. Но подобные обращения перевешивались голосами протеста. Критика раздавалась со всех сторон политического спектра. Слышались голоса коммунистов и ветеранов войны, которые писали: “Не пустим Николая Кровавого в Ленинград. Не за то мы защищали нашу Советскую Родину!” Если с фактом проведения церемонии ничего поделать нельзя, в самом крайнем случае они призывали четко обозначить, что на ней не должен присутствовать ни единый немец[996]. Бывшие узники ГУЛАГа высказывали критику другого рода. “Знаете, они хотят, чтобы мы все это приняли, – рассказал мне один из них. – Хотят, чтобы мы заткнулись. И единственное, что мы получим, – памятник Гражданской войне. Гражданской войне! Это история! Какая нам от этого польза?”
Глава 12 Вслушиваясь в голоса мертвецов
Не понимаю, почему тебе просто не сесть и не написать эту книгу, – сказал мне мой друг в Кембридже еще в самом начале моего двухлетнего исследовательского проекта. – Ты уже наверняка знаешь, что именно хочешь сказать. Ведь тебе необязательно возвращаться в Россию, разве не так?” Мысль интересная. По сути дела, последовать этому совету означало бы остаться как интеллектуально, так и физически внутри англоязычного академического мира. Вопросы, которые я задавала, были бы санкционированы этим миром, а мои ответы обращались бы к знакомой, мощной и уважаемой всеми традиции, той самой, что повествует о травме и памяти и что неизменно начинается и заканчивается у ворот лагерей смерти. Российский материал, который к тому моменту уже был в моем распоряжении и значительная часть которого была мной обнаружена в архивах и библиотеках, мог бы стать прекрасным case study, предметом исследования насильственной смерти и ее последствий и одновременно пополнить растущую базу научной литературы о советском и особенно сталинском мировоззрении. Я уже выступала с докладами на конференциях на основе этого материала и даже опубликовала одну или две статьи. Реши я добавить несколько эмпирических балок к уже существующему каркасу, я могла бы написать эту книгу гораздо быстрее, а сам процесс работы над ней был бы куда легче.
Но я не последовала совету друга. Вместо этого я провела большую часть этих двух лет в совершенно другом мире. Возвращаясь в Англию физически, я все равно в действительности была не здесь. Во все постоянно вмешивались российские приоритеты, российские разговоры, российский образ мыслей и мировосприятие. В этом заключается одно из удовольствий занятия устной историей: прошлое возражает вам, спорит с вами, поправляет вас. Ее воздействие особенно сильно ощущается в России, потому что советское прошлое – а точнее сказать, уцелевшие его свидетели, которые обсуждали его со мной, – дерзит и перечит вам на необычайно прямолинейном, откровенном, уверенном в себе языке. Это прошлое помнит иную систему ценностей, возможно (это подразумевается, а иногда и прямо постулируется), более совершенную; и оно смотрит в лицо представителю западного мира со смесью теплоты, подозрительности и нравоучительной непоколебимости. Наследие жизней, проведенных в закрытом мире, в мире, который всеми доступными средствами провозглашал самому себе свое коллективное моральное предназначение, до сих пор влияет на многое из того, что говорят люди. Это наследие также окрасило основную задачу индивида: как быть человеком – и в каждом отдельном случае помогло сформулировать индивидуальную реакцию на горе и утрату.
Свидетельства, собранные мной, зачастую противоречат друг другу – люди вообще могут противоречить самим себе внутри одной фразы, – а многие говорили совсем другие вещи, когда я брала у них интервью во второй раз или находила кого-то еще, кто мог бы поговорить с ними позже и совершенно иначе. Но сквозь все эти разговоры проглядывали некая общая тема и определенное самоощущение, которые трудно воспроизвести на английском языке, не говоря уже о том, чтобы превратить их в некое умозаключение. Проблема не только в переводе с языка на язык, но и в том, чтобы передать черноту и мрак российского XX века и те немыслимые страдания, которые испытали граждане этой страны и которым нет равных в недавней истории моего собственного общества. Причем сделать это необходимо так, чтобы одновременно воздать должное жизненной силе этих людей, их ощущению собственной правоты, их достоинству.
Я пыталась говорить обо всем этом во время приездов домой, выступать время от времени с докладами на конференциях или готовить черновики глав будущей книги для обсуждения. Однако очень скоро я поняла, что в Кембридже или Лондоне трудно обсуждать странность всего того, что я узнала, по крайней мере до тех пор, пока этот материал остается сырым, пока все неровности и шероховатости, все незнакомое и режущее слух не будет сглажено временем, – на самом деле, до тех пор, пока я понемногу не начну забывать. Типичная аудитория семинаров, которая в прошлом так прониклась идеей моего проекта, теперь, в эти первые несколько месяцев работы, пребывала в полном молчании. Люди неизменно вели себя вежливо, как обычно, но почти не задавали мне вопросов до тех пор, пока не подходило время сделать перерыв на ланч или пойти выпить пиво с коллегами. Возможно, все дело было в моем выборе стиля изложения, который порождал всеобщую неловкость. Исследованию полагается быть академичным, хладнокровным и невозмутимым. Никто не ожидал, что я буду рассказывать свою историю абсолютно бесстрастно, однако были моменты, когда единственным живым, жизненным чувством, которое я могла передать своим слушателям, была грусть. Пересказанная эмоция обладает гипнотическим свойством, а в горе других людей есть что-то, что лишает нас самих дара речи, заставляя оцепенеть. Оно может сделать невозможной формальную интеллектуальную критику и недопустимым образом задушить вопросы. Об этом после лекции о коллективизации мне напомнила группа студентов, которые оказались смелее моих коллег. Выбранный остальными на эту роль представитель группы спросил меня: “А разве вы не должны быть более отстраненной? Мы хотим знать, не слишком ли вы идентифицируете себя со своим материалом? Разве история не должна быть объективной?”
Предоставляя отчет об этих двух годах, пытаясь объяснить, что именно я могла узнать, лишь проводя по несколько месяцев вдали от студентов, коллег и моего рабочего стола, я вынуждена, наконец, положить мои выводы у дверей того самого интеллектуального мира, который я покинула. Я начинала работать, приняв за основу некоторые гипотезы. Большая часть их на деле оказалась заблуждениями, превратными представлениями о моем предмете. Эти гипотезы касались индивидуальной травмы и ожесточения, работы свидетельства, процесса культурной преемственности, памяти, перемен, значения и смысла, которым наделяются мертвые. Все это важнейшие темы, и ими невозможно пренебречь. В мире найдется мало обществ, которые не выработали бы некую совокупность отношений к этим вопросам, пусть даже так и не исследовав их полностью. Однако именно эти вопросы имеют принципиальное значение для какой бы то ни было реакции на недавно произошедшую катастрофу. Это темы, на которые в англоязычном мире написан целый корпус научной литературы, причем не один. Останься я дома, я написала бы обо всех этих темах иначе. Отвечая на комментарий моих студентов, замечу, что да, в таком случае я бы, без сомнения, была намного более отстраненной.
Исследование социальных последствий катастроф, будь то войны или геноцид, не является исключительной прерогативой историков. В частности, литература о травме и о проговаривании и молчании, которые следуют за ней, включает в себя работы психоаналитиков, психиатров, литературных критиков и разнообразных специалистов в области общественных наук[997]. В том, что касается последствий травмы для жертв травматического опыта, наиболее значимая литература, по крайней мере в англоязычном мире, как правило, укладывается в русло широкой психоаналитической традиции. Образность, фигуры речи, которые используются в этих исследованиях, несут медицинские коннотации. Авторы говорят о ранах и исцелении, молчание зачастую воспринимается ими как признак душевного расстройства и повреждения ума, тогда как говорение – там, где оно имеет определенную структуру и направленность, – считается терапией, а свидетельство – хотя и болезненным, но возрождением к жизни, вторым рождением[998].
Нина Тумаркин, которая блестяще пишет о смерти и памяти, – одна из тех, кто перенял эти медицинские метафоры и применил их при анализе советского мира. По ее словам, “было бы справедливо предположить, что население Советского Союза десятилетиями страдало от посттравматического стрессового расстройства – как индивидуального, так и коллективного”[999]. Если бы я надеялась обнаружить в России именно это – целое общество, покалеченное насилием, которое охватило не одно поколение, несущее на себе его рубцы, мужчин, женщин и детей, нуждавшихся в исцелении, – то мои поиски были бы напрасны. Те, с кем я говорила, конечно, описывали свои страдания, и многие из них заново переживали их, рассказывая о прошлом. Некоторые из моих собеседников вновь затронули в разговорах те события, которые они долгие годы старались держать под контролем, образы и воспоминания, которые заставляли их рыдать. Позднее они звонили мне и признавались, что надолго потеряли сон после наших бесед. “Не изматывай себя так”, – журила жена своего мужа, бывшего узника ГУЛАГа, когда мы устроились с чашками чая и я завозилась с целлофановой оболочкой, пытаясь снять ее с последней пустой кассеты. “Юрий Николаевич потом никак не может заснуть, если говорит о том времени, – сказала она, поворачиваясь ко мне. – Сегодня опять будет принимать лекарства”.
Знакомая ситуация, но в ней не было проблемы душевного расстройства. Было бы куда более странно, если бы мучительное, душераздирающее повествование не вызывало к жизни отзвуки былой душевной муки. Большинство из тех, с кем мне удалось поговорить, прекрасно знали, что их воспоминания являются для них источником боли, но вместе с этой болью они прожили многие десятилетия наполненной событиями жизни. К прежним переживаниям и утратам добавились новые, включая утрату знакомого, содержательного и полного смысла мира, их государства, какую бы радость или боль ни причинил им его крах. У большинства этих людей в арсенале имеются очень эффективные средства (речь не всегда о лекарствах или водке), позволяющие им справляться со всеми этими переживаниями: телефонный звонок сестре или внуку, прогулка в парке, шумные разговоры и смех вокруг кухонного стола.
Для тех людей, с которыми я говорила, типичной могла быть следующая реакция: перевести свою озабоченность вовне, в данной случае сконцентрировавшись на мне. Кто-то из них мог сказать: “Это все не слишком-то приятно. Вам, должно быть, тяжело”. А потом опять появлялся чай, и те, чьих пенсий едва хватало для того, чтобы заплатить за отопление, доставали хлеб и сыр, сажали мне на колени пеструю кошку или тянулись за фотоальбомом, чтобы заполнить более радостные части той истории, которую они только что мне рассказывали. Оглядываясь назад, должна сказать, что их щедрость зачастую была ничуть не менее трогательной, чем их рассказы. Некоторые говорили, что главный урок, вынесенный ими из всех лишений и тягот, состоял в важности доброты, что без этого тепла жизнь была бы бессмысленной. Это были те, кто говорил о выживании в категориях личных и дружеских отношений с соседями и друзьями, близкими и дальними родственниками, размышляя об ощущении коллективной ответственности. Другие, конечно, были полны горечи, подавлены и мрачны – в конце концов, люди по-разному воспринимают жизнь, – но даже у них были воспоминания о стойкости и выносливости. Что бы они ни видели, что бы ни потеряли – а в этом отношении не было большой разницы между ветеранами войны, бывшими узниками ГУЛАГа и пережившими голод, – их истории были рассказами о том, что в конце концов им удалось выжить.
Язык, который они использовали для того, чтобы говорить о своих жизнях, часто касался одних и тех же тем, чтобы определенные аспекты этих историй стали достаточно выпуклыми и очевидными. Например, мне стало ясно, что российский опыт пережитого насилия так же тесно связан с определенной культурой и особенно с недавней политической и социальной историей страны, как и, казалось бы, с более универсальными, всеобщими свойствами человеческой психологии. Помимо всего прочего, он был порождением специфического исторического момента. Россия стала последней распавшейся великой империей. Но имперское мировосприятие пережило этот распад и продолжает существовать. Другими словами, на сегодняшний момент старшие граждане России не страдают от кризиса происхождения или идентичности, им не требуется то, что нидерландский журналист и писатель Йен Бурума назвал “псевдорелигией собственной жертвенности”, чтобы “придать своей истории определенные очертания”[1000]. Говорить как бывший советский человек и россиянин означает говорить (коль скоро человек выбирает эту субъектную позицию) с позиций безопасности, говорить изнутри культуры долготерпения, выносливости и героизма, говорить на языке “исторической участи”, говорить (при всей возможной иронии) о дерзновении и отваге, которые требуются, чтобы возглавить борьбу за освобождение человечества.
Ничто из вышеперечисленного не отрицает опыт страдания – советский триумфальный дух часто воспринимается как жалкая компенсация за целую жизнь, проведенную в неопределенности и лишениях, – но оно задает определенную рамку для обсуждения боли и тяжелых потерь. Когда я заводила разговор о незавершенной работе горя, люди смеялись в ответ: “Да у нас и времени на это не было. Конечно, это было ужасно. Но нужно было восстанавливать город. Мы все таскали на себе, по-другому было нельзя. Мы победили фашистов, а теперь строили социализм, прямо на месте руин, в Киеве”.
Вероятно, со смертью первого поколения выживших изменятся и эти истории. В некоторых из рассказов уже чувствуется горечь, ощущение бесплодности, напрасности всех усилий; особенно это характерно для тех, кто воспринимает сегодняшнюю ситуацию в стране (речь о 90-х, напомним) как разложение, вырождение и предательство. История может трансформировать боль. Она становится символом, паспортом, а также бременем для тех, кто претендует на то, чтобы наследовать ее. Вместе с тем россияне могут и дальше продолжать впитывать и усваивать западный язык травмы и излечения. Говорят, что среди состоятельных людей уже вошел в моду психоанализ. Однако в конце 1990-х годов в общественном дискурсе главенствовали идеи гордости, а не частного страдания и боли. Даже те, чьи рассказы свидетельствовали о ярости и жалости к самим себе, отвергали мысль о том, что им, возможно, требуется лечение. Каждый раз, завершая интервью, я интересовалась у своего собеседника или собеседницы, быть может, им могли бы помочь терапевтические беседы – со священником, или врачом, или другом, или товарищем по партии. Один из моих респондентов рассмеялся: “Девочка моя, это тебе не Англия!”
Другая стратегия преодоления прошлого, которой были лишены практически все жертвы российских исторических катастроф, состояла бы в возможности свидетельствовать о пережитом[1001]. В Советской России, особенно при жизни Сталина, у людей не было ни единого шанса публично рассказать о том, что им пришлось пережить. Побуждение к разговору довольно сильно в российской культуре. В первые послевоенные несколько лет, после того как появились еда и тепло, заговорили о своем опыте те, кто пережил блокаду Ленинграда, да так, что их невозможно было остановить. Но их случай был исключением. Совсем другая история, например, послевоенный голод. И даже большинство ветеранов войны жили с тщательно отредактированными историями, предназначенными для публичного потребления. Они могли вполне заслуженно воздавать друг другу хвалу за героические усилия и успокаиваться, обмениваясь общими байками (отнюдь не все воспоминания травматичны, определенный вид говорения действует на рассудок умиротворяюще), но их редко поощряли к тому, чтобы даже в компании друзей заговорить о самых уродливых, самых жутких страхах и образах, запечатленных в сознании. В целом навязанное (по крайней мере, в публичном пространстве) молчание было удушающим. Зачастую оно не давало тем, кто перенес тяжелую утрату, и тем, кто жил в страхе, пересказать свои истории, поделиться ими с другими, лишало этих людей того утешения и поддержки, которые получаешь, обнаружив некую социальную структуру, куда можно вписать пережитые события, чтобы они перестали быть преступными сновидениями. Выжившие по-прежнему пребывают в растерянности и замешательстве: те частные, личные образы, которые до сих пор преследуют их сознание, слишком щекотливы и неудобоваримы – по крайней мере, они боятся, что это так, – чтобы вписать их в нарратив социальной истории, контуры которого даже сейчас остаются неясными и расплывчатыми.
Однако растерянность не тождественна обобщенным психологическим издержкам. Кажется, русские и правда жили и продолжают жить со своими историями невыразимых потерь при помощи работы, песен и идеологического энтузиазма. Сегодня некоторые, говоря об этом, смеются, но практически каждый испытывает ностальгию по утраченным ныне коллективизму и общей цели. До определенной степени тоталитаризм сработал. Если уж нам так необходимо использовать метафору излечения, тогда российская модель – не психоанализ с его вниманием к индивидууму и его уникальной биографии, – а когнитивная психотерапия. Согласно ей существуют техники, при помощи которых можно обмануть рассудок, принудив его к покладистости и бодрому жизнелюбию, которые на данный момент принято считать признаками здоровья. Популярное руководство “Как быть счастливым”, вышедшее в Англии в 1996 году, предлагает читателям ежедневно смотреть в зеркало по две минуты и улыбаться своему отражению[1002]. Рекомендации отдела пропаганды и агитации при ЦК КПСС были очень схожи[1003]. Большая доля сегодняшней ностальгии и отчасти шовинизма суть выражение открытой тоски по этой простоте.
Можно убедительно доказывать, что “они”, эти русские, и правда “нуждаются” в терапии, механизмов которой просто не понимают. Представитель международной гуманитарной программы публично предположила в разговоре со мной: “Наверное, вы их просто недостаточно глубоко «распотрошили», если вы понимаете, что я имею в виду”[1004]. В этой идее столько же абсурдности, сколько и покровительственного поучения свысока. Подобно миссионерам, отправляющимся в самые мрачные уголки Африки, терапевты и консультанты могут прорубить свой путь в это общество, которое испытало едва ли не больше насилия и надругательств, чем какое-либо другое. И они найдут то, что ищут, потому что у них всегда это получается[1005]. Но вместе с тем они оставят без внимания в этой истории и ее рассказчиках всё сколь бы то ни было специфическое, всё, чему эти рассказчики научились и что они должны поведать.
Я отнюдь не хочу этим сказать, что никто и никогда не прибегает к языкам говорения об опыте жертвы. Хотя публичная роль жертвы пока еще не стала мейнстримом, уже успели сложиться обстоятельства, при которых эта роль может быть полезна и даже выгодна. Когда я вернулась домой, я часто слышала от людей, движимых самыми благими намерениями, часто на вечеринке, со стаканом в руке: “Этим бедным старичкам так повезло, что у них есть возможность поговорить с тобой!” Опыт научил меня не отвечать слишком откровенно. Могу сказать, что, безусловно, бывали ситуации, когда каждый из нас чувствовал себя лучше после разговора, и иногда люди благодарили меня за то, что я любезно их выслушала. Но на самом деле, это они оказывали мне любезность. В конце концов, это я хотела послушать их истории. Я до сих пор благодарна каждому, кто поговорил со мной, за их отвагу, терпение и щедрость, которые заставляют меня смиренно склонить голову. Было бы глупо не добавить, что иногда они действовали из других побуждений. На самом деле, некоторые воспринимали наш разговор как своего рода сделку.
Нарративы об опыте пережитого насилия могут быть предметом обмена. Например, мне повстречался один респондент-мужчина, который часами говорил о блокаде Ленинграда, и пока я слушала его, пытался всучить мне тарелку, полную печенья. Он настаивал: “Я не могу допустить, чтобы пропала даже крошка еды. Мы, блокадники, все такие. Хлеб. Еда. Это святое”. Однако его воспоминания, несомненно, были предназначены для продажи. В конце нашей беседы он вынул книгу с картинками Франции. “Я хочу снова вернуться туда, прежде чем умру, – сказал он. – И я подумал: не могли бы вы мне помочь? С билетом, то есть. Ведь там, откуда вы приехали, это не дорого, ведь так? Так говорят. Мне только билет нужен. И виза”. Одна вдова из Одессы после нашего короткого и заранее подготовленного ею рассказа о ее военном опыте приказала мне встать и повернуться: “Вы же не замужем, так? Моему сыну нужно начать новую жизнь. Он все что угодно может делать. Но не здесь, не в Украине. Мне кажется, вам нужно с ним познакомиться”.
Я не хочу упрощать эту историю. Некоторые – незначительное меньшинство – так и не научились мириться с образами смерти в своей голове. Другие обнаруживают, что сегодня, по мере того как они стареют, их воспоминания тревожат их куда больше. Нет никаких сомнений, что для большинства оставшихся сам акт говорения не утрачивает своей важности, будь он в форме свидетельства, рассказа очевидца или автобиографии. Подавление коллективной, разделяемой многими памяти было актом государственного насилия, а свобода, которую принесла гласность, широко и заслуженно прославляется. Загляните в “Мемориал” или в Совет ветеранов в любой будний день и предложите послушать их подопечных. Уже и рабочий день подойдет к концу, и офисам пора будет закрываться, но вы по-прежнему будете записывать имена и воспоминания людей. А уж если вы дадите свой номер тем, кого там встретите, ваш телефон будет разрываться от звонков. Ошибка здесь заключается в предвзятости, в готовности заранее выносить готовые суждения, в предположении, что медицинские диагнозы применимы в общем порядке. Предвзятости сопутствует насильственность: таким образом, подразумевается, что любые проявления молчания потенциально патологичны, что право на частную жизнь и сохранение некоторых вещей в тайне – как и демократия и международная миротворческая деятельность – это роскошь, которой можно благотворно наслаждаться только после того, как все, что было перекручено и искорежено, выправлено и каждая личная история предана огласке. Как это ни парадоксально, некоторым удается совмещать эти точки зрения – настаивать на том, что жертвам необходимо разговаривать и исцелять свои душевные раны и одновременной быть убежденными, что время для публичного суда над отдельными вершителями насилия еще не настало[1006].
Принято считать, что патологический эффект полученной травмы распространяется и на следующее поколение. И здесь снова следует проявить осмотрительность. Психиатр Дерек Саммерфилд сравнил эту концепцию с идеей первородного греха. “В отсутствие дополнительных эмпирических доказательств, – комментирует он, – мы проявляем несправедливость в отношении никем не подсчитанных миллионов в основном незападных людей, которые каким-то образом снова собирают по кускам свои жизни, предполагая, что они органически, по природе своей травмированы и не могут не передать эту травму своим детям”[1007]. В поисках тех самых эмпирических доказательств, о которых говорит Саммерфилд и которые позволили бы мне проследить наличие проблем у следующего поколения – у детей жертв насилия, – весной 1997 года я собрала группу взрослых детей репрессированных и раскулаченных крестьян. Эта встреча оказалась для всех нас поучительной. Женщины, пришедшие на эту встречу, каждой из которых было за шестьдесят, никогда и не помышляли о том, чтобы сравнить свой опыт, свои личные истории. Они воспринимали себя как детей репрессированных и в некотором смысле жертв тоталитарной системы, но неизменно – если говорить в рамках значения опыта жертвы – как носителей штандарта своих родителей, а не людей со своими собственными ранами. Поэтому они были очень удивлены, обнаружив, что у них есть общие воспоминания. Это открытие общей истории сокрытия, утаивания правды доставило им удовольствие. У всех этих людей был и общий рассказ о вине, связанный с историей умалчивания. Однако, помимо всего вышеперечисленного, а также опыта пережитых лишений и тягот длиною в жизнь, их мало что объединяло.
Когда я просила моих собеседников подумать о концепции травмы второго поколения, некоторые предлагали мне социальное объяснение. В их представлении это было очередное проявление советского коллективизма. Отчасти в силу традиции, отчасти из-за затруднений, вызванных нехваткой жилого пространства, а отчасти из-за ужасных последствий войны в Советской России было не так уж много полных семей в классическом понимании. Обычно детей растили не только родители или один родитель-одиночка – центральную роль в воспитании детей играли бабушки и дедушки. Некоторые из тех, с кем я познакомилась в России, включая двух женщин в вышеупомянутой группе, выросли целиком и полностью на попечении бабушек и дедушек. Не стоит забывать также о пионерских лагерях, школьных клубах, комсомольской организации, молодежных бригадах и тому подобном. Возможность для передачи этой тайной боли от родителей к детям – словесно или через длительное молчание и паузы – практически всегда была ограничена. Да и сами дети едва ли могли пестовать свои страхи и фобии или обсуждать их с кем-либо – этому препятствовали моральные идеалы коллектива.
Много – наверное, сотни – раз мне приходилось выслушивать рассказы о жизнях, начатых заново, о тщательно собранных и повторно смонтированных фрагментах, причем я слышала их в разных обстоятельствах и от людей, движимых в своих рассказах самыми разными мотивами. Но ни один из потомков жертв – представители так называемого второго поколения выживших, – унаследовавших разнообразный опыт от своих родителей, включая репрессии, Гражданскую войну и массовый голод, не сообщил мне, что сам страдает от навязчивых кошмаров, фобий или нервных расстройств. Конечно, до некоторой степени это можно объяснить влиянием табу. В России люди, у которых диагностировано психическое расстройство (в том числе те, кто страдает от депрессии), не только не получают компенсации, но и, напротив, рискуют частично лишиться гражданских прав, даже водительского удостоверения[1008]. Но ясно также, что западное заболевание – посттравматическое стрессовое расстройство – не является проблемой, которую россияне второго и последующих поколений воспринимают хоть сколь бы то ни было серьезно.
Одна из респонденток той самой группы представителей второго поколения, с которой я в тот день встречалась в Москве, привела с собой внучку, девочку четырех лет. Большую часть времени ребенок сидел и рисовал, не обращая на нас всех никакого внимания. Однако в какой-то момент она потребовала, чтобы я вывела ее наружу и посмотрела, как она репетирует только что выученный танец. Мы вдвоем вышли в коридор вдоль кабинетов на третьем этаже Института востоковедения, в пространстве которого я обосновалась в тот вечер. Девочка танцевала и терпеливо учила танцевать меня, мы хихикали, но старались не шуметь и делать все как можно тише. По другую сторону двери продолжала крутиться лента диктофона, записывая разговор о политических убийствах и их последствиях. Бабушка девочки сказала мне, что когда та подрастет, то семья ей все расскажет. Девочка хотела быть актрисой.
Поколение, сознательная жизнь которого началась в середине 1980-х годов и которое никогда не знало ничего более репрессивного, чем гласность, сегодня учится в школах и университетах. Они не одержимы прошлым, но многие из этих людей на удивление хорошо информированы – уж точно куда лучше, чем можно было бы ожидать от их ровесников в Великобритании. Однажды в Петербурге я сделала интервью с группой из восемнадцати студентов, которые, безусловно, в будущем станут частью элиты. Они в подробностях могли обсуждать со мной Первую мировую войну, Гражданскую войну, советско-нацистский пакт Молотова – Риббентропа 1939 года, коллективизацию и политические репрессии. Они знали историю, диссидентскую поэзию, ориентировались в различных концепциях и дискуссиях. В отличие от большинства своих дедушек и бабушек они также отлично представляли, какое место занимает Россия в международном рейтинге распространенности насилия и политических убийств, со знанием дела рассуждая о Южной Африке (“много насилия”) и Соединенных Штатах (“на самом деле у них нет таких проблем, как у нас”). Один из ребят сказал: “Хорошо, что сейчас нам не приходится все время говорить о прошлом, у нас и без того достаточно серьезных проблем”. Большинство было с ним согласно. Прошлое стало историей, и для этих молодых людей оно не является источником ярости и гнева. Один из них признался: “Мне всегда грустно и жалко бабушку, когда она заводит разговор о войне. У нее, кажется, была такая трудная жизнь!”[1009]
Петербуржским студентами вторили подростки из Карелии, не получившие такого основательного образования. Их общие знания о прошлом были чрезвычайно расплывчаты, но в их случае важнейшее значение имели их собственные семьи. Война для них была войной Советской Карелии, войной против финнов. Бабушкины истории были не менее печальными. Ребята изголодались по знаниям и жаждали узнать больше, пусть даже от иностранки. Но диапазон их интересов, хотя и обнадеживал, в целом был ничем не примечателен. Позднее, уже в автобусе, один из школьников спросил меня: “Что произошло в Сандармохе? Что там сейчас?” Мы поговорили, но затем на трех задних сиденьях стала собираться группа. Их разговоры были исполнены нетерпения, надежды, и ничего мрачного в них, конечно, не было. “Как устроена жизнь в Англии? И многие из вас приезжают сюда?”
Подобные беседы были настолько непосредственными и прямолинейными, несмотря на тему разговора и контекст, в котором они происходили, что трудно не упустить из виду, что, согласно некоторым моделям исторически обусловленной причинности, эти люди должны с пренебрежением относиться к человеческой жизни и с большой готовностью прибегать к насилию. Возможно, из этой модели можно исключить нынешних подростков, потому что они представляют уже третье или даже четвертое поколение, но я не смогла бы применить эту модель и к тем пожилым людям, с которыми познакомилась. На российскую историю часто ссылаются в попытке объяснить события более позднего периода: так, над Сталиным возвышается фигура Ивана Грозного, ленинскую революцию омрачила крестьянская жестокость, а Гражданская война подготовила ментальность чисток и репрессий. Однако обобщение, постулирующее, что насилие ожесточает людей, абсолютно противоположно тому выводу, который можно сделать на основе литературы о Холокосте, по большей части утверждающей, что травма делает тех, кто выжил, жертвами, а не истязателями. Если признать, что идея опыта жертвы является слишком большим упрощением применительно к более длинной и неоднозначной истории России, то следует сказать то же самое и о предположении, что война и политическое насилие оставляют после себя два поколения убийц.
Как ни странно, первыми повторяют эту старую мысль сами выжившие. “Революция, Гражданская война… все это способствовало ожесточению людей, довело их до звероподобного состояния, – настаивал среди прочих Александр Шлаен. – Их отличала большая жестокость, в их представлении человеческая жизнь гроша ломаного не стоила. И так было на протяжении многих десятилетий, на протяжении целого столетия. У русских ментальность погрома”. “Когда вы это так формулируете, – заметила я, – ваша теория кажется расистской”. “Нет, совсем нет, – ответил он, мгновенно отбрасывая одно обобщение, чтобы заменить его другим. – Вы должны помнить, что русский человек – это и Сахаров, и Пастернак, и Пушкин, и Толстой, и Достоевский”. Можно продолжить этот ряд, хотя и не так эффектно, добавив, что русский человек – это также и Юдифь Борисовна, и Людмила Эдуардовна, и Валерия Оттовна, и Алексей Григорьевич, и Вениамин Викторович, и все остальные. В действительности, идея об ожесточенности и озверении работает лишь до тех пор, пока вы не решите приложить ее к тому, кого знаете лично. Однако идея эта имеет такое широкое хождение и так часто используется в разговоре о России, что она заслуживает серьезного рассмотрения. За этой концепцией стоят два набора допущений и гипотез. Первый основан на индивидуальном травматическом опыте, а второй – на культурных особенностях.
Психологическое объяснение исходит из открытия, что люди, по всей видимости, привыкают находиться в чрезвычайных, экстренных обстоятельствах. Российские дети, игравшие в смертную казнь в 1910-х годах, безусловно, поняли кое-что о насилии, как и дети, пережившие Великую Отечественную войну, те самые, что играли с короткоствольным оружием и гранатами. Существуют исследования, проведенные по следам нескольких недавних гражданских войн (в Руанде, Анголе и других странах), и они показывают, как другие поколения детей, беспрерывно подвергаясь насилию, схожим образом привыкли к нему и как тот же процесс привыкания коснулся многих взрослых. Однако что конкретно это означает с точки зрения их будущих действий и выбора стратегии поведения, предсказать не так легко. Опыт катастрофы, которому имманентны страх, неопределенность, физическая боль и эмоциональные перегрузки, практически всегда изменяет людей и может бросить длинную тень на всю их последующую жизнь. Но уцелевших меняют и другие факторы, среди которых бедность или богатство, бездомность или ощущение безопасности, теплые, близкие отношения или изоляция[1010]. В этом отношении огромное значение имеет сам человек, история его предыдущей жизни, его склонности, та поддержка, которую он может получить от семьи и друзей[1011].
Объективно говоря, преступная деятельность, беспощадность, безжалостность, даже жестокость могут оказаться наилучшими стратегиями выживания в определенных кризисных ситуациях. Те, кто имеет предрасположенность к использованию подобных методов, преуспеют в чрезвычайных ситуациях или на войне. Другие отреагируют на те же самые проблемы менее жестоким, насильственным образом, и именно они будут, в первую очередь, стремиться к тихой, спокойной жизни и даже к некоторому оцепенению после того, как чрезвычайная ситуация закончится. Общества, как и отдельные его члены, меняются под воздействием насилия, свидетелями которого они оказываются. После длительного кризиса к власти приходят другие люди, в общественном настроении начинают резонировать другие голоса. После окончания Первой мировой войны Западная Европа претерпела кардинальные изменения. В других регионах также проверялись на прочность табу, приостанавливались демократические процессы и разрушались горизонтальные связи доверительных отношений между людьми, но все это, по сути своей, процессы социального свойства. Было бы упрощением говорить об универсальных моделях психологической травмы.
Культурологическое объяснение прослеживает преемственность на многие десятилетия назад, разводя руками (или умывая их: дескать, тут ничего не попишешь, так у них на роду написано, такой уж у них – но не у нас! – обычай) перед лицом наполненной насилием истории России. Эта нить преемственности действительно существует, бесполезно это отрицать, и во многом мы обязаны ее существованием тем историям, которые люди рассказывают сами себе, мифу о войне (вдохновившему, к слову, многих афганцев), мифу о выносливости и стойкости. Те из россиян, что с презрением относятся к народным россказням, могут обнаружить те же самые мотивы в своей выдающейся литературе. Так, в 1918 году Александр Блок писал:
Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, С раскосыми и жадными очами! ‹…› Мы любим плоть – и вкус ее, и цвет, И душный, смертный плоти запах… Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет В тяжелых, нежных наших лапах?[1012]Такого рода литературные тексты, когда они широко приняты в обществе и отзываются в душах многих людей, задевая их за живое, сами по себе становятся важным фактором влияния. В скобках заметим, что британским таблоидам и вправду повезет обнаружить своего собственного Эренбурга или Симонова.
Суть в том, что культурное наследие – это ресурс, и оно содержит широкий спектр разнообразных потенциальных образов и картинок. Россияне могут быть и скифами, “любящими плоть”, но к ним также применимы и другие образы: рыдающие матери, китч, идеализированные члены семьи, сильные, проницательные и человечные уцелевшие жертвы катастроф. Если иметь это в виду, то погоня за преемственностью может легко превратиться в своего рода игру, поиск правдоподобных в своей гладкости риторических звеньев, но в качестве объяснения она редко бывает действительно серьезной. Трудно не увидеть жестокого эха Великой Отечественной войны, например Сталинградской эпопеи, в бомбежках Грозного в 1999 году, в угрозах стереть чеченскую столицу с лица земли. Риторика была очень схожа, но обстоятельства, в которых она прозвучала, конечно, сильно отличались. Бомбардировки Чечни были политическим выбором, серией расчетов и калькуляций, у которых были альтернативы, и этот выбор был основан на реальных решениях относительно цены этого жеста, приобретенных или потерянных голосах избирателей, вероятности ответных ударов. И контекстом для принятия подобных решений была не только российская история. Отвратительная стратегия, избранная Владимиром Путиным, была отчасти предсказана знанием о том, что его страна не первая демократия, которая в 1990-е сбрасывала бомбы на гражданские объекты.
Подобного рода наблюдения также применимы к различимым традиционным особенностям опыта насилия в конкретном обществе. Например, ужасающий уровень смертности в российских и советских войсках в обеих мировых войнах и правда имеет некоторые общие истоки: экономические и транспортные трудности, экстремальные погодные условия, фантазии о том, что бескрайняя Россия-мать всегда сможет выносить и дать жизнь новым и новым сыновьям, которых можно отправить на фронт. Один из исторических уроков, который отлично усвоили сменявшие друг друга российские правительства, состоит в том, что статистику смертности можно обработать так, чтобы получить более приемлемый результат, а трупы можно убрать с глаз долой. Однако со временем военное мышление существенно изменилось. Высокомерие царского офицерского корпуса с его кодеком чести и легкомысленным требованием самопожертвования от других вполне могло служить вдохновением для сталинистов с их “сияющими голенищами”, для людей вроде Льва Мехлиса, с помощью которых Советский Союз начал свою битву с фашизмом. Однако к 1942 году главные решения в Советской армии принимались генералом совсем другого типа. Профессиональный солдат Василий Чуйков командовал сталинградской бойней, постоянно перенимая военные привычки немцев[1013]. Оборона города преследовала стратегические задачи, и взывания к чести и благородству неизменно служили пропагандистским целям.
Миф о варварской культуре, представление о жестоком крестьянине или безжалостном славянине также отвлекают внимание от индивидуального и коллективного выбора и действия. Они обходят молчанием человеческие страдания Гражданской войны, заявляя, что, дескать, “они” постепенно привыкли ко всем этим ужасам. А кроме того, они сглаживают подлинную трагедию инспирированного государством насилия, вынудившего стольких людей вступить в преступный сговор, вне зависимости от того, стали ли они добровольными палачами или нет. Дело не в том, чтобы обвинять кого-то – хотя существуют те (и их довольно много), кто принимал решения, отдавал приказы и должен быть призван к ответу, – речь идет о памяти и мраке, о той цене, которую заплатили люди. Какое бы оправдание за ним ни стояло, убийство – если только вы не психопат – не является частью “нормальной” жизни. Убийство – это что-то из ряда вон выходящее, исключительное. Вне зависимости от того, испытывали ли вы отвращение, страх, действовали ли по принуждению или все разом, совершенное убийство не забывается. Представление о существовании ожесточившихся, дошедших до звероподобного состояния народах или о наследуемой склонности к злу является или чистой воды риторикой, или предрассудком.
Если эта теория не выдерживает критики, если турбулентность, пережитую Советской Россией, нельзя списать на остервенение и ожесточение ее граждан на индивидуальном уровне, это значит, что объяснение придется искать где-то еще. Нет никаких оснований сбрасывать со счетов свидетельства того, что тысячи мужчин и женщин были движимы ненавистью, страхом, яростью, голодом, садизмом, жаждой мести, трусостью и идеологическими догмами, которые привели их к тому, чтобы убивать, пытать, грабить и арестовывать своих соседей. В процессе они кое-чему научились: как лучше всего убивать, не оставляя видимых следов, с какой легкостью группу взрослых мужчин можно довести до слез. Однако в современном мире лишь немногим избранным обществам повезло обойтись без подобных уроков. Кроме того, в сталинской России была высокая преступность, с избытком бессмысленной, неспровоцированной жестокости, малодушного сведения счетов или отрицания. Во многих случаях государству и не нужно было принуждать своих солдат или милицию к исполнению их бесчеловечных обязанностей. Но здесь мы снова должны разграничить разные душевные движения и побудительные импульсы. Массовый голод вызывает панику особого рода. Такую же панику вызывает война. Ярость, побуждающая солдата бросать младенца в колодец, отличается от решимости революционного комиссара, который отправляет на виселицу двести партизан, а та, в свою очередь, имеет мало общего с тем разочарованием, которое испытывает тот же самый комиссар тридцать лет спустя, когда он, уже чей-то дедушка, устало подписывает ордер на арест человека, в чей невиновности он не сомневается, только потому, что от этой подписи зависят его карьера, комфорт и благополучие его семьи.
Однако для того чтобы понять масштаб всего этого, нужно начинать не с исследования психики отдельного человека и не с некоего расплывчатого национального свойства – эдакой генетической аномалии. В этой истории сыграли свою роль идеологический фанатизм, непримиримость – есть что-то леденящее кровь в несгибаемой уверенности в собственной правоте – и три других обстоятельства: политическая структура (по большей части заданная государством), многократно повторяющиеся чрезвычайные ситуации и моменты кризиса и практически всеобъемлющий страх. Из этих категорий выводятся не сложившаяся в России мощная правовая система как противовес государственной власти, отсутствие на всех уровнях деятельного гражданского самосознания и несоблюдение прав и свобод граждан, ярый локализм с его приоритетом узких местных интересов для избранных, из которого логически вытекало недоверие по отношению к чужакам, и традиция автократии, которая чрезвычайно легко адаптировалась к сталинизму. Вторая совокупность объяснений не требует дополнительных обсуждений. Природа кризисов, с которыми Россия столкнулась в XX веке, была такова, что способна была подтолкнуть любое человеческое существо к тому, чтобы грабить и убивать или даже – будь у них такие навыки – убить, засолить и медленно съесть своих детей или мужей. Предметами обсуждения в каждой главе в этой книги были массовый голод, гражданская война и экспроприация. В ней также видную роль играл страх. Результатом всего этого в значительной мере стало сохранение на каждом новом историческом этапе замкнутых кругов, разделения на “нас” и “них”, подрывающее социальную сплоченность.
Ответственность за то, чтобы российские граждане не столкнулись вновь с голодом, должна отчасти лечь на плечи международного сообщества. Нет ничего важнее материальной обеспеченности: наличия еды, отопления, питьевой воды. Однако политическое наследие автократического государства и слабая правовая система тоже представляют собой реальные проблемы, которые должны решаться самим обществом изнутри. Невозможно импортировать и навязать извне политическую культуру, хотя некоторые виды методических консультаций кажутся делом вполне полезным. Сам российский народ должен принять решение попытаться нейтрализовать многосоставное наследие прошлого, противодействовать ему и выстроить новые структуры доверия. Первым шагом на этом пути может стать пересмотр отношений между гражданином и государством, исследование правовой легитимности, открытости (несмотря на предшествующее злоупотребление этим словом) и подотчетности. Именно такой путь, вместо серии отдельных судов, казалось, избрало российское правительство, решившись в 1991 и 1992 годах на запрет КПСС и реабилитацию ее жертв[1014]. Но на самом деле властями двигало не стремление к правде и примирению. Как и в случае с перезахоронением останков Николая II, идея состояла в том, чтобы герметично запаковать прошлое и предать его земле, чтобы избежать неловкой ситуации, предотвратить охоту на ведьм, а заодно и спасти свою шкуру.
Решение похоронить прошлое не встретило широкого общественного протеста. Обосновывалось это тем, что многие бывшие конвоиры, доносчики и следователи сами в какой-то момент пали жертвами репрессий – или в буквальном смысле (многие и правда были арестованы), или оказавшись заложниками системы, которая не оставила им выбора. Хотя это объяснение кажется гуманным, в действительности за ним скрывается повсеместный страх перед будущим. Один приятель признался мне:
В моей семье никто не был расстрелян. Никого не арестовали. Мы даже не потеряли никого на войне. Дедушка был хорошим коммунистом – он, знаешь ли, не стоял в стороне, когда снимали колокола с церквей. Так что не знаю, что уж они обнаружат, если займутся моей семьей. Когда все это стало выходить наружу, вся эта гласность и деятельность “Мемориала”, я был студентом. Помню, как летом 1989 года я вместе с другими уехал в экспедицию. Помню, как было страшно, потому что я не знал, что меня ожидает по возвращении.
Спустя несколько недель после этого разговора он обнаружил, что неуязвимость его семьи не была случайностью. У его деда и правда был секрет. В начале войны он был снайпером. Среди его медалей есть одна, которую он получил в награду за то, что расстреливал своих собственных соседей во время московской паники 1941 года. Впоследствии он в разных качествах сотрудничал с органами.
Страх подобного рода открытий встречается часто, но его не назовешь повсеместным. Есть и те (например, Лев Разгон), кто хотел бы увидеть каждого генерала, беспечно тратившего солдатские жизни, каждого палача и мучителя на скамье подсудимых, несущих ответственность за свои преступления. Преимущества подобной позиции очевидны: в российской культуре идея личной, индивидуальной ответственности остается слишком расплывчатой. Это общество, в котором закон до сих пор ничего не значит, в котором люди базово не верят в то, что юридические и демократические процессы способны им помочь. В стране до сих пор важную роль играют “семейные связи”, разветвленная система авторитетов и протекций, халатное, наплевательское отношение к законности. Поэтому исследуя полное насилия прошлое, слишком просто было бы уйти в безличные рассуждения о “системе”. Новые горячие приверженцы капитализма и международных торговых концессий, происходящие из семей старой элиты, говорят об этом с самыми располагающими светскими интонациями. Влияние, накопленное при советской власти, все еще имеет вес (в рядах новой мафии можно обнаружить бессчетное количество представителей старой Коммунистической партии), и сотрудники органов госбезопасности продолжают жить в своих комфортабельных квартирах, делясь воспоминаниями и попивая виски, и не скрывают удовольствия от того, что им удалось уцелеть, да и еще и в таких удачных обстоятельствах. Власть может выпроводить на пенсию жертв режима, если они подадут соответствующее заявление, но она никогда не отказывалась от обязательств перед верными слугами своих предшественников.
Все это не имеет никакого отношения к справедливости и правосудию. Это экстремальная форма политической целесообразности: говорить одно, а делать другое, пощадить палачей прошлого, а их жертв обречь на вечное прозябание в состоянии правовой неопределенности, только бы не прикладывать усилий, пусть даже они помогли бы избежать дальнейшего насилия. Альтернативная повестка была бы сопряжена с огромными затратами. Нынешний экономический и политический кризис и без того достаточно глубок. Не стоит забывать и о том, что перед нами общество, которое слишком часто на протяжении своей истории переживало раскол, общество, в котором у юридических расследований весьма подпорченная репутация. Раскапывая имена, заново вскрывая старые конфликты, встаешь на опасную дорожку. Проблема заключается в том, что противоположный выбор – это путь к отречению, очередному молчанию, новой волне страха. Судебные процессы и приговоры – дело каверзное, особенно если они вершатся спустя полвека после вынесенных на рассмотрение событий. Но идентификация конкретных преступников, нескольких морально запятнанных стариков, может быть не единственной их целью. Тут важно обозначить правовые рамки, важна надежда, особенно – в первую очередь – если она зарождается в недрах самого общества. Отказ исследовать возможности примирения и, более того, взглянуть без цинизма на коллективное прошлое, страх того, что гнев и злость не поддаются контролю, отрицание возможности обновления и возрождения, зачатки которых может нести в себе само общество, – все это жесты отчаяния, капитуляции перед лицом идеи, что люди, отмеченные насилием, обречены вечно воспроизводить его.
Образование – еще одна дорога, по которой можно выйти из прошлого. Некоторые школьники, с которыми я беседовала, говорили о своем желании построить будущее, в котором не повторится насилие, омрачившее историю России, хотя их представления о том, как именно этого достичь, были довольно расплывчатыми. Но их открытость, энтузиазм, ощущение ответственности уже сами по себе являются победой – для их учителей, для их семей и для них самих. Пока еще ни одному из них не гарантирована благополучная жизнь. Никакие судебные расследования преступлений прошлого не смогут обеспечить их будущее, если продолжится обрушение экономики, если еще крепче закрутят гайки цензуры, если не прекратится ожесточенная межэтническая конкуренция за ресурсы. Но первым шагом должно стать желание узнать правду. Культуру, делающую возможным насилие и злоупотребления, не отмоешь наплывом долларов. Коррупцию не разрушить втихомолку.
Артур Клейнман, психиатр и антрополог, проживший несколько лет в Китае, описывает ловушки, которые скрыты в разнообразных межкультурных предположениях и гипотезах. “В силу того, что культурные миры, в которые живут люди, столь разительно отличаются друг от друга, – пишет Клейнман, – для передачи заложенного эмоционального смысла требуется гораздо больше, чем просто поиск смысловых эквивалентов. Описание того, что в другом обществе значит горевать или предаваться меланхолии, прямиком приводит нас к анализу различных способов человеческого бытования в совершенно отличных друг от друга мирах”[1015]. В Советской России сама проблема “бытования человека” (being a person) дополнительно осложнялась большевицкой революцией, коммунистическим режимом, научным атеизмом, социальной революцией, включавшей массовую урбанизацию, а также огромными человеческими потерями, сопровождавшими столетия войн и политических потрясений. До того как я взяла интервью у пожилых людей, руководителей похоронных бюро, монахинь и священников, медсестер, работающих в отделениях геронтологии, и социальных работников, я могла бы предположить, что советская культурная политика по большей части была успешной, по крайней мере, если рассматривать ее с точки зрения решения поставленных ею задач. Согласно множеству вторичных источников, к концу 1960-х годов ей удалось разрушить прежнюю традицию и навязать обществу новый свод истин и обрядов, которые касались в том числе смерти, этого последнего и самого неприступного бастиона ритуалов[1016].
Тем не менее я начала свою работу, испытывая некоторые сомнения на этот счет, и все, что мне удалось обнаружить в ходе нее, лишь усугубило мой скептицизм. Я вообще стала осмотрительнее и осторожнее. Из соцопросов и статистических данных многого не выжмешь, особенно в условиях политической цензуры, тем более, что из всех человеческих переживаний смерть – дело настолько личное и скрытое от чужих глаз, что лишь самому одаренному исследователю в области общественных наук под силу проникнуть в суть осмысления смерти конкретным человеком. После того как этнограф Сергей Алексеев закончил рассказывать мне о своей работе на Бутовском расстрельном полигоне, он заговорил о смерти. “Пойдемте, я покажу вам, что у меня тут есть”, – сказал он, ведя меня в темное хранилище мимо ящиков, заполненных черепами. Он вручил мне фигурку мужчины и женщины в запряженной лошадьми повозке – “тройке”, грубо слепленную из глины и размалеванную яркими красками. “Это смерть, – заявил он. – Несколько лет назад ее для меня сделала одна пожилая дама. Смерть как повозка, увозящая душу прочь. Видите этих лошадей? А вот ангел-хранитель. Вот во что она верит, вот что она видит. Но для того, чтобы для вас сделали такую фигурку, придется провести на месте несколько недель. Нужно жить рядом с ними”. Это верно. Но подозреваю, что даже тогда ответы будут зависеть от того, кто вы такой и в какой момент задаете свои вопросы.
Большая часть личных картин-воспоминаний о смерти, которыми со мной поделились респонденты (а речь идет об обществе, которое по-прежнему довольно жестко проводит разделение полов), всплыла во время разговоров на кухне, в часы, проведенные за лепкой пирожков, в играх с детьми, за чаем, когда мы засиживались допоздна, или на даче, где мы боролись с комарами и наблюдали, как сквозь бесконечные летние сумерки проступает рассвет – да так, что дух захватывает. Присутствующий при этом мужчина может воспринимать эти разговоры совсем иначе, привычно уставившись в экран телевизора, где идет трансляция хоккейного матча, или выпив несколько бутылок пива и бутылку терпкого армянского коньяка с крышечкой из металлической фольги. В таких местах после всех этих совместно проведенных часов, когда вы уже никакой не исследователь, а ваш собеседник перестает быть “респондентом”, вы узнаете, что в посткоммунистической России смерть по-прежнему представляется птицей, погасшей звездой, полетом крылатой и беззащитной души, подобной душе новорожденного ребенка, ударом косы в руках судьбы. На лодке или, может быть, в повозке, запряженной мчащимися лошадьми, душе предстоит преодолеть моря и сумрачные реки, а на той стороне – здесь в рассказах уже нет вариаций – ее ожидает тот свет.
На каком-то этапе разговор заходит о мертвых. Это неподходящий момент для того, чтобы задавать дополнительные вопросы или просить о разъяснениях. Эти трепещущие, пульсирующие образы исполнены нежности и хрупкости. Есть груз, вес которого они не выдержат. “Я чувствую, что бабушка всегда здесь. Но особенно – не смейтесь, мы все знаем, что вас интересует, – если я прихожу на кладбище”. “Да, отец умер. Но с тех пор я чувствую себя сильнее. А все потому, что он сейчас там молится за меня. Я знаю, что все именно так и есть. Я за него молюсь на этом свете, а он молится за меня на том. Может, ужасно так говорить, но на самом деле я чувствую себя сейчас ближе к нему, чем тогда, когда он был жив”. “Я знала, что отец наблюдает за мной. Он был там, за дверью, и это было довольно неприятное чувство. Тогда-то я убедилась, что он мертв. Что его убили. А не что он где-то там далеко, на севере”. “Я знаю, что это странно, но я и правда чувствовала, что она нас покинула на третий день. Вот она еще была здесь – даже собака, казалось, ее ищет, а потому она исчезла”[1017].
Те, кто описывал мне эти переживания, при других обстоятельствах провалили бы экзамен об отношении к смерти в России XIX века или о тонкостях и нюансах православной теологии. И до 1917 года религиозные практики претерпевали изменения, и каждое новое поколение вкладывало свой смысл в слова молитв. Семь десятилетий жизни в городе внутри светской культуры даже более эффективно, чем семь десятилетий советской власти, изменили то, как люди помнили и отмечали смерть. Вера сохраняется, особенно среди неверующих, на уровне метафор, в тех образах, к которым мы прибегаем, чтобы утешить самих себя в момент уныния и тоски, или для того, чтобы каким-то образом представить процесс, в физическую реальность которого лучше не всматриваться ни одному переживающему горе человеку. Нет никаких сомнений, что за семьдесят лет коммунистического правления идеология добавила оттенки неверия и отрицания. Но и ей не удалось уничтожить базовые, фундаментальные метафоры.
Нам все еще не так-то легко детализировать, что именно мы можем вычитать из всего этого. Как спрашивал Жак Менье: “Возможно ли, начав со свалки, реконструировать правила дорожного движения?”[1018] Отвечая на этот вопрос, следует заметить, что для меня абсолютно очевидно, что то, как мертвые остаются рядом с живыми в качестве источника утешения, то, каким образом должны покинуть этот мир их души, и природа того путешествия, которое в конце концов ожидает каждого – через Страшный суд, рай и ад, – все это формирует морально-нравственный ландшафт, индивидуальные представления о собственном “я”. Это не исчерпывающий ответ, но, оставив все эти вопросы без внимания, мы никогда не поймем, в чем другая культура видит ценность и смысл жизни и какого рода боль в другой ментальной вселенной вызывают безымянная могила, перспектива смерти в бою или обнаруженный во рву пепел из крематория.
Один из ведущих исследователей Всероссийского центра изучения общественного мнения в Москве Алексей Левинсон признался мне: “Сюда приезжает масса иностранцев, которые задают дурацкие вопросы. Вы отличаетесь от них тем, что задаете дурацкие вопросы, на которые мы не можем ответить”[1019]. В другой раз он выразил свой скепсис иначе: “Думаю, что вы обнаружите просто пустоту”. Его замечания были основаны на чувстве неловкости, на ощущении, которое с Левинсоном разделяют другие российские интеллектуалы, что их культура утратила умение даровать человеку смерть, исполненную достоинства. Ностальгия и неловкость – трудные, неудобные эмоции, а расспросы о горе в академическом контексте легко могут спровоцировать оба этих чувства. Высшее образование и грамотность в более широком смысле сыграли свою роль в том, что дороги, ведущие в рай и ад, оказались закрыты для многих советских людей. И тем не менее, несмотря на то что советские граждане на протяжении десятилетий твердили в соцопросах и анкетах, что не верят в Бога, их дети по-прежнему приходят на могилы, чтобы поговорить с умершими. Люди из самых разных социальных слоев садятся в переполненные трамваи с ветками вечнозеленых растений и кульками с едой на Пасху и в родительский день. Они почти верят – или просто хотят надеяться, – что их услышат. Есть излюбленные для подобных посещений кладбища, где послания мертвым пишут на памятниках, сочетая, как делали когда-то их предки, плохо совместимые друг с другом религиозные фантазии: веру в приведения, в древних духов, в чудодейственную силу могил и в освященную землю с могилы. Одно из посланий, подписанное просто – “Владимир”, обращено к Богу: “Господи Боже, пусть мои мечты сбудутся!”[1020]
Похоронные практики, как и прежде, отражают коллективизм российской и советской жизни. Британские покойники зачастую совершают свое последнее путешествие на кладбище или в крематорий в одиночестве, в отдельном автомобиле для погребальных услуг, за которым по пригородным скоростным шоссе следуют в иерархическом порядке родственники или друзья покойного в своих лимузинах и частных автомобилях. Однако на советских и постсоветских похоронах скорбящие собраны в один довольно потрепанный автобус. В центре его размещается гроб, а вокруг сидят все те, кто пришел почтить память покойного, некоторые курят, некоторые делано подчиняются запрету на курение. Родственники, друзья, коллеги, собранные в одном пространстве автобуса “для ритуальных услуг”, ведут вполне будничные разговоры. Тело покойного некоторым образом вписано во все происходящее. Собственные похороны до сих пор остаются событием, которое люди планируют заранее и на которое они “не могут не прийти”. Важно соблюсти старые советские приличия и правила. Социальный работник, ухаживающий за пожилыми людьми, объяснила мне: “Они все еще откладывают для своих похорон специальную одежду и очень ею гордятся. Говорят: «Проследите, чтобы меня похоронили вот в этом». Они все подготавливают: обувь, новую рубашку, ни разу не надетый костюм. Некоторым трудно наскрести на это денег, но я знаю, что это для них очень важно. Я должна убедиться, что родственники – если они еще есть – знают об этих приготовлениях, чтобы не было никаких ошибок”[1021].
Если говорить о более мрачном наследии советской власти с точки зрения ритуала, то больше всего бросается в глаза общее оскудение всего, что связано со смертью. Огромные кладбища выглядят безликими, крематории – мрачными, а язык и музыка, которые используются в погребальных церемониях, кажутся постсоветским слушателям банальными. Но самое грустное впечатление производит постсоветское обнищание российских граждан. Неподъемные затраты на похороны вызывают у необеспеченных горожан огромную тревогу. Когда в собственной квартире на пятнадцатом этаже умирает бабушка, первой проблемой становится перевезти ее тело в морг. Водители погребальных автобусов требуют больших взяток, и их приезда приходится ждать по несколько дней – по двадцать четыре, по тридцать шесть часов, – а иногда они вообще не появляются. В 1997 году в связи с этим произошел небольшой скандал[1022].
Мой приятель Дима работает среди сваленных в беспорядке образцов гробов и гипсовых ангелов в конторе рядом с главным входом на Ваганьковское кладбище, самое крупное кладбища в центре Москвы. Эту работу ему предложили на бирже труда, но он считает, что она ему вполне подходит. Помимо всего прочего, к нему приходит масса иностранцев, в основном журналистов. Они всегда расспрашивают его о мафиозных похоронах – пышных и вульгарных, которые стоят столько, что можно “сделать что угодно. Что угодно”. Я купила выпускаемый им глянцевый журнал с утешительными статьями о бальзамировании и образцом договора на оказание ритуальных услуг, который заверяет всякого подписавшего его в том, что ему будут оказаны услуги высочайшего качества. Специально для тех, кого волнует соблюдение этикета, журнал содержит объемные разделы с информацией о ритуальном угощении, рекламу украшения столов и советы о том, как изящно и со вкусом сформулировать эпитафию[1023].
Мы посмеялись над причудами новых богатых, но Диму удивило, что я спросила его о других посетителях кладбища. Вся эта тема вызывает некоторое смущение: есть что-то неправильное в мире, в котором то, как вы обращаетесь с мертвым телом, зависит от состояния ваших финансов. Однако, в конце концов, он достал для меня прейскурант. “Бедные считают каждый рубль”, – сказал он. В 1997 году венок из искусственных цветов стоил 450 тысяч рублей (а из настоящих – всего 250 тысяч). Автобус можно было заказать за 625 тысяч. Возможно, были еще и дополнительные траты, но базовые издержки обойти невозможно: 110 тысяч стоит подпись на документах, 450 тысяч – подготовка тела покойного, да и самый дешевый гроб обойдется никак не меньше пары сотен тысяч рублей. В среднем стоимость похорон редко опускается ниже 2,5 миллиона рублей. Кажется, что это целое состояние. Конечно, инфляция неизменно добавляет к сумме бессмысленные нули. Но только если ваша пенсия составляет полмиллиона рублей в месяц, нули эти совсем не бессмысленны; что уж говорить о ситуации, в которой человек по полгода не получает причитающуюся ему зарплату.
Советская пропаганда была наиболее эффективна, когда ей удавалось вписаться в старые паттерны веры. С точки зрения понимания природы смерти наиболее существенными здесь были верования, касавшиеся искупления, мученичества, греха и наказания. Даже до большевицкой революции герои нового строя умирали смертью мучеников во имя общего дела. Обессмерченное, забальзамированное тело Ленина вполне воплощало собой это жертвоприношение, а также земную святость и новообретенное всемогущество науки. Мужчины и женщины, отдавшие свои жизни в боях за советскую власть, эдакая современная версия “хороших”, “чистых” покойников, тоже были своего рода мучениками, и их память стала такой же священной, как память православных великомучеников. И напротив, козлы отпущения, предатели, враги народа не могли рассчитывать на свои несколько аршинов освещенной кладбищенской земли. Это ощущение иерархии не исчезло и по сей день, и для людей имеет значение, гниет ли тело в болоте или под позолоченной оградой и мраморной звездой.
Иерархия не единственный аспект традиции, по которому время от времени тоскуют сегодняшние россияне. Легко забыть жестокость некоторых прежних традиций и практик. Большевики были правы, бросая вызов обскурантизму в церкви, угнетению женщин и фатализму – безропотному приятию нищеты, болезней, гротескного материального неравенства. Там, где и сегодня сохраняется подобное мышление, нередко упускается из виду базовый критерий человечности в отношении слабых. Ядро этой проблемы заключается в конфронтации между религией (иерархическим, упрямым, прекрасным православным христианством) и наукой, “прогрессом”.
Лучше всего исследовать последствия этих родственных предрассудков непосредственно в мире медицины. Например, хосписное движение в России появилось сравнительно недавно. В советские времена онкологические пациенты редко получали обезболивание, и если даже после радикального хирургического вмешательства медицина оказывалась бессильна вылечить их, они просто отправлялись умирать домой. Люди до сих пор верят, что рак, как и любая другая болезнь, – это кара божья, что несчастье заразно и что любого вида боль несет в себе некоторое сообщение, а потому ее нужно сознательно стойко терпеть[1024]. Когда я спросила психолога, работающего с умирающими, о том, получал ли ее собственный отец обезболивание в последние дни, она ответила: “О нет, он бы этого не хотел. Никогда не нужно вмешиваться в эти процессы, чтобы дух сам нашел способ возжелать смерти”[1025]. Бытуют страхи, что у умирающих возникнет наркотическая зависимость – “никогда не знаешь, чем все это обернется”, – и целый ворох предрассудков оказывается окутан толстым покровом неодобрения. Обезболивающее, дескать, не стоит своих денег. У нас столько других проблем. (“Это вам не Англия!”) Когда я сообщила своей коллеге с кандидатской степенью о том, что собираюсь посетить московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом, оказывающий помощь ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом, она заявила, что мне придется идти туда одной: “Если вы туда пойдете, то идите сами. Ведь непонятно, как он передается, да? Неизвестно, как им заражаются, ведь так? Вам правда так необходимо туда идти?”
Чтобы обосновать некоторые любопытные представления об отчаянии, в ход пускается исковерканная версия религии. Российские психиатрические больницы делают все возможное, чтобы в условиях ограниченного финансирования оказывать медицинскую помощь людям в острой стадии заболевания. Помимо этого, они дают кров некоторым пожилым людям с менее серьезными симптомами, оставшимся без попечения семьи и не способным жить самостоятельно из-за замутненного сознания, старческой дряхлости и слабоумия, а также депрессии. В обществе, которое воспринимает подобного рода нарушения здоровья как признак слабости или даже дурного характера, плохих генов, много грешившей души, не должно вызывать изумление, что персонал подобных учреждений стремится приставить к работе тех пациентов, кто физически способен трудиться.
Одна из женщин, с которой мне удалось провести интервью, только что продемонстрировала мне свою гордость и отраду – вымытые туалеты на четвертом этаже, сияющие чистотой, как в “Макдоналдсе”. Затем мы присели, чтобы поговорить. Она хотела объяснить мне, как скучает по тем, кто погиб рядом с ней на войне, по брату, по друзьям – по целому исчезнувшему миру. Психиатр, который настоял на том, чтобы присутствовать при нашей беседе, начал теребить свой галстук. Он все пытался поймать мой заговорщицкий взгляд, которым, как он ожидает, в таких случаях приято обмениваться тем, кому, как нам с ним, повезло получить высшее образование. Пройдет еще несколько минут, и он станет единственным человеком, который после двух лет более или менее профессионально ровного поведения выведет меня из себя. Его пациентка говорила: “Да, я скучаю по ним, я правда думаю о них всех. Наверное, из-за того, что мне их не хватает, я впадаю в тоску”. Врач прервал ее: “Ни в какую тоску вы не впадаете, – заявил он твердо. – Ни в какую, поняли? Помните, уныние – смертный грех. Это и в Библии сказано”[1026].
Поскольку смерть непостижима, желание найти ей объяснение, понять ее через призму нашего собственного языка практически непреодолимо. Я рассматривала смерти чужого народа, русских, иностранцев сквозь оптические линзы, сделанные в Англии, произведенные в западном мире и обращенные к моей культуре. Когда я вернулась в Англию, сложность отчасти заключалась в том, чтобы перевести терминологию, или – в русле работы Артура Клейнмана – в том, чтобы передать на английском языке идеи о смерти и идентичности, о собственном “я”, которые я усвоила и поняла на русском.
Как бы ни было трудно возвращаться домой, сами по себе путешествия выматывают. В ходе этого длинного исследования российской истории я часто испытывала искушение просто закрыть окно, чтобы через него не проступали образы и картины, забаррикадировать дверь и предаться грезам в самом центре этого континента о засушливых степях, скалах и холмах, о пейзаже под дождем. Стремление убежать приводит любого, кто слишком долго думает о смерти, к желанию покончить с этим, привести историю к завершению. С мертвыми, особенно если речь идет о жертвах государственного насилия, легче встречаться, если они превращаются в статистику. Они пробуждают еще более невыносимые чувства, если оказываются мучениками, отлетевшими в мир иной, душами, которые с той стороны молятся о мире для своих живущих детей. В любом случае, что бы ни произошло, их больше нет, они ушли. Живым остается обмениваться воспоминаниями о них. Как мы решим распорядиться этими воспоминаниями – это уже наше дело. Похороните их, сожгите их, придумайте истории в их честь, но не стоит проводить слишком много времени в компании реальных жизней, которые трагически оборвались.
Этого процесса забвения невозможно избежать. Опасность заключается в том, что он может начаться слишком скоро. Есть все причины постараться избежать советской ошибки и не обращаться с мертвыми как с инструментами, “репрессированными”, “павшими”, цифрами, которые слишком легко переврать, передернуть и утаить. Гораздо больнее помнить каждого из них по имени, но в реальности, конечно, бесполезно даже пытаться. Однако мысль о том, что жизни могут считаться человеческими издержками, кадровыми потерями, остается омерзительной. Возможно, третье или четвертое поколение и будет к ним относиться именно так, но свидетельства уцелевших и фотографии, которые они прибивают и приклеивают ко всем этим деревянным крестам, настойчиво требуют сохранения и другого взгляда.
Отнестись с пониманием, примириться с мертвыми – достаточно тяжелая задача, но не менее тяжелая задача состоит в том, чтобы не поддаться многочисленными искушениям и не выстроить себе убежища внутри их истории. Пожалуй, есть тысячи способов сделать это, в конце концов, это дело вашего вкуса, но я упомяну лишь об одном. Самое ясное мое воспоминание об этом переносит меня обратно в Медвежьегорск. Это была вторая ночь, которую мы провели в этом городе; место действия – унылый номер в той самой разваливающейся на глазах промозглой гостинице. Нам нужно было сесть на поезд Мурманск – Санкт-Петербург, который проходил через город в два часа ночи, а до этого – как-то убить несколько часов. Пока наши спутники постарше спали или складывали вещи, мы собрались группой и стали болтать о том о сем. Видок у нас всех был еще тот. В гостинице не было отопления, и многие из нас спали или пытались это делать в той одежде, которая была на нас (свою шерстяную шапку я снимала днем и надевала ночью). Обстановка тоже не отличалась особенной роскошью. Повсюду и на полу, и на стульях громоздились стопки бумаг, так что мы расселись на сдвинутых кроватях. Наши пепельницы дымились на пачках рекламных листовок, чашки с давно остывшим чаем и растворимым кофе опасно балансировали на крышке пустого чемодана, а в складках подушки свернулась апельсиновая кожура по соседству с парой бесхозных носков.
Но когда я думаю об этом вечере и о множестве других дней и вечеров, проведенных в тесных кабинетах “Мемориала” и других подобных ему организаций – всегда среди вороха бумаг, пытаясь абстрагироваться от чужих громких разговоров, за чаем, который не устают подливать мои гостеприимные собеседники, – я вспоминаю не дискомфорт, не неудобства, а парадоксальное ощущение безопасности. Часть меня всегда будет считать эти места своего рода домом. Нетрудно понять почему. Отсутствие церемоний и неформальная атмосфера, открытость, человеческое тепло, общность целей и задач, даже ощущение себя внутри осажденной крепости – все это хорошо знакомо любому политическому активисту. А помимо этого, товарищество, дружеское плечо, оживленные беседы, юмор – все это немаловажно для того, кто столько рабочего времени проводит в окружении документов, имеющих отношение к мертвецам. Но у всего этого есть и более темная сторона. Когда вы становитесь частью этого сообщества, с вас негласно снимается бремя соучастия, пособничества тем убийцам и бюрократам, которых эти люди в своей деятельности пытаются разоблачить. Вы становитесь одним из “нас”. Но на терзающий человека вопрос: что бы я делал в тех обстоятельствах, хватило бы мне мужества, пошел бы я на сделку с совестью? – ответ приходит легко и непринужденно. Ночной кошмар хранит молчание. Вы вошли в эту драму, когда она уже подходила к концу. Вам не пришлось принимать никаких решений, вы ничем не рисковали, и вам достались лишь аплодисменты.
Эта иллюзия невероятно соблазнительна и столь же убийственна. Она создает мир фантазий, в котором этический выбор представляется делом нетрудным, в котором добро и зло названы по именам, в котором любой без лишних усилий может ощутить себя на “правильной” стороне. Но реальная жизнь никогда не похожа на эту конструкцию. Проблемы, стоявшие перед людьми, не были однозначными, даже жертвы Сталина придерживались самых разных взглядов на происходящее, выбор, который людям приходилось делать, редко оказывался ясным, понятным и постоянным. Поэтому соотносить эти неоднозначные, отдельно взятые дискуссии и страхи с простейшими вопросами из другого мира, превращать их в иконы свободы, демократии или прав человека в произвольной дефиниции – значит заниматься самым самодовольным из всех возможных видов морального туризма.
“Попросите их понять”, – как-то сказала мне Валерия Оттовна. Я пришла к выводу, что не могу предложить своему читателю верной формулы. Выжившие свидетели и жертвы российских исторических катастроф, как я, вероятно, уже не раз отмечала выше, оказались располагающими к себе, щедрыми, умными, непредсказуемыми, незаурядными, а если сказать еще короче – живыми людьми. Но я-то отправлялась в путь ради того, чтобы понять мертвых. Их историю не прочитать ради собственного спасения и искупления грехов. Это не наши мученики. Их невозможно использовать для утверждения собственной триумфальной идеологической позиции. В этой истории чужого страдания, храбрости, твердой воли, стойкости и многократного разочарования нет ничего, что могло бы служить аффирмацией системы, которую эти люди никогда не знали. Даже знакомое утешение аналогичной историей о жертвах насилия им недоступно, потому что сами россияне его отвергают. Вместо того чтобы превратить выводы, к которым я пришла, в некое послание тому миру, который я оставила, в очередную иллюстрацию в продолжающейся дискуссии, снабдить их перекрестными ссылками и сдать в архив, как имена умерших и цифры, я признаю, что я просто слушаю, вслушиваюсь, жду слов, которым не нужен перевод и которые можно расслышать только в тишине.
Эта книга переполнена голосами. Каждый раз, когда мне нужно было вспомнить что-то конкретное, я клала рядом распечатанную расшифровку интервью и включала диктофон. Звуки мгновенно возвращали мне все то, что я забыла и хотела оживить, причем не только сама речь, но и определенные интонации и паузы, звяканье чайных чашек, дребезжание трамвая на улице, звонок телефона в соседней комнате, птицы – зимой вороны, а в июне стрижи – за окном. Я пишу эти строки в полном сознании присутствия и другого рода голосов, тех, из которых состоит моя собственная реакция на смерть. Один из них – сэр Томас Браун, а помимо него, эти покинутые, заброшенные – заимствуя чужую метафору – обитатели Центральной Европы – Райнер Мария Рильке и Вальтер Беньямин. Но как бы долго я ни вслушивалась (я вполне осознаю, что эта мысль слишком очевидна, чтобы повторять ее здесь), те голоса, которые мне действительно нужно услышать, никогда не заговорят. Человеческие существа обладают достаточной изобретательностью и находчивостью, и у каждой культуры есть в арсенале заманчивые способы вообразить мир, в котором мертвые на самом деле все еще живы. Но вне зависимости от того, решаем ли мы поверить в это или нет, эти, другие, миры не принадлежат истории. Они оставляют меня наедине с молчанием. Я не в силах прояснить его и не думаю, что вернулась домой.
Примечания и источники
Интервью
Работая над проектом, я проводила интервью трех видов: формальные индивидуальные, формальные групповые и более спонтанные, незапланированные беседы, не все из которых я могла записать на диктофон. Я планировала индивидуальные и групповые интервью таким образом, чтобы в них приняли участие респонденты из четырех разных категорий в четырех разных городах. Вот эти четыре категории: уцелевшие жертвы главных катастроф советской истории; дети выживших; медицинские работники и другие специалисты, занимавшиеся в описываемые мною периоды лечением и заботой об умирающих и осиротевших (включая врачей, медицинских сестер, священников и партийных активистов); медицинские работники и другие специалисты, ответственные за уход за выжившими в наши дни. Интервью прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве и одном провинциальном городе (на самом деле, в силу того что найти людей с нужной мне биографией и опытом оказалось нелегко, я разговаривала с ветеранами из трех провинциальных городов и двух деревень).
Мой график предполагал проведение пяти индивидуальных интервью и одной групповой встречи в каждой категории в каждом городе (то есть общее число респондентов составило двадцать пять человек в каждой категории). Изначально я находила респондентов при помощи общества “Мемориал”, Общества ветеранов Великой Отечественной войны, ВЦИОМа (Всероссийского центра изучения общественного мнения), научно-просветительного центра и фонда “Холокост” и других религиозных, медицинских и общественных организаций в каждом выбранном городе.
С помощью моего научного ассистента Елены Строгановой и при содействии более сотни респондентов мне удалось уложиться в график. Но к нему добавилось несколько незапланированных интервью. Я забыла включить в первоначальную структуру проекта свидетельства людей, у которых нет лично пережитого опыта столкновения с насильственной смертью и семьи которых тоже не помнят ничего подобного, так что эти интервью были специально добавлены к списку. Но большая часть дополнительных интервью не была запланирована – они появились в результате разговоров в поездах, перешептываний в коридорах архивов и даже – как это получилось с одним ветераном-могильщиком – предложения подбросить меня до дома во время проливного дождя. Я не вела точный учет всем этим беседам, но обнаружила у себя записи более 150 голосов (аудио- и видеозаписи или письменные заметки с описанием). Хотя, начав работу над этой книгой, я решила сосредоточиться лишь на небольшой части этих свидетельств, ее язык и общая интонация несут на себе влияние каждого из них. За редким исключением (в случае с известными людьми или теми, чьи биографии уже опубликованы) я изменила имена всех моих респондентов, чтобы соблюсти их право на анонимность и частную жизнь.
Библиография
Архивы
Архив общества “Мемориал”
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
РГАКФД – Российский государственный архив кинофотодокументов
РГАЭ – Российский государственный архив экономики
РГИА – Российский государственный исторический архив
РЦХИДНИ – Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории
Тенишевский архив в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург)
ЦАОДМ – Центральный архив общественных движений Москвы
ЦГА СПб – Центральный государственный архив Санкт-Петербурга
ЦГАКФФД СПб – Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга
ЦГАЛИ СПб – Центральный государственный архив литературы и искусства
ЦГАМО – Центральный государственный архив Московской области
Газеты, журналы и другие периодические издания
Russian Review
Soviet Studies
“Аргументы и факты”
“Безбожник у станка”
“Биржевые ведомости”
“Большевик”
“Вестник статистики”
“Вопросы истории”
“Живая старина”
“Знамя”
“Итоги”
“Коммунальный работник”
“Костромской листок”
“Новый мир”
“Огонек”
“Олонецкая неделя”
“Оренбургская газета”
“Отечественная история”
“Оттуда”
“План”
“Посев”
“Петроградская правда”
“Правда”
“Психиатрическая газета”
“Рабочая жизнь”
“Российский этнограф”
Самиздат
“Санкт-Петербургская газета”
“Слово”
“Социальная гигиена”
“Социологические исследования”
“Свободная мысль”
“Труд”
“Энографическое обозрение” (позднее “Советская этнография”)
Опубликованные книги и научные статьи
A Radical Worker in Tsarist Russia: The Autobiography of Semen Ivanovich Kanatchikov / Trans. and ed. by R. Zelnik. Stanford: Stanford University Press, 1986.
Adler N. Victims of the Soviet Terror: The Story of the Memorial Movement. Westport: Praeger, 1993.
Agursky M. The Third Rome: National Bolshevism in the USSR. Bouder, Cal.: Westview Press, 1987.
Alexiou M. The Ritual Lament in Greek Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
Antonio Gramsci: Selections from the Prison Notebooks / Ed. by Q. Hoare and G.N. Smith. London: Lawrence and Whishart, 1971.
Ariès P. L’Homme devant la mort. Paris: Le Seuil, 1977.
Ascherson N. Black Sea: The Birthplace of Civilization and Barbarism. London: Vintage, 1995.
Bacon E. The Gulag at War: Stalin’s Forced Labor System in the Light of the Archives. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1994.
Baddeley A. The Psychology of Memory. New York: Basic, 1976.
Baddeley A. Your Memory: A User’s Guide. Buffalo; New York: Firefly Books, 2004.
Ball A. Russia’s Last Capitalists: The Nepmen, 1921–1929. Berkley; Los Angeles; London: University of California Press, 1987.
Barbarossa: The Axis and the Allies / Ed. by J. Erickson and D. Dilks. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994.
Barber P. Vampires, Burial and Death: Folklore and Reality. New Haven; London: Yale University Press, 1988.
Barley N. Dancing on the Grave: Encounters with Death. London: Abacus, 1997.
Bastide R. “Mémoire collective et sociologie du bricolage” // L’Année sociologique. Vol. 21 (1970). P. 65–108.
Belliustin I. Description of the Parish Clergy in Rural Russia: The Memoir of a Nineteenth-Century Parish Priest, 1858, trans. with an interpretative essay by Gregory L. Freeze. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1985.
Benjamin W. Illuminations: Essays and Reflections. London: Jonathan Cape Ltd., 1970.
Berg G.P. van den. “The Soviet Union and the Death Penalty” // Soviet Studies. Vol. 25. № 2. April 1983. P. 154–174.
Bergman J. “The Image of Jesus Christ in the Russian Revolutionary Movement: The Case of Russian Marxism” // International Review of Social History. Vol. 35 (1990). P. 220–248.
Blum A. Naître, vivre et mourir en URSS, 1917–1991. Paris: Plon, 1994.
Bohdan V. Avoiding Extinction: Children of the Kulak. New York: Vantage Press, 1992.
Bonnell V. Roots of Rebellion: Workers’ Politics and Organization in St. Petersburg and Moscow, 1900–1914. Berkeley: University of California Press, 1983.
The Russian Worker: Life and Labor Under the Tsarist Regime / Ed. by V. Bonnell. Berkeley, Calif.; London: University of California Press, 1983.
Borodin N. One Man and His Time. London: Constable, 1955.
Bowker J. The Meanings of Death. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
Brooks J. When Russia Learned to Read: Literary and Popular Literature, 1861–1917. Princeton: Princeton University Press, 1985.
Buruma I. “The Joys and Perils of Victimhood” // New York Review of Books. Vol. 46. № 6. April 8 (1999). P. 4–9.
Bushnell J. Mutiny Amid Repression: Russian Soldiers in the Revolution of 1905–1906. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1985.
Chase W. Workers, Society and the Soviet State: Labor and Life in Moscow, 1918–1929. Urbana: University of Illinois, 1987.
Ciliga A. The Russian Enigma. London: George Routledge and Sons, 1940.
Cohen J.E. “Childhood mortality, family size and birth order in pre-industrial Europe” // Demography. Vol. 12. № 1. 1975. P. 35–55.
Cohen S. Bukharin and the Bolshevik Revolution: A Political Biography, 1888–1838. Oxford: Oxford University Press, 1980.
Colodzin B. How to Survive Trauma: A Program for War Veterans, & Survivors of Rape, Assault, Abuse or Environmental Disasters. New York: Pulse, Station Hill Press, 1993.
Colton T.J. Moscow: Governing the Socialist Metropolis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995.
Confronting the Holocaust: Impact of Elie Wiesel / Ed. by A. Rosenfeld and I. Greenberg. Indiana: Indiana University Press, 1978.
Connerton P. How Societies Remember (Themes in the Social Sciences). Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Conquest R. The Great Terror. Harmondsworth: Pelican, 1971.
Conquest R. Kolyma: The Arctic Death Camps. London; New York: Macmillan, 1978.
Conquest R. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-famine. Oxford: Oxford University Press, 1986.
Conybeare F.C. Russian Dissenters. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press 1921.
Crummey R.O. The Old Believers and the World of Anti-Christ: The Vyg Community and the Russian State. Madison: University of Wisconsin, 1970.
Cultures in Flux: Lower-Class Values, Practices, and Resistance in Late Imperial Russia / Ed. by S.P. Frank and M.D. Steinberg. Princeton: Princeton University Press, 1994.
Curtiss J.S. Church and State in Russia: The Last Years of the Empire, 1900–1917. New York: Columbia University Press, 1940.
Curtiss J.S. The Russian Church and the Soviet State, 1917–1950. Boston: Little, Brown, 1953.
Damascus St. John of. On the Divine Images: There Apologies Against Those Who Attack the Divine Images / Trans. by David Anderson. Crestwood; New York: St. Vladimir’s Seminary, 1980.
Danforth L.M. The Death Rituals of Rural Greece. Princeton: Princeton University Press, 1982.
Davies N. A Long Walk to Church: A Contemporary History Of Russian Orthodoxy. Boulder, Colo.: Westview Press, 1995.
Davies R.W. The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929–1930. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1980.
Davies R.W. Soviet History in the Gorbachev Revolution. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1989.
Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda, and Dissent, 1934–1941. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Day P.A. The Liturgical Dictionary of Eastern Christianity. Collegeville: Michael Glazier Books, 1993.
Death and the Regeneration of Life / Ed. by M. Bloch and J. Parry. Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
Dune E.M. Notes of a Red Guard / Trans. and ed. by D.P. Koenker and S.A. Smith. Urbana; Chicago: University of Illinois Press, 1993.
Dunham V.S. In Stalin’s Time: Middle-Class Values in Soviet Fiction. New York; London: Cambridge University Press, 1976.
Dunn S.P., Dunn E. The Peasants of Central Russia. New York; London; San Francisco; Chicago; Toronto: Holt. Rinehart and Winston, 1967.
Dyadkin I. Unnatural Deaths in the USSR, 1928–1954. New Brunswick: Transaction Publishers, 1983.
Eberstadt N. “Health and Mortality in Eastern Europe” // Communist Economies. Vol. 2. № 3 (1990). P. 349–365.
Edwards B., Sturgess W. QED How to be Happy. London: BBC Educational Developments, 1996.
Eksteins M. Rites of Spring: The Great War and the Birth of the Modern Age. Boston: Mariner Books, 1989.
Ellis J. The Russian Orthodox Church: A Contemporary History. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1986.
Ellman M., Maksudov S. “Soviet Deaths in the Great Patriotic War: A Note” // Europe-Asia Studies. Vol. 46. № 4 (1994). P. 671–680.
Engel B.A. Between the Fields and the City: Women, Work and Family in Russia, 1861–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Fedotov G. The Russian Religious Mind. Vol. I: Kievan Christianity: The Tenth to the Thirteenth Centuries. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1946.
Felman S., Laub D. Testimony: Cries of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. London: Routledge, 1992.
Figes O. A People’s Tragedy. London: Jonathan Cape, 1996.
Figes O. Peasant Russia: Civil War. Oxford: Oxford University Press, 1989.
Fireside H. Icon and Swastika: The Russian Orthodox Church Under the Nazi and Soviet Control. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1971.
Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia, 1919–1923: The operations of the American Relief Administration. New York: Macmillan, 1927.
Fitzpatrick S. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village After Collectivization. Oxford: Oxford University Press, 1994.
Fitzpatrick S. “The Impact of the Great Purges on Soviet Elites” // Stalinist Terror: New Perspectives / Ed. by J.A. Getty and R.T. Manning. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 247–260.
Fletcher W.C. The Russian Orthodox Church Underground, 1917–1970. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
Fletcher W.C. “The Soviet ‘Bible Belt’: World War II’s Effects on Religion” // The Impact of World War II on the Soviet Union / Ed. by S.J. Linz. Totowa, NJ.: Rowman & Allanheld,1985.
Forsyth J. A History of the People of Siberia, 1581–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
Freeze G. The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton: Princeton University Press, 1983.
Fresco N. “La Diaspora des cendres” // Nouvelle revue de psychoanalyse. Vol. 24 (1981). P. 206–220.
Frieden N.M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905. Princeton: Princeton University Press, 1981.
Friedlander S. When Memory Comes. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1979.
From Tsarism to New Economic Policy / Ed. by R.W. Davies. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1990.
Fussel P. The Great War and Modern Memory. Oxford: Oxford University Press, 1979.
Gatrell P. A Whole Empire Walking. Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press, 1999.
Geifman A. Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917. Princeton: Princeton University Press, 1993.
Geiger H.K. The Family in Soviet Russia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
Geldern J. von. Bolshevik Festivals, 1917–1920. Berkeley, Cali.; London: University of California Press, 1993.
Gerson L.D. The Secret Police in Lenin’s Russia. Philadelphia: Temple University Press, 1976.
Getty J.A. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
Getty J.A., Naumov O. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven; London: Yale University Press, 1999.
Gildea R. Barricades and Borders: Europe, 1800–1914. Oxford: Oxford University Press, 1987.
Goldberg A. Ilya Ehrenburg: Writing, Politics and the Art of Survival. New York; London: Littlehampton Book Services Ltd, 1984.
Goldman W.Z. Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917–1936. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Gorer G. Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain. New York: The Cresset Press, 1965.
Gorer G., Rickman J. The People of Great Russia a Psychological Study. London: W.W. Norton & Co Inc, 1949.
Graham L. Science in Russia and the Soviet Union: A Short History. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Gross J.T. Revolution from Abroad: The Soviet Conquest of Poland’s Western Ukraine and Western Belorussia. Princeton: Princeton University Press, 1988.
Harding N. Lenin’s Political Thought: Theory and Practice in the Democratic and Socialist Revolutions. Vol. 1. Houndmills: Macmillan Press, 1983.
Hochschild A. The Unquiet Ghost: Russians Remember Stalin. New York: A Mariner Book, 1994.
Hodgson K. Written with the Bayonet: Soviet Russian Poetry of World War Two. Liverpool: Liverpool University Press, 1996.
Holocaust Remembrance: The Shapes of Memory / Ed. by G. Hartman. Oxford: Oxford University Press, 1994.
Horowitz M.J. Stress Response Syndromes: PTSD, Grief, Adjustment, and Dissociative Disorders. New York, Toronto: Jason Aronson, 1976.
Huntington R., Metcalf P. Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.
International Yearbook of Oral History and Life Stories, Vol.1: Memory and Totalitarianism / Ed. by L. Passerini. Oxford: Oxford University Press, 1984.
Intimacy and Terror: Soviet Diaries of the 1930s / Ed. by V. Garros, N. Korenevskaya, T. Lahusen. New York: The New Press, 1995.
Ivanits L.J. Russian Folk Belief. London; New York: Routledge, 1989.
Jarovsky D. Russian Psychology: A Critical History. Oxford: Oxford University Press, 1989.
Judge E.H. Easter in Kishinev: Anatomy of a Pogrom. New York; London: New York University Press, 1992.
Kharkhordin O. The Collective and the Individual in Russia: A Study of Practices. Berkeley; London: University of California Press, 1999.
Khubova D., Ivankiev A., Sharova T. “After Glasnost’: Oral History in the Soviet Union” // International Yearbook of Oral History and Life Stories. Vol. 1: Memory and Totalitarianism. Oxford: Oxford University Press, 1992.
Kingston-Mann E., Mixter T. Peasant Economy, Culture and Politics of European Russia, 1800–1921. Princeton: Princeton University Press, 1991.
Kleinman A. Social Origins of Distress and Disease: Depression, Neurasthenia and Pain in Modern China. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986.
Konstantinov D. Stations of the Cross: The Russian Orthodox Church: 1970–1980. London, Ontario: Zaria, 1984.
Kotkin S. “Terror, Rehabilitation and Historical Memory: An Interview with Dmitrii Iurasov” // Russian Review. Vol. 51. April 1992. P. 238–262.
Kligman G. The Wedding of the Dead: Ritual Poetics and Popular Culture in Transylvania. Berkeley: University of California Press, 1988.
Kozulin A. Psychology in Utopia: Toward a Social History of Soviet Psychology. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1984.
Kselman T. Death and the Afterlife in Modern France. Princeton: Princeton University Press, 1993.
Kuromiya H. Freedom and Terror in the Donbass: A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s–1990s. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Lane C. The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
Laub D., Auerhahn N. “Annihilation and Restoration: Post-Traumatic Memory as Pathway and Obstacle to Recovery” // International Review of Psycho-Analysis. Vol. 11 (1984). P. 327–344.
Lewytzkyj B. Politics and Society in Soviet Ukraine, 1953–1980. Downsview, Ontario: Canadian Institute of Ukrainian Studies: University of Toronto Press, 1984.
Litvinenko O., Riordan J. Memories of the Dispossessed: descendants of kulak families tell their stories. Nottingham: Bramcote Press, 1998.
Loftus E. Eyewitness Testimony. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1979.
Luxemburg R. The Russian Revolution. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961.
Luxemburg R. The Russian Revolution: Leninism or Marxism? Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961.
Mandelstam N. Hope Against Hope: A Memoir / Trans. by Max Haywardy. New York: Modern Library, 1970.
McNeal R.H. Stalin: Man and Ruler. Houndmills; Basingstoke; Hampshire: Macmillan in association with St. Antony’s College, Oxford, 1988.
Marsh R. History and Literature in Contemporary Russia. New York: New York University Press, 1995.
Masing-Delic I. Abolishing Death: A Salvation Myth of Russian Twentieth Century Literature. Stanford, Cali.: University of Stanford Press, 1992.
Medvedev R. Let History Judge: The Origins and Consequences of Stalinism, revised edition. New York: Columbia University Press, 1989.
Memory, History and Opposition Under State Socialism / Ed. by R.S. Watson. Santa Fe., California: School for Advanced Research Press, 1994.
Memory: History, Culture, and the Mind (Wolfson College Lectures) / Ed. by T. Butler. Oxford: Blackwell Pub, 1989.
Merl S. “Socio-economic Differentiation of the Peasantry” // From Tsarism to New Economic Policy / Ed. by R.W. Davies. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1990.
Merridale C. “The Making of a Moderate Bolshevik: An Introduction to L.B. Kamenev’s Political Biography” // Soviet History, 1917–1953: Essays in Honour of R. W. Davies / Ed. by J. Cooper, M. Perrie and E.A. Rees. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 1995.
Merridale C. “The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule” // Historical Journal. Vol. 39. № 1 (1996). P. 225–240.
Merridale C. “The Collective Mind: Trauma and Shell-shock in Twentieth Century Russia” // Journal of Contemporary History. Vol. 35 (№ 1). January 2000. P. 39–55.
Miller D.Y. Folklore for Stalin: Russian Folklore and Pseudo-folklore of the Stalin Era. Armonk: M.E. Sharpe, 1991.
Mitscherlich A., Mitscherlich M. The Inability to Mourn: Principles of Collective Behavior. New York: Grove Press, 1975.
Moskoff W. The Bread of Affliction: The Food Supply in the USSR During World War II. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Mosse G. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. Oxford: Oxford University Press, 1990.
Muller K.-J. “The Brutalization of Warfare: Nazi Crimes and the Wehrmacht” // Barbarossa: The Axis and the Allies / Ed. by J. Erickson and D. Dilks. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993.
Neuberger J. Hooliganism, Crime, Culture, and Power in St. Petersburg, 1900–1914. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1993.
Oinas F.J. Essays on Russian Folklore and Mythology. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1984.
Oral History Project of the Commission on the Ukrainian Famine / Ed. by J.E. Mace and L. Heretz. Washington D.C.: U.S. G.P.O., 1990.
Overy R. Russia’s War: A History of the Soviet Effort: 1941–1945. London: Penguin Books, 1997.
Owen S. Remembrances: The Experience of Past in Classical Chinese Literature. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1986.
Passerini L. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experience of the Turin Working Class / Trans. by Robert Lumley and Jude Bloomfeld. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
Perestroika: The Historical Perspective / Ed. by C. Merridale and C. Ward. London; New York; Melbourne; Auckland: Edward Arnold, 1991.
Pipes R. The Russian Revolution, 1899–1919. New York: Vintage Books, 1991.
Pobedonostsev K. Reflections of a Russian Statesman / Trans. by Robert Crozier Long. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1965.
Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History / Ed. by J. Klier and S. Lambroza. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Porter C., Jones M. Moscow in World War II. London: Chatto & Windus, 1987.
Rapoport Y. The Doctor’s Plot. Stalin’s Last Crime / Trans. by N. Perova and R. Bobrova. Cambridge, Mass: Cambridge University Press, 1991.
Read C. From Tsar to Soviets: The Russian People and Their Revolution, 1917–1921. New York: Oxford University Press, 1996.
Reid A. Borderland: A Journey Through the History of Ukraine. London: Basic Books, 1997.
Religion and Modernization: Sociologists and Historians Debate the Secularization Thesis / Ed. by S. Bruce. Oxford: Clarendon Press, 1992.
Robbins R.G. Famine in Russia 1891–1892: The Imperial Government Responds To A Crisis. New York: Columbia University Press, 1975.
Roslof E. “The Heresy of Bolshevik Christianity: Orthodox Rejection of Religious Reform during NEP” // Slavic Review. Vol. 55. № 3 (Fall, 1996). P. 614–635.
Russian Economic Reform at Risk / Ed. by A. Aslund. London: Pinter, 1995.
Ryan W.F. The Bathhouse at Midnight: A Historical Survey of Magic and Divination Russia. University Park: Penn State University Press, 1999.
Sablinsky W. The Road to Bloody Sunday: Father Gapon and the St. Petersburg Massacre of 1905. Princeton: Princeton University Press, 1976.
Salisbury H.E. The 900 Days: The Siege of Leningrad. London: Harper & Row, 1969.
Sennet R. Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization. London: W.W. Norton and Company, 1994.
Seton-Watson H. The Decline of Imperial Russia 1855–1914. London: Methuen & Co, 1952.
Service R. Lenin: A Political Life. Vol. 1: The Strengths of Contradictions. Houndmills: Macmillan Press, 1985.
Service R. Lenin: A Political Life. Vol. 2: Worlds in Collision. Houndmills: Macmillan Press, 1991.
Service R. A History of Twentieth Century Russia. London: Allen Lane, 1997.
Shanin T. Peasants and Peasant Societies. Harmondsworth: Penguin, 1971.
Shapiro J. “The Russian Mortality Crisis and Its Causes” // Russian Economic Reform at Risk / Ed. by A. Aslund. London: Pinter, 1995.
Shentalinsky V. Arrested Voices: Resurrecting the Disappeared Writers of the Soviet Regime / Trans. by John Crowfoot. New York; London: Free Press, 1996.
Shevzov V. “Chapels and the Ecclesiastical World of the Pre-revolutionary Russian Peasants” // Slavic Review. Vol. 55. № 3 (Fall 1996); Tenishev Archive. 7/2/1444, I.
Shkolnikov V., Meslé F., Vallin J. “La crise sanitaire en Russie. I. Tendances récentes de l’espérance de vie et des causes de décès en Russie de 1970 à 1993” // Population. Vol. 50. № 4; DaVanzo J., Farnsworth G. “Russia’s Demographic ‘Crisis’”. RAND Conference Proceedings, n.d..
Skultans V. The Testimony of Lives: Narrative and Memory in Post-Soviet Latvia. London: Routledge, 1998.
Smith G.S. Songs to Seven Strings: Russian Guitar Poetry and Soviet “Mass Songs”. Bloomington: Indiana University Press, 1984.
Smith K. Remembering Stalin’s Victims: Popular Memory and the End of the USSR. Ithaca; New York; London: Cornell University Press, 1996.
Sorokin P. Leaves from a Russian Diary, and Thirty Years After. London: n.d., 1925.
Soviet History, 1917–1953: Essays in Honor of R.W. Davies / Ed. by J. Cooper, M. Perrie and E.A. Rees. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 1995.
Soviet History in the Yeltsin Era / Ed. by R.W. Davies. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1997.
Specter M. “Russian Demography: A Case for Dostoevsky” // International Heralds Tribune. 1997. June 9.
Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison / Ed. by I. Kershaw and M. Lewin. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
Stalinist Terror: New Perspectives / Ed. by J.A. Getty and R.T. Manning. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
“Statistique démographique et sociale (Russie-URSS). Politiques, administrateurs et société” // Cahiers du monde russe. [Russie, Empire russe, URSS, États indépendants]. 1997. Vol. 38. № 4.
Steinberg M.D. “Workers on the Cross: Religious Imagination in the Writings of Russian workers, 1910–1924” // Russian Review. Vol. 53. № 2 (April 1994).
Steinberg M.D. Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca: Cornell University Press, 2002.
Steinberg M.D., Khrustalev V.M. The Fall of the Romanovs: Political Dreams and Personal Struggles in a Time of Revolution. New Haven; London: Yale University Press, 1995.
Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press, 1989.
Stress Disorders Among Vietnam Victims: Theory, Research and Treatment / Ed. by C.R. Figley. London; New York: Routledge, 1973.
Summerfield D. “The Pscyhological Legacy of War and Atrocity: The Question of Long-Term and Transgenerational Effects and the Need for a Broad View” // Journal of Nervous and Mental Disease. 1996. Vol. 184. № 1. P. 376.
Summerfield D. “A Critique of Seven Assumptions Behind Psychological Trauma Programmes in War-Affected Areas” // Social Science and Medicine. Vol. 48 (1999).
The Collective Silence: German Identity and the Legacy of Shame / Ed. by B. Heimannsberg and C.J. Schmidt. San Francisco: Gestalt Press, Jossey-Bass Publishers, 1997.
The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945 / Ed. by R.W. Davies, M. Harrison, and S.G. Wheatcroft. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
The Foreign Office and the Famine: British Documents on Ukraine and the Great Famine of 1932–1933 / Ed. by M. Carynnyk, L. Luciuk and B.S. Kordan. Kingston, Ontario: Taylor & Francis, Ltd., 1988.
The Impact of World War II on the Soviet Union / Ed. by S.J. Linz. Totowa, NJ.: Rowman & Allanheld, 1985.
The Occult in Russian and Soviet Culture / Ed. by B.G. Rosenthal. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1997.
The Vietnam Veteran in Contemporary Society: Collected Materials Pertaining to the Young Veterans. Washington, D.C.: United States. Veterans Administration. Dept. of Medicine and Surgery, U.S. Government Printing Office, 1972.
The World of the Russian Peasant: Post-Emancipation Culture and Society Ed. by B. Eklof and S.P. Frank. London: Unwin Hyman, 1990.
Thomas K. Religion and the Decline of Magic. London: Weidenfeld and Nicholson, 1971.
Thompson P. The Voice of the Past: Oral History, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press, 1988.
Thurston R. “Fear and Belief in the USSR’s ‘Great Terror’: Response to Arrest, 1935–1939” // Slavic Review. 1986. Vol. 45. № 2.
Thurston R. “The Soviet Family during the Great Terror, 1935–1941” // Soviet Studies. 1991. Vol. 43. № 3. P. 553–574.
Tucker R.C. Stalin in Power: The Revolution from Above, 1924–1941. New York; London: W.W. Norton & Company, 1990.
Tucker R.C. “What Time is it in Russia’s History?” // Perestroika: The Historical Perspective / Ed. by C. Merridale and C. Ward. London; New York; Melbourne; Auckland: Edward Arnold, 1991.
Tucker R.C. The Lenin Anthology. New York: W. W. Norton & Company, 1975.
Tumarkin N. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983.
Tumarkin N. The Living And The Dead: The Rise And Fall Of The Cult Of World War II In Russia. New York: Basic Books, 1995.
Tumarkin N. “Story of a War Memorial” // World War 2 and the Soviet People, Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies / Ed. by F. Garrard and J. Garrard. New York, 1990. P. 125–146.
Viola L. “The Second Coming: Class Enemies in the Soviet Countryside, 1927–1935” // Stalinist Terror: New Perspectives / Ed. by J.A. Getty and R.T. Manning. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 65–98.
Viola L. The Best Sons of the Fatherland: Workers in the Vanguard of Soviet Collectivization. New York; Oxford: Oxford University Press, 1987.
Volkogonov D. Lenin: Life and Legacy / Trans. by Harold Shukman. London: HarperCollins, 1994.
Vovelle M. Idéologies et Mentalités. Paris: Folio, 1992.
Vovelle M. La mort et l’Occident de 1300 à nos jours. Paris: Gallimard, 1983.
Ward C. Stalin’s Russia. London: Bloomsbury Academic, 1993.
Werth A. Russia at War, 1941–1945: A History. London: Basic Books, 1963.
Westwood J.N. Endurance and Endeavour: Russian History, 1812–1992. Oxford: Oxford University Press, 1973.
Wheatcroft S.G. “Soviet Statistics” // Cahiers du monde russe. 1997. Vol. 38. № 4.
White S. Russia Goes Dry: Alcohol, State and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
Widom C.S. “PTSD in Abused Children Grown Up” // American Journal of Psychiatry. Vol. 156. № 8 (August 1998). P. 1223–1229.
Wiles P. “On Physical Immportality” // Survey. 1965. № 56, 57.
Wilson E. Shostakovich: A Life Remembered. London: Princeton University Press, 1994.
War and Remembrance in the Twentieth Century / Ed. by J. Winter and E. Sivan. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
World War 2 and the Soviet People. Selected Papers from the Fourth World Congress for Soviet and East European Studies, Harrogate / Ed. by A. Garrard and J. Garrard. New York, 1990.
Worobec C.D. “Death Ritual among Ukrainian Peasants: Linkages between the Living and the Dead” // Cultures in Flux: Lower-Class Values, Practices, and Resistance in Late Imperial Russia / Ed. by S.P. Frank and M.D. Steinberg. Princeton: Princeton University Press, 1994.
Young A. The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Young J. “The Counter Monument: Memory Against Itself in Germany Today” // Critical Inquiry. 1992. Vol. 18. № 2.
Young J. The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning in Europe, Israel and America. New Haven: Yale University Press, 1993.
Zbarsky I., Hutchinson S. Lenin’s Embalmers. London: Diane Pub Co, 1998.
Zizek S. The Plague of Fantasies. London; New York: Verso, 1997.
Абрамов А. У Кремлевской стены. М.: Государственное издательство политической литературы, 1984.
Амбрумова А., Бородин С., Михлин А. Предупреждение самоубийств: Изучение и проведение предупредительных мер. М.: Академия МВД СССР; ВНИИ МВД СССР; МНИИ психиатрии МЗ РСФСР, 1980.
Азбелева С. Народная проза. М.: Русская книга, 1992.
Алексеев С., Каляда К.Г. Полигон “Бутово”: историческая справка. М., 1997.
Аргун А.М. “Жертвы 9/22 января 1905 года (воспоминания)” // Книга летопись. 1029. Т. 33. № 6.
Андреев Е., Дарский Л., Харькова Т. “Опыт оценки численности населения СССР, 1926–1941 гг.” // Вестник статистики. 1990. № 7. C. 34–46.
Бабиченко Д. Писатели и цензоры. Советская литература 1940-х годов под политическим контролем ЦК. М.: Россия молодая, 1994.
Барановская Н. Чернобыльская трагедия: документы и материалы. Киев: Наукова думка, 1995.
Барсов Е. Причитания северного края. Т. 1. М., 1872.
Бондаренко В. “Кончина и похороны П.А. Кропоткина” // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 149–154.
Бонч-Бруевич В. Воспоминания о Ленине. М.: Наука, 1969.
Боярский А. Курс демографии. М.: Статистика, 1967.
Бродский И. Поклониться тени: эссе / Пер. Виктора Голышева. СПб.: Азбука-Классика, 2003.
Василевский Л. Борьба со старостью и смертью в истории. М., 1924.
Василевский Л., Василевская Л. Книга о голоде: популярный медико-санитарный очерк. Петроград; М.: Книгоиздательское товарищество “Книга”, 1922.
Васильев В. “Крестьянские восстания на Украине. 1929–1930 годы” // Свободная мысль. 1992. № 9. С. 70–78.
Васильева Л. Дети Кремля. М.: Бослен, 2012.
Велецкая Н. Языческая символика славянских архаических ритуалов. М.: Наука, 1978.
Великая Отечественная война, 1941–1945: события, люди, документы. М., 1990.
“Великий перелом” глазами современников: Из писем в “Правду” о коллективизации: Сб. науч. тр. / Центр. музей революции СССР. Вып. 22. Кн. 1. М.: Наука, 1990.
Веножинский В. Смертная казнь и террор. СПб.: Отечественная типография, 1908.
Веселовский А. Документы по этнографии Вологодской губернии. Вологда, 1923–1924.
Верт А. Россия в войне 1941–1945 гг. М.: Воениздат, 2001.
Виноградов Г. Материалы для народного календаря русского старожилого населения Сибири. Иркутск, 1918.
Военная психиатрия / Под ред. С.В. Литвинцева и В.К. Шамрея. СПб.: Военно-медицинская академия, ЭЛБИ-СПб., 2001.
Возвращенные имена. М., 1989.
Вылцан М. А. “Депортация народов в годы Великой Отечественной войны” // Этнографическое обозрение. 1950. № 3. С. 26–44.
Гернет М. Детоубийство. М.: Типография Императорского московского университета, 1911.
Гернет М. Преступность и самоубийства во время войны и после нее. М.: Издательство ЦСУ, 1927.
Гернет М. Смертная казнь. М.: Типография Я. Данкин и Я. Хомутов, 1913.
Гефтер М. Эхо Холокоста. М.: Центр и Фонд “Холокост”, 1995.
Голод в Украiнi 1946 –1947. Документи i матерiали. = Голод в Украине 1946–1947. Документы и материалы. Киев; Нью-Йорк: Видавництво М.П. Коць, 1996. На украинском языке.
Голод 1932–1933 годов / Под ред. Ю. Афанасьева. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995.
Горбачев М. Наедине с собой. М.: Грин стрит, 2012.
Горький М. О русском крестьянстве. Берлин: Издательство И.П. Ладыжникова, 1922.
Готье Ю. “Дневник (1917–1922)” // Прожито. /.
Громыко М.М. “Дохристианские верования в быту сибирских крестьян XVIII–XIX вв.” // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства XVII – начала XX вв.: сб. науч. трудов. Новосибирск, 1975.
Давыдов А. Научное доказательство личного бессмертия. М., 1912.
Даль В. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 1880.
Девятое января в клубах: сборник материалов / Под ред. М. Лисовского. Ленинград: Государственное издательство, 1925.
Дзержинский Ф. Дневник заключенного. Письма. М.: Молодая гвардия, 1984.
Дроздов В., Беридзе М., Разин П.С. Медицинские, социально-психологические, философские и религиозные аспекты смерти человека. Киров, 1992.
Збарский Б. Мавзолей Ленина. М.: Государственное издательство политической литературы, 1946.
Заленский Э.Я. Из записок земского врача: Деревенская эпидемия. Народное знахарство. Псков: Типография “Труд и Знание”, 1908.
Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. СПб., 1916. – Повторно издано: М., 1995.
Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественною смертью и русалки. М.: Индрик, 1995.
Зеленин Д.К. “Древнерусский языческий культ ‘заложных’ покойников” // Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре, 1917–1934. М., 1999.
Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография. М., 1926.
Земсков В. “Заключенные в 1930-е годы: социально-демографические проблемы” // Отечественная история. 1997. № 4. С. 54–78.
Земсков В. “Архипелаг ГУЛАГ: глазами писателя и статистика” // Аргументы и факты. 1989. № 45.
Зима В.Ф. “Голод в СССР 1946–1947 годов: происхождение и последствия” // Отечественная история. 1997. № 2.
Зубкова Е. Общество и реформы, 1945–1964. М.: Издательский центр “Россия молодая”, 1993.
Из истории семьи и быта сибирского крестьянства XVII – начала XX вв.: сб. науч. трудов. Новосибирск, 1975.
Ильин Н. Наука и религия о жизни и смерти. М.: Госполитиздат, 1958.
Иофе В. “Большой террор и имперская политика СССР: по следам большого соловецкого расстрела 1937 года” // Посев. 1997. № 5.
Исаков С. 1905 год в сатире и карикатуре. Ленинград: Прибой, 1928.
Канатчиков С. Из истории моего бытия. М.; Ленинград: Земля и фабрика, 1929.
Квардаков A. Религиозные пережитки в сознании и быту сельского населения и пути их преодоления: автореф. дисс. на соискание степени канд. филос. наук. Новосибирск, 1969.
Клибанов А. История религиозного сектантства в России. М.: Наука, 1965.
Коваленко Л., Маняк В. 33-й: голод: Народна Книга-Меморіал. Киев: Радянський письменник, 1991.
Козлов В. “О людских потерях Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов” // История СССР. 1989. № 2.
Компанец С. Надгробные памятники XVI – первой половины XIX вв.: практическое пособие по выявлению и научному описанию. М.: Научно-исследовательский институт культуры, 1990.
Кондрашин В. “Голод 1932–1933 годов в деревнях Поволжья” // Вопросы истории. 1991. № 6. С. 176–181
Кондрашин В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М.: РОССПЭН, 2008.
Кони А. Самоубийство в законе и жизни. СПб., 1898.
Константинов Д., протоирей. Зарницы духовного возрождения: Русская Православная Церковь в СССР в конце 60-х и начале 70-х гг. Лондон, Онтарио: Заря, 1973.
Копелев Л. Воспитание истинно верующего. Нью-Йорк, 1978.
Кравченко В. Я избрал свободу. Нью-Йорк, 1946.
Кульчицкий С.В. Коллективизация и голод на Украине: 1929–1933. Сборник материалов и документов. Киев, 1992.
Кустовский Е.С. Обиходные песнопения панихиды и отпевания. М.: Издательство Фонда развития музыкальной культуры “Живоносный Источник”, 1997.
Кушнер П.И. “О некоторых процессах, происходящих в современной колхозной семье” // Советская этнография. 1956. № 3.
Лебина Н. “Теневые стороны жизни советского города 20–30-х годов” // Вопросы истории. 1994. № 2.
Лейбович Я. 1000 современных самоубийств (социологический очерк). М.: Типография ВХУТЕМАС, 1923.
Ленин В.И. “Марксизм и восстание” // Ленин В.И. Полное собрание сочинений в 55 томах. Т. 34. М.: Издательство политической литературы, 1958.
Ленин В.И. “Советы постороннего” // Правда. 1920. № 250. 7 ноября.
Ленинград в осаде: сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 / Под ред. А.Р. Дзенискевича. СПб.: Лики России, 1995.
Листова Т. “Похоронно-поминальные обычаи и обряды русских Смоленской, Псковской и Костромской областей, конец XIX–XX вв.” // Похоронно-поминальные обычаи и обряды / Под ред. И. Кремлевой и др. М.: ИЭА PAH: Библиотека российского этнографа, 1993.
Лопухин Ю. Болезнь, смерть и бальзамирование В.И. Ленина. М.: Республика, 1997.
Лотман Ю. “Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века)” // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002.
Луков Г. Психология: очерки по вопросам обучения и воспитания советских воинов. М.: Воениздат, 1960.
Люксембург Р. “Рукопись о русской революции” // Люксембург Р. О социализме и русской революции. М.: Издательство политической литературы, 1991.
Мандельштам Н. Воспоминания. Т. 1 / Подгот. текста Ю.Л. Фрейдина. М.: Согласие, 1999.
Маркузон Ф.Д. “Санитарная статистика в городах дореволюционной России” // Птуха М.В. Очерки по истории статистики в СССР / Под ред. В.С. Немчинова. М.: Госстатиздат, 1955.
Медведев Р. К суду истории: О Сталине и сталинизме. М.: Время, 2000.
Мельниченко М. Советский анекдот: Указатель сюжетов. М.: НЛО, 2014.
Мир детства и традиционная культура / Под ред. А. Некрыловой и В. Головина. М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 1995.
Мирский М. Медицина России X–XX веков: очерки истории. М.: РОССПЭН, 2005.
Митрофан, монах. Загробная жизнь. Как живут наши умершие и как будем жить и мы после смерти по учению православной церкви, по предчувствию общечеловеческого духа и по выводам науки. СПб., 1897. – Повторно издано: Киев, 1991.
Москва военная 1941/45. Мемуары и архивные документы / Под ред. К. Букова, М. Горинова и А. Пономарева. М.: Мосгорархив, 1995.
Московский некрополь. История, археология, искусство, охрана / Под ред. Э. Шулеповой. М.: Московский фонд культуры ПТО “Центр”, 1991.
Муковский И.Т., Лисенко О.Е. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни = Доблесть и жертвенность: Украинцы на фронтах Второй мировой войны. Киев: Книга Пам'яті України, 1997.
Начинкин Н. “Материалы Этнографического бюро В.Н. Тенишева в научном архиве Государственного музея этнографии народов СССР” // Советская этнография. 1955. № 1. С. 159–163.
Невский В.И. Девятое января 1905–1925: Хрестоматия для агитаторов / Сост. П. Анатольев. Харьков: Пролетарий, 1925.
Неизвестная “Черная книга”. Материалы к “Черной книге” под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга. М.: Corpus, 2015.
Никифоров Н. С. Против старого быта. Под обстрел самокритики. (Из блокнота партработника). М.: “Московский рабочий”, б.г.
Никулин Ю. Анекдоты от Никулина. М.: Бином, 1997.
Новосельский С. Смертность и продолжительность жизни в России. Петроград: Типография Министерства внутренних дел, 1916.
Новые гражданские обряды и ритуалы / Под ред. В. Бондарчика. Минск: Академия наук Белорусской ССР, Институт искусствоведения, этнографии и фольклора, 1978.
Пастернак А. Воспоминания. München; Paderborn; Wien; Zurich: Wilhelm Fink Verlag: Verlag Ferdinand Schöningh, 1983.
Петровский Б. “Кризис отечественной медицины” // Вестник Российской академии медицинских наук. 1995. № 12.
Персиц М. Атеизм русского рабочего (1870–1905 гг.). М.: Наука, 1965.
Пирютко Ю.М., Еремина Л.С. Исторические кладбища Петербурга: справочник-путеводитель. СПб.: Издательство Чернышева, 1993.
Победоносцев К.П. Московский сборник. М.: Синодальная типография, 1901.
Покровский М. Империалистическая война: сборник статей, 1915–1927. М.; Л.: Государственное издательство, 1927.
Покровский М. Очерки по истории русской культуры. М.: Либроком, 2010.
Полищук Н.С. “Обряд как социальное явление (на примере красных похорон)” // Советская этнография. 1911. № 6.
Полян П. Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР. М.: О.Г.И.: Мемориал, 2001.
Попов В. Психологическая реабилитация военнослужащих после экстремальных воздействий. (На материале землетрясения в Ленинакане, межнационального конфликта в Фергане и боевых действий в Афганистане): Дисс. на соискание степени канд. психол. наук. М.: Гуманитарная академия вооруженных сил, 1992.
Похоронно-поминальные обычаи и обряды / Под ред. И. Кремлева и др. М.: ИЭА PAH: Библиотека российского этнографа, 1993.
Похоронно-поминальные обычаи и обряды / Под ред. Ю.Б. Симченко и Б.А. Тишкова. М.: ИНИОН, 1993.
Преображенский С. Материалы к вопросу о душевных заболеваниях воинов и лиц, причастных к военным действиям. Петроград, 1917.
Психические расстройства у пострадавших во время землетрясения в Армении / Под ред. Ю. Александровского. М.: ВНИИ общей и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, 1989.
Психологическая наука в России XX столетия: проблемы теории и истории / Под ред. А.В. Брушлинского. М.: Издательство Института психологии РАН, 1997.
Птуха M.В. Очерки по истории статистики в СССР / Под ред. В.С. Немчинова. М.: Госстатиздат, 1955.
Пушкарев Л. “Мой первый бой в рядах 3-й Московской коммунистической дивизии” // В годы войны. Статьи и очерки. М.: Наука, 1985.
Пушкарев Л. “Письменная форма бытования фронтового фольклора” // Этнографическое обозрение. 1995. № 4.
Резникова И. Православие на Соловках: материалы по истории Соловецкого лагеря. СПб.: Мемориал, 1998. С. 37–81.
Ритуал прощания: Московский справочник ритуальных услуг. 1997. № 1.
Рожицын В. Существует ли загробная жизнь? Киев: Главполитпросвет УССР, 1923.
Руднев В. Советские праздники, обряды, ритуалы. Л.: Лениздат, 1979.
Руднев В. Обряды народные и обряды церковные. Л.: Лениздат, 1982.
Русские песни и романсы. М.: Художественная литература, 1989.
Рыбаков Б. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981.
Саитов В.И., Модзалевский Б.Л. Московский некрополь: в 3 т. СПб., 1907–1908.
Саладин А.Т. Очерки истории московских кладбищ. М.: Книжный сад, 1997.
Самоубийства в СССР в 1922–1925 годах. М., 1927.
Селищев А. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком (1917–1926). М.: Работник просвещения, 1928.
Село Вирятино в прошлом и настоящем: Опыт этнографического изучения русской колхозной деревни / Под ред. П. Кушнера. М.: Издательство Академии наук СССР, 1958.
Семенова С. Тайны царствия небесного. М.: Школа-пресс, 1994.
Семенова С., Грачева А. Русский космизм. М.: Педагогика- Пресс,1993.
Серж (Кибальчич) В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера / Пер. с фр. Ю.В. Гусевой, В.А. Бабинцева. М.: Праксис; Оренбург: Оренбургская книга, 2001.
Смирнов В. Народные похороны и причитания в Костромском крае. Кострома: Типография “Северный рабочий”, 1920.
Смидович П. Быт и молодежь: сборник статей. М., 1926.
Соколов А. Лекции по советской истории, 1917–1940. М.: Мосгорархив, 1995.
Сорокин П. Дальняя дорога. Автобиография. М.: ТЕРРА, 1992.
Сорокин П. Современное состояние России. Прага, 1922.
Стоянов Н. Архитектура мавзолея Ленина. М.: Государственное издательство архитектуры и строительства, 1950.
Таганцев Н. Смертная казнь. СПб., 1913.
Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М.: Весь мир, 2003.
Троцкий Л. Моя жизнь: опыт автобиографии: в 2 т. Берлин, 1930.
Устинов В.М., Новицкий И.Б., Гернет М.Н. Основные понятия русского государственного, гражданского и уголовного права. М.: Типография А.П. Поплавского, 1907.
Хацкевич А. Солдат великих боев: Жизнь и деятельность Ф.Э. Дзержинского. Минск: Наука и техника, 1987.
Хмелевский Г. Мировая империалистическая война, 1914–1918 гг. Систематический указатель книжной и статейной военно-исторической литературы за 1914–1935 гг. М.: Издание Научно-исследовательского отдела Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе, 1936.
Хлевнюк О. Сталин: Жизнь одного вождя. М.: Corpus, 2016.
Хлевнюк О. “Принудительный труд в экономике СССР” // Свободная мысль. 1992. № 14. С. 73–84.
Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2012.
Хубова Д. “Черные доски: табула раса. Голод 1932–1933 годов в устных свидетельствах” // Голод 1932–1933 годов / Под ред. Ю. Афанасьева. М.: Российский государственный гуманитарный университет, 1995.
Цыпин В.А., прот. История Русской Православной Церкви, 1917–1990: Учебник для православных духовных семинарий. М.: Издательский дом “Хроника”, 1994.
Чехов А.П. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 11. Письма. 1877–1892. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956.
Чистов К. Ирина Андреевна Федосова: Историко-культурный очерк. Петрозаводск: Карелия, 1988.
Чистов К. Причитания. Ленинград, 1950. (Библиотека поэта: основана Максимом Горьким).
Чистов К. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М.: Наука, 1967.
Чистов К. Культура и быт горняков и металлургов Нижнего Тагила, 1917–1970. М.: Наука, 1970.
Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и флота. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1954.
Шмальгаузен И. Проблема смерти и бессмертия. М.; Л.: Госиздат, 1926.
Шенталинский В. Рабы свободы. М.: Прогресс-Плеяда, 2009.
Шепелева Е. Особенности диагностики и прогнозирования истерических расстройств у военнослужащих: автореф. дисс. на соиск. степени канд. мед. наук. СПб.: Военно-медицинская академия, 1995.
Щапов Я. Русская православная церковь и коммунистическое государство, 1917–1941, документы и фотоматериалы. М.: Библейско-богословский институт Святого Апостола Андрея, 1996.
Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993.
Яковлев Я. Деревня как она есть: очерки Никольской волости. М.; Л.: Государственное издательство, 1925.
Яковлев Я. Наша деревня. Новое в старом и старое в новом. М.: Красная новь, 1924.
Сноски
1
См.: Посев. 1997. № 5. С. 35–37.
(обратно)2
Другие описания церемонии были опубликованы, в частности, в журналах “Огонек”, № 45 (4528), за ноябрь 1997 г. (с. 8–9) и “Итоги”, № 44 (77), за ноябрь 1997 г. (с. 20–23).
(обратно)3
Цитаты из де Кюстина и Уолтера Беделла Смита заимствованы из статьи Роберта Такера: Tucker R. C. “What Time is it in Russia’s History?” // Perestroika: The Historical Perspective / Ed. by Catherine Merridale and Chris Ward. 1991. P. 38.
(обратно)4
В качестве примера достаточно взглянуть на карикатуру, изображающую русского медведя в номере журнала Observer за 12 декабря 1999 г.
(обратно)5
Ахматова А. “Не с теми я, кто бросил землю…”
(обратно)6
Симонов К. “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…”
(обратно)7
Берггольц О. “Разговор с соседкой…”
(обратно)8
Блок А. “Скифы”.
(обратно)9
Конец века (фр.).
(обратно)10
Монах Митрофан. Загробная жизнь. Как живут наши умершие и как будем жить и мы после смерти по учению православной церкви, по предчувствию общечеловеческого духа и по выводам науки. Автор цитирует шестое издание книги 1897 г.
(обратно)11
Обиходные песнопения, панихиды и отпевания / Сост. Е. С. Кустовский. М.: Живоносный источник, 1997. С. 17.
(обратно)12
Протоиерей Дмитрий Константинов. Зарницы духовного возрождения: Русская Православная Церковь в СССР в конце 60-х и начале 70-х гг. Лондон (Канада), 1973.
(обратно)13
В документах синода, хранящихся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге, содержится множество свидетельств подобного рода забот.
(обратно)14
Санкт-Петербургская газета. 1894. 21 октября.
(обратно)15
См.: John of Damascus. On the Divine Images: Three Apologies Against Those Who Attack the Divine Images / Trans. David Anderson. Crestwood, New York: St. Vladimir’s Seminary, 1980, а также: Danforth L. M. The Death Rituals of Rural Greece. Princeton: Princeton University Press, 1982.
(обратно)16
Санкт-Петербургская газета. 1894. 21–30 октября; Аргументы и факты. 1998. № 5.
(обратно)17
Санкт-Петербургская газета. 1894. 22 октября.
(обратно)18
Московский сборник. Издание К. П. Победоносцева, пятое, дополненное. М: Синодальная типография, 1901.
(обратно)19
Санкт-Петербургская газета. 1894. 27 октября.
(обратно)20
Толстой Л. “Война и мир”. Т. 4.
(обратно)21
Толстой Л. “Анна Каренина”. Гл. 5–8, 11.
(обратно)22
Солженицын А. “Раковый корпус”.
(обратно)23
Журналы “Этнографическое обозрение” и “Живая старина” были основаны в 1889 и 1890 гг. соответственно. Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX веков. М., 1957. С. ii.
(обратно)24
Чистов К. Ирина Андреевна Федосова: Историко-культурный очерк. Петрозаводск: Карелия, 1988.
(обратно)25
Барсов Е. Причитания северного края. М., 1872. Т. 1. Том 1 (“Плачи похоронные, надгробные и надмогильные”) вышел в 1872 г., том 2 (“Плачи завоенные, рекрутские и солдатские”) – в 1882-м (оба при содействии и финансовой поддержке Общества любителей российской словесности). Том 3 (“Плачи свадебные, гостибные, баенные и предвенечные”) отдельным изданием никогда не выходил. То, что должно было стать третьим томом, в незавершенном виде издано в составе малотиражных номеров журнала “Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском университете” (1885. Вып. 3–4) в разделе “Материалы историко-литературные”. Следствием этого явилось то, что третий том оказался неизвестным даже некоторым фольклористам, среди которых есть и исследователи свадебного обряда. Но так обстоит дело не только со свадебными причитаниями. В научном обиходе исследователей находится всего несколько текстов Федосовой, некоторые используются в неполном виде либо вообще в фрагментах.
(обратно)26
Горький М. “О русском крестьянстве”.
(обратно)27
Пастернак А. Воспоминания. Munchen, Paderborn, Wien, Zurich: Wilhelm Fink Verlag, Verlag Ferdinand Schoningh, 1983. C. 138, 136–137.
(обратно)28
Там же. С. 138.
(обратно)29
Булгаков М. “Полотенце с петухом”.
(обратно)30
Горький М. “О русском крестьянстве”.
(обратно)31
Shanin T. Peasants and Peasant Societies. Harmondsworth: Penguin, 1971. P. 369–371.
(обратно)32
Glickman R. “Peasant Women and Their Work” // The World of the Russian Peasant: Post-Emancipation Culture and Society / Ed. by Ben Eklof and Stephen P. Frank. London: Unwin Hyman, 1990. P. 48–49.
(обратно)33
См.: Wheatcroft S. G. “Agriculture” // From Tsarism to the New Economic Policy / Ed. by R. W. Davies. Houndmills, 1990. P. 79–92.
(обратно)34
Shevzov V. “Chapels and the Ecclesiastical World of the Pre-revolutionary Russian Peasants” // Slavic Review. Fall 1996. Vol. 55. P. 3; Тенишевский архив. 7/2/1444. I.
(обратно)35
Подробнее о сектах см.: Crummey R. O. The Old Believers and the World of Anti-Christ: The Vyg Community and the Russian State. Madison: University of Wisconsin, 1970; Conybeare F. Russian Dissenters. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1921; Чистов К. Русские народные социально-утопические легенды, XVII–XIX вв. М.: Наука, 1967.
(обратно)36
См.: A Radical Worker in Tsarist Russia: The Autobiography of Semen Ivanovich Kanatchikov / Ed. by Reginald E. Zelnik. Stanford, 1986. P. 34.
(обратно)37
Wheatcroft S. G. “Agriculture”. P. 92.
(обратно)38
Belliustin I. S. Description of the Clergy in Rural Russia: The Memoir of a Nineteenth-Century Parish Priest, 1858 / Trans. Gregory L. Freeze. Ithaca, N. Y., 1985. P. 26; Тенишевский архив. 7/2/1444. I.
(обратно)39
A Radical Worker in Tsarist Russia. P. 3.
(обратно)40
Ivanits L. J. Russian Folk Belief. London; New York: Routledge, 1989. P. 21.
(обратно)41
Эта мысль повторяется во всех источниках. См., например: Зеленин Д. К. Очерки русской мифологии: умершие неестественной смертью и русалки. СПб., 1916, повторно издано: М., 1995. C. 39–73.
(обратно)42
Заленский Э. Я. Из записок земского врача: Деревенская эпидемия. Народное знахарство. Псков: Типография “Труд и Знание”, 1908. C. 45–46.
(обратно)43
Тенишевский архив. 7/2/1305. Belliustin I. S. Description of the Clergy in Rural Russia. P. 26.
(обратно)44
См. подробнее: РГИА. 796/183/4885, 1–10.
(обратно)45
Смирнов В. Народные похороны и причитания в Костромском крае. Кострома: Типография “Северный рабочий”, 1920. C. 15.
(обратно)46
Тенишевский архив. 7/1/29, 36; 7/2/1055, 8.
(обратно)47
Некоторые также верили, что мыло, с которым мыли тело покойника, обладало магическими свойствами. Женщины подчас хранили его, чтобы умываться (считалось, что это мыло помогает сохранять молодость) или привораживать своих мужчин.
(обратно)48
Borodin N. M. One Man and His Time. London: Constable, 1955. P. 5.
(обратно)49
Ivanits L. J. Russian Folk Belief. P. 59; Громыко М. М. “Дохристианские верования в быту сибирских крестьян XVIII–XIX вв.” // Из истории семьи и быта сибирского крестьянства XVII – начала XX вв. Сборник научных трудов. Новосибирск, 1975. C. 74.
(обратно)50
Тенишевский архив. 7/2/1305. I, 19.
(обратно)51
Лурье В. Л., Тарабукина А. В. “Странствия души по тому свету в русских обмираниях” // Живая старина. 1994. № 2. С. 22–26; а также: Тенишевский архив. 7/1/26. I, 21.
(обратно)52
Более систематическое описание можно найти в материалах: Тенишевский архив. 7/1/67, 20.
(обратно)53
Тенишевский архив. 7/1/26, 2. Вероятно, эта традиция восходит к древним сибирским культам медведя. См.: Forsyth J. A History of the People of Siberia, 1581–1990. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 15–16.
(обратно)54
Смирнов В. Народные похороны и причитания в Костромском крае. C. 46.
(обратно)55
Ivanits L. J. Russian Folk Belief. P. 6; Ryan W. F. The Bathhouse at Midnight: A Historical Survey of Magic and Divination in Russia. University Park: Penn State University Press, 1999. P. 46.
(обратно)56
Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). 361/1/4. II, 118–119. См. также: Kligman G.The Wedding of the Dead: Ritual Poetics and Popular Culture in Transylvania. Berkeley: University of California Press, 1988.
(обратно)57
Барсов собрал самые разнообразные плачи, чтобы показать, как лежащий в их основании шаблон или формула могут различаться в зависимости от статуса оплакиваемого покойного. Первый приведенный им пример – вдова, оплакивающая мужа. Обуреваемая горечью и одиночеством, обреченная на тяжкий труд, вдова включила в свою ламентацию и молитву к Богу и архангелам с просьбой о помощи. Барсов Е. Причитания северного края. Т. I. C. 1–44.
(обратно)58
Петр I попытался было запретить надгробные плачи, а православная церковь яростно поносила этот обычай вплоть до XX в. См.: Барсов Е. Причитания северного края. Т. I. C. xi.
(обратно)59
Тенишевский архив. 7/1/29, 31.
(обратно)60
Барсов Е. Причитания северного края. Т. I. C. xi.
(обратно)61
Там же. C. x.
(обратно)62
“Стих о страннике” был записан в 1996 г. для сборника духовных песен о смерти “Как по морюшку”.
(обратно)63
Солженицын А. “Архипелаг ГУЛАГ”.
(обратно)64
Подробнее об этом см. ниже, стр. 78–79.
(обратно)65
Frank S. P. “Popular Justice, Community and Culture, 1870–1900” // The World of the Russian Peasant. P. 146–149.
(обратно)66
Oinas F. J. Essays on Russian Folklore and Mythology. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1984. P. 99; Смирнов В. Народные похороны и причитания в Костромском крае. С. 17; Тенишевский архив. 2/943, 8; Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX веков. С. 40.
(обратно)67
Ivanits L. J. Russian Folk Belief. P. 48.
(обратно)68
Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ). 89/4/121. 9; вышесказанное относится к одной из эксгумаций, проведенных в 1924 г.
(обратно)69
Подробнее о вампирах см.: Barber P. Vampires, Burial and Death: Folklore and Reality. New Haven; London: Yale University Press, 1988; Oinas F. J. Essays on Russian Folklore and Mythology. P. iii – 23; Токарев С. А. Религиозные верования восточнославянских народов XIX – начала XX веков. С. 40.
(обратно)70
Монах Митрофан. Загробная жизнь. C. 49.
(обратно)71
Несколько подобных случаев описано в документе: РГАЛИ. 2009/1/159.
(обратно)72
Serge V. Memoirs of a Revolutionary 1901–1941. Oxford, 1963. P. 73; Серж (Кибальчич) В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера / Пер. с фр. Ю. В. Гусевой и В. А. Бабинцева. М.: Праксис; Оренбург: Оренбургская книга, 2001. С. 91–92. “Максим Горький ‹…› рассказывал мне о страшных казнях, которые придумывали для «комиссаров» в отдаленных деревнях; например, из разреза в животе медленно извлекали кишки и наматывали их на дерево. Он считал, что традиция таких казней сохранялась благодаря чтению «Златой легенды» [жития святых XIII века]”.
(обратно)73
Тенишевский архив. 7/21619.
(обратно)74
Thompson P. The Voice of the Past: Oral History. Oxford, 1988. P. 7; Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. М.: Весь мир, 2003. С. 20.
(обратно)75
Тенишевский архив. 7/2/1444.
(обратно)76
Выступление на конференции, организованной автором в Москве в сотрудничестве с Фондом Макартуров в декабре 1997 г.
(обратно)77
Листова Т. “Похоронно-поминальные обычаи и обряды русских смоленской, псковской и костромской областей, конец XIX–XX вв.” // Похоронно-поминальные обычаи и обряды. М.: ИЭА PAH: Библиотека российского этнографа, 1993. С. 77; Ivanits L. J. Russian Folk Belief. P. 48; Тенишевский архив. 7/1/32, 11–12.
(обратно)78
Ariès P. L’Homme devant la mort [Человек перед лицом смерти]. Paris: Le Seuil, 1977. P. 440.
(обратно)79
Тенишевский архив. 7/2/1398, 2–7.
(обратно)80
В интервью, использованных в последующих главах этой книги, часто встречаются рассказы об “особенных детях”. Среди них, например, брат Анны Тимофеевны Валя, “уникальный ребенок, такой талантливый, такой особенный”. См. Глава 6, c. 220–228.
(обратно)81
РГИА. 796/171/2594.
(обратно)82
Huntington R., Metcalf P. Celebrations of Death: The Anthropology of Mortuary Ritual. Cambridge: Cambridge University Press, 1979. P. 1.
(обратно)83
См.: Thomas K. Religion and the Decline of Magic. London: Weidenfeld and Nicholson 1971. P. 721–722.
(обратно)84
Подробнее об этом см. первую и вторую части статьи: Shkolnikov V., Meslé F., Vallin J. “La crise sanitaire en Russie. I. Tendances récentes de l’espérance de vie et des causes de décès en Russie de 1970 à 1993” // Population. 1995. № 4–5. P. 907–982; DaVanzo J., Farnsworth G. “Russia’s Demographic ‘Crisis’” // RAND Conference Proceedings. n.d.
(обратно)85
Из выступления Линкольна Чена на симпозиуме Common Security Forum “The Human Security Crisis in Russia” в Гарварде в апреле 1996 г. См. также: Specter M. “Russian Demography: A Case for Dostoevsky” // International Heralds Tribune. 1997. June 9; Shapiro J. “The Russian Mortality Crisis and Its Causes” // Russian Economic Reform at Risk / Ed. by Anders Aslund. London: Pinter, 1995. P. 149–178.
(обратно)86
Shkolnikov V. et al. Annex 1 (Comparison of Changes in Life Expectancy, 1891–1993, figures for Russia, France, Japan, and U. S. A.). В февральском номере газеты Moscow Times за 1997 года приведена статистика Мировой организации здравоохранения (Moscow Times. 1997. February 18).
(обратно)87
Shkolnikov et al. “La crise sanitaire”. P. 908.
(обратно)88
Эти показатели относятся к странам так называемой Черной, или Тропической, Африки и Афганистана соответственно.
(обратно)89
Gildea R. Barricades and Borders: Europe, 1800–1914. Oxford: Oxford University Press, 1987. P. 278.
(обратно)90
Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. Петроград: Типография Министерства внутренних дел, 1916. С. 181; Мирский М. Б. Медицина России X–XX веков: очерки истории. М.: РОССПЭН, 2005. С. 311.
(обратно)91
В 1912 г. Пироговское общество, профессиональное объединение российских врачей, обсуждало доклад об этой проблеме. Подробнее см.: Маркузон Ф. Д. “Санитарная статистика в городах дореволюционной России” // Очерки по истории статистики в СССР / Ред. В. С. Немчинов. М.: Госстатиздат, 1955. С. 126.
(обратно)92
РГИА. 1290/2/585 и 875.
(обратно)93
Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. С. 126. К моменту проведения всероссийской переписи населения 1897 г. в Российской империи проживало около пяти миллионов евреев и примерно в два с половиной раза больше католиков и лютеран.
(обратно)94
Там же. С. 185.
(обратно)95
Интервью. Москва, март 1997 г.
(обратно)96
Этот метод с блеском применяет Ален Блюм. См.: Blum A. Naître, vivre et mourir en URSS, 1917–1991. Paris: Plon, 1994.
(обратно)97
Об обесценивании человеческой жизни см.: Specter M. “Climb in Russia’s Death Rate” // New York Times. 1994. March 6. О преемственности и непрерывности в целом см.: Tucker R. “What Time Is It in Russia’s History” // Perestroika: The Historical Perspective / Ed. by Catherine Merridale and Chris Ward. London; New York; Melbourne; Auckland: Edward Arnold, 1991.
(обратно)98
Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. С. 179.
(обратно)99
См. комментарий Ф. Д. Маркузона о диссертации Юлия Гюбнера “Статистические исследования санитарного состояния Санкт-Петербурга на 1870 год” (СПб.: Печ. В. И. Головина, 1872).
(обратно)100
Pobedonostsev K. Reflections of a Russian Statesman. P. 221.
(обратно)101
Подробнее о земствах см.: Figes O. A People’s Tragedy. London: Jonathan Cape, 1996. P. 39; Read C. From Tsar to Soviets: The Russian People and Their Revolution, 1917–1921. New York: Oxford University Press, 1996. P. 15; Seton-Watson H. The Decline of Imperial Russia 1855–1914. London: Methuen & Co, 1952. P. 49–51; Westwood J. N. Endurance and Endeavour: Russian History, 1812–1992. Oxford: Oxford University Press, 1973. P. 85–86.
(обратно)102
Например, в 1915 г. Министерство внутренних дел попыталось скрыть статистические данные, имевшие огромное значение для ведения военных действий, от сотрудников своего же подотдела, ведавшего охраной общественного здоровья.
(обратно)103
Westwood J. N. Endurance and Endeavour. P. 114–115.
(обратно)104
РГИА. 565/6/21498; Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. С. 181.
(обратно)105
Главными новыми кладбищами в Петербурге стали Преображенское (1872) и Успенское (1874). В постановлении из собрания РГИА, 565/6/21498 содержатся новые правила функционирования кладбищ.
(обратно)106
White S. Russia Goes Dry: Alcohol, State and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 5–11.
(обратно)107
Westwood J. N. Endurance and Endeavour. P. 173.
(обратно)108
Wheatcroft S. G. “Agriculture” // From Tsarism to the New Economic Policy / Ed. by R. W. Davies. P. 87.
(обратно)109
Fisher H. H. The Famine in Soviet Russia, 1919–1923: The operations of the American Relief Administration. New York: Macmillan, 1927. P. 476.
(обратно)110
Тенишевский архив. 2/1053, I. I.
(обратно)111
Frieden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution, 1856–1905. Princeton: Princeton University Press, 1981. P. 135–153.
(обратно)112
Социальная гигиена. 1922. № 1. C. 68.
(обратно)113
Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. С. 98.
(обратно)114
РГИА. 1290/2/373.
(обратно)115
Figes O. A People’s Tragedy. P. 157–162.
(обратно)116
Engel B. A. Between the Fields and the City: Women, Work and Family in Russia, 1861–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 35.
(обратно)117
Westwood J. N. Endurance and Endeavour. P. 180.
(обратно)118
Самая высокая смертность была отмечена на табачных фабриках и на заводах, перерабатывавших токсичные минералы. Социальная гигиена. 1922. № 1. С. 96.
(обратно)119
Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. С. 159.
(обратно)120
Маркузон Ф. Д. “Санитарная статистика в городах дореволюционной России” C. 130.
(обратно)121
Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. С. 140–141.
(обратно)122
Эти цифры приводятся в “Отчете о развитии человечества” (Оксфорд, 1996) Программы развития ООН.
(обратно)123
Гернет М. Н. Детоубийство. М.: Типография Императорского московского университета, 1911. Детоубийство оставалось достаточно редким явлением (крестьянские женщины, не желавшие рожать еще одного ребенка, чаще всего прибегали к абортам), однако о тех немногих случаях, которые все же имели место, редко сообщали полиции или другим представителям государственной власти. Тенишевский архив. 2/943, 5.
(обратно)124
Российский государственный архив экономики (РГАЭ). 1562/329/103, 218. Blum A. Naître, vivre et mourir en URSS. P. 145.
(обратно)125
Маркузон на с. 137 своей статьи приводит ужасающую цифру в 962 случая смертности на одну тысячу рождений применительно к одному из детских домов в Москве за период с 1867 по 1871 г. К сожалению, неясно, какой именно источник он цитирует.
(обратно)126
Булгаков М. “Морфий”.
(обратно)127
Заленский Э. Я. Из записок земского врача. Деревенские эпидемии. Народное знахарство. Псков: Типография “Труд и Знание”, 1908.
(обратно)128
Frieden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution. P. 145–146.
(обратно)129
Заленский Э. Я. Из записок земского врача. С. 48–50, 108, 113, 118.
(обратно)130
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина, по материалам этнографического бюро князя В. Н. Тенишева. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1903.
(обратно)131
Заленский Э. Я. Из записок земского врача. С. 142–149.
(обратно)132
Попов Г. Русская народно-бытовая медицина.
(обратно)133
Frieden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution. P. 145–146.
(обратно)134
Тенишевский архив. 2/1053; Frieden N. M. Russian Physicians in an Era of Reform and Revolution. P. 148.
(обратно)135
О целом спектре письменных и устных заклинаний, предназначенных для того, чтобы отгонять нечистую силу, рассказывается в книге: Ryan W. F. The Bathhouse at Midnight: An Historical Survey of Magic and Divination in Russia. University Park: Penn State University Press, 1999.
(обратно)136
Заленский Э. Я. Из записок земского врача. C. 45–46.
(обратно)137
Там же. C. 138.
(обратно)138
В письме к А. С. Суворину от 16 августа этого же года Чехов повторяет: “В Нижнем врачи и вообще культурные люди делали чудеса. Я ужасался от восторга, читая про холеру. В доброе старое время, когда заболевали и умирали тысячами, не могли и мечтать о тех поразительных победах, какие совершаются теперь на наших глазах. Жаль, что Вы не врач и не можете разделить со мной удовольствия, т. е. достаточно прочувствовать и сознать и оценить все, что делается” (Чехов А. П. Собрание сочинений: в 12 т. М.: Худ. лит., 1956. Т. 11: Письма. 1877–1892. С. 584, 587).
(обратно)139
Заленский Э. Я. Из записок земского врача. С. 108.
(обратно)140
РГИА. 1319/1/50.
(обратно)141
Документы, относящиеся к ее работе, хранятся в РГИА в деле 1319/1/56.
(обратно)142
Биржевые ведомости. 1907. 23 мая.
(обратно)143
Figes O. A People’s Tragedy. P. 18.
(обратно)144
“Русский офицер в школе получал отличную подготовку. Но потом, поступив на службу, он – это было не абсолютно общим, но весьма обычным явлением – засыпал. За наукой военной он не следил или интересовался поверхностно. Проверочным испытаниям при повышениях не подвергался” (Шавельский Г. Воспоминания последнего протопресвитера Русской армии и флота. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1954. C. 97).
(обратно)145
Цит. по: Westwood J. N. Endurance and Endeavour. P. 181.
(обратно)146
Пастернак А. Воспоминания. C. 120.
(обратно)147
Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History / Ed. by John D. Klier and Shlomo Lambroza. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. P. 216.
(обратно)148
Pipes R. The Russian Revolution, 1899–1919. New York: Vintage Books, 1991. P. 10–15.
(обратно)149
Sablinsky W. The Road to Bloody Sunday: Father Gapon and the St. Petersburg Massacre of 1905. Princeton: Princeton University Press, 1976. P. 265–266. Более низкая цифра кажется более вероятной, потому что цифра в 5 тыс. погибших использовалась советской пропагандой, которая с энтузиазмом раздувала статистику потерь до максимально правдоподобной.
(обратно)150
Ibid. P. 266.
(обратно)151
Ibid.
(обратно)152
Geifman A. Thou Shalt Kill: Revolutionary Terrorism in Russia, 1894–1917. Princeton: Princeton University Press, 1993. P. 21, 251. Книга вышла на русском языке под названием “Революционный террор в России, 1894–1917” в переводе Е. Дорман (М.: КРОН-ПРЕСС, 1997).
(обратно)153
После 1881 г. публичные казни в Российской империи не проводились. Виселицы обычно устанавливались во дворах тюрем, и там же после 1917 г. большевики провели значительную часть расстрелов.
(обратно)154
Гернет М. Н. Смертная казнь. М.: Типография Я. Данкин и Я. Хомутов, 1913. C. 53–58.
(обратно)155
Гернет приводит призыв устраивать публичные казни на осине на Красной площади, датированный 1904 г. Гернет М. Н. Смертная казнь. С. 30. См. также: Веножинский В. Смертная казнь и террор. СПб.: Отечественная типография, 1908. C. 33.
(обратно)156
Гернет М. Н. Смертная казнь. С. 100.
(обратно)157
По мнению группы российских ученых (в том числе Михаила Гернета), с 1810 по 1826 г. в Англии и Уэльсе было приговорено к смертной казни 18 тыс. человек. Устинов В. М., Новицкий И. Б., Гернет М. Н. Основные понятия русского государственного, гражданского и уголовного права. М.: Типография А. П. Поплавского, 1907. C. 261–262.
(обратно)158
Таганцев Н. С. Смертная казнь. СПб., 1913. С. 93.
(обратно)159
Там же. C. 94.
(обратно)160
Гернет М. Н. Смертная казнь. С. 146–147.
(обратно)161
Оренбургская газета. 1908. 18 ноября; РГИА. 733/199/122, 31.
(обратно)162
РГИА. 733/199/124, 62 и 20.
(обратно)163
РГИА. 733/199/360, 23.
(обратно)164
РГИА. 733/199/124, 12.
(обратно)165
Лейбович Я. 1000 современных самоубийств (социологический очерк). М.: Типография ВХУТЕМАС, 1923. С. 3. Лейбович, как, впрочем, и другие прогрессивные российские ученые, занимавшиеся общественными науками, еще до революции знал о работе Эмиля Дюркгейма о самойбийстве, опубликованной в 1897 г.
(обратно)166
РГИА. 733/199/124, 42.
(обратно)167
РГИА. 733/199/124, 10.
(обратно)168
Горький М. “Анархия! Анархия! – кричат «здравомыслящие» люди” // Революция и культура: Сборник статей. Берлин: Типография И. П. Ладыжникова, 1918. C. 26.
(обратно)169
Моя реконструкция событий основана на книге: Judge E. H. Easter in Kishinev: Anatomy of a Pogrom. New York and London: New York University Press, 1992, а также работе: Pogroms: Anti-Jewish Violence in Modern Russian History.
(обратно)170
Фотография церемонии находится в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), 28078.
(обратно)171
Информация подчерпнута из экспозиции Общественного музея на территории Мемориального кладбища жертв политических репрессий “Левашовская пустошь”.
(обратно)172
Sorokin P. Leaves from a Russian Diary, and Thirty Years After. London: n.d., 1925. P. 279.
(обратно)173
Ахматова А. “Чем хуже этот век предшествующих?..”
(обратно)174
Luxemburg R. The Russian Revolution. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1961. P. 40.
(обратно)175
Ленин В. И. “Марксизм и восстание” // Ленин В. И. Полное собрание сочинений в 55 томах. М.: Издательство политической литературы, 1958. Т. 34. C. 245.
(обратно)176
Подробнее о февральской революции 1917 г. можно прочитать у: Figes O. A People’s Tragedy. P. 307–353, а также: Service R. A History of Twentieth Century Russia. London: Allen Lane, 1997. P. 32–41.
(обратно)177
Цит. по: Ленин В. И. “О двоевластии” // Правда. 1917. 9 апреля. № 28.
(обратно)178
Там же.
(обратно)179
Ленин В. И. “Апрельские тезисы” // Правда. 1917. 7 апреля. № 26.
(обратно)180
Ленин В. И. “Советы постороннего”, написано 8 (21) октября 1917 г. Впервые опубликовано: Правда. 1920. 7 ноября. № 250 (за подписью “Посторонний”).
(обратно)181
Luxemburg R. The Russian Revolution. P. 34–39.
(обратно)182
Обращение Петроградского военно-революционного комитета “К гражданам России!” 25 октября (7 ноября) 1917 г.
(обратно)183
Ленин В. И. “Тезисы об учредительном собрании” 24 или 25 (11 или 12) декабря 1917 г., опубликованы впервые: Правда. 1917. 26 (13) декабря. № 213. Цит. по: Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 35. C. 162–166.
(обратно)184
Service R. Lenin: A Political Life. Vol.2: Worlds in Collision. Houndmills: Macmillan Press, 1991. P. 273.
(обратно)185
Luxemburg R. The Russian Revolution. P. 68–69, 71.
(обратно)186
Ibid.
(обратно)187
Наиболее важные революции произошли в Германии, начавшись в Киле и Берлине, а также в Венгрии в 1919 г., где социалистический режим Белы Куна просуществовал 133 дня, и в Италии, где фаза открытого политического насилия началась и закончилась немного позже.
(обратно)188
Antonio Gramsci: Selections from the Prison Notebooks / Ed. by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. London: Lawrence and Whishart, 1971. P. 238.
(обратно)189
“Back in the USSR” (authors Hans Magnus Enzensberger, Boris Kagarlitsky, and Anthony Barnett discuss changes in the Soviet Union) // New Statesman & Society. 1989. Vol. 2. Nov 10. № 75. P. 25–26.
(обратно)190
В действительности, судя по воспоминаниям современников, Бауман был бессердечным, грубым человеком и вызывал откровенную неприязнь у широкого круга знавших его людей. См. Service R. Lenin: A Political Life. P. 47.
(обратно)191
Пастернак А. Воспоминания. C. 158–159. Об этом же оставляет запись в дневнике от 1 (14) октября 1905 г. Татьяна Найденова, дочь мануфактур-советника А. А. Найденова и внучка Г. И. Хлудова, крупного фабриканта, одного из основателей текстильной промышленности в России: “Вчера я совершенно случайно попала на похороны Баумана, убитого во время манифестаций. Мы сидели на крыше хлудовского дома в тупике. Грандиозное зрелище, поразительный порядок, громадная толпа (говорят, до 100 000 человек). Красный гроб, масса красных флагов и венков, пение революционных песен – что-то для Москвы небывалое. Впрочем, не могу сказать, что это произвело на меня громадное впечатление, – я не люблю толпы и манифестации. К сожалению, все это не кончилось благополучно: казаки стреляли в народ, когда молодежь возвращалась с похорон. Есть убитые и раненые. Мы с мамой ехали поздно вечером от Лукутиных, как раз мимо университета, там всюду был народ. Стояли кучками отвратительные черносотенцы. Когда мы проезжали мимо Тверской с Красной площади, то видели, как по Тверской шла монархическая манифестация – мало народа, все пьяные, вразброд пели, валяли национальные флаги по грязи. Это произвело на меня отвратительное впечатление. Какая разница с тем, что я видела днем!..” См. и другие дневники на Prozhito.ru.
(обратно)192
Stites R. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution. Oxford: Oxford University Press, 1989. P. 13–36.
(обратно)193
См. Harding N. Lenin’s Political Thought: Theory and Practice in the Democratic and Socialist Revolutions. Houndmills: Macmillan Press, 1983. Vol. 1. P. 72–77.
(обратно)194
Полищук Н. С. “Обряд как социальное явление (на примере «красных похорон»)” // Советская этнография. 1991. № 6. С. 34–35; Пирютко Ю., Еремина Л. С. Исторические кладбища Петербурга, справочник-путеводитель. СПб.: Издательство Чернышева, 1993. С. 49.
(обратно)195
Там же. С. 46–49.
(обратно)196
См., например: Трубникова О. А. “История некрополя Новодевичьего монастыря” // Московский некрополь. История, археология, искусство, охрана. М.: Московский фонд культуры ПТО “Центр”, 1991. С. 106–123.
(обратно)197
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб). D1900. G14610.
(обратно)198
Полищук Н. С. “Обряд как социальное явление”. С. 27.
(обратно)199
Подробнее об этом: Bowker J. The Meanings of Death. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 6–10.
(обратно)200
Правда. 1917. 23 марта. Текст написан в 1865 году поэтом-демократом, сотрудником газеты “Искра” Лидором Ивановичем Пальминым.
(обратно)201
Из письма М. Горькому от 13 или 14 ноябре 1913 г.: “Богоискательство отличается от богостроительства, или богосозидательства, или боготворчества и т. п. ничуть не больше, чем желтый черт отличается от черта синего… Всякий боженька есть труположство – будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно… Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой есть невыразимейшая мерзость…” Письмо впервые опубликовано: Правда. 1924. № 51. 2 марта.
(обратно)202
Подробнее об этом ниже, на с. 125–127.
(обратно)203
Это утверждение приходится наиболее часто слышать применительно к Сталину, частью юношеского интеллектуального становления которого была недолгая учеба в семинарии. Cм. McNeal R. H. Stalin: Man and Ruler. New York: New York University Press, 1988. P. 8–9.
(обратно)204
Как сформулировал это Дмитрий Волкогонов в своей биографии В. И. Ленина, сама советская пропаганда была направлена на то, чтобы еще больше преуменьшить значение индивидуальных, частных чувств и эмоций. См. Volkogonov D. Lenin: Life and Legacy / Trans. by Harold Shukman. London: HarperCollins, 1994. P. xxxii-xxxiii.
(обратно)205
Цит. по: Read C. From Tsar to Soviets. P. 202; см. также: Дзержинский Ф. Дневник заключенного. Письма. М.: Молодая гвардия, 1984.
(обратно)206
Harding N. Lenin’s Political Thought. P. 11.
(обратно)207
Service R. Lenin: A Political Life. P. 22.
(обратно)208
Васильева Л. Дети Кремля. М.: Бослен, 2012. С. 25.
(обратно)209
Московский некрополь. C. 14.
(обратно)210
Васильева Л. Дети Кремля. С. 85.
(обратно)211
Считается, что Сталин никогда не был на могиле Надежды Аллилуевой. Подробнее об отношении Сталина к обеим женам и к самоубийству Надежду Аллилуевой см.: Хлевнюк О. Сталин: Жизнь одного вождя. М.: Corpus, 2016. C. 342–356, а также: Tucker R. C. Stalin in Power: The Revolution from Above, 1924–1941. New York and London: W. W. Norton & Company, 1990. P. 217; Медведев Р. К суду истории: О Сталине и сталинизме. М.: Время, 2000); Васильева Л. Дети Кремля. C. 85.
(обратно)212
Оригинальный текст цитируется по выложенному на сайте Prozhito.ru дневнику Ю. В. Готье, запись от 13 февраля 1921 г.
(обратно)213
Там же, запись от 26 (13) ноября 1917 г.: “Сегодня утром я ходил почтить память погибших студентов, которых отпевали у Большого Вознесения; служил, кажется, сам новый всероссийский патриарх; я был в начале церемонии, которая заняла целый день; эти толпы людей, исключительно интеллигентных, вернее цивилизованных, прибывали с каждой минутой. При мне привозили тела с пением «Вечной памяти». Сознаюсь, что я плакал, потому что «Вечную память» пели не только этим несчастным молодым людям, неведомо за что отдавшим жизнь, а всей несчастной, многострадальной России. То, что я видел, было контрманифестацией красным похоронам горилл 10-го; там была чернь; здесь – цивилизованные русские. Сейчас, вечером, я не знаю, благополучно ли прошли похороны; если нет, то побоище было побоищем света тьмою, цивилизации варварами”. См. также: Баранченко В. “Кончина и похороны П. А. Кропоткина” // Вопросы истории. 1995. № 3. С. 149–154.
(обратно)214
О привычках чтения, бытовавших среди рабочих в то время см.: Brooks J. When Russia Learned to Read: Literary and Popular Literature, 1861–1917. Princeton: Princeton University Press, 1985; Stites R. Revolutionary Dreams. P. 24–36.
(обратно)215
A Radical Worker in Tsarist Russia: The Autobiography of Semen Ivanovich Kanatchikov / Ed. and trans. by Reginald E. Zelnik. Stanford: Stanford University Press, 1986. P. 34.
(обратно)216
Фотография, на которой изображена религиозная служба на одной из уральских фабрик, воспроизведена в книге: The Russian Worker: Life and Labor Under the Tsarist Regime / Ed. by Victoria E. Bonnell. Berkley and London: University of California Press, 1983. P. 42.
(обратно)217
Персиц М. Атеизм русского рабочего (1870–1905 гг.). М.: Наука, 1965. C. 100.
(обратно)218
Figes O. A People’s Tragedy. P. 65.
(обратно)219
A Radical Worker in Tsarist Russia. P. 30.
(обратно)220
Steinberg M. D. “Workers on the Cross: Religious Imagination in the Writings of Russian workers, 1910–1924” // Russian Review. 1994. April. Vol. 53. № 2. P. 222. Подробнее: Steinberg M. D. Proletarian Imagination: Self, Modernity, and the Sacred in Russia, 1910–1925. Ithaca: Cornell University Press, 2002.
(обратно)221
Steinberg M. D. “Workers on the Cross”. P. 218; Клибанов А. История религиозного сектантства в России. М.: Наука, 1965. C. 266–268.
(обратно)222
Персиц М. Атеизм русского рабочего. С. 106.
(обратно)223
Там же. С. 113.
(обратно)224
Канатчиков С. Из истории моего бытия. М.: Издательство “Земля и фабрика”, 1934. C. 57.
(обратно)225
Полищук Н. С. “Обряд как социальное явление”. С. 28.
(обратно)226
Текст представляет собой комбинацию двух стихотворений А. Архангельского (настоящее имя Амосов Антон Александрович): “Идет он усталый, и цепи звенят…” и “Мы жертвою пали борьбы роковой…”. Мелодия восходит к популярной песне “Не бил барабан перед смутным полком…” на стихи Ивана Козлова (перевод из Чарльза Вольфа, 1826). Еще раньше этот мотив заимствовали военные: в связи с похоронами генерала Бистрома песня Козлова была переделана в соответствии с реалиями Кавказской войны (1816–1864), и в таком измененном виде ее исполняли казаки. Впервые легально песня “Вы жертвою пали” прозвучала на похоронах жертв Февральской революции. Русские песни и романсы / Вступ. статья и сост. В. Гусева. М.: Художественная литература, 1989 (под заглавием “Похоронный марш”, без указания авторства). Этот же вариант: Русские песни / Сост. проф. Ив. Н. Розанов. М.: Гослитиздат, 1952 (под заглавием “Похоронный марш”).
(обратно)227
Steinberg M. D. “Workers on the Cross”. P. 220. Подробнее: Steinberg M. D. Proletarian Imagination.
(обратно)228
Рабочая жизнь. 1918. № 2. С. 2. Похожий образ появляется также: Рабочая жизнь. 1917. № 9. С. 3.
(обратно)229
Carlson M. “Fashionable Occultism” // The Occult in Russian and Soviet Culture / Ed. by Bernice Glatzer Rosenthal. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1997. P. 136–139.
(обратно)230
Оттуда. 1907. № 15. С. 3–4.
(обратно)231
Оттуда. 1911. № 22. С. 1–2.
(обратно)232
Wiles P. “On Physical Immortality” // Survey. Nos. 56–57 (1965). P. 132–133. Более общее обсуждение космизма можно найти в сборнике: Русский космизм. Антология философской мысли / Под ред. С. Г. Семеновой и А. Г. Гачевой. М.: Педагогика-Пресс, 1993.
(обратно)233
Федоров Н. “Родители и воскресители”, цит. по: Wiles P. “On Physical Immportality”. P. 134–135.
(обратно)234
Федоров Н. Сочинения. М.: Мысль, 1982. С. 572.
(обратно)235
Богостроительство – этико-философское течение в русском марксизме, одна из первых трактовок марксистской философии в религиозном ключе, основанная на предполагаемом сходстве христианского и марксистского мировоззрений. Среди приверженцев идей богостроительства были Луначарский, Горький, Богданов и др.
(обратно)236
Подробнее об этом в главе 5, с. 191–194.
(обратно)237
Правда. 1917. 25 марта. См. также дипломную работу И. Орлова “Траур и праздник в революционной политике. Церемония 23 марта 1917 г. В Петрограде” (2007), в которой подробно анализируется церемониал этих похорон, превращенных в революционный праздник (), и статью “Марсово поле и траур в политике” (Открытая левая платформа, 7 марта 2015 г. (). Орлов, однако, ставит под сомнение как канонизированный советской историографией список “убитых и раненых” из 1382 человек (без указания точного числа тех и других), опубликованный в газете “Правда”, так и данные Центрального регистрационно-справочного бюро Союза городов и объединенного студенчества, сообщающие о “1443 пострадавших, из которых убитых или скончавшихся от ран – 169”, потому что некоторых погибших в начале марта родственники похоронили самостоятельно на родине.
(обратно)238
Автор целиком и полностью приписывает Максиму Горькому заслугу в деле спасения Дворцовой площади от превращения в некрополь. В действительности же, Горький был одним из 11 авторов письма, направленного архитекторами и художниками в Петросовет с предложением провести захоронение на Казанской площади или Марсовом поле. Лебина Н., Измозик В. Петербург советский. “Новый человек” в старом пространстве. 1920–1930-е годы. Социально-архитектурное микроисторическое исследование. СПб.: Крига, 2010.
(обратно)239
Пирютко Ю., Еремина Л. С. Исторические кладбища Петербурга. С. 49 (о вмешательстве Горького и о выборе места для захоронения). После 1918 г. и переноса столицы в Москву самым престижным местом для захоронения в стране стала Кремлевская стена на Красной площади.
(обратно)240
Правда. 1917. № 16. 23 марта.
(обратно)241
Там же. Каменев продолжает: “Обнажим головы и поклонимся им, открывшим России путь к свободе! Товарищи! Не все еще сделано для освобождения России, много еще остается сделать. Поклянемся же перед трупами наших товарищей, предаваемых сегодня земле, что мы высоко будем держать поднятое ими знамя революции, что мы с честью донесем его до конца, что мы не пожалеем своей жизни для борьбы за демократию, за социализм!”
(обратно)242
Там же.
(обратно)243
Абрамов А. У Кремлевской стены. М.: Государственное издательство политической литературы, 1984. С. 31–36.
(обратно)244
Подробнее об этом далее, на с. 298–299 и 340–341.
(обратно)245
Люди, которых я спрашивала об этом, вспоминали памятники в западных республиках СССР, а особенно в Галичине, которая вплоть до Второй мировой войны не была частью Советского Союза. Но ни один из моих респондентов не мог вспомнить ни единого сколь бы то ни было крупного памятника национального масштаба в самой России, и сама я тоже такого памятника не видела.
(обратно)246
Подробнее о самоубийствах см.: Лейбович Я. 1000 современных самоубийств (социологический очерк). C. 3–4. О патриотизме см.: Figes O. A People’s Tragedy. P. 251–252.
(обратно)247
Сенин А. “Армейское духовенство в Первую мировую войну” // Вопросы истории. 1995. № 10. C. 160–162.
(обратно)248
Wheatcroft S. G., Davies R. W. “Population” // The Economic Transformation of the Soviet Union, 1913–1945 / Ed. by Robert William Davies, Mark Harrison and S. G. Wheatcroft. Camrbidge: Cambridge University Press, 1994. P. 62.
(обратно)249
Mosse G. L. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World War. Oxford: Oxford University Press, 1990. P. 85–96.
(обратно)250
Олонецкая неделя. 1914. № 42. С. 6–7.
(обратно)251
Подробнее об этом на с. 150–151, 267–270.
(обратно)252
Hodgson K. Written with the Bayonet: Soviet Russian Poetry of World War Two. Liverpool: Liverpool University Press, 1996. C. 20–24.
(обратно)253
Это лишь несколько из многих сотен писем, хранящихся в собрании Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), 7384/9/268, май 1917 г.
(обратно)254
Историк-марксист Михаил Николаевич Покровский выпустил сборник статей о Первой мировой войне под названием “Империалистическая война: сборник статей, 1915–1927”. (М.; Л.: Государственное издательство, 1927). Более системную библиографию военных и других работ можно найти в: Хмелевский Г. Мировая империалистическая война, 1914–1918 гг. систематический указатель книжной и статейной военно-исторической литературы за 1914–1935 гг. М.: Издание Научно-исследовательского отдела Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе, 1936.
(обратно)255
О погромах см. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ), R-1244/2/11, 359 (письмо из еврейских войск). Более общие сведения можно найти в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), 7384/9/245, в котором содержатся письма и другие документы, запечатлевшие общественные беспорядки. Кроме этого, см. Figes O. A People’s Tragedy. P. 462.
(обратно)256
Dune E. M. Notes of a Red Guard / Trans. and ed. by Diane P. Koenker and S. A. Smith. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 1993. P. 56.
(обратно)257
Ibid. P. 57.
(обратно)258
Оригинальный текст цитируется по выложенному на сайте Prozhito.ru дневнику Ю. В. Готье, запись от 21 (8) июля 1917 г.
(обратно)259
Там же, запись от 7 августа (25 июля) 1917 г.
(обратно)260
Wheatcroft S. G., Davies R. W. “Population”. P. 62–64.
(обратно)261
Подробнее см. с. 203–207.
(обратно)262
Trotsky L. My Life: An Attempt at Autobiography. Harmondsworth, 1971. P. 411; см. также: Троцкий Л. Моя жизнь: опыт автобиографии. Глава XXXIII “Месяц в Свияжске”.
(обратно)263
Service R. A History of Twentieth-Century Russia. P. 88. Роберт Сервис приводит цифру 3 миллиона, Дэвис и Уиткрофт, цитируя классическую книгу 1946 г. Фрэнка Лоримера “The Population of the Soviet Union”, говорят о 2 миллионах. Wheatcroft S. G., Davies R. W. “Population”. P. 63.
(обратно)264
Дневник Ю. В. Готье, запись от 8 ноября (26 октября) 1917 г.
(обратно)265
Dune E. M. Notes of a Red Guard. P. 58.
(обратно)266
Дневник Ю. В. Готье, запись от 14 (1) января 1918 г.
(обратно)267
Столица была перенесена в Москву в марте 1918 г., частично из-за угрозы взятия Петрограда Белой армией генерала Юденича.
(обратно)268
Wheatcroft S. G. “Soviet Statistics” // Cahiers du monde russe. 1997. Vol. 38. № 4. P. 544.
(обратно)269
Дневник Ю. В. Готье, запись от 2 декабря 1918 г.
(обратно)270
Wheatcroft S. G., Davies R. W. “Population”. P. 62.
(обратно)271
Kuromiya H. Freedom and Terror in the Donbass: A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s-1990s. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. iii.
(обратно)272
Read C. From Tsar to Soviets. P. 192.
(обратно)273
Serge V. Memoirs of a Revolutionary. P. 115; Серж В. От революции к тоталитаризму: Воспоминания революционера. C. 142. См. также: Ball A. Russia’s Last Capitalists: The Nepmen, 1921–1929. Berkley, Los Angeles and London: University of California Press, 1987. P. 6–8.
(обратно)274
Serge V. Memoirs of a Revolutionary. P. 115–116; Серж В. От революции к тоталитаризму. C. 143: “Так как спекуляция дезорганизовывала работу железных дорог, находившихся на последнем издыхании, власти запретили перевозку съестного частными лицами, размещали на станциях специальные подразделения, безжалостно отбиравшие мешок муки у хозяйки, окружали рынки милицией, которая, стреляя в воздух, начинала конфискации среди криков и плача. Специальные подразделения милиции вызывали ненависть. Было в ходу слово «комиссарократия». Староверы объявляли о наступлении конца света и пришествии антихриста. Зима была подлинным наказанием для населения городов. Ни отопления, ни освещения, и этот мучительный голод! Слабые дети и старики умирали тысячами. Мрачную жатву собирал тиф, передаваемый вшами. Среди этого я жил долгое время. В больших опустевших петроградских квартирах люди собирались в одной комнате, теснились вокруг чугунной или кирпичной печурки, стоявшей прямо на полу, с выведенной в окно трубой. Ее топили паркетом из соседних комнат, остатками мебели, книгами. Так исчезли целые библиотеки. Сам я, чтобы обогреть дорогую мне семью, с истинным удовлетворением сжег «Свод законов Российской Империи». Питались небольшим количеством овса и полусгнившей кониной, в кругу семьи делили кусок сахара на микроскопические части, и каждый съеденный вне очереди кусочек вызывал драму”.
(обратно)275
См. Gatrell P. A Whole Empire Walking. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 1999.
(обратно)276
Рассказы о некоторых из этих путешествий хранятся в собрании РГАЛИ, 1712/1/600.
(обратно)277
Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО), 4557/1/48, 11.
(обратно)278
В 1922 г. местная вологодская газета прекрасно описала сложившуюся ситуацию. См. Жизнь города. 1922. № 2. Апрель. С. 21–22, а также: № 6. Сентябрь. С. 5–6.
(обратно)279
ГАРФ, 482/4/31, 14; ГАРФ 482/4/44, 138.
(обратно)280
Service R. A History of Twentieth-Century Russia. P. 102–103; Read C. From Tsar to Soviets. P. 193–198.
(обратно)281
Интервью автора со Львом Разгоном, Москва, февраль 1997 г. Современные источники единодушны в описании этого отчаяния.
(обратно)282
Подобные описания встречаются в многочисленных источниках. Одну из таких коллекций можно найти в РГАЛИ, 2009/1/159. Фотографические свидетельства (ряды раздувшихся трупов) взяты из Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), Gr 8645 и Gr 41614.
(обратно)283
Слово. Вып. IV. С. 79.
(обратно)284
Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), 364/2/1, 20.
(обратно)285
На самом деле, если верить примечаниям редакторов книги Дуне, их количество было немногим меньше 200 тыс. человек.
(обратно)286
Dune E. M. Notes of a Red Guard. P. 124.
(обратно)287
См. Gerson L. D. The Secret Police in Lenin’s Russia. Philadelphia: Temple University Press, 1976. P. 77–80; Read C. From Tsar to Soviets. P. 206–208; Conquest R. The Great Terror. Harmondsworth: Pelican, 1971. P. 310.
(обратно)288
Петроградская правда. 1918. 5 сентября. 2 сентября 1918 г. было принято постановление ВЦИК, а 5 сентября – декрет Совнаркома “О красном терроре”. Во исполнение постановления ВЦИК Петровский и издал свой Приказ, в котором связывал необходимость введения таких драконовских мер в связи с убийствами Володарского, Урицкого, покушением на убийство Ленина, а также “массовыми десятками тысяч расстрелами наших товарищей в Финляндии, на Украине и, наконец, на Дону и в Чехо-Славии, постоянными открываемыми заговорами в тылу наших армий, открытым признанием правых эсеров и прочей контрреволюционной сволочи в этих заговорах, и в то же время чрезвычайно ничтожным количеством серьезных репрессий и массовых расстрелов белогвардейцев и буржуазии со стороны Советов”. Этот приказ был опубликован в “Известиях” 4 сентября 1918 г., то есть уже после того, как были расстреляны первые сотни “заложников”. Еженедельник ВЧК. 1918. № 1. С. 11.
(обратно)289
Sorokin P. Leaves from a Russian Diary. P. 232–233; Сорокин П. Дальняя дорога. Автобиография. М.: ТЕРРА, 1992. C. 132.
(обратно)290
Известия Оренбургского военно-революционного комитета. 1918. Ноябрь. № 23.
(обратно)291
Borodin N. M. One Man and His Time. P. 19.
(обратно)292
Ibid. P. 19–20.
(обратно)293
Дневник Ю. В. Готье, запись от 30 сентября 1919 г.
(обратно)294
ГАРФ, 4390/12/40, 24.
(обратно)295
“В этой беспощадной борьбе за жизнь я стану вровень с этим страшным звериным законом – с волками жить…” Михаил Дроздовский, запись в дневнике от 15 марта 1918 г., сделана в Домашевке. / Цит. по: Kuromiya H. Freedom and Terror in Donbass. P. 359, n. 42; Bortnevsky V. G. “White Administration and White Terror (The Denikin period)” // Russian Review. Vol. 52:3 (July 1993). P. 357.
(обратно)296
Kuromiya H. Freedom and Terror in the Donbass. P. 95–96.
(обратно)297
Sorokin P. Leaves From a Russian Diary. P. 257–258. Виктор Серж слышал о подобных зверствах от Максима Горького: Serge V. Memoirs of a Revolutionary, 1901–1941. Oxford: Oxford University Press, 1963. P. 73.
(обратно)298
Приказ № 0116 от 12 июня 1921 г. за подписью командующего войсками М. Н. Тухачевского о применении ядовитых удушливых газов против повстанцев. См. Davies R. W. Soviet History in the Yeltsin Era. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1997. P. 130.
(обратно)299
Trotsky L. My Life: An Attempt at Autobiography. P. 417; см. также: Троцкий Л. Моя жизнь: опыт автобиографии. Глава XXXIII “Месяц в Свияжске”.
(обратно)300
Figes O. Peasant Russia: Civil War. Oxford: Oxford University Press, 1989. P. 312–320.
(обратно)301
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб), 7384/9/268, III. Подобные примеры встречаются и в других местах того же документа, представляющего собой коллекцию солдатских писем, адресованных Петроградскому совету в последние месяцы 1917 г.
(обратно)302
Dune E. M. Notes of a Red Guard. P. 125.
(обратно)303
Trotsky L. My Life: An Attempt at Autobiography. P. 417–418.
(обратно)304
Материалы, относящиеся к петициям 1917 г., можно найти в собрании ГАРФ, R-1244/2/11. См. также: Berg G. P. van den. “The Soviet Union and the Death Penalty” // Soviet Studies. 1983. № 35. April 2. P. 155.
(обратно)305
Trotsky L. My Life: An Attempt at Autobiography. P. 418.
(обратно)306
РЦХИДНИ, 364/2/1, 20–44 (письма читателей в редакцию газеты “Правда”).
(обратно)307
Borodin N. M. One Man and His Time. P. 21.
(обратно)308
Щапов Я. Русская православная церковь и коммунистическое государство, 1917–1941, документы и фотоматериалы. М.: Библейско-богословский институт Святого Апостола Андрея, 1996. С. 146.
(обратно)309
Подробнее об этом в главе 5, с. 175–179.
(обратно)310
Рабочая жизнь. 1917. № 14. С. 3–4.
(обратно)311
Василевская Л., Василевский Л. Книга о голоде: популярный медико-санитарный очерк. Петроград; М.: Книгоиздательское товарищество “Книга”, 1922. С. 174–175.
(обратно)312
Эти замечания прозвучали в интервью с группой психиатров, которые получили образование в 1920-е гг. Москва, март 1997 г.
(обратно)313
Изложение этой довольно популярной точки зрения можно найти, в частности, в книге: Ciliga A. The Russian Enigma. London: George Routledge and Sons, 1940. P. 284–285.
(обратно)314
Geifman A. Thou Shalt Kill. P. 253–254.
(обратно)315
Подробнее о бандитизме см.: Figes O. Peasant Russia: Civil War. P. 340–353; об обращении с трупами см.: РГАЛИ, 1712/1/600, 115.
(обратно)316
См. Селищев А. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком (1917–1926). М.: Работник просвещения, 1928.
(обратно)317
О голоде и памяти речь пойдет в главе 6. Блокадники – те, кто пережил осаду Ленинграда, – тоже говорят об онемении и вспоминают, что в самом истощенном, ослабленном состоянии больше даже не думали о еде.
(обратно)318
Service R. A History of Twentieth-Century Russia. P. 117.
(обратно)319
В межвоенный период наиболее важным проявлением этого была “угроза войны” 1927 г., которая использовалась как предлог для наращивания темпов индустриализации и коллективизации сельского хозяйства.
(обратно)320
Наиболее полемически эта позиция выражена у: Getty J. A. Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. Более недавний, детальный и лучше подкрепленный документами анализ можно найти в книге: Getty J. A., Naumov O. The Road to Terror: Stalin and the Self-Destruction of the Bolsheviks, 1932–1939. New Haven and London: Yale University Press, 1999.
(обратно)321
Habeas corpus – от латинского “ты должен иметь тело” – понятие англосаксонского права, требующее передавать любого задержанного человека в суд вместе с доказательствами законности ареста. Фактически habeas corpus – это презумпция необоснованности задержания, гарантирующая каждому личную свободу.
(обратно)322
РЦХИДНИ, 5/1/2558, см. также: Merridale С. “The Making of a Moderate Bolshevik: An Introduction to L. B. Kamenev’s Political Biography” // Soviet History, 1917–1953: Essays in Honour of R. W. Davies / Ed. by Julian Cooper, Maureen Perrie and E. A. Rees. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 1995. P. 35–37.
(обратно)323
Keep J. “Lenin’s Letters as a Historical Source” // The Russian Review. 1971. January. Vol. 30. № 1. P. 33–42; Lenin and Leninism: State, Law, and Society / Ed. by Bernard W. Eissenstat. Lexington, Illinois: Lexington Books, 1971. P. 260.
(обратно)324
Интервью, Москва, 14 февраля 1997 г.
(обратно)325
Steinberg M. D., Khrustalev V. M. The Fall of the Romanovs: Political Dreams and Personal Strugggles in a Time of Revolution. New Haven and London: Yale University Press, 1995. P. 290–294.
(обратно)326
Дневник Ю. В. Готье, запись от 6 августа 1918 г.: “Я не отметил здесь смерти Николая II, но это потому, что только вчера, прочитав «Наш век» от 20 июля, я получил возможность осязать это сообщение. Николай II имел судьбу Людовика XVI и Карла I, но в модернизованном и перелицованном ala russe [на русский манер (фр.)] виде, без лицемерной торжественности английской революции и без разнузданной, но все-таки торжественной, французской; Николая без суда, это для русских особенно характерно, убили вдали от столиц, спеша, зря, боясь собственной тени. Сам он все сделал для того, чтобы это случилось; но его исчезновение есть развязка одного из бесчисленных второстепенных узлов нашей смуты, а монархический принцип от этого только выиграет”.
(обратно)327
Сорокин П. Социология революции. М.: Издательский дом “Территория будущего”; РОССПЭН, 2005. C. 177.
(обратно)328
Дневник Ю. В. Готье, записи от 15 и 19 июля 1918 г.: “Косить пришлось в общем около 6 часов; отмечаю это, как небезынтересное явление в жизни почтенного профессора, желающего до конца отстаивать свой угол. Странное дело, когда косишь, то все мерещатся воспоминания о прошлых путешествиях. Хоть бы когда-нибудь еще выглянуть в широкий мир, вон из горильего царства! Сегодня грозит обычная лихорадка по случаю уборки сена”.
(обратно)329
Александровский В. “Взрывайте!” (1918) // Политехническом “Вечер новой поэзии”: Стихи участников поэтических вечеров в Политехническом. 1917–1923. Статьи. Манифесты. Воспоминания / Сост. Вл. Муравьев. М.: Московский рабочий, 1987.
(обратно)330
Селищев А. Язык революционной эпохи. С. 89.
(обратно)331
Там же. С. 121–122.
(обратно)332
Рабочая жизнь. 1918. № 18. С. 7; № 1. С. 2.
(обратно)333
Архив Международного института социальной истории в Амстердаме, Архив Анжелики Балабановой [Angelica Balabanoff], архивный документ 223.
(обратно)334
ГАРФ, 4537/1/831, 74–75 (доклад во ВСЕРОКОМПОМ).
(обратно)335
Dune E. M. Notes of a Red Guard. P. 230.
(обратно)336
Эта история в числе многих других обсуждалась группой женщин, родители которых были репрессированы в 1930-е гг. Интервью, Москва, 7 марта 1997 г.
(обратно)337
Borodin N. M. One Man and His Time. P. 56–57.
(обратно)338
ГАРФ, 4347/1/94, 101.
(обратно)339
ГАРФ, 4347/1/94, 70.
(обратно)340
Это явление обсуждалось на страницах “Психиатрической газеты” с 1914 г. (см., например, статьи Н. А. Юрмана в № 9 (1915), с. 139–143 и В. В. Хорошко в № 1 (1916), с. 3. См. также: Преображенский С. Материалы к вопросу о душевных заболеваниях воинов и лиц, причастных к военным действиям. Петроград, 1917. Подробнее об этом можно прочитать у: Merridale C. “The Collective Mind: Trauma and Shell-shock in Twentieth Century Russia” // Journal of Contemporary History. 2000. January. Vol. 35. № 1. P. 39–55. Общая история боевого посттравматического синдрома представлена в книге: Young A. The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. Princeton: Princeton University Press, 1996. P. 25–66.
(обратно)341
Патриотическая критика нового диагноза представлена в одной из статей “Олонецкой недели”, № 42 (1914), с. 6.
(обратно)342
ГАРФ, 4347 (опись каталога, документирующего роль ВСЕРОКОМПОМА).
(обратно)343
ГАРФ, 4347/1/853, 11–16.
(обратно)344
ГАРФ, 4347/1/854, 3.
(обратно)345
ГАРФ, 4347/1/831, 75.
(обратно)346
Большевик. 1925. № 21–22. С. 61–74.
(обратно)347
Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб.: Медуза, 1993. С. 281.
(обратно)348
Лебина Н. “Теневые стороны жизни советского города 20–30-х годов” // Вопросы истории. 1994. № 2. C. 36.
(обратно)349
Эткинд А. Эрос невозможного. С. 222. См. также: Известия. 1925. 26 апреля; Гернет М. Преступность и самоубийства во время войны и после нее. М.: Издательство ЦСУ СССР, 1927. С. 11.
(обратно)350
Лейбович Я. 1000 современных самоубийств. C. 2–7. Cм. также: Гернет М. Преступность и самоубийства. С. 217–223.
(обратно)351
Лейбович Я. 1000 современных самоубийств. C. 4.
(обратно)352
Там же. С. 9.
(обратно)353
“Партийная этика”, переиздано: М., 1989. С. 246.
(обратно)354
Лебина Н. “Теневые стороны жизни советского города”. С. 36.
(обратно)355
Эткинд А. Эрос невозможного. С. 221.
(обратно)356
Воспоминания советского нейрофизиолога Натальи Трауготт цитирует Александр Эткинд: Эткинд А. Эрос невозможного. С. 253.
(обратно)357
Эткинд А. Эрос невозможного. С. 243.
(обратно)358
Залкинд А. “Общество психоневрологов-материалистов” // Естествознание и марксизм: Орган секции естественных и точных наук Коммунистической академии. 1929. № 2. С. 216.
(обратно)359
Цит. по: Joravsky D. Russian Psychology: A Critical History. Oxford: Oxford University Press, 1989. P. 250. Следует заметить, что, выступая в январе 1924 г. на Втором психоневрологическом конгрессе в Москве, Лев Выготский обрушился с критикой на взгляды Бехтерева и Павлова, притязавших на объективную и рациональную науку о человеке. Позиции Бехтерева и Павлова симпатизировали многие партийные идеологи, в частности, Бухарин. Именно там Выготский сформулировал свой известный ироничный тезис: “Человек – это вовсе не кожаный мешок, наполненный рефлексами, и мозг не гостиница для случайно останавливающихся рядом условных рефлексов”. Выготский Л. С. “Сознание как проблема психологии поведения” // Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 томах. М.: Педагогика, 1982. Т. 1. С. 81, также цитируется в книге: Smith R. Between Mind and Nature: A History of Psychology. Reaktion Books, 2013. P. 230.
(обратно)360
Интервью с психиатром, д.м.н. Валентином Абабковым, ныне Президентом Российского общества психиатров и профессором Отделения неврозов и психотерапии Института им. В. М. Бехтерева, Санкт-Петербург, октябрь 1997 г.
(обратно)361
Интервью с к.м.н. Алексеем Смирновым, Санкт-Петербург, октябрь 1997 г.
(обратно)362
Селищев А. Язык революционной эпохи. С. 132.
(обратно)363
Там же. С. 123.
(обратно)364
Подробнее о масштабах алкоголизации населения во время войны см.: Психиатрическая газета. 1916. № 1. С. 6. О сухом законе в те же годы см.: White S. Russia Goes Dry: Alcohol, State and Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 17–19.
(обратно)365
ГАРФ, 4547/1/854, 3.
(обратно)366
Подробнее о религии речь пойдет в следующей главе.
(обратно)367
РГАЛИ, 2950/1/126, 26.
(обратно)368
РГАЛИ, 2950/1/126, 5.
(обратно)369
РГАЛИ, 2950/1/126, 28–29.
(обратно)370
РГАЛИ, 2950/1/126, 1.
(обратно)371
Несколько лет спустя именно этот этнограф будет возражать против того, чтобы включить страшные, пугающие картинки в новые советские издания традиционных сказок для детей. Подробнее об этом читайте в главе 9, с. 308–309.
(обратно)372
Яковлев Я. Деревня как она есть: очерки Никольской волости. М.; Л.: Государственное издательство, 1925. C. 7–8.
(обратно)373
Sorokin P. Leaves From a Russian Diary. P. 270–271.
(обратно)374
Дневник Ю. В. Готье, запись от 7 мая 1921 г. “Пасха победила 1 мая; таково, по крайней мере, мое впечатление, вынесенное более из рассказов, чем из личных впечатлений. Митинги не удались; колокола звонили вовсю; представления на улицах были простыми праздничными гуляниями”.
(обратно)375
“Письмо Комиссариата юстиции Союза коммун Северной области – Президиуму Петросовета о необходимости исследования мощей св. Александра Невского” // Щапов Я. Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство, 1917–1941, документы и фотоматериалы. М.: Библейско-богословский институт Святого Апостола Андрея, 1996. C. 56–58.
(обратно)376
О религиозных верованиях в Калужской губернии в 1919 г.: РЦХИДНИ, 364/2/1,154.
(обратно)377
Дневник Ю. В. Готье, запись от 2 мая 1918 г.
(обратно)378
“Циркуляр VIII отдела Наркомата юстиции – Всем губисполкомам и губкомпартам”, 1 апреля 1921 года” // Щапов Я. Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство. С. 61–62.
(обратно)379
“Предложение Наркомата юстиции о ликвидации мощей во всероссийском масштабе” // Щапов Я. Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство. С. 60.
(обратно)380
Дневник Ю. В. Готье, запись от 17 апреля 1919 г.
(обратно)381
Там же.
(обратно)382
“Предложение Троцкого Л. Д. от 9 апреля 1922 г.” // Щапов Я. Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство. С. 105–106.
(обратно)383
Яковлев Я. Деревня как она есть: очерки Никольской волости. М.; Л.: Государственное издательство, 1925. C. 131–132.
(обратно)384
Блеф (англ.).
(обратно)385
Дневник Ю. В. Готье, запись от 8 февраля (26 января) 1918 г.
(обратно)386
Подробнее об этом в в Главе 10, с. 339–341, а также в: Geiger H. K. The Family in Soviet Russia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968. P. 148.
(обратно)387
Sorokin P. Leaves from a Russian Diary. P. 229.
(обратно)388
Ibid. P. 230.
(обратно)389
Дневник Ю. В. Готье, запись от 18 ноября 1918 г.
(обратно)390
Дневник Ю. В. Готье, запись от 7 марта 1922 г. Когда в конце 1919 г. от диабета умерла жена Готье, Нина, главным затруднением в организации похорон стало сооружение гроба: “Все устроилось и быстро, и гладко – и администрация санатория, и местное духовенство были необыкновенно внимательны и предупредительны. Единственное осложнение было в сооружении гроба (это – характерная черта момента), теса не оказалось нигде, и чтоб сделать его, разломали перегородку в оранжерее; тем не менее гроб был все же готов в понедельник утром. В 1 час дня ее перенесли в церковь; в 5 часов была совершена заупокойная всенощная” (см. запись от 10 декабря 1919 г.).
(обратно)391
ГАРФ, 482/4/31, 40.
(обратно)392
ГАМО, 4557/1/50, 2 (норма установлена в январе 1919 г.).
(обратно)393
ЦГА СПб, 142/1/24, 1.
(обратно)394
ГАМО, 4557/1/48, 15.
(обратно)395
ГАРФ, 4390/12/40, 7.
(обратно)396
ЦГА СПб, ф. 7455, оп. 2, д. 20, январь/февраль 1920, лл. 1–5.
(обратно)397
ЦГА СПб, 7455/2/20, 3.
(обратно)398
ГАМО, 4557/1/54, 1.
(обратно)399
ГАМО, 4557/1/54, 2.
(обратно)400
ГАМО, 4557/1/48, 13–14.
(обратно)401
ГАРФ, 4390/12/40, 33.
(обратно)402
ГАМО, 4557/1/48, 14.
(обратно)403
Там же.
(обратно)404
ГАРФ, 4390/12/40, 17 (январь 1919 г.).
(обратно)405
ГАРФ, 4390/12/40, 17.
(обратно)406
ГАМО, 4557/1/48, 15.
(обратно)407
ГАМО, 4557/1/48, 11.
(обратно)408
ГАМО, 4557/1/48, 11–12.
(обратно)409
ГАМО, 4557/1/51, 5.
(обратно)410
ГАМО, 4557/1/51, 17–18.
(обратно)411
ЦГА СПб, 1001/10, 77, 73. Джорогов предложил украсить вход цитатой из Евангелия от Матфея, 11:28.
(обратно)412
ЦГА СПб, 1001/3/177, 1–2.
(обратно)413
ЦГА СПб, 1001/10/77, 49–50.
(обратно)414
ЦГА СПб, 1001/10/77, 47.
(обратно)415
ЦГА СПб, 1001/10/77, 15–23.
(обратно)416
ЦГА СПб, 1001/10/77, 6.
(обратно)417
ЦГА СПб, 3199/20/5, 1.
(обратно)418
ГАРФ, 9531/1/16,1.
(обратно)419
Московский некрополь. История, археология, искусство, охрана / Под ред. Э. Шулеповой. М.: Московский фонд культуры ПТО “Центр”, 1991. С. 50.
(обратно)420
Там же. С. 49.
(обратно)421
Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб), 32/1/8, 16.
(обратно)422
Cм.: Коммунальный работник. 1924. № 13, 14.
(обратно)423
ГАРФ, 5263/1/12, 226.
(обратно)424
Протоирей Дмитрий Константинов. Зарницы духовного возрождения: Русская Православная Церковь в СССР в конце 60-х и начале 70-х гг. Канада: Заря, 1973. С. 19.
(обратно)425
“Старые социалисты-утописты воображали, что социализм можно построить с другими людьми, что они сначала воспитают хорошеньких, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм. Мы всегда смеялись и говорили, что это кукольная игра, что это забава кисейных барышень от социализма, но не серьезная политика. ‹…› Мы хотим строить социализм немедленно из того материала, который нам оставил капитализм со вчера на сегодня, теперь же, а не из тех людей, которые в парниках будут приготовлены. ‹…› Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем”. Ленин В. И. Собрание сочинений. Т. 29. C. 51–52.
(обратно)426
Письмо Ленина В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 г. с грифом “строго секретно”: “Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и потому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету. Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало”. ЦПА ИМЛ, ф. 2.0.1, ед. хр. 22947. См.: Щапов Я. Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство. С. 88–91.
(обратно)427
“Письмо митрополита Петроградского и Гдовского Вениамина в Петроградский губисполком от 12 марта 1922 г.” // Щапов Я. Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство. С. 80–83.
(обратно)428
“Письмо Ленина В. М. Молотову для членов Политбюро ЦК РКП(б) от 19 марта 1922 г.” // Щапов Я. Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство. С. 88–91.
(обратно)429
“В Москве, Петрограде, Шуе, Иваново-Вознесенске, Смоленске, Старой Руссе состоялись судебные процессы с последующими массовыми расстрелами духовенства и других участников сопротивления изъятию ценностей. В Петрограде – 80 обвиняемых и 4 смертных приговора, в том числе митрополиту Вениамину; в Москве 154 обвиняемых, 11 смертных приговоров”. Щапов Я. Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство. С. 69; ЦГАЛИ СПб, 1001.9/46, 1. Интервью с отцом Агапием, март 1997 г.
(обратно)430
ГАРФ, 5263/1/7, 71–72.
(обратно)431
Булгаков М. “Мастер и Маргарита”.
(обратно)432
Безбожник у станка. 1923. № 6; РЦХИДНИ, 364/2/1, 124 (материалы о соблюдении религиозных ритуалов среди коммунистов).
(обратно)433
Ильф И., Петров Е. “Двенадцать стульев” // Ильф И., Петров Е. Собрание сочинений. Т. 1. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961. C. 27.
(обратно)434
Устав этого общества хранится в Центральном государственном архиве города Москвы (ЦГА Москвы), 2512/1/1.
(обратно)435
Безбожник у станка. 1923. № 3. C. 4.
(обратно)436
Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 81.
(обратно)437
Протоиерей Дмитрий Константинов. Зарницы духовного возрождения. С. 8.
(обратно)438
Geiger H. K. The Family in Soviet Russia. P. 124–125.
(обратно)439
На самом деле церквей в Ленинграде и области оставалось всего пять, и все, по словам Шапориной, были заполнены до отказа на Пасху в 1938 и 1939 гг. Шапорина Л. Дневник. Т. 1. М.: Новое литературное обозрение, 2001. C. 233; Щапов Я. Н. Русская православная церковь и коммунистическое государство. С. 32, см. также: Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia. P. 79–81.
(обратно)440
ГАРФ, 5263/1/12, 7–8.
(обратно)441
ГАРФ, 5707/1/150, 31 (в документах приводится история одного антирелигиозного пропагандиста, который у себя дома сохранил лампады).
(обратно)442
Об истории послевоенного ритуала будет более подробно рассказано в Главе 9.
(обратно)443
Интервью с отцом Агапием (Москва, февраль 1997 г.) и матушкой Леонидой (Санкт-Петербург, октябрь 1997 г.).
(обратно)444
Интервью с доктором культурологии, кандидатом филологических наук Еленой Ивановной Волковой, Москва, ноябрь 1997 г.
(обратно)445
Шапорина Л. Дневник. Т. 1. C. 229–230.
(обратно)446
РЦХИДНИ, 89/5/36, 7.
(обратно)447
Шмальгаузен И. Проблема смерти и бессмертия. М.; Л.: Госиздат, 1926. C. 91.
(обратно)448
Рожицын В. Существует ли загробная жизнь? Киев: Главполитпросвет УССР, 1923. C. 6.
(обратно)449
РЦХИДНИ, 89/53/36, 7.
(обратно)450
Пример подобных похорон приводится: Петроградская правда. 1918. 13 июня.
(обратно)451
Петроградская правда. 1918. 22–26 июня.
(обратно)452
Петроградская правда. 1918. 10 октября.
(обратно)453
Петроградская правда. 1918. 23 марта/5 апреля.
(обратно)454
Там же.
(обратно)455
ЦГА СПб, 1000/3/75.
(обратно)456
Дневник Ю. В. Готье, записи от 18 апреля 1918 г. и 22 января 1919 г.
(обратно)457
Подробнее о Каменеве см.: Merridale C. “The Making of a Moderate Bolshevik: An Introduction to L. B. Kamenev’s Political Biography” // Soviet History, 1917–1953: Essays in Honour of R. W. Davies / Ed. by Julian Cooper, Maureen Perrie and E. A. Rees. Houndsmills: Palgrave Macmillan, 1995. Я благодарна Олегу Данилову из ГАРФа, который поделился со мной подробностями работы Каменева, в том числе рассказал мне о том самом обеде, организованном Каменевым и его женой.
(обратно)458
Нина Тумаркин, цитируя книгу Николая Валентинова “НЭП и кризис партии после смерти Ленина”, пишет: “Валентинов, побывавший у гроба, увидел в происходящем проявление российского отношения к смерти и свидетельство неподдельной народной любви к вождю: ‘В течение трех дней сотни тысяч людей непрерывным потоком шли к гробу «проститься с Лениным». Шли и днем, и ночью. Холод, мороз стоял нестерпимый, люди зябли, простуживались и все-таки стойко целыми часами дожидались очереди пройти к гробу. Мне кажется, что у русского народа есть гораздо большее, чем у других народов, особое мистическое любопытство, какая-то тяга посмотреть вообще на труп, на покойника, на умершего, в особенности, если покойник тем или иным выделялся из общего ранга” (Tumarkin N. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1983. P. 141).
(обратно)459
Ibid. P. 112–133.
(обратно)460
РЦХДНИ, 16/1/47,17. Нина Тумаркин приводит разнообразные реакции на публикацию результатов вскрытия Ленина: “Уолтер Дюранти в газетной статье обратил внимание на то, что отчет не произвел на россиян удручающего впечатления, и счел это очередным доказательством разницы между восточным и западным восприятием: «В странах Запада публикация исключительно подробного отчета о вскрытии вызвала бы ужас и отвращение, но русские смотрят на этот предмет иначе; дело в том, что умерший вождь являлся объектом такого пристального интереса, что публика желала знать о нем все». Судя по мнению Валентинова и его друзей, можно предположить, что в среде тогдашней беспартийной московской интеллигенции отчет вызвал потрясенное недоумение. «Кажется, никогда еще и нигде в мире не представляли, – писал Валентинов, – умерших правителей страны, царей, королей и т. д., в таком обнаженном до последней, до крайней анатомической степени виде. Никаких анатомических секретов, все показано». Товарищ Валентинова, Е. Л. Смирнов считал, что в отчете нашел отражение характерный для большевиков сугубо материалистический подход к человеческой природе. Еще один его коллега добавляет: «Мы знали Ленина как вождя революции, законодателя, правителя страны, если хотите – диктатора, заменившего династию царей. Можем ему симпатизировать или не симпатизировать, это дело наших убеждений. Но Ленин – человек, это психика, а нам его потрошат, выворачивают наружу и этим как бы внушают: Ленин только материя, только собрание такого-то характера и состояний полушарий головного мозга, кишок, брюшной полости, сердца, почек, селезенки. В этом есть нечто шокирующее»” (Tumarkin N. Lenin Lives! P. 170).
(обратно)461
См. Лопухин Ю. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина. М.: Республика, 1997.
(обратно)462
РЦХИДНИ, 16/1/34, в разных частях документов.
(обратно)463
РЦХИДНИ, 16/1/112, 1–4.
(обратно)464
Лопухин Ю. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина. С. 65.
(обратно)465
Tumarkin N. Lenin Lives! P. 140.
(обратно)466
Интервью, 14 февраля 1997 г.
(обратно)467
РЦХИДНИ, 16/1/20, 16.
(обратно)468
РЦХИДНИ, 16/1/34, 1.
(обратно)469
РЦХИДНИ, 16/1/20, 2.
(обратно)470
РЦХИДНИ, 16/1/16, 119.
(обратно)471
РЦХИДНИ, 16/1/28, 1–4.
(обратно)472
РЦХИДНИ, 16/1/22, 1.
(обратно)473
Лопухин Ю. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина. С. 65.
(обратно)474
РЦХИДНИ, 16/1/192, 1.
(обратно)475
Tumarkin N. Lenin Lives! P. 157–158.
(обратно)476
Ibid. P. 161.
(обратно)477
РЦХИДНИ, 16/1/16, 45.
(обратно)478
РЦХИДНИ, 16/1/352, 1–35.
(обратно)479
РЦХИДНИ, 16/1/352, 65.
(обратно)480
РЦХИДНИ, 16/1/91, 1.
(обратно)481
РЦХИДНИ, 16/1/100, 12.
(обратно)482
РЦХИДНИ, 16/1/112, 55.
(обратно)483
РЦХИДНИ, 16/1/100, 16.
(обратно)484
Ольминский М. “Критические статьи и заметки” // Пролетарская революция. 1931. № 1. С. 149–150, текст цитирует: Tumarkin N. Lenin Lives! P. 181.
(обратно)485
Tumarkin N. Lenin Lives! P. 179–180: “В решении превратить гробницу Ленина в святыню главную роль сыграли политические соображения. Но благодаря чему эта идея возникла? На этот сложный вопрос не существует однозначного ответа, но, учитывая обстоятельства, можно вычленить четыре ее предполагаемых источника: открытие гробницы египетского фараона Тутанхамона за год и три месяца до смерти Ленина; русская православная традиция, по которой нетленность останков служит свидетельством святости; влияние на большевистскую интеллигенцию философии Федорова, который видел спасение человека в воскресении во плоти; и, наконец, движение богостроительства в рамках большевизма, вознамерившееся сделать большевизм новой религией: один из главных его сторонников, Леонид Красин, осуществлял надзор за бальзамированием”.
(обратно)486
РЦХИДНИ, 16/1/21, 1; Лопухин Ю. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина. С. 67.
(обратно)487
РЦХИДНИ, 16/1/105, 13.
(обратно)488
Лопухин Ю. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина. С. 74.
(обратно)489
Там же.
(обратно)490
Tumarkin N. Lenin Lives! P. 188.
(обратно)491
Ibid. P. 194.
(обратно)492
Стоянов Н. Н. Архитектура мавзолея Ленина. М.: Государственное издательство архитектуры и строительства, 1950.
(обратно)493
Лопухин Ю. Болезнь, смерть и бальзамирование В. И. Ленина. С. 117.
(обратно)494
Более подробно о мумификации и увековечивании тела и памяти Ленина можно прочитать в недавнем исследовании на эту тему: Gray J. The Immortalization Commission: Science and the Strange Quest to Cheat Death. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2011.
(обратно)495
План. 1936. 10 декабря.
(обратно)496
Правда. 1937. 2 января.
(обратно)497
Из письма Краваля Молотову, цит. по: Поляков Ю. А., Жиромская В. Б., Киселев И. Н. “Полвека молчания (Всесоюзная перепись населения 1937 года)” // Социологические исследования. 1990. № 6. C. 8–9.
(обратно)498
Подробнее о переписи cм.: Merridale C. “The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule” // Historical Journal. 1996. Vol. 39. № 1. P. 225–240.
(обратно)499
Krunskal W. Research and the Census, доклад, представленный на Congressional Research Service (Вашингтон, 26–27 января 1983 г.).
(обратно)500
Записка начальника УНХУ Украины Кустоляна на имя И. А. Краваля от 10 января 1937 г. Документ находится в собрании Российского государственного архива экономики (РГАЭ), 1562/329/143, 121. Цит. по: Поляков Ю. А., Жиромская В. Б., Киселев И. Н. “Полвека молчания”. С. 8. Авторы упоминают, что с июля того же года работа начальника бюро переписи населения Кустоляна в бумагах УНХУ будет упоминаться как действия “арестованного врага народа” (РГАЭ, д. 151, л. 93).
(обратно)501
РГАЭ, 1562/329/152, 8–9.
(обратно)502
Подробнее см.: Wheatcroft S. G., Davies R. W. “Population”. P. 76–77, а также: Андреев Е., Дарский И., Харькова Т. “Опыт оценки численности населения СССР, 1926–1941 гг.” // Вестник статистики. 1990. № 7. C. 34–47.
(обратно)503
РГАЭ, 1562/329/107, 157.
(обратно)504
Там же.
(обратно)505
The Foreign Office and the Famine: British Documents on Ukraine and the Great Famine of 1932–1933 / Ed. by Marco Carynnyk, Lubomyr Luciuk and Bohdan S. Kordan. Kingston, Ontario: Taylor & Francis, Ltd., 1988. P. 290.
(обратно)506
Ukrainian National Council in Canada, 15 сентября 1933 г. The Foreign Office and the Famine. P. 341.
(обратно)507
Oral History Project of the Commission on the Ukrainian Famine / Ed. by James E. Mace and Leonid Heretz. Washington D. C.: U. S. G. P.O., 1990. P. 55.
(обратно)508
Недавние примеры подобных переведенных работ можно найти в сборнике: Oral History Project of the Commission on the Ukrainian Famine. Лидия Коваленко и Владимир Маняк собрали тысячу устных свидетельств от переживших голодомор и издали сборник: 33-й: голод: Народна Книга-Меморіал. Киев: Радянський письменник, 1991.
(обратно)509
Некоторые добрались до Китая, другие бежали в европейскую часть России или в Сибирь. Если верить данным переписи населения 1937 г., многие из этих уцелевших жертв голода взяли себе новые этнические идентичности.
(обратно)510
Луиза Пассерини ставит под сомнение результаты исследование Хубовой (на мой взгляд, ошибочно) в своем предисловии к специальному выпуску: International Yearbook of Oral History and Life Stories. Vol.1: Memory and Totalitarianism. Oxford: Oxford University Press, 1992. P. 14.
(обратно)511
Интервью, Москва, февраль 1997 г.
(обратно)512
Цитируется по книге: Conquest R. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-famine. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 256.
(обратно)513
Fitzpatrick S. Stalin’s Peasants: Resistance and Survival in the Russian Village After Collectivization. Oxford: Oxford University Press, 1994. P. 75–76. Подробнее о том, как обстояли дела в Ленинградской области, см.: Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda, and Dissent, 1934–1941. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 55–56.
(обратно)514
Кондрашин В. “Голод 1932–1933 годов в деревнях Поволжья” // Вопросы истории. 1991. № 6. С. 176–181; Кондрашин В. Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М.: РОССПЭН, 2008.
(обратно)515
Интервью, Киев, 23 мая 1998 г.
(обратно)516
Их донесения хранятся в РГАЭ, фонд 1562. См. Merridale C. “The 1937 Census and the Limits of Stalinist Rule”.
(обратно)517
23 мая 1933 г., цит. по: The Foreign Office and the Famine. P. 262.
(обратно)518
Цит. по: Davies R. W. Soviet History in the Gorbachev Revolution. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1989. P. 52.
(обратно)519
Цит. по: Oral History Project of the Commission on the Ukrainian Famine. P. 62.
(обратно)520
Там же.
(обратно)521
Дневник Ю. В. Готье, запись от 29 декабря 1919 г.
(обратно)522
Fisher H. The Famine in Soviet Russia. P. 49.
(обратно)523
Sorokin P. Leaves from a Russian Diary. P. 284.
(обратно)524
Fisher H. The Famine in Soviet Russia. P. 506.
(обратно)525
Ibid. P. 15.
(обратно)526
Ibid. P. 556–557.
(обратно)527
Ibid. P. 96–98.
(обратно)528
ГАРФ, 482/4/247, 4. Fisher H. The Famine in Soviet Russia. P. 108.
(обратно)529
ГАРФ, 482/4/247, 4; 482/4/336, 109.
(обратно)530
Sorokin P. Leaves from a Russian Diary. P. 284–285.
(обратно)531
Fisher H. The Famine in Soviet Russia. P. 98.
(обратно)532
Например, это верно в отношении Оренбурга. Fisher H. The Famine in Soviet Russia. P. 109.
(обратно)533
Borodin N. M. One Man and His Time. P. 35–36.
(обратно)534
Цит. в книге: Harding N. Lenin’s Political Thought. P. 19.
(обратно)535
Коммунальный работник. 1921. № 5–6. Август-сентябрь. С. 1.
(обратно)536
Василевская Л., Василевский Л. Книга о голоде. С. 174–176.
(обратно)537
Fisher H. The Famine in Soviet Russia. P. 222.
(обратно)538
РЦХИДНИ, 89/4/121, 3.
(обратно)539
Litvinenko O., Riordan J. Memories of the Dispossessed: descendants of kulak families tell their stories. Nottingham: Bramcote Press, 1998. P. 54–55.
(обратно)540
Ibid. P. 66, 80.
(обратно)541
Цит. в книге: Davies R. W. The Socialist Offensive: The Collectivization of Soviet Agriculture, 1929–1930. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1980. P. 233.
(обратно)542
О раскулачивании и о кулаках в целом см.: Conquest R. The Harvest of Sorrow. P. 117–143; Merl S. “Socio-economic Differentiation of the Peasantry” // From Tsarism to the New Economic Policy. P. 47–65; Viola L. “The Second Coming: Class Enemies in the Soviet Countryside, 1927–1935” // Stalinist Terror: New Perspectives / Ed. by John Arch.Getty and Roberta T. Manning. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. P. 65–98. См. также: Неизвестная Россия: XX век. М., 1992. Т. 1. С. 238–239.
(обратно)543
Правда. 1988. 16 сентября. С. 3; Wheatcroft S. G., Davies R. W. “Population”. P. 68.
(обратно)544
Свод свидетельств об этой борьбе можно найти в статье: Васильев В. “Крестьянские восстания на Украине. 1929–1930 годы” // Свободная мысль. 1992. № 9. С. 70–78, 74.
(обратно)545
Цитируется по книге: Davies, The Socialist Offensive. P. 214.
(обратно)546
Khubova D., Ivankiev A., Sharova T. “After Glasnost’: Oral History in the Soviet Union” // International Yearbook of Oral History and Life Stories. P. 70.
(обратно)547
Иллюстрацию этого можно найти в книге: Viola L. The Best Sons of the Fatherland: Workers in the Vanguard of Soviet Collectivization. New York, Oxford: Oxford University Press, 1987.
(обратно)548
Так сам Виктор Кравченко объяснил свое желание покинуть страну в воспоминаниях о коллективизации: Kravchenko V. Chose Freedom. London, 1947. P. 114–115.
(обратно)549
Васильев В. “Крестьянские восстания на Украине”. С. 70–78.
(обратно)550
Цит. в книге: Conquest R. The Harvest of Sorrow. P. 148.
(обратно)551
International Yearbook of Oral History and Life Stories. P. 71.
(обратно)552
Kravchenko V. Chose Freedom. P. 108.
(обратно)553
Гроссман В. “Все течет”.
(обратно)554
Litvinenko O., Riordan J. Memories of the Dispossessed. P. 36.
(обратно)555
Fitzpatrick S. Stalin’s Peasants. P. 57.
(обратно)556
Интервью, Киев, 23 мая 1998 г.
(обратно)557
International Yearbook of Oral History and Life Stories. P. 74.
(обратно)558
Merl S. “Socio-economic Differentiation of the Peasantry”. P. 60.
(обратно)559
International Yearbook of Oral History and Life Stories. P. 70.
(обратно)560
Davies R. W. The Socialist Offensive. P. 257.
(обратно)561
Litvinenko O., Riordan J. Memories of the Dispossessed. P. 56.
(обратно)562
Интервью, Москва, 8 февраля 1997 г.
(обратно)563
Litvinenko O., Riordan J. Memories of the Dispossessed. P. 41.
(обратно)564
Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. Т. 3. Нью-Йорк, 1978, С. 360.
(обратно)565
Там же. C. 145.
(обратно)566
Меморандум Сэру Джону Саймону, 27 сентября 1993 г. The Foreign Office and the Famine. P. 318.
(обратно)567
33-й: голод: Народна Книга-Меморіал. C. 253.
(обратно)568
Там же. С. 252.
(обратно)569
Second Interim Report of Meetings and Hearing Before the Commission on the Ukrainian Famine Held in 1987. Washington D. C., 1988. P. 20–21.
(обратно)570
33-й: голод: Народна Книга-Меморіал. C. 253.
(обратно)571
Conquest R. The Harvest of Sorrow. P. 256–258.
(обратно)572
The Foreign Office and the Famine. P. 290.
(обратно)573
Печально знаменитый закон о “трех колосках” (также закон “семь восьмых”, “закон от седьмого-восьмого”, указ “7–8”) о защите социалистической собственности, по которому многие тысячи крестьян были приговорены к смерти или к исправительно-трудовым лагерям за то, что подбирали на поле оставшиеся после сбора урожая колоски или искали пропитание, копаясь в мусоре, был принят 7 августа 1932 г.
(обратно)574
Копелев Л. Воспитание истинно верующего. Нью-Йорк, 1978. C. 11–12.
(обратно)575
Подробнее об этом в следующей главе.
(обратно)576
Большевицкая правда. 1932. 26 и 29 декабря.
(обратно)577
Васильев В. “Крестьянские восстания на Украине”. С. 74.
(обратно)578
О вооруженном сопротивлении см.: Kuromiya H. Freedom and Terror in Donbass. P. 189–190.
(обратно)579
Ibid. P. 156.
(обратно)580
The Foreign Office and the Famine. P. 342.
(обратно)581
РГАЭ, 1562/329/107, 157–158.
(обратно)582
Conquest R. The Harvest of Sorrow. P. 142.
(обратно)583
Колективізація і голод на Україні: 1929–1933. Збірник матеріалів і документів / Коллективизация и голод на Украине: 1929–1933. Сборник материалов и документов / Под ред. С. В. Кульчицкого. Киев: Наукова думка, 1992. С. 642.
(обратно)584
Fitzpatrick S. Stalin’s Peasants. P. 80.
(обратно)585
Шаламов В. “Сухим пайком” // Шаламов В. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М.: Художественная литература; Вагриус, 1998. С. 34–47.
(обратно)586
Интервью, Москва, февраль 1997 г.
(обратно)587
Passerini L. Fascism in Popular Memory: The Cultural Experienceof the Turin Working Class / Trans. by Robert Lumley ans Jude Bloomfeld. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. P. 1.
(обратно)588
Цит. в статье: Kotkin S. “Terror, Rehabilitation and Historical Memory: An Interview with Dmitrii Iurasov” // Russian Review. Vol. 51. April 1992. P. 262.
(обратно)589
Шаламов В. “По лендлизу” // Шаламов В. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М.: Художественная литература; Вагриус, 1998. С. 350–357.
(обратно)590
Считается, что данные о числе жертв репрессий, предложенные Робертом Конквестом (особенно в его хрестоматийной работе 1968 г. “The Great Terror”), значительно выше, чем те, что в среднем приняты у историков, и, возможно, даже выше данных, которые подтверждаются свидетельствами и фактами. См.: Bacon E. The Gulag at War: Stalin’s Forced Labor System in the Light of the Archives. Houndmills: Palgrave Macmillan, 1994. P. 6–22; Wheatcroft S. G. “More light on the Scale of Repression and Excess Mortality in the Soviet Union in the 1930s” // Stalinist Terror. P. 275–290.
(обратно)591
Среди тех, кто ввел в оборот этот тезис, были Лион Фейхтвангер и Ромен Роллан, которые верили, что “цель была значительнее”, как сформулировал это Роллан, чем подробности о той цене, которую пришлось заплатить за ее достижение. См. Medvedev R. Let History Judge. P. 475–476.
(обратно)592
Bacon E. The Gulag at War. P. 10. Согласно одной из российских калькуляций, основанной на самых разнообразных архивных документах и исследованиях, в 1940 г. размер населения ГУЛАГа составлял 3350 тысяч человек: Соколов А. Лекции по советской истории, 1917–1940. М.: Мосгорархив, 1995. С. 272. Другие цифры недавно предложили Олег Хлевнюк в статье “Принудительный труд в экономике СССР” (Свободная мысль. 1992. № 14. C. 73–84) и Виктор Земсков в статье “Заключенные в 1930-е годы: социально-демографические проблемы” (Отечественная история. 1997. № 4. C. 54–78).
(обратно)593
Земсков В. “Архипелаг Гулаг: глазами писателя и статистика” // Аргументы и факты. 1989. № 45.
(обратно)594
Bacon E. The Gulag at War. P. 31. Подробнее о “Мемориале” речь пойдет в Главе 11.
(обратно)595
Интервью, Киев, 26 мая 1998 г.
(обратно)596
Эта статья уголовного кодекса распространялась практически на все политические преступления, и ею каралась так называемая “контрреволюционная деятельность”.
(обратно)597
Шаламов В. “Сухим пайком” // Шаламов В. Собрание сочинений в четырех томах. С. 43.
(обратно)598
Автор выражает глубокую признательность Алексею Левинсону и сотрудникам Всероссийского центра изучения общественного мнения за подаренную возможность провести это интервью.
(обратно)599
См. Глава 11, c. 387–392.
(обратно)600
См. Глава 9, c. 329–330.
(обратно)601
Шаламов В. “Графит” // Шаламов В. Собрание сочинений в четырех томах. C. 105–109.
(обратно)602
Чехов А. “Остров Сахалин” // Чехов А. Собрание сочинений в двенадцати томах. Т. 10. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1956. С. 39–379. Развитие Приамурья, территории, прилегающей к морю, которую Российская империя присоединила в 1840-е гг., началось только в 1850-е гг.
(обратно)603
Свидетельства очевидцев можно найти в книге: Резникова И. Православие на Соловках: материалы по истории Соловецкого лагеря. СПб.: Мемориал, 1998. С. 37–81.
(обратно)604
Bacon E. The Gulag at War. P. 45.
(обратно)605
Первые серьезные сомнения по поводу доносов у историков появились в начале 1990-х гг., когда ненадолго открылся доступ к материалам следственных дел 1937–1938 гг. Выяснилось, что основой обвинительных материалов в следственных делах были признания, полученные во время следствия. При этом заявления и доносы как доказательство вины арестованного в следственных делах встречаются крайне редко. Глубокое исследование механизмов Большого террора вполне разъяснило причины такого положения. Организация массовых операций 1937–1938 гг. не предусматривала широкого использования доносов как основы для арестов. Хлевнюк О. “Причины «большого террора»” // Ведомости. 2017. 6 июля.
(обратно)606
Цит. по: Kuromiya H. Freedom and Terror in the Donbas: A Ukrainian-Russian Borderland, 1870s – 1990s. New York; Cambridge, England: Cambridge University Press, 1998. P. 184.
(обратно)607
Обсуждение экономических целей ГУЛАГа можно найти в книге: Bacon E. The Gulag at War. P. 124–126.
(обратно)608
Smith K. Remembering Stalin’s Victims: Popular Memory and the End of the USSR. Ithaca, New York; London: Cornell University Press, 1996. P. 24.
(обратно)609
Kuromiya H. Freedom and Terror in the Donbass. P. 146–147.
(обратно)610
Шаламов В. “Зеленый прокурор” // Шаламов В. Собрание сочинений в четырех томах. С. 531–571.
(обратно)611
Conquest R. Kolyma: The Arctic Death Camps. London; New York: Macmillan, 1978. P. 44–54; Bacon E. The Gulag at War. P. 53–60.
(обратно)612
Ibid. P. 126.
(обратно)613
Starkov B. “Narkom Ezhov” // Stalinist Terror. P. 34.
(обратно)614
Zizek S. The Plague of Fantasies. London; New York: Verso, 1997. P. 28.
(обратно)615
В марте 1921 г. на X съезде партии Ленин настоял на принятии важнейшей резолюции “О единстве партии”, запретившей любые фракции, которые могли бы в будущем стать “зародышами” новых партий и привести к ее распаду.
(обратно)616
Архив Анжелики Балабановой, дело 216, с. 5.
(обратно)617
Mandelstam N. Hope Against Hope: A memor. New York, 1970. P. 58; Мандельштам Н. Воспоминания. Т. 1. М.: Согласие, 1999. C. 70.
(обратно)618
В обращении М. Н. Рютина “Ко всем членам партии” и в докладе “Сталин и кризис пролетарской диктатуры”, написанных в 1932 г., Рютин возлагал ответственность за тяжелое положение в стране на Сталина, “великого агента, провокатора, разрушителя партии”, “могильщика России” и призывал к демократизации партийной жизни: “…Авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой колоссальное снижение реальной заработной платы рабочих и служащих, непосильные открытые и замаскированные налоги, инфляция, рост цен и падение стоимости червонца; авантюристическая коллективизация с помощью невероятных насилий, террора, раскулачивания, направленного фактически против середняцких и бедняцких масс деревни и, наконец, экспроприация деревни путем всякого рода поборов и насильственных заготовок привели всю страну к глубочайшему кризису, чудовищному обнищанию масс и голоду, как в деревне, так и в городах.…На всю страну надет намордник, бесправие, произвол и насилие, постоянные угрозы висят над головой каждого рабочего и крестьянина. Всякая революционная законность попрана!” Известия Центрального комитета КПСС. 1989. № 6. C. 103–115.
(обратно)619
Хлевнюк О. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М.: РОССПЭН, 2012. С. 154–155.
(обратно)620
Там же.
(обратно)621
Kuromiya H. Freedom and Terror in the Donbass. P. 177; см. также: Kravchenko V. I Chose Freedom. P. 130–131.
(обратно)622
Ваксберг А. “Как живой с живыми” // Литературная газета. 1988. 29 июня. С. 13.
(обратно)623
Medvedev R. Let History Judge. P. 263–272.
(обратно)624
Starkov B. “Narkom Ezhov”. P. 30.
(обратно)625
Наиболее известное изложение этой точки зрения можно обнаружить в книге: Getty J. A. The Origins of the Great Purges. После выхода книги немедленно послышались критические голоса, суммарный обзор которых приводит Джеффри Хоскинг в обзоре самой последней работы Гетти и Наумова “The Road to Terror”. См. также: Times Literary Supplement (TLS). 2000. January 28.
(обратно)626
Thurston R. “Fear and Belief in the USSR’s ‘Great Terror’: Response to Arrest, 1935–1939” // Slavic Review. 1986. Vol. 45. № 2; Fitzpatrick S. “The Impact of the Great Purges on Soviet Elites” // Stalinist Terror. P. 247–260; Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia: Terror, Propaganda and Dissent, 1934–1941. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 124–144. Видный исследователь ГУЛАГа, политической и экономической истории СССР эпохи сталинизма, автор книги о Сталине Олег Хлевнюк спорит с этой точкой зрения: “Сегодня мы знаем, что в 1937–1938 годах репрессии, то есть расстрелы и заключения в лагеря, обрушились по меньшей мере на 1 миллион 600 тысяч человек, 680 тысяч из них, по официальной статистике, были расстреляны. Речь идет всего лишь о двух годах нашей истории. И из этого огромного количества людей в лучшем случае около 100 тысяч относились к числу комсомольцев, партийных деятелей или просто членов партии. То есть достаточно незначительный процент людей среди жертв террора составляли так называемые номенклатурные работники и известные в стране деятели. Основная масса жертв террора – рядовые граждане страны, пострадавшие по причинам, которые долгое время оставались для нас неизвестными”. Олег Хлевнюк, курс “Эпоха Сталина” на Postnauka.ru.
(обратно)627
Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia. P. 132.
(обратно)628
Ibid. P. 124.
(обратно)629
Medvedev R. Let History Judge. P. 395–455; Reese R. R. “The Red Army and the Great Purges” // Stalinist Terror. P. 213–214.
(обратно)630
Judt T. “Justice as Theater” // Times Literary Supplement. 1991. January 18. P. 5–6.
(обратно)631
Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia. P. 119.
(обратно)632
Shentalinsky V. Arrested Voices: Resurrecting the Disappeared Writers of the Soviet Regime / Trans. by John Crowfoot. New York; London: Free Press, 1996. P. 70–71.
(обратно)633
Sennett R. Flesh and Stone: The Body and the City in Western Civilization. London: W. W. Norton and Company, 1994. P. 298–304.
(обратно)634
Разгон Л. Непридуманное. М.: Издательство “Захаров”, 2006. С. 321–322.
(обратно)635
Nove A. “Victims of Stalinism: How many?” // Stalinist Terror. P. 265–274.
(обратно)636
Colton T. J. Moscow: Governing the Socialist Metropolis. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. P. 286.
(обратно)637
В экспозиции музеев на Бутовском полигоне и Левашовской пустоши сегодня упомянуты имена наиболее известных жертв репрессий, останки которых покоятся в общих могилах.
(обратно)638
Информация почерпнута из материалов постоянной экспозиции музея “Левашовская пустошь”.
(обратно)639
Colton T. J. Moscow: Governing the Socialist Metropolis. P. 286.
(обратно)640
Интервью, Москва, 14 февраля 1997 г.
(обратно)641
Копелев Л. Хранить вечно. Кн. 2. М.: Книжный клуб, 1994. Гл. 28 “По «Оси»”.
(обратно)642
Там же. Кн. 1. Гл. 3 “Живой белогвардеец”: “Оказавшись сам в числе тех, против кого должны были обратиться проклятия и ненависть, я не изменил этих взглядов и очень заботился о том, чтобы не утратить способность «объективно» судить об истории и современности. В тюрьме я стал гораздо более последовательным сталинцем, чем когда-либо раньше. Пуще всего я боялся, чтобы моя боль, моя обида не застили глаза, не помешали видеть самое главное, самое существенное в жизни страны и мира. В этом был необходимый источник душевных сил, убежденность, что причастен к великому единству. Только так жизнь не утрачивала смысла – вся жизнь, прошлая и будущая. Ее смысл и цель определялись по сути религиозным – якобы рациональным, а в действительности почти мистическим – сознанием, основанным на вере в сверхчеловеческие силы единственно правильных идей, единственно праведной Партии. Но в этом сознании таилось еще и вполне индивидуалистическое самоутверждение: пусть мне худо, пусть я незаслуженно мучаюсь, но я не поддамся, и все равно есмь и буду честнее, разумнее, по-всякому лучше тех, кто меня обвиняет, судит, сторожит…”
(обратно)643
Осип Мандельштам, письмо Корнею Чуковскому от 17 апреля 1937 г.
(обратно)644
Mandelstam N. Hope Against Hope. P. 56–59; Мандельштам Н. “Прыжок”; “Внутри” // Мандельштам Н. Воспоминания. Кн. 1. C. 67–68, 91.
(обратно)645
Воспоминания Анны Лариной о последних годах жизни ее мужа, а также о ее собственном аресте, лагере и ссылке в нескольких частях были опубликованы в журнале “Знамя” (1988. №№ 10–12).
(обратно)646
Mandelstam N. Hope Against Hope. P. 276; Мандельштам Н. “Архив и голос” // Мандельштам Н. Воспоминания. Кн. 1. C. 330.
(обратно)647
Шапорина Л. Дневник. Т. 1. Запись от 10 октября 1937 г. М.: Новое литературное обозрение, 2011. C. 214. Дневник также цитируется в книге: Intimacy and Terror. P. 352–353.
(обратно)648
Ларина А. Незабываемое. М.: Издательство АПН, 1989. C. 43.
(обратно)649
Интервью, Москва, 7 марта 1997 г.
(обратно)650
Интервью, Москва, 13 февраля 1997 г.
(обратно)651
Mandelstam N. Hope Against Hope. P. 362; Мандельштам Н. “Первое мая” // Мандельштам Н. Воспоминания. Кн. 1. C. 428.
(обратно)652
Всеволод Мейерхольд, письмо В. М. Молотову, написанное в Бутырской тюрьме 2 января 1940 г. Цит. по: История России. 1917–1940 / Сост. В. А. Мазур и др.; под ред. М. Е. Главацкого. Екатеринбург, 1993.
(обратно)653
Там же.
(обратно)654
Цит. по: Shentalinsky V. Arrested Voices. P. 25.
(обратно)655
Шаламов В. “Женщина блатного мира” // Шаламов В. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. С. 40–52.
(обратно)656
Цит. по: Medvedev R. Let History Judge. P. 493.
(обратно)657
Цит. по: Шенталинский В. “Улица Мандельштама. Осип Мандельштам, повесть” // Шенталинский В. Рабы свободы: документальные повести. М.: Прогресс-Плеяда, 2009.
(обратно)658
Гинзбург Е. Крутой маршрут: хроника времен культа личности. М.: АСТ, 2015. Ч. II. Гл. 4 “Пароход «Джурма»”.
(обратно)659
Копылев Л. Хранить вечно. М.: Книжный клуб, 1994. Кн. 2. Гл. 29 “В больничке”.
(обратно)660
См. также: Conquest R. Kolyma. P. 91.
(обратно)661
Процент заключенных ГУЛАГа с высшим образованием был выше, чем у населения в целом, но оставался достаточно низким. Если верить цифрам, которые приводит Андрей Соколов, то в 1939 г. их доля составляла всего 2 % от общего числа заключенных, и только у 7 % узников было среднее образование. Соколов А. Лекции по советской истории, 1917–1940. С. 271.
(обратно)662
Bacon E. The Gulag at War. P. 148–149. См. также свидетельства из архива “Мемориала”, особенно рассказ Николая Ивановича Попова (фонд 1/3/4068) о смертности в Магадане во время войны.
(обратно)663
Автор выражает благодарность антропологу Пирсу Витебскому за информацию о современной Якутии. См. также материалы архива “Мемориала” (фонд 1/3/4068) об убийствах беглецов в этом регионе.
(обратно)664
Шаламов В. “Зеленый прокурор” // Шаламов В. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. С. 531–571.
(обратно)665
Шенталинский В. “Улица Мандельштама. Осип Мандельштам”.
(обратно)666
Интервью, Москва, 8 февраля 1997 г.
(обратно)667
Интервью, Москва, 17 февраля 1997 г.
(обратно)668
Воспоминания подпольщицы Надежды Викентьевны Хатченко. Alexiyevich S. War’s Unwomanly Face. Moscow, 1988. P. 227.
(обратно)669
Werth A. Russia at War. London, 1963. P. 520; Верт А. Россия в войне 1941–1945. М.: Воениздат, 2001. Гл. IV “Сталинград: личные впечатления”. C. 313.
(обратно)670
Великая Отечественная война, 1941–1945: события, люди, документы. М., 1990. C. 187.
(обратно)671
Берггольц О. “Февральский дневник” (1942) // Апрель. 1991. № 4 (1991).
(обратно)672
Интервью с врачами, работавшими в годы войны. Москва, март 1997 г.
(обратно)673
Mosse G. Fallen Soldiers. P. 85.
(обратно)674
Этот вопрос обсуждает Марк фон Хаген в своей статье “From Great Fatherland War to the Second World War” [“От Великой Отечественной ко Второй мировой войне”] в сборнике: Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison / Ed. by Ian Kershaw and Moshe Lewin. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 237–250.
(обратно)675
Hagen M. von. “From Great Fatherland War to the Second World War”. P. 246. О послевоенном обществе повествует глава 9 этой книги.
(обратно)676
См. комментарии Юдифи Борисовны в главе 11, стр. 392.
(обратно)677
Bacon E. The Gulag at War. P. 148–149.
(обратно)678
Басилов В. Н. “К 50-летию победы над германским фашизмом” // Этнографическое обозрение. 1995. № 2. C. 3–21.
(обратно)679
Werth A. Russia at War. P. 890; Верт А. Россия в войне 1941–1945. Ч. 7. Гл. VIII “Люблин. Лагерь смерти Майданек: личные впечатления”. C. 555–566.
(обратно)680
Werth A. Russia at War. P. xvi; Алесандр Верт, предисловие к русскому изданию: России в войне 1941–1945.
(обратно)681
Интервью, Киев, 23 мая 1998 г.
(обратно)682
Overy R. Russia’s War: A History of the Soviet Effort: 1941–1945. London: Penguin Books, 1997. P. 287.
(обратно)683
Интервью с врачами-ветеранами, Москва, март 1997 г.
(обратно)684
Басилов В. Н. “К 50-летию победы над германским фашизмом”. С. 8; Werth A. Russia at War. P. 388–389. Мехлис был немедленно понижен в звании до корпусного комиссара и снят с поста заместителя наркома обороны и начальника Главполитуправления, однако причина, по которой он впал в такую немилость, никогда не афишировалась.
(обратно)685
Об этом странном наращивании статистики пишет Нина Тумаркин: Tumarkin N. The Living and the Dead. P. 134–136. См. также: Ellman M., Maksudov S. “Soviet Deaths in the Great Patriotic War: A Note” // Europe-Asia Studies. Vol. 46. 1994. № 4. P. 671–680.
(обратно)686
Erickson J. “Soviet War Losses” // Barbarossa: The Axis and the Allies / Ed. by John Erickson and David Dilks. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994. P. 257–277.
(обратно)687
О российской статистике: Erickson J. “Soviet War Losses”. Главным источником, на который опираются сторонники более высокой цифры потерь, остается: Козлов В. “О людских потерях Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов” // История СССР. 1989. № 2. C. 132–138.
(обратно)688
Davies R. W. Soviet History in the Gorbachev Revolution. P. 107.
(обратно)689
Симонов К. “Ты помнишь, Алеша…”.
(обратно)690
РЦХИДИ, 89/11/1, 9.
(обратно)691
Москва военная 1941/45. Мемуары и архивные документы / Под ред. Константина Букова, Михаила Горинова и Анатолия Понамарева. М.: Мосгорархив, 1995. С. 42–44.
(обратно)692
Alexiyevich S. War’s Unwomanly Face. Moscow, 1988. P. 107; глава “Это была не я”.
(обратно)693
Ibid. P. 33; глава “О клятвах и молитвах”.
(обратно)694
Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 2. Кн. V. М.: Советский писатель, 1990. С. 232–397.
(обратно)695
Москва военная 1941/45. С. 52.
(обратно)696
Симонов К. Живые и мертвые. М.: Художественная литература, 1989. С. 177.
(обратно)697
Книшевский П. Н. “Г. К. О: методах мобилизации трудовых ресурсов” // Вопросы истории. 1994. № 2. C. 55.
(обратно)698
Цит. по: Werth A. Russia at War. P. 418.
(обратно)699
Интервью, Санкт-Петербург, 22 октября 1997 г.
(обратно)700
“В 1930-м и в 1933-м и тем паче в 1937–1938 годах, мне бывало жутко, наваливалась злая тоска. Но я убеждал себя, как привык и приучился раньше: «ошиблись, перегнули, не учли» ‹…› Понятия совести, честности, гуманности мы считали идеалистическими предрассудками, интеллигентскими или буржуазными и, тем самым, порочными. Все это я стал сознавать по-настоящему значительно позже, много лет спустя. Но уже в последние месяцы войны я ощущал это, как неотвратимо нараставшую угрозу. И тогда же впервые начал задумываться и решил, что нам недостает абсолютных, догматически прочных нравственных норм. Релятивистская мораль – дескать, все относительно; все, что полезно нам, – хорошо, а все, что полезно врагу, – плохо, – которую мы исповедуем, называя диалектикой, в конце концов вредит нам же, вредит социализму, воспитывает безнравственных ремесленников смерти. Сегодня они резво убивают врагов – настоящих или мнимых, воображаемых, завтра так же легко будут убивать своих… Когда я говорил об этом, когда спорил, стараясь убедить – нельзя, чтобы наши солдаты убивали и мучили пленных, нельзя грабить польских и немецких крестьян, – я был озабочен прежде всего – если не только – мыслями о нашей стране, о нашем общественном строе”. Лев Копелев, “Хранить вечно”, гл. 7 “Вы обвиняетесь по 58-й статье”.
(обратно)701
Там же.
(обратно)702
Djilas M. Conversations with Stalin / Trans. by Michael B. Petrovich. San Diego; New York; London: Harvest Book, 1962. P. 95.
(обратно)703
Лев Копелев, “Хранить вечно”, гл. 11 “В Восточной Пруссии”.
(обратно)704
Werth A. Russia at War. P. 417; Верт А. Россия в войне 1941–1945. Гл. VI “Сталинград в дни капитуляции немцев: личные впечатления”. С. 343.
(обратно)705
Лев Копелев, “Хранить вечно”, гл. 11 “В Восточной Пруссии”.
(обратно)706
Там же.
(обратно)707
Эренбург И. “Убей!” // Красная звезда. 1942. № 173. 24 июля.
(обратно)708
Симонов К. “Убей его!” (“Если дорог тебе твой дом…”) // Красная звезда. 1942. 18 июля.
(обратно)709
Пушкарев Л. Н. “Письменная форма бытования фронтового фольклора” // Этнографическое обозрение. 1995. № 4. С. 27–29.
(обратно)710
Лев Копелев, “Хранить вечно”, гл. 11 “В Восточной Пруссии”.
(обратно)711
Werth A. Russia at War. P. 422; Верт А. Россия в войне 1941–1945. Гл. V “Призыв «Отечество в опасности!»”. С. 253.
(обратно)712
Muller K.-J. “The Brutalization of Warfare: Nazi Crimes and the Wehrmacht” // Barbarossa: The Axis and the Allies. P. 230.
(обратно)713
Гроссман В. Жизнь и судьба. М.: Книжная палата, 1990. Гл. 28. Эпизод, рассказанный Гроссманом, удивительно перекликается с эссе Бродского. Героиня романа Людмила наблюдает, как женщины на трамвайной остановке в Саратове с остервенением отпихивают от дверей переполненного трамвая слепого раненого красноармейца: “При посадке в трамвай молодые женщины с молчаливой старательностью отпихивали старых и слабых. Слепой в красноармейской шапке, видимо, недавно выпущенный из госпиталя, ‹…› по-детски жадно ухватился за рукав немолодой женщины. Она отдернула руку, шагнула, звеня по булыжнику подкованными сапогами, и он, продолжая цепляться за ее рукав, торопливо объяснял: «Помогите произвести посадку, я из госпиталя». Женщина ругнулась, пихнула слепого, он потерял равновесие, сел на мостовую. Людмила поглядела на лицо женщины. Откуда это нечеловеческое выражение, что породило его, – голод в 1921 году, пережитый ею в детстве; мор 1930 года? Жизнь, полная по края нужды?”
(обратно)714
Бродский И. “Меньше единицы” // Бродский И. Поклониться тени: эссе. СПб.: Азбука-Классика, 2003. С. 29–30.
(обратно)715
Воспоминания Антонины Алексеевны Кондрашовой, партизанки-разведчицы Бытошской партизанской бригады. Alexiyevich S. War’s Unwomanly Face. P. 194.
(обратно)716
Гроссман В. Жизнь и судьба. Гл. 50.
(обратно)717
Гроссман В. Годы войны. М.: Правда, 1989.
(обратно)718
О духе Ленинграда, например, см.: Werth A. Russia at War. P. 355–359; Верт А. Россия в войне 1941–1945. Ч. 3 “Ленинградская эпопея”. С. 168–210.
(обратно)719
Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: Сборник документов / Сост. О. В. Васильева, И. И. Кудрявцев, Л. А. Лыкова. М.: Издательство Крутицкого патриаршего подворья, 2009. С. 38–39. См. также: Fletcher W. C. “The Soviet ‘Bible Belt’: World War II’s Effects on Religion” // The Impact of World War II on the Soviet Union / Ed. by S. J. Linz. Totowa, NJ.: Rowman & Allanheld, 1985. P. 91–92.
(обратно)720
Fletcher W. C. “The Soviet ‘Bible Belt’: World War II’s Effects on Religion”. P. 91.
(обратно)721
Другая вторила ей: “Господи! Какой сегодня радостный день! Правительство пошло навстречу народу и дали Пасху справить. Мало того, что разрешили всю ночь по городу ходить и церковную службу служить, еще дали сегодня сырковой массы, масла, мяса и муки. Вот спасибо правительству!” Москва военная 1941/45. С. 216.
(обратно)722
Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ СПб), 195/1/43, 2–3.
(обратно)723
Симонов К. “Жди меня…”.
(обратно)724
Книга Ричарда Овери носит схожее название “Russia’s War” (New York: Penguin Books, 1997).
(обратно)725
Muller K.-J. “The Brutalization of Warfare: Nazi Crimes and the Wehrmacht”. P. 231.
(обратно)726
Ibid. P. 232.
(обратно)727
Интервью, Москва, 4 февраля 1997 года.
(обратно)728
Примером украино-центричной истории войны может служить работа: Муковский И. Т., Лисенко О. Е. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах другої світової війни/Победа и жертвенность: Украинцы на фронтах второй мировой войны. Киев: Книга Памяти Украины, 1997.
(обратно)729
Интервью, Львов, июнь 1998 г.
(обратно)730
Правильнее будет сказать, что 29 и 30 сентября 1941 г. была убита значительная часть из 60 тыс. остававшихся к началу немецкой оккупации в Киеве евреев, в основном, дети, старики и женщины – словом те, кто не смог или не захотел эвакуироваться. Более 100 тыс. евреев успело покинуть город до прихода немцев 19 сентября. По оценкам электронной Энциклопедии Холокоста Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне, в первые два дня расстрелов в Бабьем Яру было убито 33771 человек. В последующие месяцы на месте этой казни нацисты продолжали расстреливать советских военнопленных, ромов, коммунистов и евреев. -and-babi-yar.
(обратно)731
Интервью, Киев, июнь 1998 г.
(обратно)732
Цифры Ильи Альтмана, директора Научно-просветительского центра “Холокост” (Москва). Западные историки приводят другие цифры: по оценкам Ицхака Арада, из пяти миллионов евреев, проживавших на советской территории к началу немецкого вторжения (среди которых было до четверти миллиона еврейских беженцев из оккупированной немцами Польши), погибло от двух до двух с половиной миллионов человек. Arad Y. “The Destruction of the Jews in German-Occupied Territories of the Soviet Union” //The Unknown Black Book / Ed. by Joshua Rubenstein et al. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2008. P. xiii, xvii.
(обратно)733
См. ниже, стр. 397.
(обратно)734
Интервью с Ильей Альтманом (Москва, ноябрь 1997 г.) и Борисом Михайловичем Забайко (Киев, 24 мая 1998 г.).
(обратно)735
Василий Гроссман, “Украина без евреев”, черновик статьи для газеты “Красная звезда”, РГАЛИ, 618/14/1355, 1–6. Перевод с идиш Рахиль Баумволь.
(обратно)736
Неизвестная “Черная книга”. Материалы к “Черной книге” под редакцией Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга. М.: Corpus, 2015. С. 164–165.
(обратно)737
Интервью, Киев, 27 мая 1998 г.
(обратно)738
Tolz V. “New Information About the Deportation of Ethnic Groups in the USSR: During World War 2” // World War 2 and the Soviet People / Ed. by John Garrard and Carol Garrard. New York, 1993. P. 161–164.
(обратно)739
Лучший из доступных источников статических данных – статья В. Н. Земскова “Спецпоселенцы (по документации НКВД – МВД СССР), которая разбивает данные о депортациях по этническим группам. Это исследование вышло в журнале “Социологические исследования” (1990. № 11. С. 3–17, особенно с. 8). Среди других исследований по этой теме с более современными данными невозможно не упомянуть работы Павла Поляна, в частности, его книгу “Не по своей воле…: История и география принудительных миграций в СССР” (Москва: ОГИ-Мемориал, 2001).
(обратно)740
Симонов К. “Ты помнишь, Алеша…”.
(обратно)741
Werth A. Russia at War. P. 560; Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 341.
(обратно)742
Гроссман В. Жизнь и судьба. Гл. 33.
(обратно)743
Alexiyevich S. War’s Unwomanly Face. P. 86.
(обратно)744
Это, в частности, отметил Илья Эренбург в книге “Люди, годы, жизнь” (кн. 1, разд. 1).
(обратно)745
На донесениях А. Жданову стоят даты 19 и 24 июня 1943 г. Цит. по: Ленинград в осаде: сборник документов о героической обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 / Под ред. А. Р. Дзенискевич и др. СПб.: Лики России, 1995. C. 482–486.
(обратно)746
Из отчета городского управления предприятиями коммунального обслуживания о работе за год войны с июня 1941 г. по июнь 1942 г., раздел “Похоронное дело”. Цит. по: Ленинград в осаде. С. 339.
(обратно)747
Ленинград в осаде. P. 339.
(обратно)748
Ленинград в осаде. C. 342.
(обратно)749
Ленинград в осаде. C. 324.
(обратно)750
ЦГА СПб, 8557/6/1096, 15 (и это всего лишь одно из многих подобных свидетельств в этом архивном деле).
(обратно)751
О том, как неделя за неделей, месяц за месяцем накапливались непогребенные трупы, свидетельствую документы из собрания ЦГА СПб, 9156/4/311.
(обратно)752
Ленинград в осаде. С. 297.
(обратно)753
Там же. С. 337.
(обратно)754
Там же. C. 321.
(обратно)755
Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга (ЦГАКФФД СПб), O-345701.
(обратно)756
Ленинград в осаде. C. 324.
(обратно)757
“В органы ЗАГСа за оформлением смертей ходила незначительная часть населения, предприятий и учреждений, так как в начале роста смертности ЗАГСы также оказались неподготовленными к регистрации такого большого количества смертей – создались огромные очереди. В связи с таким явлением, дальнейшим ростом смертности и ослаблением живых, количество желающих оформить в ЗАГСах и своими силами захоронить умерших падало, а подбрасывание покойников возрастало, и оформление их через ЗАГСы стало невозможно”. Ленинград в осаде. C. 339–340.
(обратно)758
Там же. С. 328.
(обратно)759
Там же. C. 316, 339–340.
(обратно)760
Там же. С. 329.
(обратно)761
Moskoff W. The Bread of Affliction: The Food Supply in the USSR During World War II. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 197.
(обратно)762
Цит. по: Wilson E. Shostakovich: A Life Remembered. London: Princeton University Press, 1994. P. 149.
(обратно)763
Интервью с психиатрами Мягер и Вянчаковой, 20 октября 1997 г.
(обратно)764
ЦГА СПб, 9156/4/321,14–15. Главная подпись на этом докладе принадлежит профессору И. Я. Раздольскому. О других заболеваниях блокадников и об исследованиях ленинградских психиатров, cм. также статью: Дзенискевич А. Р. “Исследовательская работа ленинградских психиатров в период Великой Отечественной войны” // Россия в XX веке: сборник к 70-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН, профессора Валерия Александровича Шишкина. СПб., 2005.
(обратно)765
ЦГА СПб, 9156/4/491, 1; 9156/4/1516, 104, а также другие материалы архива.
(обратно)766
Tumarkin N. The Living and the Dead. P. 98.
(обратно)767
“Но наряду с этим было и чувство огромной национальной гордости и ощущение грандиозности достигнутого: каждый солдат и почти каждый гражданин чувствовал, что и он внес свой вклад”. Werth A. Russia at War. P. 969; Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 627, 250.
(обратно)768
Ibid. P. 1002; Там же. С. 628. О демонстрациях на День Победы: Tumarkin N. The Living And The Dead. P. 92–94.
(обратно)769
“Раньше на праздник давали два-три дня отдыха, а сейчас единственный выходной день занимают под демонстрацию. Вместо того, чтобы рабочий имел культурный нормальный отдых, он должен стоять и мучиться в колонне демонстрантов. Нет, пусть идут на демонстрацию те, кто больше отдыхают или вообще ничего не делают. Нам там делать нечего. Надо посидеть дома и заработать себе на хлеб”. (Москвалев С. Р., сапожник мастерской на строительстве завода № 507 Наркомата резиновой промышленности) Москва военная 1941/45. С. 706–708.
(обратно)770
Цит. в книге: Dunham V. S. In Stalin’s Time: Middle-Class Values in Soviet Fiction. New York; London: Cambridge University Press, 1976. C. 9.
(обратно)771
Tumarkin N. The Living And The Dead. P. 96–97.
(обратно)772
Fitzpatrick S. “Postwar Soviet Society” // The Impact of World War II on the Soviet Union. P. 137.
(обратно)773
ЦГА СПб, 8557/6/1096 (материалы, относящиеся к зверствам фашистов во время оккупации Ленинградской области, 1942–1943 гг.).
(обратно)774
Werth A. Russia at War. P. 554; Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 336.
(обратно)775
Salisbury H. E. The 900 Days: The Siege of Leningrad. London: Harper & Row, 1969. P. 574. Книга переведена на русский: Солсбери Г. Э. 900 дней. СПб.-М., 1994.
(обратно)776
Ibid. P. 573.
(обратно)777
Эренбург И. “Люди, годы, жизнь”. Кн. VI. Разд. 1.
(обратно)778
Там же.
(обратно)779
Tolz V. “New Information”. P. 166. “26 ноября 1948 года, – пишет Тольц, – президиум Верховного Совета СССР издал указ, согласно которому всем представителям депортированных народов… было запрещено покидать место депортации и возвращаться на родину, они на всю жизнь были приговорены к режиму спец. поселений”.
(обратно)780
Werth A. Russia at War. P. 1004–1005.
(обратно)781
Alexiyevich S. War’s Unwomanly Face. P. 206; Алексиевич С. У войны не женское лицо. Гл. “О мамках и татках”.
(обратно)782
Ibid.; Там же.
(обратно)783
Fitzpatrick S. “Postwar Soviet Society”. P. 131.
(обратно)784
Geiger H. K. The Family in Soviet Russia. P. 235.
(обратно)785
Mandelstam N. Hope Against Hope. P. 307; Мандельштам Н. “Старый товарищ” // Мандельштам Н. Воспоминания. С. 366.
(обратно)786
Интервью с медицинскими работниками, Москва, март 1997 г. Интервью с женщинами, бывшими узницами ГУЛАГа, Львов, июнь, 1998 г.
(обратно)787
Интервью, Санкт-Петербург, 20 октября 1997 г.
(обратно)788
Blum A. Naître, vivre et mourir en URSS, 1917–1991. P. 75, 132.
(обратно)789
Эренбург И. “Люди, годы, жизнь”. Кн. VI. Разд. 1.
(обратно)790
Smith K. E. Remembering Stalin’s Victims. P. 133–134.
(обратно)791
Интервью, Киев, 24 мая 1998 г. Об играх послевоенных детей Сталинграда см.: Рыблова М. А. “«Усилие воспоминания» или детская память о 10-ти послевоенных годах, проведенных в Сталинграде” // Дети Сталинграда: 10 лет после войны. Воспоминания жителей города / Под ред. М. А. Рыбловой. Волгоград: Изд-во ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2015. С. 5–14.
(обратно)792
О ночных кошмарах упоминали респонденты во время интервью с медицинскими работниками, говорил Алексей Григорьевич и другие бывшие солдаты и гражданские лица.
(обратно)793
Alexiyevich S. War’s Unwomanly Face. P. 21.
(обратно)794
Зубкова Е. Общество и реформы, 1945–1964. М.: Издательский центр “Россия молодая”, 1993. С. 43.
(обратно)795
Интервью, Киев, май 1998 г. Зубкова в своей книге приводит аналогичные свидетельства: Зубкова Е. Общество и реформы, 1945–1964. С. 22–23.
(обратно)796
Там же. С. 27.
(обратно)797
Werth A. Russia at War. P. 941–942; Верт А. Россия в войне 1941–1945. С. 591.
(обратно)798
Цит. по: Робертс Дж. Иосиф Сталин. От Второй мировой до “холодной войны”, 1939–1953. М.: АСТ, 2014. С. 151.
(обратно)799
Зубкова Е. Общество и реформы, 1945–1964. С. 35.
(обратно)800
Там же. С. 16.
(обратно)801
Lazarev L. “Russian Literature and the West” // World War 2 and the Soviet People. P. 30–31. Об отходе от военной темы в поэзии см.: Hodgson K. Written with the Bayonet. P. 260.
(обратно)802
Интервью, Москва, 4 апреля 1997 г.
(обратно)803
Чуковская Л. Процесс исключения. М.: Новое время, 1990. С. 292.
(обратно)804
Одним из таких людей, живших в ожидании ареста, был и композитор Дмитрий Шостакович. Wilson E. Shostakovich. P. 183.
(обратно)805
Dunham V. S. In Stalin’s Time. P. 4–5, 13–15.
(обратно)806
Ibid. P. 17.
(обратно)807
РГАЛИ, 2950/1/156/, 44–50.
(обратно)808
РГАЛИ, 618/18/18, 1–32.
(обратно)809
О нервных недомоганиях как прогностическом параметре смертности на войне и о локальной статистике распространенности душевных расстройств свидетельствуют материалы из собрания ЦГА СПб, 9156/4/491 (например, доклад из нескольких психиатрических лечебниц Ленинграда, датированный 1946 г.).
(обратно)810
Интервью, Санкт-Петербург, 27 марта 1997 г.
(обратно)811
White S. Russia Goes Dry. P. 35.
(обратно)812
Статья “Жизнь памяти” Михаила Гефтера, 1985 и 1994 гг., повторно изданная в его книге “Эхо Холокоста” (М.: Центр и Фонд “Холокост”, 1995), с. 104–105. Твардовский А. “Я знаю, никакой моей вины…”.
(обратно)813
Интервью, Москва, 13 февраля 1997 г.
(обратно)814
Интервью, Москва, 14 марта 1997 г.
(обратно)815
Данные подчерпнуты автором из обнародованных в средствах массовой информации цифр, 25 мая 1998 г.
(обратно)816
Голод в Украiнi 1946–1947. Документи i матерiали. / Голод в Украине 1946–1947. Документы и материалы. Киев; Нью-Йорк: Видавництво М. П. Коць. 1996. С. 30.
(обратно)817
Интервью, 28 мая 1998 г.
(обратно)818
Голод в Украiнi 1946–1947. C. 82–83.
(обратно)819
Там же. С. 172–173.
(обратно)820
Kuromiya H. Freedom and Terror in Donbass. P. 305.
(обратно)821
Голод в Украiнi 1946–1947. C. 321.
(обратно)822
Там же. С. 179.
(обратно)823
Там же. С. 321.
(обратно)824
Интервью, 28 мая 1998 г.
(обратно)825
Голод в Украiнi 1946–1947. C. 321.
(обратно)826
Там же. С. 208, 219.
(обратно)827
Tumarkin N. The Living And The Dead. P. 160. См. также поэму Андрея Вознесенского, “Ров”, в послесловии к которой он пишет: “Ров давно был выровнен и зеленел, но угадывались его очертания, шедшие поперек от шоссе километра на полтора. ‹…› Мы, разомлев от солнца, медленно брели от шоссе. И вдруг – что это?! На пути среди зеленого поля чернеет квадрат свежевырытого колодца; земля сыра еще. За ним – другой. Вокруг груды закопанных костей, истлевшая одежда. Черные, как задымленные, черепа. «Опять роют, сволочи!» – Василий Федорович осел весь. Это было не в кинохронике, не в рассказах свидетелей, не в кошмарном сне – а здесь, рядом. Вот только что откопано. Череп, за ним другой. Два крохотных, детских. А вот расколотый на черепки взрослый. «Это они коронки золотые плоскогубцами выдирают». Сморщенный женский сапожок. Боже мой, волосы, скальп, детские рыжие волосы с заплетенной косичкой! Как их туго заплетали, верно, на что-то еще надеясь, утром перед расстрелом!.. Какие сволочи! Это не литературный прием, не вымышленные герои, не страницы уголовной хроники, это мы, рядом с несущимся шоссе, стоим перед грудой человеческих черепов. Это не злодеи древности сделали, а нынешние люди. Кошмар какой-то. Сволочи копали этой ночью. Рядом валяется обломленная сигаретка с фильтром. Не отсырела даже. Около нее медная прозеленевшая гильза. «Немецкая», – говорит Василий Федорович. Кто-то ее поднимает, но сразу бросает, подумав об опасности инфекции. Черепа лежали грудой, эти загадки мирозданья – коричнево-темные от долгих подземных лет – словно огромные грибы-дымовики. Глубина профессионально вырытых шахт – около двух человеческих ростов, у одной внизу отходит штрек. На дне второй лежит припрятанная, присыпанная совковая лопата – значит, сегодня придут докапывать?”.
(обратно)828
Эренбург И. “Люди, годы, жизнь”. Кн. VI. Разд. 31.
(обратно)829
“Все были подавленны, растерянны, говорили сбивчиво, как будто это не опытные литераторы, а математики или землекопы, впервые выступающие на собрании. Ораторов было много. Я тоже говорил, не помню что, наверно, то, что и другие: «выиграл войну… отстаивал мир… ушел… скорбим… клянемся…» ‹…› Сталин лежал набальзамированный, торжественный – без следов того, о чем говорили медики, а с цветами и звездами. Люди проходили мимо, многие плакали, женщины подымали детей, траурная музыка смешивалась с рыданиями. Плачущих я видел и на улицах. Порой раздавались крики: люди рвались к Колонному залу. ‹…› Мне не было жалко бога, который скончался от инсульта в возрасте семидесяти трех лет, как будто он не бог, а обыкновенный смертный; но я испытывал страх: что теперь будет?.. Я боялся худшего. Я много говорил в этой книге о мыслящем тростнике. Теперь я вижу, что сохранить ясность мыслей очень трудно. Культ личности не сделал из меня верующего, но он повлиял на мои оценки; я связывал будущее страны с тем, что ежедневно в течение двадцати лет именовалось «мудростью гениального вождя»”. Эренбург И. “Люди, годы, жизнь”. Кн. VI. Разд. 31; см. также: Kuromiya H. Freedom and Terror in Donbass. P. 323–324.
(обратно)830
Эренбург И. “Люди, годы, жизнь”. Кн. VI. Разд. 31.
(обратно)831
Борис Слуцкий “Современные размышления”, цит. по: Эренбург И. “Люди, годы, жизнь”. Кн. VI. Разд. 31.
(обратно)832
Cм., например: Литературная газета. 1953. 5 и 7 марта.
(обратно)833
Олег Хлевнюк пишет, что что первые сообщения появились утром 4 марта, когда Сталин был еще жив, но стало окончательно понятно, что ненадолго: “С утра в газетах опубликовали первое официальное сообщение о болезни Сталина. Это означало, что надежд на выздоровление нет и остается только постепенно приучать страну и мир к новой ситуации” (Сталин, жизнь одного вождя. Москва: Corpus, 2015). С. 422–424.
(обратно)834
Литературная газета. 1953. 7 марта.
(обратно)835
Центр хранения современной документации (ЦХСД), ф. 5, оп. 16 (Отдел пропаганды и агитации ЦК КПСС), ед. хр. 594. С меня взяли обещание, что я не буду давать точные ссылки на эти архивные материалы, многие из которых запрещено копировать, а также на материалы, связанные с похоронами Сталина из московского архива (ЦХСД, 5/16/594).
(обратно)836
Литературная газета. 1953. 10 марта. Цитата из выступления Георгия Маленкова.
(обратно)837
Литературная газета. 1953. 7 марта.
(обратно)838
Service R. A History of Twentieth Century Russia. P. 327–328.
(обратно)839
ЦХСД, 5/16/594.
(обратно)840
Эти слова традиционно приписывают Ленину, но Сталин позаимствовал и неоднократно повторял ленинскую максиму, например, в своей речи на VIII съезде ВЛКСМ 16 мая 1928 г.: “Овладеть наукой, выковать новые кадры большевиков – специалистов по всем отраслям знаний, учиться, учиться, учиться упорнейшим образом, – такова теперь задача”. ЦАОДМ, Центральный архив общественных движений Москвы, фонд 4 МК и МГК КПСС, оп. 83, ед. хр. 76 и 95.
(обратно)841
ЦАОДМ, 4/83/95.
(обратно)842
Там же.
(обратно)843
Интервью, Москва, 7 марта 1997 г.
(обратно)844
ЦАОДМ, 4/83/95.
(обратно)845
Подборку выступлений советских трудящихся и официальных лиц, а также лидеров зарубежных компартий по поводу смерти Сталина, опубликованных в советской печати, можно найти вот здесь:
(обратно)846
ЦХСД, 5/16/594.
(обратно)847
Там же.
(обратно)848
Там же.
(обратно)849
Там же.
(обратно)850
Там же.
(обратно)851
Geiger H. K. The Family in Soviet Russia. P. 134. Социальный работник из Зеленограда, который работает с командой, ухаживающей за пожилыми людьми, подтвердил в разговоре со мной, что многие из них до сих пор это помнят.
(обратно)852
Пример такого церемониала находим в рассказе о похоронах (1967) бывшего сотрудника ленинградского музея атеизма, некоего Осипова, в котором перечислены основные речи, звучавшие на могиле, и письма с соболезнованиями, полученные семьей покойного. ЦГАЛИ СПб, 195/1/368.
(обратно)853
Ellis J. The Russian Orthodox Church: A Contemporary History. Bloomington, Ind.: Indiana University Press, 1986. P. 180.
(обратно)854
Эренбург И. “Люди, годы, жизнь”. Кн. VI. Разд. 25.
(обратно)855
Интервью, Москва, 22 февраля 1997 г.
(обратно)856
Интервью, Санкт-Петербург, 23 октября 1997 г.
(обратно)857
Гроссман В. “Все течет” // Октябрь. 1989. № 6.
(обратно)858
Я впервые услышала этот девиз от уцелевшего бывшего узника ГУЛАГа в ходе интервью в Москве 13 февраля 1997 г.
(обратно)859
См. Smith G. S. Songs to Seven Strings: Russian Guitar Poetry and Soviet “Mass Songs”. Bloomington: Indiana University Press, 1984. P. 75.
(обратно)860
Интервью, Львов, 29 мая 1998 г.
(обратно)861
Гроссман В. “Все течет” // Октябрь. 1989. № 6.
(обратно)862
Интервью, Москва, 27 февраля 1997 г.
(обратно)863
Гроссман В. “Все течет” // Октябрь. 1989. № 6.
(обратно)864
Интервью, 14 февраля 1997 г.
(обратно)865
Интервью, Москва, 7 марта 1997 г.
(обратно)866
Интервью, Москва, 7 марта 1997 г.
(обратно)867
Smith K. Remembering Stalin’s Victims. P. 25–34; Westwood J. Endurance and Endeavour. P. 414–416.
(обратно)868
Стихотворение было написано в 1969-м, но напечатано только в 1987 г. (в журналах “Новый мир” и “Знамя”). Новый мир. 1987. № 3. C. 162–205.
(обратно)869
Davies S. Popular Opinion in Stalin’s Russia. P. 10–11.
(обратно)870
Smith G. Songs to Seven Strings: Russian Guitar Poetry and Soviet “Mass Songs”. P. 80–86.
(обратно)871
Некоторые из этих шуток опубликованы в сборнике анекдотов Юрий Никулина (Анекдоты от Никулина. М.: Бином, 1997). Мне удалось собрать несколько других анекдотов, разговаривая с фольклористами (не самый эффективный способ, потому что ими движут другие исследовательские мотивы), а также специально подталкивая участников двух групп ветеранов и бывших узников ГУЛАГа к рассказыванию анекдотов.
(обратно)872
Мельниченко М. Советский анекдот: Указатель сюжетов. М.: НЛО, 2014. С. 253: “Фоторепортер запечатлел визит Н. С. Хрущева в передовой колхоз. Под фотографией была надпись: «Никита Сергеевич Хрущев на свиноферме. Н. С. Хрущев – третий справа»”. История трансформировалась в анекдот: “Хрущев посетил свиноферму. Редакция «Правды» обсуждает текст подписи под фотоснимком, который необходимо поместить на первой странице. Отвергаются варианты «Товарищ Хрущев среди свиней» и «Свиньи вокруг товарища Хрущева». Окончательный вариант подписи: «Третий слева – товарищ Хрущев»”.
(обратно)873
Ignatieff M. “Soviet War Memorials” // History Workshop Journal. Vol. 17. Spring 1984. P. 157–163.
(обратно)874
Комментарий Горбатова появился в журнале “Огонек” в 1988 г. Цит. по: Davies R. W. Soviet History in the Gorbachev Revolution. P. 101.
(обратно)875
Tumarkin N. The Living and the Dead. P. 121–122.
(обратно)876
Евтушенко Е. “Бабий Яр”.
(обратно)877
Цит. по: Wilson E. Shostakovich. P. 356.
(обратно)878
Ibid. P. 358.
(обратно)879
См.: Smith G. Songs to Seven Strings, особенно его анализ произведений Галича, Окуджавы и Высоцкого.
(обратно)880
Ахматова А. “Мужество”.
(обратно)881
Текст речи Льва Копелева был напечатан в самиздатовском журнале “Грани”: Грани. 1967. № 63. С. 111–113. О мемориальном собрании в память о Мандельштаме см.: Самиздат. Т. 5.
(обратно)882
Smith G. Songs to Seven Strings. P. 175.
(обратно)883
Вот как это описывает биограф Шостаковича Соломон Волков: “«На 69-м году жизни скончался великий композитор нашего времени Дмитрий Дмитриевич Шостакович – депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда, народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР. Верный сын Коммунистической партии, видный общественный и государственный деятель, художник-гражданин Д. Д. Шостакович всю свою жизнь посвятил развитию советской музыки, утверждению идеалов социалистического гуманизма и интернационализма…» И так далее, и тому подобное – чугунные бюрократические словеса. ‹…› На официальной панихиде у гроба Шостаковича 14 августа столпились высокие начальники из идеологических ведомств. Многие из них сделали карьеру, годами яростно обличая его грехи. «Слетелось воронье», – сказал, повернув ко мне бледное свое лицо, близкий Шостаковичу музыкант”. “На западе Шостакович – первый среди равных” // Независимая газета. 2000. 9 августа.
(обратно)884
Цит. по: Wilson E. Shostakovich. P. 472–476.
(обратно)885
Протоиерей Дмитрий Константинов. Зарницы духовного возрождения: Русская Православная Церковь в СССР в конце 60-х и начале 70-х гг. Лондон (Канада), 1974. C. 106–107.
(обратно)886
См. также: Ellis J. The Russian Orthodox Church. P. 31.
(обратно)887
“Вопросы научного атеизма” цитируются по тексту Протоиерея Дмитрия Константинова.
(обратно)888
Ellis J. The Russian Orthodox Church. P. 14–16. Точное число действующих церквей назвать сложно, потому что официальные цифры противоречат данным Всемирного совета церквей. По оценкам Джейн Эллис, в стране на каждые 7700 верующих приходилась всего 1 церковь, но вновь приходится отметить, что общее число верующих неясно.
(обратно)889
ЦГАЛИ СПб, 195/1/196, 12.
(обратно)890
Cм. вступительное слово редактора Василия Бондарчика к сделанной им брошюре “Новые гражданские обряды и ритуалы”, выпущенной в Минске в 1978 г. при участии Республиканского совета по разработке и внедрению в быт новых гражданских обрядов (Минск), Академии наук Белорусской ССР (Минск) и Института искусствоведения, этнографии и фольклора. ЦГАЛИ СПб, 195/1/196, 12.
(обратно)891
Минько И. И., Селезнева В. “День памяти” // Новые гражданские обряды и ритуалы. С. 72–89.
(обратно)892
Интервью, Киев, июнь 1998 г., Донской монастырь в Москве, март 1997 г., Зеленоград, март 1997 г.
(обратно)893
Ellis J. The Russian Orthodox Church. P. 14–18.
(обратно)894
Квардаков А. И. Религиозные пережитки в сознании и быту сельского населения и пути их преодоления: автореф. дисс. на соиск. ст. канд. филос. наук. Новосибирск, 1969. C. 6.
(обратно)895
ГАМО, 1782/1/224, 13–14.
(обратно)896
Geiger H. K. The Family in Soviet Russia. P. 148.
(обратно)897
Цит. по: Lane C. The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 83.
(обратно)898
Цит. по: Dunn S. P., Dunn E. The Peasants of Central Russia. New York; London; San Francisco; Chicago; Toronto: Holt. Rinehart and Winston, 1967. P. 104.
(обратно)899
В 1997 г. московская городская ритуальная служба “Ритуал-Сервис” выпустила каталог, в котором подробно рассказывалось о каждом московском кладбище с упоминанием размера, адреса и имен знаменитых людей, похороненных на нем.
(обратно)900
Подробности проекта сообщили мне его авторы во время интервью в Киеве 19 мая 1998 г. Эта история хорошо известна другим киевским художникам, а журналисты считают ее cause célèbre. Некоторые аспекты проекта крематория авторства Мельниченко и Рыбачук были описаны в одном из номеров журнала “Декоративное искусство” (1975. № 8).
(обратно)901
Интервью, 23 октября 1997 г.
(обратно)902
В 1980 г. понятие ПТСР было добавлено в “Руководство по диагностике и статистике психических расстройств” (Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)), многоосевую нозологическую систему, принятую в США и разрабатываемую и публикуемую Американской Психиатрической Ассоциацией (АПА) (American Psychiatric Association, APA). Об “изобретении” посттравматического стрессового расстройства см. также: Young A. The Harmony of Illusions: Inventing Post-Traumatic Stress Disorder. Princeton: Princeton University Press, 1995.
(обратно)903
В этих кругах “травма” считается универсальной человеческой реакцией вне зависимости от культуры, языка и истории. Классическое выражение этой точки зрения, которую цитирует в своих работах сам Смирнов, можно найти в книге: Horowitz M. J. Stress Response Syndromes: PTSD, Grief, Adjustment, and Dissociative Disorders. New York; Toronto: Jason Aronson: 1976.
(обратно)904
Война в Афганистане привела к окончанию периода разрядки в отношениях между СССР и США, длившегося с конца 1960-х до конца 1970-х гг. См.: Kennedy-Pipe C. Russia and the World, 1917–1991. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 176–178.
(обратно)905
Интервью, Зеленоград, 10 февраля 1997 г.; Alexiyevich S. Zinky Boys: Soviet Voices From a Forgotten War. London, 1992. P. 16.
(обратно)906
Героиня книги Светланы Алексиевич так и говорит: “Я хотела быть на войне, но не на этой, а на Великой Отечественной”. Tumarkin N. The Living and the Dead. P. 153–155.
(обратно)907
Интервью, Зеленоград, 10 февраля 1997 г.
(обратно)908
Alexiyevich S. Zinky Boys. P. 20.
(обратно)909
“Помню одного мальчика: у него тело во все стороны гнулось, костей как не было, ноги веревками. Из него вытащили десятка два осколков. Весь март тут же, возле палаток, сваливали отрезанные руки, ноги… Трупы… Они лежали в отдельной палате… Полуголые, с выколотыми глазами, один раз – с вырезанной звездой на животе… Раньше в кино о гражданской войне такое видела”. Ibid. P. 22.
(обратно)910
“Он не представляет… А он уже знает, как пахнут на жаре вывернутые внутренности и не выстирывается запах человеческого кала и крови. Воображение? Воображение притихает. Ты видишь: в грязной луже расплавленного металла скалятся обгоревшие черепа – будто несколько часов назад тут не кричали, а смеялись, умирая. Но все вдруг обыкновенно… Просто… Появляется обостренное и волнующее возбуждение при виде убитого: не меня! Это так быстро происходит… Вот такое превращение… Очень быстро. Я думаю со всеми”. Ibid. P. 16.
(обратно)911
Alexiyevich S. Zinky Boys. P. 57.
(обратно)912
Ibid. P. 23–24.
(обратно)913
Интервью, Зеленоград, 10 февраля 1997 г.
(обратно)914
Alexiyevich S. Zinky Boys. P. 87.
(обратно)915
Mosse G. Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars. Oxford: Oxford University Press, 1990. P. 192.
(обратно)916
Alexiyevich S. Zinky Boys. P. 7.
(обратно)917
Ibid.
(обратно)918
Интервью, Зеленоград, 10 февраля 1997 г.
(обратно)919
См. также: Colodzin B. How to Survive Trauma: A Program for War Veterans, & Survivors of Rape, Assault, Abuse or Environmental Disasters. New York: Pulse, Station Hill Press, 1993. Книга, основанная на работе Olympia Institute, который возглавляет автор, в подробностях рассказывает о программе обмена. Позднее была переведена на русский язык.
(обратно)920
Интервью и посещение, 21 февраля 1997 г.
(обратно)921
Неопубликованная диссертация Смирнова, которую он великодушно разрешил мне цитировать, отсылает читателя к материалам Двенадцатого конгресса российских психиатров, состоявшегося в Москве в 1995 г., где обсуждались доклады о ПТСР, а также к многочисленным опубликованным статьям о землетрясении в Армении 1988 г. Это землетрясение стало одной из первых катастроф в истории, над ликвидацией последствий которой работали совместно западные психиатры и их советские коллеги. См., например, сборник научных трудов разных авторов под редакцией Юрия Александровского: Психические расстройства у пострадавших во время землетрясения в Армении. М.: ВНИИ общей и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, 1989.
(обратно)922
Смирнов, неопубликованная диссертация, с. 130–131.
(обратно)923
Интервью, Зеленоград, 10 февраля 1997 г.
(обратно)924
Там же.
(обратно)925
Смирнов, неопубликованная диссертация, с. 73.
(обратно)926
Там же. С. 106.
(обратно)927
См., например: Drummond Ayres B. Jr. “The Vietnam Veteran: Silent, Perplexed, Unnoticed” // The Vietnam Veteran in Contemporary Society: Collected Materials Pertaining to the Young Veterans. Washington D. C.: United States. Veterans Administration. Dept. of Medicine and Surgery, U. S. Government Printing Office, 1972; Stress Disorders Among Vietnam Victims: Theory, Research and Treatment / Ed. by Charles R. Figley. London; New York: Routledge, 1973.
(обратно)928
Интервью с врачами Венчаковой и Мягер, Санкт-Петербург, 20 октября 1997 г.
(обратно)929
Интервью с Александром Соломоновичем Михлиным, юристом и полковником милиции, который отслеживал сбор статистики самоубийств в 1960-е гг. Москва, 1 марта 1997 г. См. также: Амбрумова А., Бородин С., Михлин А. Предупреждение самоубийств: Изучение и проведение предупредительных мер. М.: Академия МВД СССР; ВНИИ МВД СССР; МНИИ Психиатрии МЗ РСФСР, 1980. С. 76–80.
(обратно)930
Кажется, что в своих мемуарах, опубликованных в 1995 г., эту точку зрения поддерживает и сам Горбачев: Gorbachev M. Memoirs. London, 1996. P. 408.
(обратно)931
Интервью, Киев, 20 мая 1998 г.
(обратно)932
Service R. Twentieth Century Russia. P. 445.
(обратно)933
Интервью, Киев, 20 мая 1998 г.
(обратно)934
Интервью, Киев, 21 мая 1998 г.
(обратно)935
Reid A. Borderland: A Journey Through the History of Ukraine. London: Basic Books, 1997. P. 199.
(обратно)936
Service R. Twentieth Century Russia. P. 445.
(обратно)937
White S. Russia Goes Dry. P. 57–81. Общество трезвости открыто выступало против слухов о том, что алкоголь помогает нивелировать последствия действия радиации.
(обратно)938
Совместный украино-американский проект и конференция о психологических последствиях аварии на Чернобыльской АЭС. Киев, 21 мая 1998 г.
(обратно)939
Tumarkin N. The Living and the Dead. P. 13.
(обратно)940
Интервью с Юрием Дмитриевым, Медвежьегорск, 26 октября 1997 г.
(обратно)941
Hochschild A. The Unquiet Ghost: Russians Remember Stalin. New York: A Mariner Book, 1994. P. xxiv.
(обратно)942
Adler N. Victims of the Soviet Terror: The Story of the Memorial Movement. Westport: Praeger,1993. P. 93. Автор ошибочно пишет, что найденные трупы тихо захоронили снова, но реальная история гораздо страшнее и подробно описана в статье Ильи Венявкина “Свидетельства Колпашевского Яра” на сайте InLiberty от 9 ноября 2015 г. http:Svidetelstva-kolpashevskogo-yara.//old.inliberty.ru/blog/2081- По факту вандализма прокуратурой Новосибирской области было возбуждено уголовное дело, а 26 сентября 1992 г. Военной прокуратурой уголовное дело было прекращено по ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР “за отсутствием в чьих-либо действиях состава преступления”.
(обратно)943
Smith K. Remembering Stalin’s Victims. P. 163.
(обратно)944
Алексеев С., Каледа К. Г. Полигон “Бутово”: историческая справка. М., 1997.
(обратно)945
Tumarkin N. The Living and the Dead. P. 15.
(обратно)946
Фотографии эксгумации хранятся в архиве общества “Мемориал”. Например, см. М2, № 55,64 фтв 92 (снято в Донецке в 1992 г.) и М.2, № 111,113 и 119 (снято в Воронеже с 1990 по 1993 г.).
(обратно)947
Kotkin S. “Terror, Rehabilitation and Historical Memory”. P. 239.
(обратно)948
Adler N. Victims of the Soviet Terror. P. 51.
(обратно)949
Ibid. P. 60; Marsh R. History and Literature in Contemporary Russia. New York: New York University Press, 1995. P. 44.
(обратно)950
Хвалебная статья о Николае Бухарине появилась в газете “Правда” от 9 октября 1998 г., с. 3.
(обратно)951
См., например: Возвращенные имена. М., 1989, с перечислением и краткими биографиями каждого из репрессированных публичных фигур.
(обратно)952
Среди наиболее известных участников этого движения – режиссеры Тенгиз Абуладзе и Элем Климов (Климов в 1986 г. был избран председателем Союза советских кинематографистов). Также в 1980-е гг. были опубликованы произведения на исторические темы таких писателей и драматургов, как Анатолий Рыбаков и Михаил Шатров, хотя написаны они были значительно раньше, во время хрущевской оттепели в 1960-е гг.
(обратно)953
Первую развернутую атаку на Ленина инициировал философ Александр Ципко, имевший тесные связи в ЦК. Пространное эссе Ципко об истоках сталинизма было опубликовано в журнале “Наука и жизнь”: Наука и жизнь. 1988. № 11. С. 45–55; 1989. № 1. С. 45–56; № 2. С. 53–61; № 12. С. 40–48.
(обратно)954
Арсений Рогинский провел четыре года в лагере за попытки расследовать судьбу отца по ложному обвинению в подделке документов. На суде произнес речь о положении историка в Советском Союзе. Adler N. Victims of the Soviet Terror. P. 1.
(обратно)955
Kotkin S. “Terror, Rehabilitation and Historical Memory”.
(обратно)956
Marsh R. History and Literature in Contemporary Russia. P. 14.
(обратно)957
Smith K. Remembering Stalin’s Victims. P. 91–92.
(обратно)958
Большинство мемуаров и писем хранятся в фонде 1, открытом для публики.
(обратно)959
Некоторые из этих фотографий, в том числе фотографии Всеволода Мейерхольда, приводятся в книге: Shentalinsky V. Arrested Voices; Шенталинский В. Рабы свободы. М.: Прогресс-Плеяда, 2009.
(обратно)960
Davies R. W. Soviet History in the Gorbachev Revolution. P. 169; Shentalinsky V. Arrested Voices. P. 25–26, 175, 185–186.
(обратно)961
Наиболее консервативная позиция была выражена в письме учительницы химии Нины Андреевой, озаглавленном “Не могу поступаться принципами”, опубликованном в газете “Советская Россия” 13 марта 1988 г. Реакции бывших узников и членов их семей на обсуждение пережитых жертвами репрессий пыток хранятся в московском архиве “Мемориала”. Сотрудница петербургского “Мемориала” Анна Резникова обсудила со мной позицию организации о том, стоит ли посвящать родственников в подробности перенесенных жертвами пыток (Интервью, Санкт-Петербург, март 1997 г.).
(обратно)962
Помимо строк Ахматовой на медных табличках памятника нанесены цитаты из произведений Варлама Шаламова, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого, Даниила Андреева, Дмитрия Лихачева, Иосифа Бродского, Юрия Галанскова, А. Солженицына, В. Высоцкого, В. Буковского. Цитата Ахматовой взята из “Реквиема”: …Хотелось бы всех поименно назвать, / Да отняли списки и негде узнать… / И если зажмут мой измученный рот, / Которым кричит стомильонный народ… / Затем, что и в смерти блаженной боюсь / Забыть громыхание черных марусь, / Забыть, как постылая хлопала дверь / И выла старуха, как раненый зверь. / И пусть с неподвижных и бронзовых век / Как слезы, струится подтаявший снег, / И голубь тюремный пусть гулит вдали / И тихо идут по Неве корабли… / Анна Ахматова, 1935–1940.
(обратно)963
Подробнее о том, как партия пыталась отвоевать себе определенный моральный капитал в этом вопросе, cм.: Smith K. Remembering Stalin’s Victims. P. 162. Статуя в Левашово вполне отражает партийный вкус.
(обратно)964
В 1974 г. по инициативе диссидента Кронида Любарского и других узников мордовских и пермских лагерей – совместной голодовкой и зажиганием свечей в память о безвинно погибших. А в Москве в этот день прошла пресс-конференция, организованная А. Д. Сахаровым и Инициативной группой защиты прав человека в СССР, на которой о Дне политзаключенного сообщили западным корреспондентам. В дальнейшем, вплоть до 1991 г., когда указом Верховного Совета СССР был официально установлен День памяти жертв политических репрессий, 30 октября отмечалось голодовками в лагерях, пресс-конференциями в Москве, а после 1987 г. – массовыми демонстрациями в Москве, Тбилиси, Ленинграде, Львове и других городах.
(обратно)965
War and Remembrance in the Twentieth Century / Ed. by Jay Winter and Emmanuel Sivan. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 27–29.
(обратно)966
Smith K. Remembering Stalin’s Victims. P. 154–159.
(обратно)967
Интервью с Рудольфом Мирским, Львов, 3 июня 1998 г. В мае 1998 г. мне с большим трудом удалось получить разрешение провести интервью в львовской синагоге с группой местных евреев, переживших Холокост. Постоянные члены общины рассказали мне о продолжающейся дискриминации и о случаях вандализма, направленных против зданий, принадлежащих еврейской общине.
(обратно)968
Мое заключение основано на беседе с Архиепископом Львовским и Галицким Августином (Интервью, 1 июня 1998 г.), а также с двумя священниками греко-католических церквей Львова (Интервью, 2 и 3 июня 1998 г.).
(обратно)969
Фотографические свидетельства этого хранятся в архиве “Мемориала”, С18.130.
(обратно)970
В приложении к монографии Алексеева и Каледы “Полигон «Бутово»: историческая справка” приводится список известных религиозных деятелей, похороненных на Бутовском полигоне.
(обратно)971
Critical Inquiry. 1982. Vol. 18. № 2. P. 273.
(обратно)972
Service R. Twentieth Century Russia. P. 506.
(обратно)973
Интервью, Москва, март 1996 г.
(обратно)974
Слова Веры Ткаченко цит. в книге: Davies R. W. Soviet History in the Gorbachev Revolution. P. 113.
(обратно)975
Подробнее об этом в Главе 8, с. 266–267.
(обратно)976
Davies R. W. Soviet History in the Gorbachev Revolution. P. 103–108.
(обратно)977
Муковский И. Т., Лисенко О. Е. Звитяга і жертовність: Українці на фронтах Другої світової війни / Доблесть и жертвенность: Украинцы на фронтах Второй мировой войны. Киев: Книга Пам’яті України, 1997. Интервью с историками Петро Пантелеймоновичем Панченко и Романом Гнатовичем Вишневским, Киев, 5 июня 1998 г.
(обратно)978
Подробнее о Латвии: Skultans V. The Testimony of Lives: Narrative and Memory in Post-Soviet Latvia. London: Routledge, 1998.
(обратно)979
О расстрелах в Катыни, подробности которых были обнародованы Президентом Борисом Ельциным после дискредитации коммунизма, см.: Davies R. W. Soviet History in the Yeltsin Era. P. 45.
(обратно)980
См. Tolz V. “New Information”. P. 173; Ascherson N. Black Sea: The Birthplace of Civilization and Barbarism. London: Vintage, 1995. P. 33.
(обратно)981
Первая конференция московского Фонда и Центра “Холокост” состоялась в 1991 г. Нынешний директор центра Илья Альтман, сменивший на этом посту Михаила Гефтера, также является редактором периодической серии “Библиотека Холокоста”.
(обратно)982
Интервью с Борисом Михайловичем Забайко, Киев, 24 мая 1998 г.
(обратно)983
Davies R. W. Soviet History in the Yeltsin Era. P. 74; см. также: Tumarkin N. “Story of a War Memorial” // World War 2 and the Soviet People. P. 125–146.
(обратно)984
Интервью, Киев, 20 мая 1998 г.
(обратно)985
Интервью с Ильей Альтманом, Москва, 12 февраля 1997 г.
(обратно)986
Интервью с Борисом Забайко, Киев, 24 мая 1998 г.
(обратно)987
Smith K. Remembering Stalin’s Victims. P. 200–221.
(обратно)988
Интервью, Москва, 19 ноября 1997 г.
(обратно)989
Архив “Мемориала”, фонд 1/3/4088.
(обратно)990
Интервью, Москва, 14 февраля 1997 г.
(обратно)991
Текст выступления Ельцина цитируется в газете “Московская правда” от 17 июля 1998 г.
(обратно)992
Михальченко Н., Федорова М., Костромина О. “Панихида в Лавре и монаршие поминки” // Советская Россия. 1998. № 83. 18 июля.
(обратно)993
Независимая газета. 1998. 17 июля.
(обратно)994
Труд. 1998. 17 июля.
(обратно)995
Хитаров Д. “Последний путь императора. Петербург в преддверии «казенных похорон»” // Итоги. 1998. № 27. 13 июля. С. 13.
(обратно)996
Там же. C. 15: “Полгода назад я разложил на столе пачки писем, – рассказывает Владимир Петрович Яковлев, – справа донские казаки пишут: «Сто человек прискачем, где лошадок держать будете?», – и такие же депеши от Уральского и Кубанского казачьих войск. Слева коммунисты: «Не пустим Николая Кровавого в Ленинград!», – и ветераны: «Не за то мы защищали нашу Советскую Родину!» А потом между этими стопочками стала расти третья. Например, ходатайство, тоже подписанное ветеранами, только на этот раз с просьбой обеспечить пропуск на церемонию захоронения некоему германскому предпринимателю, который оказывает им благотворительную поддержку”.
(обратно)997
Составить представление об этой дискуссии можно, например, из книг: Felman S., Laub D. Testimony: Cries of Witnessing in Literature, Psychoanalysis and History. London: Routledge, 1992; The Collective Silence: German Identity and the Legacy of Shame / Ed. by Barbara Heimannsberg and Christopher J. Schmidt. San Francisco: Gestalt Press, Jossey-Bass Publishers, 1997; Mitscherlich A., Mitscherlich M. The Inability to Mourn: Principles of Collective Behavior. New York: Grove Press, 1975; Memory, History and Opposition Under State Socialism / Ed. by Rubie S. Watson. Santa Fe., California: School for Advanced Research Press, 1994.
(обратно)998
См. Laub D. “Bearing Witness” // Felman S., Laub D. Testimony. P. 57–74; Fresco N. “La Diaspora des cendres” // Nouvelle revue de psychoanalyse. 1981. Vol. 24. P. 206–220.
(обратно)999
Tumarkin N. The Living and the Dead. P. 224.
(обратно)1000
Buruma I. “The Joys and Perils of Victimhood” // New York Review of Books. 1999. Vol. 46. № 6. April 8. P. 4–9.
(обратно)1001
О психологической важности свидетельствования см.: Wiesel E. “Why I Write” // Confronting the Holocaust / Ed. by Alvin Rosenfeld and Irvin Greenberg. Indiana: Indiana University Press, 1978.
(обратно)1002
Edwards B., Sturgess W. QED How to be Happy. London: BBC Educational Developments, 1996.
(обратно)1003
Наглядную иллюстрацию этому можно обнаружить в каталоге выставки сталинской живописи, посвященной этой теме, “Агитация за счастье”, Бремен, 1994 г.
(обратно)1004
Комментарий был сделан участником конференции, которую я организовала в Кембридже в июле 1998 г. с тем, чтобы обсудить травму как культурный конструкт.
(обратно)1005
См. Young A. The Harmony of Illusions. P. 107.
(обратно)1006
Например, мода на психоанализ в Чили не оказала никакого очевидного влияния на предложение провести экстрадицию и суд над генералом Пиночетом в 1999–2000 гг.
(обратно)1007
Summerfield D. “The Psychological Legacy of War and Atrocity: The Question of Long-Term and Transgenerational Effects and the Need for a Broad View” // Journal of Nervous and Mental Disease. 1996. Vol. 184. № 1. P. 376.
(обратно)1008
Я благодарна еще одному психиатру, Йену Коллинзу, за это напоминание.
(обратно)1009
Интервью, Академия государственной службы, Санкт-Петербург, 14 октября 1997 г.
(обратно)1010
Этот довод справедлив в отношении тех, кто в детстве пережил насилие и в менее турбулентных обществах. См. Widom C. S. “PTSD in Abused Children Grown Up” // American Journal of Psychiatry. Vol. 156. August (1998). № 8. P. 1223–1229.
(обратно)1011
Этот вывод подчеркивается и в исследованиях Смирнова. Он также настаивает, что, хотя у некоторых афганцев выработалась зависимость от состояния эмоциональной перегрузки, его собственные клинические данные дают куда больше примеров противоположной реакции: оцепенения и страха перед неожиданными внешними раздражителями.
(обратно)1012
Блок А. “Скифы”.
(обратно)1013
Overy R. Russia’s War. P. 172.
(обратно)1014
Smith K. Remembering Stalin’s Victims. P. 200–209.
(обратно)1015
Kleinman A. Social Origins of Distress and Disease: Depression, Neurasthenia and Pain in Modern China. New Haven, Conn.: Yale University Press, 1986. P. 44.
(обратно)1016
Это мнение разделяют большинство российских этнографов, занимающихся этой темой, в том числе Ирина Кремлева. См., например, ее статью: Кремлева И. “Похоронно-поминальные обряды у русских: традиции и современность” // Похоронно-поминальные обычаи и обряды / Под ред. Ю. Б. Симченко, Б. А. Тишкова. М.: ИНИОН 1993. С. 8–40.
(обратно)1017
Беседы в Москве и Московской области, апрель – декабрь 1997 г.
(обратно)1018
Цит. по: Barley N. Dancing on the Grave: Encounters with Death. London: Abacus, 1997. P. 83.
(обратно)1019
Беседа, 3 февраля 1997 г.
(обратно)1020
“Записки на тот свет” // Столица. 1997. № 18. 13 октября.
(обратно)1021
Интервью, Зеленоград, 10 февраля 1997 г.
(обратно)1022
“Покойники и мошенники” // Аргументы и факты. 1997. № 5.
(обратно)1023
Ритуал прощания. 1997. № 1.
(обратно)1024
Одна из жительниц Львова, пережившая арест и заключение в ГУЛАГе, рассказывала о раке, которым сейчас болеет один из ее бывших соседей, как о наказании за то, что в свое время он написал донос в органы, и она отнюдь не единственная, кто рассуждает о раке в терминах возмездия.
(обратно)1025
Интервью, Москва, 4 марта 1997 г.
(обратно)1026
Москва, 3 марта 1997 г.
(обратно)
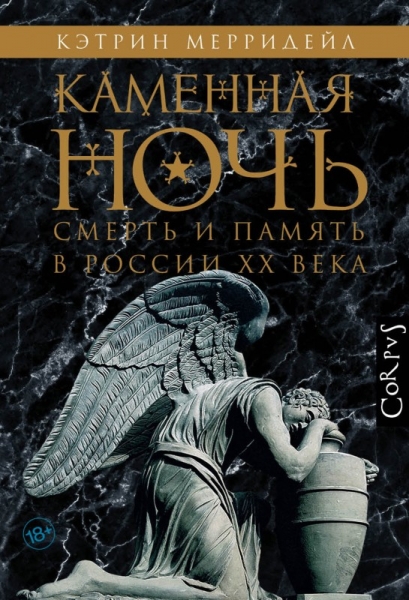


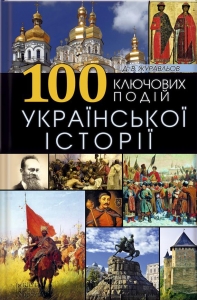
Комментарии к книге «Каменная ночь», Кэтрин Мерридейл
Всего 0 комментариев