Алексанр Кравчук Перикл и Аспазия
От автора
Эта книга рассказывает не только о судьбе знаменитого афинского политика и его прекрасной подруги. В известном смысле имена в ее названии надо понимать, как некую метафору: речь пойдет о выдающихся исторических событиях и обычной каждодневной жизни, о людях древних Афин периода их величия. Речь пойдет об эпохе, отделенной от нас двадцатью пятью веками. Но именно Афины того времени являются колыбелью европейской цивилизации.
* * *
Перикл заболел осенью. Страшная эпидемия уже угасала, и он стал одной из последних ее жертв. Внешне болезнь протекала легко, но организм пожилого человека — а Периклу было уже за шестьдесят — не мог побороть недуг. Аспазия искала помощи везде, даже обратилась к магии и чарам (хотя за несколько лет до этого она предстала перед судом по обвинению в неверии). На шею больному был надет амулет, и, когда в комнату вошли друзья, Перикл показал на него с беспомощной улыбкой. Он говорил только шепотом, да и то с трудом, и вскоре, как всем показалось, потерял сознание.
Было ясно: смерть витает где-то совсем рядом. Окружающие тихо говорили только о нем, но так, как будто он уже мертв. Тяжело вздыхая, они рассуждали о том, какой великий человек покидает этот мир. Создавалось впечатление, что присутствующие готовятся к произнесению погребальной речи на государственном кладбище для заслуженных граждан, которое расположено за Дипилонскими воротами. Наверное, они и вправду размышляли, кому достанется эта честь, означающая принятие политического наследства после умершего.
А ведь Перикл был еще жив и прислушивался ко всему, что происходило в комнате. Его даже стали беспокоить разговоры друзей: «Эти речи не доведут до добра. Зачем перечислять битвы, которые я выиграл, и строения, которые воздвиг? Я произнес столько прекрасных погребальных речей, а они ничему не научились! Ведь все очень просто: чтобы растрогать слушателей, надо произнести что-нибудь внешне очень непритязательное и вместе с тем неожиданное, что-нибудь человечное и поэтичное одновременно».
И вдруг в сумерках угасающего сознания возник неожиданный вопрос: «А что можно сказать о тебе, Перикл? Какой простой и поэтичной похвалы ты заслужил?»
Не совсем ясно сознавая, что делает, умирающий начал мысленно просматривать свою жизнь. Быстро текла река воспоминаний — ярких, но немного беспорядочных. Да это и понятно — ведь то была не только его жизнь, но и жизнь его города. Он уже не мог отделить себя от того, что составляло смысл и цель всех его действий в течение почти полувека. Даже нежные воспоминания о матери воскрешали в памяти целую цепочку политических событий. Она начиналась во мгле легенды, а последние ее звенья, поблескивая, как змеиная кожа, обвивались вокруг тела.
Часть первая Род матери Перикла: проклятые и демократы
Женихи в Сикионе
Мать Перикла звали Агаристой. Она была внучкой той самой Агаристы, имя которой было на устах у всех эллинов. Люди с завистью и восхищением говорили о могуществе и богатстве ее отца и с усмешкой рассказывали о том, как тринадцать женихов целый год добивались руки девушки и как в последний момент неудача постигла того претендента, который был абсолютно уверен в победе.
Агариста-младшая происходила из рода Алкмеонидов. Когда она была в положении, ей однажды приснилось, что она родит льва. Так во всяком случае рассказывали в доме Перикла, и так позднее написал его друг — историк Геродот. Многие в Афинах насмехались над пророческим сновидением даже тогда, когда, овеянный славой и могуществом, среди всеобщей скорби народа Перикл отошел в мир иной. И несмотря на это, комические актеры отпускали со сцены такие шуточки:
Будет жена, и родит она льва в богозданных Афинах! Станет сей лев за народ с мириадами мошек сражаться, Словно за племя свое. Ты хранить его должен надежно, За деревянной стеной и за башнями кованой меди[1].Стены эти, как поясняется дальше в комедии, — не что иное, как деревянные дыбы, окованные металлом, с помощью которых Перикл мучает народ.
В другой комедии даны наглядные примеры супружеского коварства: некая женщина не может иметь детей, но прекрасно решает эту проблему.
Другая женщина родами десять дней, Все мучилась, нигде ребенка не купив, А муж по городу все бегал и искал, Лекарство, чтоб жене ускорить роды им. Ребенка принесла старуха им в горшке, Набивши воском рот ему, чтоб не пищал. По знаку, данному старухою, жена, Давай вопить: «Уйди! Я чувствую, сейчас Рожу». И правда: плод в горшке ногою бил. Обрадованный муж сейчас же убежал, Воск вынут был, ребенок закричал. Старуха подлая, принесшая дитя, С улыбкою к отцу бежит и говорит: «Лев народился, лев! Ни дать, ни взять — ты сам! И даже то, что под животиком висит, Совсем как у тебя: как шишечка с сосны…»[2]С точки зрения людей нашего времени, шутка эта не очень изысканная, если не сказать больше — непристойная. Но что делать, афинский люд любил именно такие шутки и сплетни! Свобода насмехаться над всем, и вся была одной из основ афинской демократии. Терпкая насмешка, подобно порыву свежего ветра, развеивала малейший дымок фимиама лести. В других же государствах этот фимиам плотными облаками возносился к вершинам власти, вызывая тошноту отвращения у самих льстецов и опасное головокружение у властей предержащих.
Но все это впереди, а пока Перикл еще маленький львенок и его будущее, равно и как всего его рода, вовсе не рисуется в светлых тонах. И дело здесь в происхождении матери. Судьба никогда не щадила Алкмеонидов и связанных с ними людей. Поэтому мальчик имел бы полное право спросить: «Стечение обстоятельств вызвало эти несчастья или же, как говорят враги, над нашей семьей тяготеет проклятье богов?»
Люди упрекали Алкмеонидов за их дерзкий поступок (даже преступление, как утверждали многие), который повлек за собой упадок рода. Друзья не успевали повторять юному Периклу: «В этом городе слава предков твоей матери будет жить в веках, потому что они изгнали тиранов».
Мальчик учил историю своей родины, слушая рассказы близких о том, как боролись за власть его деды и прадеды. Это были гордые аристократы, но они без колебания объединились с чернью для того, чтобы уничтожить соперников — таких же аристократов, как и они. Даже забавную историю о женихах, добивавшихся руки его прабабушки, надо было хорошенько запомнить. Ведь то, что тогда произошло, раскалило до предела былую ненависть двух великих родов.
* * *
В гонке колесниц победила упряжка Клисфена, четверка великолепных коней. Его глашатай сразу же начал объявлять по всему священному округу Олимпия везде, где собирались зрители: «Эллины! Тот из вас, кто считает себя достойным стать зятем Клисфена, пусть через 60 дней прибудет к нам, в Сикион. Ровно через год после этого дня Клисфен примет решение, кому он отдаст в жены свою единственную дочь Агаристу».
Поэтому-то, когда закончилась 52-я Олимпиада (согласно современному летосчислению это был 572 г. до н. э.), собрались в Сикионе тринадцать юношей из лучших родов Эллады. Двое из них прибыли из-за моря, из богатых городов Италии. Родиной еще четырех были северные страны, где горы суровы, а варвары подходят близко к стенам греческих поселений. Афины были представлены двумя, остров же Евбея — только одним. Зато с Пелопоннеса пришли сразу четверо. Их дорога в Сикион была близкой, так как город расположен на северном побережье этого полуострова.
Они прибыли в прекрасный город, раскинувшийся у подножия крутых гор на широкой равнине, пересекаемой горными потоками. Со стороны морского залива всегда дул здоровый прохладный ветерок. С другой же, северной, стороны виднелись высокие горы Центральной Греции: на востоке — Киферон, за которым была Аттика, земля афинян[3]; прямо — Геликон, пристанище муз и преддверие равнин Беотии; на западе возносился огромный Парнас, вершины которого почти весь год были покрыты снегом.
И все же больше, чем прекрасные окрестности, приезжих интересовал сам город, людный и богатый. Земли вокруг были такими плодородными, как нигде в Элладе. Славились здешние оливки и овощи, а также кони, пасшиеся на горных лугах. Порт, лежавший всего в часе пути, был невелик, но всегда полон кораблей и лодок. Расцветали ремесла: изделия сикионских кузнецов и гончаров ничем не уступали коринфским. Местные скульпторы пользовались широкой славой, вероятно, именно в Сикионе возникло искусство обжига в печах глиняных скульптур. Однако работали и с мрамором, многому научившись от мастеров, приехавших с далекого Крита. Говорили, что на этом острове некогда удивлял своим искусством сам Дедал. Его скульптуры опутывали цепями, чтобы они не убежали, — так эти изваяния были похожи на живых людей.
Клисфен был четвертым властителем Сикиона из рода Орфагоридов. Его называли тираном, ибо Орфагориды захватили власть силой. Однако простой народ хвалил Клисфена, который покровительствовал крестьянам и ремесленникам, зато преследовал аристократов. Даже их родовым союзам он дал новые названия — по имени свиньи, осла и поросенка. Был он ловким политиком и Смелым вождем, построил много зданий: одна такая колоннада возвышалась недалеко от рынка. И при всем этом Клисфен вовсе не был гордецом. Однажды он принял участие в спортивных играх в честь Аполлона, и судья присудил победу кому-то другому. Тиран не только не разгневался, но, наоборот, возложил на судью венок, чтобы наградить справедливость.
Словом, в Сикионе было что посмотреть и чем заняться. Да и сам Клисфен заботился о досуге своих гостей. Принимал он их прекрасно. Часто беседовал с молодыми людьми, смотрел, как они состязаются на стадионе. Вскоре стало ясно, что больше всех ему пришлись по сердцу оба афинянина: Мегакл Алкмеонид и Гиппоклид из рода Филаидов. Последний по материнской линии был связан родством с тиранами Коринфа, который был расположен совсем недалеко от Сикиона. Выйдя рано утром за городскую ограду, можно было спокойным шагом к вечеру добраться до Коринфа. «Лучше уж выбрать Гиппоклида, — думал Клисфен, — да и в борцовских поединках он вроде бы более ловок. Что же касается Мегакла Алкмеонида, то хотя род его древний, могущественный и богатый, но, как говорят, очернен преступлением и проклят богами».
Наконец наступил день, когда надо было сделать окончательный выбор. Клисфен принес в жертву сто волов. Внутренности их сожгли, чтобы боги насытились дымом, мясо же подали на пиру в честь гостей и жителей Сикиона. Одновременно это являлось и последним испытанием; за вином гости состязались в искусстве пения и остроумии. Пир затягивался, все были возбуждены. Уверенный в победе Гиппоклид вдруг крикнул флейтисту: «А теперь сыграй мне что-нибудь для танца!» — и стал танцевать. Тиран смотрел на эти прыжки с нарастающим раздражением.
Тем временем весьма довольный собой Гиппоклид снова приказал: «А ну-ка, принесите мне стол!» Как только стол был принесен, он вскочил на него и стал показывать гостям, как танцуют в Лакедемоне, а потом — как в его родной Аттике. В конце концов веселый юноша встал на голову и задрыгал ногами. Этого Клисфен уже не мог стерпеть и сказал громким голосом: «Ну вот, Гиппоклид, ты и проплясал свою женитьбу!» Среди наступившей тишины раздались спокойные слова, произнесенные с небрежной усмешкой, достойной потомка великого рода: «Гиппоклиду это безразлично». Ответом ему был громкий смех пирующих.
Тогда, обратясь к своим гостям, Клисфен сказал: «Друзья! Все те, кто добивался руки моей дочери! Благодарю вас за то, что вы оказали честь моему дому. Если бы это было возможно, никого бы я не отверг. Но дочь у меня только одна. Поэтому я решил: двенадцать из женихов получат по мине серебра за то, что сватались к Агаристе и так долго пребывали вдали от дома. Дочь же свою я отдаю Мегаклу сыну Алкмеона, афинянину».
Афинские партии
От этого брака появились на свет дочь и трое сыновей. Старший из них получил имя деда — Клисфен. Так Мегакл отблагодарил тестя за его выбор и приданое Агаристы. Легко догадаться, какие богатства привез он в Афины вместе с женой, ведь даже отвергнутых женихов Клисфен одарил по-царски. Мегакл не был бедным и перед женитьбой на дочери тирана, а теперь стал одним из самых богатых людей в Элладе. Он имел наследственные владения в Аттике, а также золото, некогда полученное в Азии его отцом. Об этом золоте ходило много легенд. Рассказывают, что во время путешествия по Азии Алкмеон, отец Мегакл а, посетил однажды Сарды — столицу царя Лидии. Щедрый лидийский владыка разрешил гостю взять из его сокровищницы столько золота, сколько он в состоянии унести с собой. Хитрый Алкмеон надел широкие одежды с большими карманами, высокие сапоги и натолкал золото куда только мог, даже набрал в рот, а волосы посыпал золотой пылью. Из сокровищницы вышел, едва двигая ногами, как будто раздутый водянкой. Увидев странную фигуру, царь не мог удержаться от смеха и не только подарил Алкмеону все, что тот вынес с собой, но дал еще столько же. Лидийский владыка любил греков, почитателей бога Гермеса — покровителя поэтов, купцов… и воров.
Казалось, Мегакл получил все, что только боги могут дать простому смертному. Но он думал по-другому. Дары судьбы и небожителей он считал лишь средством для достижения главной цели — власти. Мегаклом двигало не только честолюбие, но и память о страшном бедствии, которое обрушилось на его род за два поколения до него. Тогда враги жестоко расправились с Алкмеонидами и даже выбросили из гробов прах их умерших.
«Наконец-то, — думал Мегакл, — наступает время отмщения». Теперь благодаря своим богатствам он держит в руках судьбу Афин и смирит гордыню потомков тех, кто некогда хотел уничтожить не только его род, но даже память о нем.
Так Мегакл начал опасную игру. Вокруг него сплотилась целая партия. Называлась она Побережье. В ней объединились люди, живущие у моря или пользующиеся его дарами: моряки, купцы, рыбаки и ремесленники, а также крестьяне, поселившиеся на берегах Аттического полуострова. Побережью противостояла Равнина, в которую входили богатые землевладельцы из долины р. Кефис. Среди родов Равнины большой вес имели Филаиды, а значит, и дом Гиппоклида. Неудача в борьбе за руку Агаристы еще больше усилила их неприязнь к Алкмеонидам.
За что же боролись эти две партии? Побережье защищало то политическое устройство, которое почти 30 лет назад, в 594 г. до н. э., ввел мудрец Солон. Тогда были ликвидированы многие привилегии аристократов, а право занимать должности стало зависеть только от состоятельности. Это вполне устраивало людей Побережья, которые в большинстве своем не могли похвастаться хорошим происхождением, зато были довольно зажиточными. Равнина требовала вернуться к старому обычаю, по которому власть должна находиться в руках у «лучших».
Конечно, по своему происхождению Алкмеониды должны были находиться среди родов Равнины, ибо они принадлежали к высшей аристократии, или, как их называли в Аттике, к эдпатридам. Однако в 630 г. до н. э. всех Алкмеонидов изгнали из страны — и живых, и мертвых. Судьи, принадлежавшие к самым знатным родам, постановили: Алкмеониды совершили преступление против богов и людей. Только Солон позволил скитальцам вернуться на родину. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Мегакл так яростно защищал законы Солона и боролся против родов Равнины, некогда проклявших его предков.
Равнина была могущественна и богата. Ее представители пользовались уважением народа, так как вели свое происхождение от легендарных героев и царей. Несмотря на все усилия Мегакла, до полной победы было далеко. А кроме того, в государстве существовала еще и третья партия. Ее называли Вершиной, потому что входили в нее жители неплодородных гор северной Аттики. Они слепо повиновались своему вождю Писистрату, имя которого было знакомо и другим обитателям страны: он храбро сражался в войне с Мегарой, а в мирное время всегда защищал простых людей.
Через десять лет после свадьбы Мегакла и Агаристы, т. е. приблизительно в 560 г. до н. э., Писистрат стал владыкой Афин. А произошло это так.
Писистрат
На афинский рынок влетели обезумевшие от страха мулы. Они тянули за собой повозку с залитым кровью мужчиной. Это был Писистрат. Он кричал, что, проезжая через поля, попал в засаду и только чудом остался жив. Умолял о милосердии: враги поджидают его везде, и он должен иметь стражу для защиты.
Вскоре состоялось собрание всех граждан, называемое эклессией. Было принято решение уважить просьбу человека, которому — все это видели — смерть грозит каждую минуту. Не обошлось и без возражений. Одни напоминали, что закон запрещает гражданам иметь собственные дружины. Другие утверждали: засаду придумал сам Писистрат и ранил себя для очернения своих врагов. Никто, однако, не посмел выступить решительно против него, опасаясь навлечь на себя подозрение в участии в покушении. Справедливости ради надо сказать, что скептиков было немного. Большинство все еще находилось под впечатлением переполоха на афинском рынке. Писистрат получил разрешение создать собственный отряд с условием, что он будет вооружен только палками. Этого оказалось достаточно. Однажды люди Писистрата захватили Акрополь. А тот, кто владел этим холмом с обрывистыми склонами из белого известняка, возносившимся в самом центре города, был хозяином не только Афин, но и всей Аттики.
Писистрат правил мудро, сохранял в стране покой и порядок, заботился о крестьянах и ничем не нарушал Солоновых законов. Внешне государственное устройство осталось неизменным. Однако каждый чиновник, каждый судья считался с волей человека, за которым была реальная сила. В терроре не было необходимости: трусливая покорность составляла основу тирании.
Враждебные до этого партии Равнина и Побережье стали сближаться друг с другом. Писистрат знал, какой опасностью для него грозит такой союз. О том, чтобы привлечь на свою сторону честолюбивого Мегакла, Писистрат даже не мечтал. Но может быть, удастся ослабить Равнину? Ее возглавлял Ликург, но у него был соперник — Мильтиад, который после смерти Гиппоклида стоял во главе рода Филаидов и был известен во всей Греции, так как его колесница победила в гонках на последней Олимпиаде.
Рассказывали, что в начале правления Писистрата с Мильтиадом произошел удивительный случай. Однажды, сидя у входа в свой дом, он заметил нескольких чужеземцев, прибывших издалека. Об этом свидетельствовали их одежда и копья, которые в Греции уже давно никто не брал в дорогу. Мильтиад воскликнул: «Подойдите ближе, чужеземцы! Вы можете остановиться в моем доме». Те посмотрели друг на друга, чему-то улыбнулись и приняли приглашение. А когда отдохнули, рассказали хозяину, откуда они и какова цель их путешествия.
«Мы — фракийцы из племени долонков, живем на узком и длинном полуострове, охраняющем с севера выход из залива в Гостеприимное море[4]. Вы называете этот полуостров Херсонесом. Земля у нас неплохая, в море много рыбы и на мореходстве можно заработать. Да какой от этого прок, если нас постоянно грабят соседние племена. Доведенные до последней крайности, мы отправились в дальнее путешествие в Дельфы, в храм бога Аполлона. Там прорицательница устами жреца сказала: пригласите властвовать над вами человека, который первым окажет вам гостеприимство. И вот мы идем из Дельф уже несколько дней, прошли земли фокеян и беотян, теперь путешествуем по Аттике. Везде мы ищем гостеприимного человека, но никто не раскрыл перед нами двери. Видно, наша чужеземная одежда вызывает опасения. Ты, Мильтиад, был первым, кто нас приютил. Поэтому, покорные пророчеству, просим тебя: приезжай в нашу страну, возьми власть, дай отпор врагу. Не отказывай нам, ведь это воля бога».
Вот такой рассказ передавался из поколения в поколение в роду Филаидов. И хотя он был похож на сказку многое говорило о том, что есть в нем доля истины Мильтиад действительно поехал на Херсонес, взяв с собой небольшое число переселенцев. Долонки приняли его дружелюбно, наделили землей и сделали своим правителем. Влияние дельфийских жрецов было огромным простиралось далеко. Не одно смелое путешествие в далекие края начиналось по их совету. Почему же и здесь не могла втайне действовать их рука? Несомненно, и то что овладеть Херсонесом Мильтиаду помог сам Писистрат, ибо без согласия тирана ни один колонист не мог выехать за пределы Аттики.
Долонки сделали хороший выбор. Мильтиад отбил нападения врагов, для подданных он был разумным и заботливым владыкой и поэтому получил прозвище Основатель. И хотя долонки уступили часть своей земли пришельцам из Аттики, они не остались внакладе, имея возможность пользоваться плодами долгожданного мир. После смерти Мильтиада власть на Херсонесе перешла его племяннику Стесагору.
Зато Писистрат обманулся в своих расчетах. Отъезд Мильтиада не ослабил родов Равнины. Наоборот, успех одного распалил жажду власти у других. Мегакл теперь действовал в тесном союзе с Ликургом. Тиран не мог противостоять объединенным силам обеих партий и через несколько лет был вынужден покинуть Афины.
* * *
Когда не стало общего врага, партии Равнина и Побережье снова начали борьбу между собой. На этот раз первая явно была сильнее. Мегакл оказался в трудно положении. Наконец ему в голову пришла, как он считал, спасительная идея. Почему бы не помочь Писистрату вернуться? Но при одном условии — тиран должен взять в жены его дочь. Коль скоро сам Мегакл не может стать владыкой Афин, пусть правит его зять, а затем их потомство.
Писистрат ранее уже был женат, причем дважды. О обоих браков имел сыновей. С предложением Мегакл; однако, согласился охотно, ибо иной возможности вернуться на родину тогда не видел.
Позже вся Греция смеялась над наивностью афинского люда. Мегакл и Писистрат разработали хитры план захвата Акрополя. Они отыскали рослую и хорош сложенную девушку, надели на нее дорогие доспехи и велели стоять в колеснице так, как обычно представляли богиню Афину. Вперед были высланы глашатаи, которые кричали: «Афиняне! Наша госпожа сошла с Олимпа, и сама ведет на Акрополь Писистрата, мужа, угодного всем богам!»
Толпы простаков заполнили улицы, молясь божеству и радостно приветствуя человека, которому оказали честь бессмертные жители Олимпа. Наверное, не все поверили в чудо. Но даже наиболее подозрительные благоразумно держали язык за зубами. Моменты всеобщего энтузиазма не способствуют трезвым оценкам. Но главное, опасались готовых на все отрядов обоих вождей.
Писистрат сдержал слово. Вскоре после захвата власти он взял в жены дочь Мегакла. Однако шли годы, а потомства от этого брака не было. Как оказалось, детей не хотел Писистрат. У него уже было трое сыновей, зачем же увеличивать число наследников и запутывать дело передачи имущества и власти? Когда оскорбленный тесть потребовал объяснений, тиран ответил: «Над Алкмеонидами тяготеет проклятье. Ничто не сотрет из людской памяти то, что произошло при наших предках. Твой дед нарушил священные права богов».
Действительно, то преступление было трудно оправдать. Вот что тогда произошло. Люди Килона, окруженные на Акрополе воинами Алкмеонидов, умирали от голода и жажды. Из последних сил они доползли до алтаря Афины. Вождь осаждавших, дед Мегакла, позволил им уйти. Однако, когда несчастные вышли из храма, на них по его приказу обрушился град камней. Несколько человек искали спасения у алтаря Евменид, но были задушены, чтобы ни одна капля крови не осквернила земли, посвященной богиням, и не вызвала их гнева.
Поэтому Писистрат имел полное право сказать: «Приговор судей был справедливым. Преступление и святотатство заслуживали сурового наказания — изгнания. Благодаря Солону Алкмеониды вернулись на родину. Согласен с этим, так как строго придерживаюсь его законов. Вы же, род проклятых, должны ценить эту милость и поступать рассудительно. А что касается твоей дочери, то я, как обещал, взял ее в жены. Но речи о потомстве у нас с тобой не было. Да и зачем я буду плодить с ней детей? Чтобы проклятье богов пало и на мою кровь?»
Мегаклу трудно было что-либо ответить.
Кем же был Килон, убитый его дедом? Он захватил Акрополь, потому что хотел — как теперь Писистрат — стать тираном Афин, но проиграл из-за решительных действий деда Мегакла. Тот не считался ни с чем во имя спасения свободы своей родины. Зато Мегакл обманным путем водворил на Акрополь тирана и дал ему в жены свою дочь.
После разрыва с Мегаклом дни Писистрата в Афинах были сочтены. Но может быть, он и сам хотел этого: амбиции тестя стали невыносимы, а сохранение двоевластия — невозможно. Избегая вооруженного столкновения, Писистрат тайно покинул город. Несколько лет он скитался по чужим краям, приобрел большое состояние, много союзников и наконец вновь ступил на родную землю. Во главе тысячи наемников Писистрат высадился на равнине под Марафоном, и вскоре к нему присоединились окрестные крестьяне.
Дорога из Марафона в Афины шла через широкое ущелье между горами Гиметт и Пецтеликон. Там-то, возле святыни Афины Паллены, и собрались люди Равнины и Побережья. Они были уверены в своей победе над сбродом из лагеря неприятеля. Утром, вскоре после завтрака, некоторые легли вздремнуть, другие развлекались игрой в кости. Атака Писистрата застигла их врасплох. Тот, кто не успел бежать, погиб в бою. Мегакл и его сыновья скрылись у подножия горы Парнас.
Аполлон и изгнанники
Казалось, Дельфы, затерявшиеся среди глухой тишины скальной котловины, совершенно отрезаны от мира. Почти вертикальные пики Парнаса возвышались на севере и востоке. Сразу же за обрывистым оврагом, с юга, вырастал огромный массив горы Кирфида. Только с запада открывался вид на глубокую долину, поросшую серебристо-зелеными оливами, и поблескивающую вдали гладь моря. Но именно сюда, в этот дикий край, направлялись со всех концов света толпы паломников и официальные посольства, так как суровую красоту Парнаса облюбовал Аполлон — прозревающий будущее бог света. Раз в четыре года здесь проходили игры, называемые Пифийскими, они собирали участников и зрителей не меньше, чем в Олимпии.
Дельфы стали духовной столицей народа, разделенного на сотни враждующих между собой крохотных государств-полисов. В Дельфах знали все, что делается не только в каждом из греческих городов, но и в соседних странах; при участии жрецов проводились тайные переговоры и принимались важные политические решения. С волей Аполлона и значимостью его предсказаний считались не только эллины, но и соседние народы (принятие Мильтиадом власти над долонками лишний раз подтверждает это). Мегакл поступил предусмотрительно, расположившись именно здесь. То же самое в свое время сделал его дед, вынужденный бежать из Афин после убийства людей Килона. Мегакл всячески стремился привлечь жрецов на свою сторону, ведь бог говорил их устами.
Обряды происходили следующим образом. В глубине храма, над скальной трещиной, из которой поднимались испарения, сидела жрица, называемая пифией. Находясь в полубессознательном состоянии от действия паров, она произносила бессмысленные слова, которые жрецы объясняли в стихотворной форме. Таким образом, многое зависело именно от них. Мегакл был заинтересован в том, чтобы пророчица ясно и недвусмысленно давала понять всем, обращающимся к ней за советом, что Писистрат неугоден богам, значит, надо помочь тем, кто хочет вернуть Афинам свободу.
А «неугодный богам» Писистрат правил хорошо, был снисходителен, внешне ничем не нарушал законов государства. Когда однажды кто-то возбудил против него дело, покорно явился в суд, но истец сам испугался своей смелости. Противников у Писистрата было немного, самые упорные погибли или бежали вместе с Алкмеонидами. Для населения Аттики самой главной являлась забота тирана об экономике. Он развивал строительство и мореходство, но прежде всего заботился о сельском хозяйстве. Земли своих врагов Писистрат раздал их бывшим арендаторам. На заброшенных участках создавались новые хозяйства, а для того чтобы не отрывать крестьян от пашни для поездок в город — выездные суды. Словом, в Аттике произошел настоящий переворот в отношениях собственности, что крепко привязало крестьян к новой власти.
Аристократы также пытались договориться с тираном. Кимон, брат того самого Мильтиада, который владел Херсонесом, после битвы у храма Паллены находился в изгнании. Однако ему улыбнулось счастье: на 62-х Олимпийских играх (532 г. до н. э.) его четверка коней победила в гонках. Поразительно то, что и следующую Олимпиаду выиграли те же самые кони. И тогда Кимон запятнал себя жалкой лестью: распорядился объявить, что эти великолепные жеребцы на самом деле принадлежат Писистрату, а значит, именно ему полагаются и награда, и слава. Тиран отблагодарил льстеца, прославившего его среди всех эллинов: он позволил Кимону вернуться в Афины и возвратил ему имущество.
Вскоре Писистрат умер. Власть перешла к его сыновьям Гиппию и Гиппарху (их единокровный брат Фессал не имел никакого влияния). Почти одновременно покинул этот мир враг и тесть Писистрата Мегакл. Главой рода стал его старший сын Клисфен. Ненависть двух родов была передана новому поколению.
Писистратиды старались идти по стопам отца. Особенно разумным и предусмотрительным был Гиппий. Зато его брат предавался радостям жизни: искал любовные приключения, приглашал в Афины поэтов, артистов, развлекался и пировал.
На играх 64-й Олимпиады (524 г. до н. э.) кони Кимона снова пришли первыми к финишному столбу. Вскоре после возвращения в родной город победитель был тайно убит. Распространился слух, что это сделано по приказу Гиппия. Как считали, его испугала громкая слава Кимона: человек, которого трехкратно почтила своим вниманием богиня победы Ника, был выше тиранов всего мира. Через какое-то время Гиппий очень сердечно простился с сыном своей предполагаемой жертвы — Мильтиадом-младшим и отправил его в Херсонес. В Афинах говорили: «Теперь-то совершенно ясно — Гиппий и есть убийца. Избавляется от мстителя и одновременно хочет отвести от себя подозрения».
Ни тогда, ни потом никто так и не узнал правды. Что касается Мильтиада, то он уехал главным образом потому, что в Херсонесе умер его брат Стесагор. Надо было сохранить в руках семьи власть, полученную некогда Мильтиадом Основателем при помощи Писистрата.
* * *
Только через несколько лет изгнанники в Дельфах сочли, что настал подходящий момент для свержения тирании. Гиппарх, замешанный в какой-то любовной истории, был убит; Гиппий же, мстя за смерть брата, правил очень сурово. Алкмеониды двинулись в Аттику во главе отряда своих сторонников. Они были убеждены, что, как только ступят на родную землю, народ восстанет против угнетателя. Изгнанники разбили лагерь в горной местности Лепсидрий. Но вместо толп добровольцев к ним присоединились лишь немногочисленные, группки врагов Гиппия. Большинство благоразумно выжидало, кто окажется победителем. Вскоре наемники тирана окружили Лепсидрий. Алкмеониды, хотя и прорвались сквозь кольцо врагов, но потеряли многих людей.
Клисфен сделал из этого тяжелого поражения следующий вывод: собственными силами он и его сторонники никогда не смогут сбросить тиранов. Но для того что бы получить помощь, надо иметь много денег. Род располагал только тем, что удалось собрать после поспешного бегства от воинов Писистрата. Правда, с годами эти средства увеличились, так как из Дельф можно было проводить выгодные финансовые операции со всем эллинским миром. Но для большой политики накопленная сумма была слишком скромна. И тут Алкмеонидам повезло.
За 25 лет до описываемых событий в Дельфах сгорела святыня Аполлона. Опекунский совет храма решил восстановить его в еще большем великолепии. Подсчитали, что стоимость постройки составит около 300 талантов[5]. Это была огромная сумма. Святыня располагала богатыми дарами государств и частных лиц, но они считались собственностью бога и были неприкосновенными. Сбор пожертвований велся по всей. Греции и даже за ее пределами: деньги на святое дело передал фараон Египта. Таким путем за многие годы собрали лишь четвертую часть необходимой суммы. Остальное решили получить во время строительства из храмовой сокровищницы и за счет вкладов государств-покровителей. Вскоре после поражения под Лепсидрием строительные работы начались. Общее руководство поручили Клисфену. Это была не только почетная, но и очень выгодная должность. Благодаря ей Алкмеониды могли использовать значительные средства, поступавшие к ним по мере продвижения работ. Клисфен оказался человеком энергичным и оборотистым и хорошо выполнил порученное ему дело. Фронтон святыни был выстроен более пышным, чем этого требовал договор: вместо обычного известняка использовали дорогой паросский мрамор. Правда, ходили упорные слухи, что стоимость работ ниже сообщенной Клисфеном опекунскому совету и разницей он делится с жрецами. Увы, проверить это было невозможно! Зато теперь, когда к прорицательнице прибывал кто-либо из Спарты, он уезжал с одним и тем же ответом пифии: спартанцы — самый могущественный народ Эллады — обязаны освободить Афины из-под ярма тиранов.
С момента убийства Гиппарха и поражения под Лепсидрием прошло четыре года. Сомнительно, чтобы призывы дельфийской пророчицы сами по себе склонили спартанское правительство к каким-либо действиям, если бы не ошибочный шаг властителя Афин. Он хорошо знал о предсказании и решил предостеречь спартанцев от искушения вмешаться в дела его государства. С этой целью Гиппий демонстративно установил дружеские отношения с Аргосом — извечным врагом Спарты.
Ответ спартанцев не заставил себя ждать. Весной 510 г. до н. э. их отряд высадился в Фалерском заливе, недалеко от Афин. Однако тиран вовремя успел стянуть силы своих союзников из далекой Фессалии. Все деревья на широкой приморской равнине вырубили, чтобы прекрасной фессалийской коннице было где развернуться. Союзники Афин атаковали спартанцев еще до того, как последние успели подготовиться к битве. Многие из них были убиты на месте, остальные бросились на корабли и поспешно отплыли. Однако вскоре в Аттику вторглась большая спартанская армия во главе с царем Клеоменом. Вместе с ним шли и изгнанники. К спартанцам и Алкмеонидам присоединились все, кто устал оттирании и кто хотел вовремя оказаться на стороне победителя.
Гиппий засел на Акрополе, где был обеспечен всем необходимым. Казалось, тиран снова выйдет из сложного положения, так как спартанцы не хотели тратить время на осаду неприступной скалы и уже готовились к отходу. Но тут им помог случай: были схвачены сыновья Гиппия. Имея в руках таких заложников, можно было ставить жесткие условия. Гиппий и его брат должны были покинуть родину в течение пяти дней, взяв с собой только движимое имущество. Они выехали в Малую Азию, в окрестности Трои, где их отец некогда владел г. Сигей, и стали подданными персидского царя, земли которого простирались до Эгейского моря и даже за Геллеспонт[6], до нижнего течения Дуная.
Так, в 510 г. до н. э. закончилась власть рода Писистрата над Афинами, длившаяся с перерывами почти полвека.
Законы Клисфена
Сын Мегакла прославился как освободитель города. Между тем на родине у него было больше врагов, чем друзей. Многие в глубине души сочувствовали изгнанному тирану, были такие, кто сам желал занять его место. И почти все завидовали триумфу Клисфена. Возродилась старая неприязнь родов Равнины к Алкмеонидам. Недоброжелатели шептали друг другу: «Только избавились от сына Писистрата, а уж нам на шею сел новый господин, потомок проклятых!»
Крестьяне и ремесленники вели себя индифферентно, некоторые даже сожалели о временах тирании. Им тогда жилось не так уж плохо: первые получили землю, а вторые всегда имели верный заработок благодаря строительству и развитию мореходства. А что им ждать от нынешней свободы, которая в любой момент могла быть уничтожена и переродиться в борьбу сильных мира сего за власть?
Главой всех врагов Клисфена стал Исагор. Он происходил из аристократической семьи, из поколения в поколение боровшейся с Алкмеонидами. Исагор не скрывал своей симпатии, по крайней мере на словах, к изгнанному Гиппию, что обеспечило ему поддержку сторонников последнего. О том, как велико было влияние Исагора, свидетельствовало избрание его уже на третий год после освобождения главным архонтом. Это был очень почетный пост, ибо архонт в течение года руководил государством. В Афинах даже по-особому датировали события, говоря: это произошло, когда архонтом был такой-то. Но главный архонт сосредоточивал в своих руках и большую власть. Он возглавлял коллегию архонтов, состоявшую из девяти человек и занимавшуюся всеми государственными делами. Архонт также частично осуществлял судебную власть.
Если Клисфен хотел сохранить свое политическое влияние, он обязательно должен был добиться поддержки масс. Сын Мегакла быстро это понял. Он выступил перед народным собранием с проектом кардинальной реформы государственного устройства. Его предложение было принято с огромным энтузиазмом. Однако наивно предполагать, что идея реформ возникла неожиданно и только у Клисфена. Вероятно, некоторые из новых для Афин законов были заимствованы из других стран, где действовали уже давно. Да и афинский народ не был пассивной массой, ожидающей чьего-то озарения, он каким — то образом и сам выражал свои желания. Однако новая конституция, а именно так надо назвать эти преобразования, своим окончательным видом была обязана Клисфену. Борьба политиков за власть только ускорила ее разработку и принятие.
Можно без преувеличения сказать, что демократия, народовластие, начинаются в Афинах со времен Клисфена. С течением времени сущность этого строя менялась мало — ему придавали только более радикальные черты. Поэтому уважение к законам Клисфена было в Афинах всеобщим, особым же почетом его имя пользовалось в доме, где подрастал Перикл, ибо Клисфен был дядей его матери, Агаристы.
Не без колебаний автор приступает к рассказу о сути новых законов. Он прекрасно понимает, что большинство читателей пропустит эту главу, как не имеющую значения. Ученые же коллеги будут иметь претензии: сколько упущений, сколько упрощений! В свое оправдание автор хочет сказать следующее: речь пойдет только о самых важных факторах, необходимых для понимания того, как функционировало государство в эпоху Перикла.
Вся Аттика, включая Афины, со времен Клисфена делилась более чем на сто демов, или округов. Хотя они занимались только местными делами, их связь с государством была очень тесной. Каждый афинский гражданин, принадлежал к одному из демов: это право являлось наследственным и не было связано с действительным местом проживания. Например, Алкмеониды состояли в деме Алопеки, а отец Перикла и, значит, он сам — в деме Холагр; оба они находились недалеко от Афин.
Запись в дем происходила после того, как юноше исполнялось восемнадцать лет и свидетели подтверждали, что он происходит от брака, заключенного законным путем, и является свободным. Составляя подобные списки в первый раз, в него включили всех, кто утратил гражданство при тиранах, а также в виде исключения тех, кто его вообще никогда не имел. Эти новые граждане были безраздельно преданы Клисфену. Но не следует думать, что гражданство получили все жители Аттики — его, естественно, не имели рабы, а также проживавшие здесь чужеземцы — метеки.
Важнейшими, однако, явились другие новшества, введенные Клисфеном. С давних времен в Аттике существовали так называемые филы, т. е. родовые союзы. Их было четыре, и они имели определенное политическое значение, так как из их состава избирался совет — буле. Последний насчитывал четыреста членов — по сто от каждой филы — и наблюдал за ведением текущих государственных дел. Клисфен сохранил родовые филы, опору аристократии, только как религиозные союзы: их члены должны были совместно совершать жертвоприношения духам общих предков. Кроме того, были созданы десять территориальных фил, или областей, разбросанных по всей стране, причем так, чтобы в каждую из них входили части районов, поддерживавших Равнину, Побережье и Вершину. Административную единицу, образованную из этих трех частей, называли тритией. В каждой филе было три тритии. Благодаря такому устройству старая политическая вражда между партиями должна была со временем исчезнуть.
Совет (буле) отныне состоял из пятисот членов. Их избирали ежегодно — по пятьдесят от каждой филы. В течение года они по очереди председательствовали в совете. Эти пятьдесят были чем-то вроде правительства страны. Период правления назывался пританией, а сами правители — пританами. Треть их постоянно находилась в здании совета на агоре[7], они даже питались вместе. Каждый день по жребию правители выбирали из своих рядов притана, становившегося на этот короткий срок главой государства. Он получал печать и ключи от святынь, где хранились архивы и казна.
Заседания совета в полном составе проходили ежедневно, за исключением праздников и неблагоприятных дней. Пританы определяли круг вопросов, подлежащих обсуждению, они же созывали народное собрание и оглашали его повестку дня. Местом проведения собраний был небольшой холм Пникс, на запад от Акрополя. Здесь на расположенных амфитеатром деревянных лавках могли находиться одновременно несколько тысяч человек. Ораторы выступали с каменной трибуны у стены, где сидели председательствующий и пританы. Участвовать в собрании мог каждый гражданин, не запятнавший себя бесчестьем. Даже в период наивысшего расцвета в Афинах было не больше 40 тыс. граждан, и только часть из них посещала собрания: крестьяне и ремесленники не могли на весь день оторваться от работы.
Действовало правило: в течение притании должно состояться не менее одного народного собрания, позднее за тот же период их проходило целых четыре. Собрание граждан было основной и одновременно высшей инстанцией. Каждый гражданин обладал правом прямого голосования и произнесения речей. Собрание в принципе имело неограниченные полномочия: оно избирало чиновников, в любой момент могло снять их с занимаемого поста, решало вопросы войны и мира, но иногда рассматривало и самые мелкие судебные дела. На практике же собрание обычно ограничивалось кругом вопросов, предварительно разработанных и предложенных советом. Однако позднее утвердился обычай посвящать каждое второе собрание в притании обсуждению предложений граждан, касающихся как государственных, так и частных дел. Тот, кто хотел взять слово, возлагал на алтарь оливковую ветвь и поднимался на трибуну.
Зато первое народное собрание всегда называли главным, оно имело заранее определенный круг вопросов. Сначала, голосуя поднятием рук, решали, как чиновники справились с порученными им делами. Потом обсуждали снабжение города продовольствием, особенно зерном, ибо бесплодная и неурожайная Аттика издавна была вынуждена его ввозить. Далее рассматривались вопросы обороны страны, обвинения в государственной измене и имущественные споры. Каждый гражданин мог произнести речь, за исключением тех, кто плохо обращался с родителями, уклонялся от военной службы, струсил на поле битвы и растратил унаследованное имущество. Оратор надевал на голову миртовый венок; это означало, что он в данный момент служит государству и его личность неприкосновенна. Такой венок, кроме него, имели право носить члены совета, чиновники и жрецы во время исполнения ими официальных обязанностей. Лишить оратора слова мог только председатель собрания.
Кроме десяти фил и нового порядка работы совета, Клисфен ввел еще одно новшество — коллегию десяти стратегов, по одному от каждой филы. Как показывает само название, стратеги должны были командовать войском и заниматься всем, что с ним связано. Однако их права вскоре значительно расширились, ибо оборона страны тесно переплеталась с внешней политикой и экономикой. Стратеги являлись очень влиятельными чиновниками еще и потому, что эту должность можно было занимать сколько угодно, времени, и притом каждый год. Архонтом же, продолжавшим формально оставаться первым человеком в государстве, становились только один раз в жизни. Таким образом, каждый, кто стремился сделать карьеру, боролся именно за должность стратега.
Такова была Клисфенова демократия, считавшаяся многими чересчур широкой, а в действительности весьма ограниченная — и не только потому, что в политической жизни не принимали участия рабы и метеки. Сами афинские граждане не были равны между собой. Клисфен сохранил их разделение, введенное за сто лет до него Солоном. Каждый гражданин принадлежал к одному из имущественных классов в зависимости от дохода. В первый, класс входили все те, чей доход составлял не менее 500 мер зерна, оливкового масла и вина либо соответствующую денежную сумму. Во втором классе было достаточно иметь 300 мер, а в третьем — только 200. Все остальные входили в четвертый класс. Это были так называемые феты — люди, живущие главным образом своим трудом. Правда, они могли принимать участие в народных собраниях, голосовать и выбирать, но не имели права занимать высшие государственные должности, а значит — входить в совет, называвшийся Ареопагом и состоявший из бывших архонтов. Компетенции Ареопага, особенно в области судопроизводства, были весьма широкими. Конечно, феты могли заседать в народных судах и входить в совет пятисот, однако лишь немногие граждане четвертого классу пользовались этим правом, потому что заседания судов или совета были частыми и продолжительными.
Представители власть имущих считали, что привилегии им даны справедливо, так как в случае войны они составляли основу войска в качестве тяжеловооруженных воинов — гоплитов. Только они могли позволить себе покупку полного доспеха. Бедняки либо вообще не несли военной службы, либо привлекались к ней в качестве лучников. Поэтому-то власть имущие имели полное право сказать: «Мы отдаем государству самую богатую дань — свою кровь. Мы не отбираем у фетов право голоса, но не можем им дать полного права участвовать в управлении». Клисфен полностью разделял подобные взгляды и не нарушил закона Солона. Это предстояло сделать его преемникам, да и то косвенным путем. Формально имущественные классы никто не отменял, но на практике разделение утратило значение и даже самым бедным был открыт доступ к высоким постам. Дело демократизации завершил Перикл. Однако личное влияние самого вождя настолько усилилось, что граждане говорили: «В Афинах только видимость правления народа, а на самом деле — единовластие».
Бронзовая колесница на Акрополе
Реформы Клисфена только-только начали осуществляться, когда в Афины явился спартанский гонец и объявил: «От имени нашего государства напоминаю вам, что здесь находятся люди, запятнавшие себя преступлением и проклятые богами. Исполните вашу святую обязанность и очистите город от скверны».
Гонец не скрывал, что следом за ним спешит с отрядом воинов сам царь Клеомен. Так спартанцы, которые совсем недавно помогли Алкмеонидам изгнать тиранов, вдруг открыто и жестоко выступили против них. Почему же это произошло?
Клеомен прибыл в Аттику по просьбе Исагора. Люди недоброжелательные, в которых в Афинах не было недостатка, утверждали, что обоих государственных мужей связала столь тесная дружба потому, что царю очень понравилась красивая жена Исагора. Последний же во время предыдущего пребывания Клеомена в городе проявил снисходительность. Однако в действительности более важные причины политического характера заставили спартанцев вмешаться во внутренние дела Афин. Исагор был сторонником олигархии, т. е. такого строя, при котором власть принадлежала исключительно родовитым людям. А Спарта как раз и являлась олигархическим государством, имевшим, однако, ту особенность, что здесь знатность и богатство всегда шли рука об руку. Политические права имели только несколько тысяч спартанцев, которым принадлежали земля и работавшие на ней полузависимые крестьяне — илоты. Даже свободные жители городков, так называемые периеки, не принимали в делах правления никакого участия. Неудивительно, что, по мнению спартанцев, Клисфен со своими реформами зашел слишком далеко: приравнял благороднорожденных, богатых к простому народу. В Спарте подобное было невозможно.
Еще до прибытия царя Клисфен благоразумно покинул город. Клеомен занял Афины без боя и тут же начал наводить свои порядки. Семьсот семей, связанных узами родства с Алкмеонидами, были изгнаны из страны. Спартанец открыто стремился к установлению олигархии и передаче власти Исагору. Суд, состоявший из трехсот человек во главе с Мироном из Флиунта, повторно проклял Алкмеонидов.
Только теперь стало ясно, какое огромное значение имели реформы и какой поддержкой они пользовались. Недавно созданный совет пятисот наотрез отказался выполнить требования захватчиков. Народ вышел на улицы, чтобы защитить своих вождей. Исагор и Клеомен скрылись на Акрополе и после трех дней осады сдались. Им сохранили жизнь. Клисфен вернулся в город, чтобы довести реформы до конца.
Спартанцы, разумеется, не могли примириться с таким поворотом событий. Теперь речь шла об их престиже во всей Элладе. В Аттику вторглись уже оба спартанских царя, Демарат и Клеомен (по давнему обычаю в этом государстве правили два царя из двух разных родов). Они вели не только спартанцев, но и войска небольших союзных городов. Дошли до Элевсина, где находился святой округ богини Деметры. Тем временем беотийцы заняли два приграничных района Аттики, а жители острова Ев — бея переправились через пролив и опустошали ее восточное побережье. «Добрые» соседи спешили поделить между собой страну, непокорный народ которой не смог управлять ею сам.
В это время в спартанском лагере под Элевсином возникли острые противоречия. Сначала его покинули отряды коринфян якобы потому, что считали войну несправедливой. На самом деле они просто не хотели проливать кровь во имя чужих интересов. Их примеру последовали и другие союзники. Вскоре возник спор между самими царями, давно ненавидевшими друг друга, и спартанцы покинули пределы Аттики. Это бесславное предприятие имело для Спарты лишь одно благоприятное последствие — там ввели правило, согласно которому только один царь может выступать с войсками в поход.
Афиняне сразу же напали на оставшихся врагов. Сначала они разгромили беотийцев, пленив семьсот из них, а потом переправились на Евбею. Пленники, взятые в обоих походах, долго стонали в афинских подземельях, скованные кандалами. Их выпустили только после получения большого выкупа — по две мины[8] серебра с человека. Оковы были вывешены на Акрополе, а у входа на холм поставили бронзовую скульптуру — колесницу, запряженную четверкой коней. На постаменте была выбита надпись: «Афинские юноши пленили в бою беотийцев и евбейцев. Их вражью гордыню сковали железные цепи. Десятую же часть выкупа — этих коней — они жертвуют Афине Палладе»[9].
Пол века спустя Геродот писал о последствиях этих событий. «Итак, могущество Афин возрастало. Ясно, что равноправие для народа не только в одном отношении, но и вообще — драгоценное достояние. Ведь пока афиняне были под властью тиранов, они не могли одолеть на войне ни одного из своих соседей. А теперь, освободившись от тирании, они заняли безусловно первенствующее положение. Поэтому, очевидно, под гнетом тиранов афиняне не желали сражаться как рабы, работающие на своего господина; теперь же после освобождения каждый стал стремиться к собственному благополучию»[10].
Часть вторая Отец Перикла: любимец поэта, враг Мильтиада, победитель персов
Марафон
Отца Перикла звали Ксантипп. Он происходил из богатой, но невлиятельной семьи. Женившись на Агаристе, племяннице Клисфена, Ксантипп навсегда связал свою судьбу с Алкмеонидами, сделал блестящую карьеру, но позднее дорого заплатил за дни своей славы. Его также втянуло в опасный круговорот то дело, которым занимался род жены (после смерти Клисфена род возглавлял брат Агаристы Мегакл).
У Ксантиппа и Агаристы было двое сыновей. Старшего звали Арифрон, младшего Перикл. Он родился приблизительно в 495 г. до н. э., т. е. был совсем маленьким мальчиком, когда начались события, от которых зависела судьба семьи, родного города, всей Греции.
В сентябре 490 г. до н. э. почти 15 тыс. персов высадились на восточном побережье Аттики, на равнине под Марафоном. Афиняне не смогли бы выставить против них такого же количества бойцов, даже если бы вооружили своих рабов. Помощь афинянам оказал только небольшой городок на границе Аттики и Беотии — Платеи, но он смог послать лишь несколько сотен воинов. Сразу после появления врагов под Марафоном афиняне отправили в Спарту бегуна Филиппида. Позже он клялся, что, когда был уже на Пелопоннесе, в безлюдных окрестностях горы Парфений, неожиданно увидел фигуру, скачущую по камням с ловкостью горного козла. И действительно, вместо ног у этого человека были копытца, а на голове — рожки. Не было никакого сомнения — это Пан, божество пастухов, житель диких скал и горных лесов. Божество крикнуло громким голосом: «Афинянин! Спроси своих, почему они не заботятся обо мне. Ведь, я всегда относился к вам доброжелательно, не раз помогал вам и помогу еще!»
Потом удивительное существо исчезло среди скал, а Филиппид поспешил дальше. Он прибыл в Спарту на второй день после того, как покинул Афины, а ведь эти два города находились друг от друга на расстоянии 1200 стадий, т. е. 200 км.
Представ перед правящим в Спарте советом старейшин, посланец передал им обращение афинского народа: «Персы уже захватили на острове Евбея город Эретрию. Теперь они переправились через пролив и высадились в нашей стране под Марафоном. Афиняне просят вас о помощи. Не допустите, чтобы и наш город, старейший в Элладе, стал добычей варваров!»
Спартанцы ответили: «Сейчас у нас большой праздник в честь Аполлона, во время которого нельзя выступать в поход. В помощи мы вам не отказываем, но войско отправим только после наступления полнолуния».
Филиппид бросился назад и застал своих, уже расположившихся в лагере под Марафоном, недалеко от врага. Он сообщил им, что надо ждать спартанцев еще несколько дней или в одиночку вступить в бой с многочисленным и лучше вооруженным противником.
Персы имели прекрасную конницу и великолепных лучников, но еще грознее была их слава не знающих поражений воинов. Перед владыкой персов царем Дарием склонялись народы от нижнего Дуная в Европе до Инда далеко на востоке, от снежных вершин Кавказа до нильских порогов. Тот, кто осмеливался противиться его воле, жестоко наказывался. За четыре года до описываемых событий персы разрушили г. Милет на побережье Малой Азии, близкий Афинам по языку и обычаям, могущественный и богатый. Несчастные жители были переселены в глубь огромного персидского государства. Расправа последовала потому, что милетцы возглавили восстание малоазиатских греков против персидского владычества.
Лишь за несколько дней до высадки под Марафоном персидская армия захватила Эретрию. Ее жители были посажены на корабли для отправки на восток. Гнев персидского «царя царей» пал на эретрийцев только за то, что они дружелюбно отнеслись к Милету и другим восставшим эллинам в Азии. Такое же «преступление» совершили и афиняне. И их в случае поражения ждала суровая кара. Страх повис над городом у подножия Акрополя и небольшим отрядом его защитников, расположившихся на марафонской равнине. А новости, принесенные Филиппидом, отняли надежду даже у смельчаков.
Ранним утром было замечено, что на скалистой горе в глубине материка кто-то поднимает и опускает щит. Бронзовый диск отражал лучи восходящего солнца и посылал их к расположенной далеко внизу равнине и кораблям у берега. Тысячи глаз в обоих лагерях напряженно всматривались в мигающую ослепительную точку. В сердцах одних она будила страх, в сердцах других — радость и надежду.
Персы расположились лагерем у самой кромки прибоя, имея за спиной свои корабли. Получив световой сигнал, некоторые из них сразу подняли якоря и вышли в открытое море, держа курс на юг. Блеск щита говорил персидским вождям: «Уже пора. Все готово. Спешите!»
Афиняне стали лагерем на склонах возвышенности и на равнине, закрывая врагу дорогу в глубь материка, в сердце своей страны. Глядя на вершину скалы, они очень тревожились, ибо прекрасно понимали значение сигнала: «Значит, за нашей спиной есть предатели. Что же сейчас происходит в городе?»
Но вождь афинян Мильтиад был спокоен. Возможно, он даже испытывал радость. Позади ожидания и сомнения. Еще до того, как солнце поднимется выше, все будет решено. Только сейчас; на рассвете, Мильтиад получил из персидского лагеря тайное известие: вся конница уже загружена на корабли, ожидают только нового сигнала щитом, чтобы немедленно отправиться в путь и высадить ее на другой стороне полуострова, вблизи Афин. Персы надеются застать врасплох город, в котором осталась лишь горстка защитников; предатели уже все подготовили и ворота будут открыты.
Мильтиад размышлял: «Это хорошо, что всадники уже на кораблях. Теперь можно спокойно перейти через ров и развернуться на равнине. Если бы персидская конница оставалась на месте, она рассеяла бы моих воинов. Лишь только персы встанут в шеренги, с ходу ударим по ним еще до того, как лучники смогут второй и третий раз спустить стрелы с тетивы. Все решит рукопашная. Сейчас не время раздумывать над тем, по чьему приказу был поднят предательский щит».
События произошли именно так, как и предполагал вождь. Правда, в центре персы начали одерживать верх, прорвав афинские шеренги и отбросив их назад. Однако на обоих флангах афиняне добились успеха. Опасаясь окружения, основные силы персов начали отступление, быстро превратившееся в повальное бегство к кораблям. К сожалению, победителям не удалось ни захватить, ни поджечь с помощью факелов большинство кораблей. Из всей вражеской армады в их руки попало только семь судов. Остальные подняли якоря и быстро поплыли вдогонку за той эскадрой, которая еще раньше, до начала битвы, отошла от берега с конницей на борту. Зато людские потери у персов были очень большими. На поле битвы остались лежать более 6 тыс. их воинов. Афиняне же потеряли всего 192 человека. Такая разница объясняется тем, что побежденные убегали, в панике бросая щиты и оружие, и становились легкой добычей нападающих. Афиняне полностью смогли удовлетворить свою жажду мести.
Сразу же после победы гонец Филиппид побежал в город (на этот раз ему предстояло преодолеть небольшое расстояние, чуть более 40 км, чтобы сообщить радостное известие). За ним спешила вся армия. Люди были измучены тяжелой битвой, а зной по-летнему жаркого дня лишал их последних сил. Мильтиад, однако, не обращал на это никакого внимания, и каждый солдат следовал его примеру.
Утром следующего дня в заливе Фалерон под Афинами показались персидские корабли. Они не решались приблизиться к берегу. Их экипажи вовремя заметили стоящие на берегу готовые к битве отряды, те самые, с которыми им уже пришлось скрестить оружие под Марафоном. Флот бросил якорь, но через некоторое время снова поднял его и отправился восвояси, к берегам Азии.
Так афиняне отразили нападение войск самого могущественного монарха тогдашнего мира. Они сделали это сами, почти без всякой посторонней помощи: 2 тыс. спартанцев прибыли в Аттику уже после битвы. Воины с Пелопоннеса осмотрели кровавое поле под Марафоном, воздали хвалу победителям и вернулись назад, славя город, спасший свою свободу и свободу всей Эллады.
Для своих погибших сограждан афиняне сделали на марафонской равнине братскую могилу — высокий холм, который сохранился до наших дней. Когда-то на нем стояли мраморные надгробия с именами павших воинов, сгруппированными по филам. Отдельно похоронили платейцев и рабов. Трупы персов также были преданы земле. На поле битвы был установлен символический памятник победы из белого мрамора — трофеон. Он изображал развешенное на креплениях вооружение неприятеля. Много веков жива была легенда, согласно которой каждую ночь на марафонском поле можно увидеть тени сражающихся, услышать их крики и ржание коней. Но с тем, кто специально придет туда удостовериться в этом, в дальнейшем произойдет какое-нибудь несчастье. Случайного же свидетеля битвы мертвецов не ждет ничего плохого.
Ежегодно в шестой день афинского месяца боедромион (сентябрь-октябрь) во исполнение клятвы, данной перед битвой, богине Артемиде приносили в жертву коз и в честь козлоногого божка Пана устраивали бег с факелами к гроту в стене Акрополя, где была его святыня. Это значит, что рассказу Филиппида афиняне поверили и делали все для того, чтобы божественный покровитель пастухов и гроза нимф больше не имел поводов для недовольства. Мильтиад распорядился изваять на собственные средства статую божка для украшения скального храма. А поэт Симонид увековечил это событие в короткой эпиграмме: «Меня, козлоногого Пана, аркадийца, персов врага и друга афинян, поставил здесь Мильтиад».
Мильтиад
Имя Мильтиада было тогда у всех на устах — того самого Мильтиада, который еще во время тирании Гиппия взял в свои руки власть в Херсонесе. Это небольшое государство создал Мильтиад Основатель, теперь же его племянник, третий владыка в роду, утратил Херсонес раз и навсегда. Однако Мильтиад-младший вызвал такой гнев персов, как никто из греков. Это произошло тогда, когда царь Дарий организовал поход за Дунай. Персы построили на этой огромной реке мост и двинулись на север, чтобы на землях нынешней Украины разгромить степные племена скифов. Охрана моста была поручена эллинам, подданным и союзникам царя. Среди них находился и Мильтиад. Вскоре стали приходить вести о том, что дела персов плохи: скифы отступают, не принимая битвы и уничтожая все вокруг; царь вынужден был возвратиться ни с чем. Вот тогда-то Мильтиад и внес смелое предложение: надо разрушить мост и тем самым обречь всю персидскую армию на гибель. Но большинство греков испугалось, и Мильтиад был вынужден бежать. В Херсонесе он продержался еще несколько лет, так как персы в своем огромном государстве были заняты другими делами.
И все же за три года до битвы под Марафоном, т. е. в 493 г. до н. э., Мильтиаду окончательно пришлось распрощаться со своим государством — наследственным владением трех поколений Филаидов. Он должен был бежать, ибо в окрестностях появился большой флот во главе с одним из полководцев Дария. Все, что представляло какую-либо ценность, херсонесский владьжа погрузил на пять кораблей и вышел в открытое море, держа курс на Афины. Но вокруг уже шныряли суда финикийцев, из ненависти к грекам преданно служивших персам. В их руки попал корабль, на котором плыл сын Мильтиада Метиох. Он был отослан к царскому двору. Дарий поступил благородно с сыном своего врага: женил его на прекрасной персиянке и щедро одарил.
Мильтиад и его второй сын Кимон сумели вернуться на родину. Однако здесь их ожидала нерадостная встреча. Мильтиад был обвинен в тираническом правлении на землях, принадлежащих Афинам. По такому обвинению суд мог приговорить даже к смерти.
Обвинителем Мильтиада был Ксантипп. Он действовал, конечно, не самостоятельно, а по договоренности с семьей жены. Причина, которая склонила Алкмеонидов к судебному процессу, совершенно ясна: они опасались, что возвращение Мильтиада изменит расстановку сил в государстве не в их пользу, ибо он был человеком богатым, имел влияние среди аристократов и вдобавок принадлежал к роду, издавна им враждебному.
Вопреки расчетам Алкмеонидов, судьи оправдали Мильтиада. И правда, принадлежность Херсонеса Афинам была сомнительной как юридически, так и фактически. Но больше всего Мильтиаду помогла поддержка тех влиятельных деятелей, которые опасались чрезмерных амбиций Алкмеонидов.
Три года спустя, когда уже стало известно о скором персидском нашествии, Мильтиад занимал пост одного из десяти стратегов. Его избрали на эту должность потому, что ненависть бывшего правителя Херсонеса к персам была хорошо известна. Ценили также знакомство Мильтиада с персидским способом ведения войны. Победа под Марафоном свидетельствовала о том, что афиняне в своем выборе не ошиблись.
Дело о щите
После победы под Марафоном Мильтиад приобрел такое большое влияние на жителей Аттики, что теперь сами Алкмеониды должны были опасаться его мести. Но не только это делало положение рода неустойчивым. Против него выдвигались тяжкие обвинения, так как никто в городе не забыл о щите, с помощью которого враг получил сигналы перед битвой. Везде раздавались возгласы: «Среди нас есть люди, скрыто сочувствующие персам! Есть и такие, кто ради спасения своего богатства хотел бы впустить их в город. А трусы снова готовы покорно принять власть Гиппия, изгнанного двадцать лет назад».
Это были вполне обоснованные подозрения. Вывший тиран, в то время уже глубокий старик, действительно находился среди захватчиков. Да, это он служил им проводником, советовал разбить лагерь под Марафоном и через своих доверенных организовывал заговор в городе. Было очевидно, что в случае победы персов Гиппий от их имени возьмет власть в Афинах.
Пленные, взятые на поле битвы, рассказывали о неприятности, которая произошла со старцем на марафонском берегу, о его пророческих словах. Ночью, еще до того, как корабли персов пристали к берегу, Гиппию приснилось, что он спит с собственной матерью. Тиран истолковал сновидение следующим образом: он вернется в Афины, возвратит власть и ляжет в землю, давшую ему жизнь. Рано утром Гиппий вышел на берег и стал помогать в разбивке лагеря. Внезапно у него начался сильный кашель; зубы у бывшего тирана были уже слабые, один из них вылетел и упал в песок.
Напрасно старец просеивал песок между пальцев — зуб так и не отыскался.
Наконец он печально вздохнул и сказал: «Нет, эта земля никогда уже не будет моей. Зуб, который в ней почил, исполнил все, что сон мне предназначил».
Но кто же вел тайные переговоры с Гиппием? Кто готовил заговор в городе? Всеобщее подозрение пало на Алкмеонидов. Находились, правда, и такие, кто резко возражал: «Как же так? Ведь именно Алкмеониды больше всех способствовали изгнанию Гиппия! Именно они уничтожили тиранию!»
На это люди глубокомысленные отвечали: «Да, действительно, Алкмеониды не принадлежали к числу сторонников тиранов. Однако они всегда считали только вопросом тактики, с кем в данный момент надо вступить в союз, чтобы сохранить власть и богатство. Вспомните Мегакла, деда Мегакла, ныне возглавляющего род, ведь он выдал свою дочь замуж за Писистрата и помог ему восстановить тиранию. Известно и то, что Клисфен, тот самый Клисфен, который сверг тиранию и дал власть народу, был готов вступить в союз даже с персами. Когда Аттике грозило нападение спартанцев, Клисфен обратился за помощью к персидскому сатрапу Азии. Сатрап согласился, но потребовал от афинян земли и воды для царя Дария. Послы приняли это условие. Тем временем нападение спартанцев и их союзников было отбито собственными силами. Персы были больше не нужны. Что же делает Клисфен? Он обвиняет послов в превышении их полномочий. Это, конечно, очень ловкий ход. Правду, однако, никто не забыл».
Другие же добавляли: «А помните, что произошло три года назад? Как только Мильтиад прибыл из Херсонеса в Афины, завистливые Алкмеониды сразу начали против него интриговать. Дело совершенно ясное. Угроза персидского вторжения лишила Алкмеонидов рассудка; они сочли, что свобода уже потеряна и надо вовремя позаботиться о благосклонности новых владык. Алкмеониды вступили в тайный сговор с Гиппием, и по их приказу кто-то давал сигналы щитом».
Алкмеониды оказались в сложном положении. И неизвестно, какой бы оборот приняло дело (говорили о преступлении, ибо измена родине не что иное, как тяжелейшее преступление), если бы не неожиданный удар, который Мильтиад получил через несколько месяцев после своей блестящей победы.
Остров Парос
Весной 489 г. до н. э. Мильтиад предложил смелый план: надо покарать все те мелкие государства, которые во время последней войны предали общее дело эллинов и выступили на стороне персов. Речь шла о небольших островках на Эгейском море, встретившихся на пути персидского флота, плывшего в Аттику. Они спасли персов от безвыходного положения: никто из греков даже не подумал прийти к островитянам па помощь. Вся Греция была абсолютно уверена в поражении Афин. Теперь же, однако, для победителей был важен сам факт, что в критический момент островитяне подчинились персидскому владычеству. Афинский народ остался бы глух ко всяким попыткам оправдаться. Да, откровенно говоря, таких попыток и не было. Мильтиад горячо призывал сограждан к нанесению молниеносного удара, не скрывал, что дело не только в удовлетворении жажды мести, но и в пополнении государственной казны за счет добычи. Надо только протянуть руку к имуществу островитян, никто из них не посмеет оказать сопротивления.
Вскоре семьдесят афинских кораблей под командованием Мильтиада вышли в море. Сначала все шло удачно, однако впереди была главная цель — остров Парос, известный, своими богатствами. На острове располагались залежи великолепного мрамора, а сам он лежал на пересечении торговых путей. Сюда заходили корабли ив разных концов Эгейского моря.
Когда афиняне высадились на Паросе, его жители сразу закрылись в городе. Мильтиад выслал к ним глашатая: «Уйдем с вашего острова за выкуп в сто талантов!»
Паросцы удвоили усилия по укреплению стен. Мильтиад приказал начать осаду, а остров — опустошать. Его воины вырубали садовые деревья, уничтожали виноградники, постройки. Но вдруг после двадцати шести дней этой разрушительной вакханалии афинские корабли поспешно подняли якорь и поплыли на запад — туда, откуда они прибыли. Паросцы не верили своим глазам.
Разное говорили о причинах неожиданного отступления. Сами участники похода объясняли это так: «Город обязательно должен был сдаться, так как мы окружили его и — с суши, и с моря. Да и стены мы крушили неплохо. И хотя Мильтиада ранило в колено, все шло хорошо до тех пор, пока однажды мы не увидели вдали высокий столб черного дыма. Сигнальный огонь был разожжен на каком-то из островов. Мы решили, что это спешащий на помощь осажденным персидский флот дает им знак держаться до конца. Нельзя было терять ни минуты. Вскоре наш флот вышел в открытое море. Потом оказалось, что это просто лесной пожар. Но тем временем рана Мильтиада начала гноиться, и он уже не мог командовать. Пришлось нам вернуться в Афины».
Совершенно иначе объясняли происшествие паросцы: «Афиняне заняли наш остров и захватили всех, кто не успел скрыться в городе. Среди пленников оказалась одна женщина по имени Тимо — жрица богини Деметры. Ее святыня стоит на холме за городом. Так вот, эта Тимо через несколько дней попросила о встрече с Мильтиадом и сказала ему: „Захватишь город, если войдешь в святыню и совершишь там определенный обряд!" Мильтиад согласился, хотя прекрасно понимал, что, сделав так, как советовала ему жрица, он совершит двойное святотатство. Во-первых, потому, что святость каждого божества, особенно богини подземного царства, неприкосновенна; а во-вторых, в этот храм нельзя входить не только чужим, но даже нашим мужчинам. Такое право имеют только женщины, да и то в определенные дни. Когда вождь поднялся на холм, он увидел, что калитка закрыта. Перескочив через ограду, он вошел внутрь. Возвращаясь тем же путем, Мильтиад упал и поранил ногу. С тех пор он чувствовал себя все хуже и хуже. Рана не затягивалась, а городские стены так и не были разрушены. Наконец, больной и отчаявшийся афинский вождь приказал отступать. Мы были уверены, что Тимо совершила предательство. Наши посланцы спросили у пророчицы Аполлона в Дельфах, как мы должны покарать Тимо. Бог устами оракула ответил: "Тимо сделала то, что надо было сделать для исполнения жребия Мильтиада"».
Так рассказывали жители Пароса, желавшие, чтобы греки видели в лице их врага святотатца, наказанного по воле богов.
В Афинах горько переживали случившееся. Вождь привел государство, освещенное лучами славы недавней победы, к позорному поражению от презренных островитян, выставил его на всеобщее посмешище и разорил, поскольку казна была вынуждена оплатить все деньги, истраченные на поход.
Поражение Мильтиада явилось спасением для Алкмеонидов. Никто уже не вспоминал о щите и предательстве под Марафоном, всех занимало только паросское дело. Могущественный род получил возможность расправиться со своим врагом. Снова выступил старый недруг Мильтиада Ксантипп, муж Агаристы. На этот раз он обвинил вождя в обмане афинского народа и потребовал смерти. Судебный процесс ввиду его особой важности проходил в присутствии всего народного собрания. Мильтиад не мог произнести речь в свою защиту, не мог даже стоять: загрязнение раны вызвало гангрену. Его внесли в собрание на ложе. Защищать Мильтиада взялись друзья. Собственно, они даже не защищали его, а молили о милосердии, напоминали о былых заслугах обвиняемого. Эти униженные просьбы дали определенные результаты. Народ, правда, счел, что победитель под Марафоном несет ответственность за события на Паросе, но даровал ему жизнь, присудив огромный штраф — 50 талантов.
Мильтиад вскоре после суда умер. Чтобы бросить тень на обвинителей, сторонники великого вождя заявляли позднее, что он заживо сгнил в тюрьме, безжалостно брошенный туда за неуплату штрафа.
Остракизм
Мегакл и Ксантипп понимали происшедшее так: обвинительный приговор Мильтиаду — это поражение Филаидов и всех родов, некогда составлявших партию Равнины. Наконец-то Алкмеониды снова выдвинутся на первое место в государстве. Кто же теперь осмелится вновь вспомнить дело о щите и сговоре с персами? Увы, они глубоко заблуждались. Правда, несчастье, случившееся с Мильтиадом, действительно подорвало влияние аристократов, но события последующих лет показали, что выгоду из этого извлекли вовсе не Алкмеониды.
Весной 487 г. до н. э. в народном собрании был поднят вопрос: «Нет ли в нашем государстве человека, замышляющего установить тиранию? И не полезно ли для общего блага назвать его имя?»
Каждый гражданин сообщит имя человека, который, по его мнению, имеет чрезмерные политические амбиции. Голосующих должно быть не менее 6 тыс. Тот, на кого придется наибольшее количество голосов, должен на десять лет покинуть пределы Аттики. Однако изгнанник не лишается ни гражданских прав, ни своего имущества.
Возможно, что такой закон ввел еще Клисфен, но только теперь он был применен на практике, поскольку народ принял это предложение. Было дано распоряжение провести голосование. Писали тогда на самом дешевом и наиболее доступном материале — черепках от глиняной посуды, называвшихся остраками; отсюда и происходит название этого необычного суда — «остракизм».
Жертвой остракизма могли стать наиболее преданные государству люди, единственной виной которых была большая популярность, естественно вызывавшая зависть. Страх перед тиранией по-прежнему сохранялся в массах афинского народа, а политики подогревали этот психоз, постоянно обвиняя друг друга в тиранических замыслах. Остракизм был наиболее действенным методом расправы с соперником, и никто не думал о том, что при изменении политической ситуации он сам может стать жертвой «суда черепков».
Страхи афинян перед тиранией часто вызывали насмешку. Вот как высмеивал их почти через пол века после первого остракизма в одной из своих комедий Аристофан:
Б д е л и к и о н:
Вам мерещатся тираны, заговорщики во всем, Обсуждаете ль вы дело важное или пустяк; Между тем о тирании уж полвека не слыхать[11]; Ну а вы соленой рыбой меньше заняты, чем ею. На базаре даже стали о тиранах все кричать. Ты себе торгуешь карпа, не салакушку — сейчас; Продавец дешевой рыбы тут же рядом заворчит: «Этот, кажется, припасы выбирает, как тиран…» Ты прицепишься к порею, чтоб приправить им сардель, — На тебя взглянувши косо, зеленщица говорит: «Ишь, порею захотелось! Иль тираном хочешь быть? Иль должны тебе Афины дань приправами, платить?»Бделикиона поддерживает его собеседник Ксанфий:
В полдень к девке непотребной я зашел вчерашний день. Оседлать со собрался, а она озлилась вдруг; И вскричала: «Как! Ты хочешь Гиппием-тираном быть?»[12]Исход первого в истории Афин голосования никого не удивил. Чаще всего упоминался некий старец по имени Гиппарх. Сомнительно, чтобы этот человек когда-либо думал об установлении тирании, но его связывало с семьей Писистрата дальнее родство. Он подозревался в тайных связях с врагом во время персидского нападения.
Уже через год, весной 486 г. до н. э., к народу снова обратились с вопросом о возможном тиране, и снова состоялся «суд черепков». На этот раз удар был нанесен Мегаклу. Два года спустя в изгнание отправился его шурин и ближайший соратник Ксантипп. Сохранились черепки с их именами, выброшенные куда-то в развалины. Надписи, нацарапанные явно неумелой рукой, лаконичны: «Мегакл, сын Гиппократа из Алопек», «Ксантипп, сын Арифрона»). Этого было вполне достаточно — все знали, о ком идет речь.
Когда Ксантипп покидал родину и семью, его младшему сыну Периклу было около десяти лет. Мальчик уже должен был понимать, что произошло несчастье: его отец и дядя потерпели политическое поражение. Задумывался ли тогда маленький Перикл над удивительными судьбами Алкмеонидов и связанных с ними людей? Почти 50 лет назад их изгнал тиран Писистрат, еще через 25 лет они сами выгнали его сына Гиппия, а сейчас их лишал родины афинский народ, обвинив в стремлении к тирании и сговоре с тем же Гиппием.
Так в течение всего нескольких десятков лет со сцены сошли не только Мильтиад, но и его враги. Это вовсе не было делом случая или проявлением стихийной неприязни масс к людям, поднимавшимся над толпой (хотя такую неприязнь и создавали, и использовали). Широкой политической кампанией втайне руководил один человек, действующий жестоко и расчетливо. Когда было нужно, он вступил в союз с Алкмеонидами и уничтожил вождя аристократов, победителя персов под Марафоном. Потом напал на Гиппарха. Даже если бы Алкмеониды и захотели, они были бы не в состоянии защитить Гиппарха, так как в глазах народа он был явным сторонником старой тирании. А когда Мегакл и Ксантипп остались на политической арене одни, удар был нанесен и по ним. Им снова припомнили щит, блеск которого видели под Марафоном. Поэтому нет ничего удивительного в том, что тысячи рук нацарапали на черепках сначала имя Мегакла, а потом и Ксантиппа.
За этим человеком шли массы, ибо он умел приобрести их доверие. Именно он был автором знаменитого закона 486 г. до н. э., в котором говорилось: «Архонтов больше не будут выбирать старым способом. Ежегодно будут назначаться пятьсот кандидатов, причем не только среди богачей, но и среди людей среднего достатка. Жребий покажет девятерых из них, которые займут высшие посты в государстве».
Должность, получаемая в сущности по воле слепого случая, утратила свое былое значение. До сих пор ее получали выходцы из знатных родов, теперь же в коллегию архонтов были допущены представители широких слоев населения, и она потеряла свой блеск. Зато повысился престиж поста, который по-прежнему получали в результате выборов, т. е. стратега.
Не смея открыто нападать на такого влиятельного политика, завистники давали выход своему недоброжелательству в распространении злобных сплетен. Говорили, что у него болезненное честолюбие, и выдумывали даже причины, по которым оно расцвело столь пышным цветом. Например, вспоминали, что хотя по отцу новый предводитель народа и происходит из старинного рода Ликомедов, но он не чистокровный афинянин, а его мать, кажется, даже не гречанка. Двусмысленность своего положения будущий вождь болезненно прочувствовал еще в мальчишеском возрасте, когда занимался спортом не в одном из городских гимнасиев, а в гимнасии на Киносарге, за городскими стенами, куда принимали детей от смешанных браков. Именно тогда, по мнению многих, у него появилась мечта подняться выше самых знатных родов Афин. Другие злопыхатели добавляли, что просто внешнее уродство заставляет его искать удовлетворения в прелестях власти. Но даже самые яростные враги признавали, что этот политик — светлый ум и прекрасный оратор.
Новый руководитель афинского народа был почти ровесником Ксантиппа. А звали его…
Фемистокл
Изгнанным Алкмеонидам жилось не так уж плохо. Друзей они имели во многих городах, а доходы от имений текли к ним, как и прежде. И все же люди сожалели об их судьбе и осуждали афинян за неблагодарность. Когда однажды во время игр в Дельфах победили кони Мегакла, поэт Пиндар — певец спортивных успехов знати — сложил такую оду:
Державные Афины — Лучший зачин, Воздвигаемый песнопениям Конному роду могучих Алкмеонидов. Какое отечество, который дом Назову я виднее в эллинском мире? Город городу говорит о них, О сынах Эрехфея, для тебя, о Аполлон, Дивную воздвигший обитель у божественного Тифона. Влекут меня пять истмийских побед И та, олимпийская, отменная перед Зевсом, И эти две, что при Кирре, — Твои и твоих отцов победы, Мегакл! В радость мне новое благо твое, В горесть мне — зависть, награда лучших дел; Воистину говорят: Счастье, которое долго в цвету, И добром, и злом лежит на осчастливленных.[13]Последние слова должны были служить Алкмеонидам утешением: да, наступили печальные дни, но они не смогут помешать предназначенному этому роду. Пока же, однако, ничто не обещало благоприятного поворота событий. Изгнанники с нетерпением ждали новостей из Афин, но, увы, они были неутешительными: влияние Фемистокла усиливалось.
Этот человек творил чудеса. Он сумел сделать так, что скаредный, не выпускающий из рук даже жалкого обола[14] афинский народ великодушно отказался от раздела между всеми гражданами значительной суммы денег и предназначил ее на общегосударственные цели. Речь шла о доходах от эксплуатации недавно открытых серебряных рудников в Лаврионе. Сначала было предложено раздел лить неожиданно упавшие с неба деньги среди всех граждан как совладельцев рудников. Фемистокл резко возражал против этого и напоминал соотечественникам: «Вот уже много лет мы ведем войну с Эгиной. Этот островок находится недалеко от нас, его можно увидеть с любого пригорка в Аттике. И несмотря на это, мы не можем с ним справиться. Война все ширится, причиняет нам массу неприятностей, из-за нее мы становимся посмешищем для соседей. Почему же так происходит? У нас нет сильного военного флота — вот главная причина. Мы имеем во много раз больше людей и богатств, но что толку, коль скоро на море мы слабее. Поэтому я предлагаю все доходы от Лавриона полностью предназначить для строительства кораблей».
Ненависть к соседям — соперникам в морской торговле — оказалась сильнее присущего афинянам сребролюбия. На верфях Пирея теперь день-деньской стучали молотки и топоры, а с побережья в город долетал терпкий запах смолы, предназначенной для пропитки корабельных досок. В течение двух лет Афины стали самой могущественной морской державой Эллады; они имели не меньше 200 триер[15].
Порт в Пирее также обязан своим созданием Фемистоклу. Его начали строить еще за три года до Марафонской битвы, в 493 г. до н. э., когда Фемистокл стал архонтом. До этого афиняне использовали только пристань в заливе Фалерон, который находился (в наших мерах отсчета) всего в 5 км от города. Но это был открытый для стихии и врагов залив. Пирей граничил с Фалероном с запада. Дорога от него до Афин была немного длиннее. Но самое главное — прибрежная равнина, ведшая к Пирею, представляла собой труднопроходимое засоленное болото. Именно по этим причинам Пирей в течение многих веков не использовался в качестве порта, хотя остальные условия для создания морской стоянки здесь были прекрасными, три полуострова — Мунихия, Акте и Ети — он — гористые, с сильно изрезанной береговой линией, создали три глубоких закрытых морских бассейна. Только Фемистокл сумел убедить народное собрание в том, что угроза войны делает необходимым строительство такого порта, который мог бы служить городу в любых ситуациях. Персидское нападение прервало работы в Пирее, но теперь они возобновились с еще большим размахом.
Фемистокл стал идолом простого народа, который получил работу и обрел чувство собственной значимости. Конечно, у вождя было много противников. Они критиковали его программу морских вооружений и считали, что в каждой войне последнее слово всегда остается за сухопутными силами. Такого же мнения придерживался и вождь олигархов Аристид, ранее поддерживавший Фемистокла. В результате в 482 г. до н. э. Аристида изгнали из Афин по приговору «суда черепков». Обвинения его в тиранических замыслах — являлись просто нелепыми, ибо Аристид был необычайно скромным и справедливым человеком.
В Афинах прекрасно понимали, что вовсе не война с маленькой Эгиной склонила Фемистокла к усиленному строительству флота. Действительной причиной вооружения явилась угроза нового персидского вторжения. После Марафона в военных действиях наступил длительный перерыв, потому что в 486 г. до н. э. умер царь Дарий, а его сын и наследник Ксеркс должен был сначала укрепиться на троне. Вскоре, однако, с востока в Элладу стали приходить грозные вести. Ксеркс собирает огромное войско по всей территории своего необъятного царства. Корабли финикийцев и тех греков, которые подчинялись «царю царей», собрались в малоазиатских портах. Маршрут великой армии пройдет вдоль северного побережья Эгейского моря. На Геллеспонте должен быть построен мост, а основание полуострова Афон прорежет канал.
Персы ворвутся, в Грецию через ущелья у подножия Олимпа, обиталища богов. Гнев «царя царей» направлен прежде всего против Афин и Спарты — все остальные, если вовремя покорятся владыке, будут оставлены в покое.
Страх охватил жителей греческих государств. Некоторые из них открыто послали царю персов в знак покорности землю и воду, другие вели тайные переговоры. Даже бог Аполлон, казалось, был благосклонен к завоевателям. Ответ, который дала афинским посланцам его жрица в Дельфах, звучал так: «Несчастные, почему вы еще здесь? Оставьте дома, гордые стены вашего города и убегайте на край света!»
Далее пифия рисовала перед собравшимися жуткую картину всеобщего уничтожения, пожара святынь, гибели статуй богов, потоков крови: Закончила же свое пророчество обращением: «Выйдите из сего храма и приготовьте свои сердца для несчастья!»
Но послы не хотели возвращаться на родину с такой страшной вестью. Они вновь вошли в святыню, сжимая в руках оливковые ветви, и умоляли бога: «Господин наш! Не уйдем отсюда, пока не узнаем чего-нибудь более благоприятного о судьбе нашего города. Останемся здесь как смиренные просители хоть до самой смерти».
Бог уступил. Устами пифии он заговорил во второй раз. И новое пророчество не очень ободряло, но часть его можно было по крайней мере толковать по-разному, прежде всего следующие слова: «Только деревянные стены не будут разрушены, они спасут тебя и твоих детей. Ты, однако, должна будешь бежать еще до того, как отряды конных и пеших подойдут с суши. Божественный Сала — мин, ты обречешь на гибель потомство жен во время сева либо сбора урожая».
В Афинах долго раздумывали над этим непонятным ответом: Мнения были самые разные. Некоторые доказывали, что он явно указывает путь спасения: надо сесть на корабли и бежать из страны еще до того, как враг пересечет ее границы. Фемистокл же упорно твердил, что в пророчестве говорится о битве кораблей, — на это ясно указывают слова «деревянные стены» и сообщение о победе у побережья острова Саламин. Если бы афиняне должны были здесь потерпеть поражение, бот наверняка не воспользовался бы эпитетом «божественный».
Народное собрание постановило: будем сражаться.
Через 40 лет историю борьбы эллинов и персов описал Геродот. Он знал лично очень многих участников событий и почти все подробности, но смотрел на происшедшее уже с определенной временной перспективы и мог отличить вещи важные от случайных и мало значимых. Вот его оценка принятого тогда афинянами решения: «… Я вынужден откровенно высказать мое мнение, которое, конечно, большинству придется не по душе. Однако я не хочу скрывать то, что признаю истиной. Если бы афиняне в страхе перед грозной опасностью покинули свой город или, даже не покидая его, сдались Ксерксу, то никто из эллинов не посмел бы оказать персам сопротивления на море. Далее, не найди Ксеркс противника на море, то на суше дела сложились бы вот как: если бы даже и много «хитонов стен»[16] пелопоннесцам удалось воздвигнуть на Истме, то все же флот варваров стал бы захватывать город за городом и лакедемоняне[17] после героического сопротивления все-таки пали бы доблестной смертью. Следовательно, их ожидала бы такая участь, или, быть может, видя переход всех прочих эллинов па сторону персов, им пришлось бы еще раньше сдаться на милость Ксеркса. Таким образом, и в том и в другом случае Эллада оказалась бы под игом персов. Действительно, мне совершенно непонятно, какую пользу могли принести стены на Истме, если царь персов господствовал на море. Потому-то не погрешишь против истины, назвав афинян спасителями Эллады»[18].
Таково было мнение Геродота. Истмийский перешеек представляет собой узкую полоску земли, соединяющую Пелопоннес со средней Грецией. Его ширина едва достигает 6 км. С военной точки зрения оборона перешейка была вполне обоснована. Но она означала политическое поражение, ибо в этом случае персы без борьбы заняли бы почти всю Грецию. Поэтому-то Геродот столь решительно осуждал подобные мысли, возникшие, правда, уже в ходе военных действий. Пока же, осенью 481 г. до н. э., представители греческих государств собрались, чтобы создать союз для совместного отражения захватчиков. Съезд проходил как раз на Истмийском перешейке, в священном округе Посейдона. Этот бог водных пространств опекал два залива: Саронический — на востоке от перешейка и Коринфский — на западе.
Рядом с его святыней разместился стадион, окруженный сосновым лесом. Каждую вторую весну сюда собирались огромные толпы людей, чтобы присутствовать на древних и весьма почитаемых Истмийских играх. Говорили, что первым их провел легендарный царь Афин Тесей, поэтому, хотя земля и принадлежала Коринфу, афиняне здесь имели особые привилегии.
Горстка посланцев из тридцати государств в этом святом и прославленном месте думали о спасении общей свободы. Прибыли греки из Спарты, Афин, Коринфа, Эгины, Сикиона, Мегары, Халкиды, Эретрии, Платей, а также из многих других, в том числе и очень маленьких, государств. Однако среди заседавших отсутствовали представители богатых и людных краев: Фив, Аргоса, Фессалии, Крита. Никого не прислали и богатые греческие города Италии и Сицилии. Таким образом, среди греков не было пи согласия, ни единства. Этот факт уже сам по себе мог посеять страх и сомнения в сердцах собравшихся. Тем не менее они действовали твердо и решительно; постановили, что будут сражаться плечом к плечу, отложив свои споры на более поздние времена. Командование всеми силами на суше и море было поручено спартанским воинам.
Афинское воспитание
Во время описываемых событий Периклу было около 45 лет. Конечно, мальчики в этом возрасте не служили в войске. Военная служба начиналась только, с 18 лет, но первые два года эфебы[19] несли службу внутри страны, не принимая участия в дальних походах. И хотя в городе только и говорили, что о войне, Перикл и его сверстники должны были делать свои обычные дела: учиться музыке и поэзии, заниматься спортом. Так воспитывали мальчиков из богатых семей. Школы тогда были только частными. Избранный родителями раб следил за поведением мальчика во время учебы и забав. Этот раб назывался «педагог» и имел по отношению к своему питомцу весьма широкие права, например, мог пороть его всякий раз, когда считал нужным. Впрочем, то же самое делали и учителя. Древние греки считали, что будущий господин должен сначала сам научиться подчиняться.
Полвека спустя методы воспитания молодежи стали либеральнее, а мальчики, как утверждали, — слишком распущенными. Многие с тоской вспоминали славное «архая пайдея» — старое воспитание, которое формировало молодежь в эпоху персидских войн, когда подрастал и Перикл. Вот как «Правда» — персонаж комедии Аристофана «Облака» — расхваливает манеры и поведение молодежи прошлом:
Расскажу вам о том, что когда-то у нас воспитаньем звалось молодежи, В те годы, когда я, справедливости страж, процветал, когда скромность царила. Вот вам первое: плача и визга детей было в городе вовсе не слышно. Нет! Учтивою кучкой по улице шли ребятишки села к кифаристу В самых легких одеждах, хотя бы мукой с неба падали снежные хлопья. Приходили, садились, колен не скрестив, а почтенный наставник учил их Стародедовским песням: «Паллада в бою воевода» иль «Меди бряцанье», Запевая размеренно, строго и в лад, как отцы и как деды певали… А в гимнасии, сидя на солнце в песке, чинно-важно вытягивать ноги Полагалось ребятам, чтобы глазу зевак срамоты не открыть непристойно. А вставали и след свой тотчас же в песке заметали, чтоб взглядам влюбленных Очертания прелестей юных своих на нечистый соблазн не оставить. В дни, минувшие маслом пониже пупа ни один себя мальчик не мазал, И курчавилась шерстка меж бедер у них, словно первый пушок на гранате. Не теснились к влюбленным мальчишки тогда, лепеча, сладострастно воркуя, Отдавая себя и улыбкою губ и игрой похотливою взглядов. За обедом без спроса не смели они положить себе редьки кусочек, Сельдерея до старших стянуть со стола не решались, ни лука головку. В кулачок не смеялись, не крали сластей, ногу за ногу накрест не клали…Тут «Правду» прерывает «Кривда»:
Стариковская чушь! Но «Правда» парирует: Да, конечно. И это та сила, Из которой растила наука моя поколенья бойцов марафонских.[20]Конечно же «Правда» немного преувеличивает. Конфликт поколений повторялся и повторяется на протяжении веков. Причинами его являются как идеализация того времени, когда старики были красивыми и молодыми, так и естественная неприязнь уходящих к тем, кто займет их место. Но иногда изменения в общественной жизни и системе воспитания происходят настолько быстро, что различия в образе жизни двух поколений проявляются очень ярко и сравнение не всегда бывает в пользу младшего из них. Именно так и произошло в Афинах, когда ровесников Перикла сменила молодежь, воспитанная в иных, гораздо лучших условиях, но имевшая множество явных недостатков.
«Правда» ошибалась также, утверждая, что мальчики времен персидских войн только и делали, что гоняли по лугам и лесам. Уже тогда им приходилось корпеть над трудной и нудной наукой.
Тайну письма и чтения юный афинянин постигал, старательно выводя буквы палочкой на табличке, покрытой воском. Не было ни букварей, ни учебников, зато школьник с самого начала обучения приобщался к великой поэзии. Объяснения учителя знакомили мальчиков с религией и мифологией, историей и географией, этикой и политикой. На первом месте, конечно, стоял Гомер, но читали также Гесиода, Феогнида, Солона. Собственно говоря, это было даже не чтение, а распевное и многократное повторение стихов вслед за учителем, который декламировал их по своему экземпляру, ибо книги тогда были редкими и дорогими. Гесиод писал о появлении богов, о трудах и лишениях бедного землепашца, угнетаемого знатными господами. Феогнид из Мегары учил, как должен поступать настоящий аристократ, и горел ненавистью к черни, лишившей его имущества и родины.
Но ближе всего сердцу учеников был Солон — великий законодатель их государства. В своих элегиях[21] он оправдывал и объяснял осуществленные им реформы и вместе с тем предостерегал будущие поколения:
«Наш город никогда не погибнет по приговору Зевса или других божеств, счастливых и бессмертных. Ведь над ним простерлась рука заботливой покровительницы Афины. Зато жаждут погубить сей великолепный град его граждане, охваченные безумием глупости. Одни из них верят только в богатство, другие же, называемые вождями народа, носят в своем сердце несправедливость. Поэтому-то гордыня и насилие готовят им великие страдания. Ведь они не могут смирить свои неуемные желания и радоваться покою и мирным застольным беседам».
Для счастья, поучал Солон, вполне достаточно «иметь милых детей, быстрых коней, хороших охотничьих псов да желанного гостя за столом».
А еще Солон писал: «Одинаково богаты те, кто имеет горы золота и серебра, пшеничные поля, табуны коней и мулов, и те, у кого есть ровно столько, чтобы не страдать ни от голода, ни от холода, а еще сын или дочь, что тоже неплохо. Все, что сверх того, не возьмешь с собою в могилу, никто еще никакими богатствами не смог откупиться от смерти, болезни или несчастной старости».
Солон был пессимистом. Его соотечественники часто и с убеждением говорили: «Тот кого любят боги, умирает молодым. Что может быть лучше? Не родиться совсем, а если уж это случилось, — уйти как можно скорее».
Солон вполне соглашался с такой оценкой человеческой жизни и добавлял: «Ни один человек не может быть по-настоящему счастливым. Все мы — смертные, сколько нас есть под солнцем, — достойны сочувствия».
Но именно потому, что в сердцах древних греков всегда лежала горечь, они с упоением предавались радостям жизни. Ничего нельзя откладывать на потом: кубок удовольствий должен быть выпит до последней капли. Скоро придет смерть или, что еще хуже, — мрачная старость, отбирающая счастье и красоту. Вот уж когда печаль не утраченной молодости охватывает душу и ничто не радует ее по-настоящему, человек становится пугалом для детей и объектом насмешек со стороны женщин.
Один из современников Солона жаловался: «Какая же эго жизнь, какая радость без даров золотистой Афродиты? Пусть возьмет меня смерть, когда для меня утратят свое очарование таинство любви, сладкие дары Кипреи в ложе — самый прекрасный цветок молодости в жизни мужчин и женщин».
Солон, однако, не соглашался с этим служителем муз называвшим пределом жизни 60-летний возраст, и советовал ему совсем по-другому выразить свое желание «Пусть смертный приговор будет мне объявлен, когда я достигну 80 лет».
Такой взгляд вполне понятен, ибо Солон имел более глубокие интересы и стремления, нежели поэт, служивший только богине любви Афродите. Разум не увядает так быстро, как тело. Старец лучше оценивает и ведет политические дела, нежели самоуверенный юноша. А Солон главным образом занимался политикой и ей посвящал свои литературные творения — элегии. В них он осуждал слепоту партий, борющихся за власть, и единовластие: «Народу я дал столько прав, сколько ему должно вполне хватить. Значения у него не отнял, но и не наделил ничем сверх меры. Людям же знатным и богатым наказал я остерегаться всего недостойного. Всегда я стоял посредине, прикрывай широким щитом и тех и других и не допуская, чтобы одна из сторон победила недостойно.
Темная туча рождает только снежную бурю и град, гром же появляется благодаря ясной молнии. Великие мужи, правящие единовластно, приводят государство в упадок, народ же попадает под власть одного из-за своей глупости. Ведь если кто-то возносится слишком высоко, то его нелегко потом опустить на землю. Поэтому надо все продумывать заранее.
Многие говорят: ум Солона скользит по поверхности, это не мудрый человек. Боги предоставили ему прекрасную возможность, а он ею не воспользовался, зверя травил успешно, но сетей не замкнул. Ах, если бы хоть на один день стать тираном в Афинах! Можно было бы собрать неисчислимые богатства, а потом пусть кожу заживо сдирают, пусть погибнет весь мой род!
Так они рассуждают. Я же вовсе не стыжусь того, что сохранил родину и не взял в свои руки жестокой тиранской власти, не замарал своего доброго имени и в этом смысле стою выше всех людей».
Вот какие взгляды внушали молодым афинянам в школе. Однако благородные советы мудреца не очень-то помогали, потому что необузданные политические амбиции проявлялись у представителей каждого поколения.
Детей учили не только возвышенной поэзии. Столько же времени, сколько мальчики заучивали наизусть эпос и элегии, они посвящали игре на кифаре и пению. Для того чтобы считаться образованным, эллину недостаточно было просто разбираться в музыке. Во время пиршества кто-нибудь из его участников обязательно возглашал: «А теперь давайте петь по очереди!» Тот, кто не умел импровизировать, должен был вспомнить по крайней мере одну из известных песенок, например, ту, в которой перечислялись самые приятные в жизни человека вещи: здоровье, красота, честно заработанные деньги и, наконец, развлечения в кругу друзей.
Древние греки всесторонне занимались спортом. Для этой цели служили особые помещения — палестры, руководители которых назывались пайдотрибами. Юноши проходили полувоенную подготовку в гимнасиях. Их содержало государство, оно же оплачивало учителей. Но и люди постарше охотно заглядывали в гимнасии, чтобы посмотреть, как занимаются молодые. Иногда зрители сами пробовали свои силы на песке стадиона, но охотнее всего они беседовали здесь со своими знакомыми о новостях и политике. Мальчики прислушивались к этим разговорам. Так начиналось их знакомство с государственными делами.
Гимнасиев в Афинах было несколько. В какой из них ходил Перикл? Вероятнее всего, в тот, который находился на холме Ликабеттза городом. Его покровителем являлся Аполлон Ликейский, поэтому он назывался «Ликейон». Позднее здесь возникла философская школа Аристотеля, прославившая название «лицей» во всей Европе.
Но едва Перикл начал занятия в тени платанов Ликейона, как началась буря, бросившая мальчиков далеко от стен родной школы.
Четыре защитника Эллады
Среди всех греков четверо особенно прославились в борьбе с захватчиками.
Первый из них, спартанский царь Леонид, в августе 480 г. до н. э. защищал горный проход Фермопилы. Он не отступил даже тогда, когда пришла весть, что его окружают враги. Сохраняя верность обычаям своей родины, Леонид остался на месте с горсткой своих людей[22]. Спартанцы сражались даже тогда, когда сломались мечи и копья, бились голыми руками, зубами и погибли все до единого.
После прорыва через Фермопилы персидский поток залил Беотию и приближался к Аттике: Многие уже утратили всякую надежду, но Фемистокл поддерживал в народе волю к борьбе. По его предложению было принято решение о том, что все население покинет город и страну: женщины и дети переедут на острова и на Пелопоннес, а мужчины составят экипажи боевых кораблей.
К этому времени эллинский флот уже потерпел поражение у северной оконечности острова Евбея. Теперь корабли собирались в проливе между
Аттикой и островком Саламин. Был уже конец сентября, дни стояли солнечные и прозрачные, и густой столб дыма, поднимавшийся над родным берегом, был виден издалека — это пылали занятые персами Афины. Акрополь защищала горстка стариков. Они забаррикадировали вход балками, веря в то, что они и есть та самая деревянная стена, о которой говорилось в пророчестве. Персы ворвались в Акрополь с северной стороны, она охранялась слабо, так как здесь защитники надеялись на неприступность обрывистых склонов холма. Увидя врага наверху, многие бросились в пропасть, другие искали спасения в храме Афины. Но персы уничтожили всех и подожгли Акрополь. Суеверный Ксеркс на следующий день приказал сопровождавшим его в походе сторонникам бывших тиранов принести искупительные жертвы богам. Когда они поднялись на холм, то увидели, что сгоревшая накануне священная оливка Афины уже дала новый росток, свежий и крепкий.
На греческих кораблях у Саламина вид клубов дыма вызвал переполох. Военный совет постановил отступить к Истму и там попытаться организовать сопротивление: перекрыть узкий перешеек стеной и оборонять побережье при помощи флота.
Ни к чему не привели просьбы и увещевания Фемистокла, убеждавшего членов совета: «Только здесь, в проливе Саламина, наши корабли смогут победить вдвое сильнейший персидский флот. Если мы уйдем отсюда, персы займут Саламин и Эгину, на которых находятся наши жены и дети».
Афинский вождь не остановился даже перед угрозами: «У нас двести триер. Мы погрузим на них всех наших людей и имущество и отправимся далеко на запад, оставив вас на милость персов. Что же вы тогда сделаете, ведь у вас вместе взятых кораблей меньше, чем у нас, — едва наберется сто восемьдесят?»
В ответ представитель Коринфа презрительно заметил, что люди без родины не имеют права голоса в совете.
Склока и ссоры длились долго. Спартанцы после дли тельных колебаний склонились к мнению большинства необходимо отступить от Саламина. Именно в этот момент Фемистокла вызвали с собрания. Вышел — и остолбенел от удивления: перед ним стоял Аристид. Правда незадолго до этого ввиду персидской угрозы по предложению самого Фемистокла воем изгнанникам было разрешено вернуться на родину, но это не стерло из памяти дав них обид. Первым пошел на примирение изгнанник. Он сказал Фемистоклу: «Теперь не время для ссоры. Мы оба афиняне и можем спорить только об одном — как лучше служить отчизне. Поэтому скажу тебе очень важную вещь: сколько бы ни рассуждали в совете об отступлении, покинуть Саламин уже нельзя! Мой корабль только что прибыл с Эгины, и я видел собственными глазами — персы нас окружили».
Фемистокл ответил: «Я тебе очень благодарен за хорошую новость. Скажу больше: персы перекрыли пролив по моему совету. Коль скоро греки не хотят сражаться по свое и воле, я заставлю их это сделать. Через доверенного раба я сообщил Ксерксу о том, что наш флот попытается выскользнуть у него из рук, по-дружески посоветовал ему закрыть эллинов в заливе, как в мешке. Слава богам, я сумел его убедить. Ну а теперь сообщи обо всем что ты видел, вождям; если я им расскажу, они не поверят. Впрочем, теперь это уже безразлично. Так или иначе, но мы в ловушке».
Битва началась на рассвете следующего дня. Триста восемьдесят греческих кораблей вступили в бой с семьюстами персидскими. Сам Ксеркс наблюдал за сражение с одного из прибрежных холмов. Когда царь видел героический поступок кого-либо из своих, он расспрашивал о нем, а придворные тут же записывали его имя, имя отца и из какого он города. Многие подданные царя сражались мужественно: одни — в надежде на щедрую награду, другие — опасаясь гнева владыки. Несмотря на это, они не могли сравняться в отваге с эллинами и, потеряв поло вину кораблей, отступили. Вскоре после неудачной битвы Ксеркс вернулся на родину, оставив в Греции огромную сухопутную армию. Война еще не была закончена.
Только летом следующего, 479 г. до н. э. эта армия была разбита под Платеями объединенной эллинской армией под командованием спартанского регента Павсания. Он-то стал третьим героем войны.
Ну а четвертым стал отец Перикла Ксантипп. Он вернулся на родину по амнистии тогда же, когда и Аристид, затем сражался под Саламином, а еще через год его выбрали одним из стратегов. Ксантипп руководил эскадрой, которая вместе с кораблями других государств должна была преследовать персов на море. Правда, формально командовал кораблями спартанец, но больше считались с афинским представителем, ибо его город выставил самый значительный флот. В тот самый день, когда Павсаний разгромил персов под Платеями, Ксантипп уничтожил триста персидских кораблей. Персы вытащили их на сушу на мысе Микале, протянувшемся от малоазиатского побережья к острову Самос. С этого момента греки стали хозяевами Эгейского моря.
Далее союзники направились к проливам, ведущим в Черное море, надеясь захватить мост, воздвигнутый по приказу Ксеркса над Геллеспонтом. Но мост уже был уничтожен бурей. Тогда спартанцы отправились на родину, а Ксантипп высадил своих людей на Херсонесе — том самом полуострове, которым за 15 лет до этого владел Мильтиад. Афиняне осадили главный город края — Сеет. За его стенами укрылись многие персы во главе с высокопоставленным чиновником сатрапом Артаиктом. Осада затянулась.
Наступила осень, а потом и зима, принесшая дожди и холода. В афинском лагере росло недовольство. Люди хотели вернуться на родину, но Ксантипп резко возражал: «Уйду отсюда только после взятия города или приказа из Афин».
В то время в Сеете свирепствовал голод. Горожане питались отваром из кожаных ремней. Наконец в одну из ночей персы украдкой спустились с городской стены и бежали. Жители города, преимущественно греки, сразу же отворили ворота осаждавшим. Беглецов настигли недалеко от Сеста. После короткой схватки их взяли в плен и заковали в кандалы. Артаикт хотел выкупить себя и сына за двести талантов, кроме того, он предлагал передать еще сто талантов храму, который перед этим разграбил и осквернил.
Почти на самой оконечности Херсонеса расположилось местечко Элеунт. Там почитали могилу, где, как считалось, покоились останки Протесилая — героя троянской войны. Вокруг произрастала священная роща, куда за многие века набожные паломники принесли большое количество драгоценных даров. Артаикт с разрешения царя захватил эти земли. Сокровища были разграблены, роща выкорчевана и превращена в пашню, а в самом святи чище сатрап развлекался с женщинами.
Ксантипп не согласился на выкуп и выдал сатрапа жителям Элеунта. Артаикта вывели на берег и распяли не далеко от того места, где раньше находилась одна ш опор персидского моста. Умирающий был вынужден смотреть, как мучительно гибнет его сын, которого мстительная толпа закидала камнями.
Ксантипп совершил великие деяния: освободил морс от персов; захватил Сеет и Херсонес — бывшие владения Мильтиада, открыв тем самым путь в Черное море; привел в Афины много богатств, а также найденные в Сеете крепежные канаты от моста Ксеркса. В знак признания огромных заслуг Ксантиппа народное собрание после его смерти позволило Периклу установить статую отца на Акрополе, вблизи наиболее почитаемых святынь города. Ее изваял Фидий — друг Перикла.
Тот же ваятель по просьбе Перикла и, разумеется, за его счет изготовил еще одну скульптуру, установленную рядом с изображением Ксантиппа. Она изображала поэта Анакреонта — певца вина и беззаботной любви — уже старым человеком с кифарой в руке, как бы опьяненного божественным нектаром. Именно таким его помнили в Афинах. Поэт прибыл ко двору тиранов Гиппарха и Гиппия, когда ему уже было далеко за 50. Тяжесть прожитых лет давила на плечи, навевала печальные думы:
Эх, виски уж мои поседели, Да и череп лоснится, как шар, Годы юности прочь улетели, Зубы крошатся… нет, уж я стар… Предо мной уже в Тартар дорога… В этой жизни пожить веселей Мне на долю осталось немного — О, как тяжко расстаться мне с ней![23]Несмотря на эти грустные минуты, Анакреонт жил в Афинах беззаботно и весело до тех пор, пока не был убит Гиппарх. Еще через четыре года спартанцы и Алкмеониды изгнали из Афин Гиппия. Тогда и поэт покинул город, переехал в Фессалию, где еще не перевелись аристократы, умевшие повеселиться.
Почему же скульптурное изображение «придворного мотылька», друга тиранов оказалось на Акрополе рядом со статуей Ксантиппа? Были на это свои, весьма необычные причины. Во время пребывания в Афинах стареющий поэт подружился с одним молодым человеком. Очевидно, этот эфеб был очень красивым, если обратил на себя внимание такого ценителя, как Анакреонт. Избранником поэта стал Ксантипп. В то время он даже не думал о том, что когда-либо свяжет свою судьбу с Алкмеонидами, которые тогда еще находились в изгнании в Дельфах и строили планы свержения тирании. Молодому Ксантиппу очень импонировало, что любимец властителей Афин, украшение их двора и замечательный поэт относится к нему с такой симпатией.
Когда тирания пала, Ксантипп сразу же примкнул к тем, кто ее уничтожил: женился на Атаристе — племяннице Клисфена. Но отец Перикла не был человеком неблагодарным и навсегда сохранил память о юношеской дружбе с поэтом, имя которого со временем стало символом радости жизни. Никто уже не вспоминал, что Анакреонт был облагодетельствован тиранами, зато все знали его песни — о радости и вине. Поэт вполне заслужил, чтобы его статуя находилась на Акрополе, там, где он жил в доме сыновей Писистрата. А место рядом с изображением Ксантиппа указал сам Перикл, знавший из рассказов отца, что победитель персов был когда-то еще и предметом воздыханий поэта и очень этим гордился.
Часть третья Фемистокл и Кимон
Первая победа Перикла
Протесилай — властитель фессалийской Филаки — женился на Лаодамии. Только один день длилось их счастье. Во время свадебного пиршества прибыл гонец от царя Агамемнона: флот уже готовится к выходу в море. Протесилай со своей дружиной должен явиться немедленно, чтобы принять участие в походе на Трою. Поспешно совершая свадебный обряд, сопровождаемый слезами и болью прощания, молодые совсем забыли принести надлежащее жертвоприношение Афродите. А богиня любви была мстительна.
Вскоре в Филаку пришла печальная весть. Когда корабли пристали к азиатскому побережью под Троей, Протесилай первым спрыгнул на берег и первым обагрил кровью желтый песок: его настигло смертельное копье троянского героя Гектора.
Лаодамия отказывалась верить этим известиям, хотя многие клялись, что видели могилу Протесилая на Херсонесе. Именно там, на земле Европы, а не в Азии похоронили его друзья. Молодая женщина жила надеждой па возвращение мужа, оставаясь глухой к увещеваниям отца, вознамерившегося отдать ее другому. Надежда и любовь победили: в один прекрасный день Протесилай — живой, здоровый и такой же молодой и красивый, как в день прощания, стоял у ворот своего дома. Среди слез и объятий, радости и расспросов время летело быстро. Но наступил момент, когда Протесилай сказал: «А теперь, жена, скажу тебе всю правду. Я пришел из царства мертвых. Боги подземелья смилостивились над нашей верной любовью и долготерпением. Они вернули мне тело, кровь и тепло жизни, позволили ненадолго прийти сюда. Подходят к концу последние минуты нашей встречи. Взгляни на того юношу, что нетерпеливо прохаживается у ворот. Это не мой слуга, а Гермес — посланец богов. Он привел меня к тебе и теперь дает знак, что пора уходить».
Протесилай возвратился в печальный мир теней не один. Вместе с ним ушла Лаодамия, выбравшая смерть от собственной руки, чтобы не расставаться с любимым.
Такова легенда о Протесилае. Перс Артаикт осквернил и ограбил его могилу не только из жадности, но и для того, чтобы покарать первого эллина, коснувшегося как враг земли азиатов. Сатрап откровенно сказал об этом Ксерксу: «Господин мой! В Элеунте есть владения одного грека, который некогда осмелился напасть на земли, ныне принадлежащие тебе. Справедливость восторжествовала, и он был убит. Прошу тебя, отдай мне Элеунт. Пусть все знают, что никто не может нарушать безнаказанно границ твоего государства».
Конечно, Ксантипп и жители Элеунта поступили с Артаиктом жестоко. Однако они хотели не только наказать святотатца, но и продемонстрировать всему миру, что окончательная победа в войнах между континентами, длившихся в течение многих веков, осталась за эллинской Европой.
И все же в Афинах нашелся человек, сумевший отметить триумф над Азией более достойным и благородным образом. Ровно через пять лет после взятия Сеста у стен Акрополя была представлена драма о великой войне между греками и персами. Она отобразила значительность победы греков, но была свободна от крикливого хвастовства и высокомерного презрения. Автор этого произведения имел право на великодушие к врагу, ибо сам мужественно защищал отчизну. Его вынесли с марафонского поля истекающим кровью. Брат поэта потерял там руку, пытаясь взобраться на персидский корабль. Позднее поэт сражался у Саламина и под Платеями. Эти победы он выбрал в качестве сюжетной канвы своего произведения. Оно называлось «Персы», потому что именно они были его героями.
Создателя «Персов» звали Эсхил. Он поставил свою драму в 472 г. до н. э. с помощью Перикла, которому в то время было чуть более 20 лет. Сын покорителя Сеста стал хорегом Эсхила. Это означало, что он должен покрыть все расходы по обучению и содержанию хора в пьесах Эсхила.
Драматические представления организовывались в Афинах следующим образом. Архонты вступали в свою должность в июле. Это было официальное начало года. Сразу же к главному архонту приходили поэты, которые предлагали его вниманию свои творения. Среди множества претендентов архонт выбирал трех. Их произведения и должен был смотреть афинский люд во время праздник в честь бога вина и радости Диониса. Праздник назывался Великие Дионисии и проходил ранней весной. Одновременно архонт назначал хорегов. Эта почетная обязанность исполнялась только богатыми гражданами и являлась чем-то вроде налога в пользу государства. Богач приходилось раскошеливаться, так как затраты на хо были весьма значительными: обычно он состоял из пятнадцати участников, поющих и танцующих несколько раз по ходу представления. Зато труд актеров оплачивало государство. В то время для постановки драмы их нужно было только двое. Они одновременно выступали на сцене, исполняя как мужские, так й женские роли и меня, при этом маски и одежду. Третий актер стал играть спектаклях лишь несколько лет спустя.
Празднества в честь Диониса длились несколько дней: драмы показывали с 11 по 13 элафеболиона[24]. Представления начинались ранним утром, по только вечером пустели сцена и места для зрителей, ибо каждый поэт представлял на суд афинян три трагедии, а также — в конце отведенного ему дня — произведение легкого, если не сказать легкомысленного, содержания. Последнее называли «Сатаровой драмой», потому что хористы вы ступали в козьих шкурах, как те бесстыжие божки, что бегали по горным пастбищам и лесным дебрям.
Судьи присуждали три награды — каждому из избранных поэтов (никто не должен уйти с праздника радости и веселая с горечью в сердце). Однако почетной считалась только первая из них, ее вместе с поэтом получал и хорег, от щедрости и предусмотрительности которой во многом зависел успех постановки.
Перед выступлениями постоянно проводились репетиции хора. Поэт и его хорег должны были внимательно следить за ними. Таким образом, Перикл — сын победи теля персов под Микале, покорителя Сеста и убийцы Артаикта — не один раз слушал слова Эсхиловой драмы боли и отчаянии побежденных.
* * *
К огромному надгробию из валунов подъезжает на колеснице в сопровождении пышной свиты персидская царица. Она жалуется окружающим ее придворным: «С тех пор как мой сын отправился на завоевание страны эллинов, меня преследуют плохие сны и виденья. Последний кошмар был такой явственный, как никогда. Передо мной стояли две молодые прекрасные женщины, похожие друг на друга, как сестры. Одна из них была одета в греческую, а другая — в персидскую одежду, они ссорились между собой и кричали. Это заметил мой сын и впряг обеих в свою колесницу. Персиянка охотно подчинилась, но гречанка стала рваться на волю, сбросила ярмо и разорвала его. Сын упал с колесницы на землю. Неожиданно перед ним появился весь в слезах его отец и мой муж Дарий, который покоится в этой гробнице. Сын мой разрывает на себе одежды, обезумев от горя и отчаяния. Вот какой сон приснился мне сегодня ночью. И как только я встала с ложа, то сразу же поспешила сюда, чтобы принести жертвы богам и отвратить несчастье».
Придворные утешают царицу. Одновременно они объясняют ей, где находятся Афины, против которых отправился в поход Ксеркс, рассказывают, как живут и сражаются афиняне. Но в этот момент вбегает гонец, опередивший возвращающегося владыку, и возвещает о поражении: «Причиной всех несчастий был человек, посланный ночью из лагеря врага к твоему сыну; он клялся, что, как только па землю опустится тьма, эллины спешно возьмутся за весла и бросятся во все стороны, чтобы бежать как можно дальше от Саламина. Царь наш, поверив этим коварным словам, приказал с наступлением ночи окружить остров. Наши корабли быстро встали в узких проливах. Когда же взошло солнце, эллины запели боевую песню, громовым эхом отразившуюся от прибрежных скал. Только тут мы поняли, что стали жертвой измены, ведь так поют, готовясь к сраженью, а не к бегству.
Сначала вперед пошло правое крыло греческого флота, а потом двинулся весь их строй. Мы явственно слышали крики: «Вперед, эллины! За нашу свободу! За жен и детей! За святыни богов и могилы предков!» Корабли с грохотом столкнулись бронзовыми таранами. Сначала мы мужественно сопротивлялись. Но в страшной тесноте наши суда ломали друг другу весла и сталкивались между собой. А тем временем греки атаковали все яростнее. Море постепенно покрывалось обломками разбитых кораблей, а волны выбрасывали на берег горы трупов. Отовсюду были слышны мольбы о помощи и стоны. Мало кто из наших умел плавать ц многие утонули. Мы начали отступать. Так продолжалось до темноты».
Выслушав вестника несчастья, царица, плача, удаляется. А тем временем старцы жалуются: «Несчастные матери стонут и причитают, срывают покрывала со свои: лиц, орошают слезами одежды. Великое горе пришло в каждый дом. Отовсюду слышен непрекращающийся плач юных жен. Только испытавшие первую радость замужества напрасно хотят бежать к своим возлюбленным. Пусто брачное ложе, засох цветок счастья».
Наверное, так же некогда рассказывали о боли и тоске Лаодамии, муж которой в день свадьбы отправился и поход против азиатского города, навстречу собственной смерти.
С тревогой и восхищением следили зрители за тем как развиваются события в драме Эсхила. Вот царица возвращается к могиле мужа уже пешком, без блестящей свиты. Она принесла жертвы душе умершего и богине Земли, возлагает их под аккомпанемент молитв и причитаний старцев. И вдруг на вершине могилы появляется овитый в саван призрак Дария. Этот пришелец из царства теней объясняет причины поражения сына: построив мост через Геллеспонт, Ксеркс связал море, оп хотел быть сильнее бога водной стихии и поэтому именно на море потерпел неудачу. На суше, в битве под Платеями, греки тоже разбили персов.
Покидая мир живых, Дарий с тоской прощается с ними: «Возвращаюсь под землю, куда не доходят лучи благодатного солнца. Но не предавайтесь отчаянию, не презирайте радостей жизни, ибо мертвым уже ничего не нужно!»
Едва исчез призрак великого царя, как прибыл сам Ксеркс. Во все более ускоряющемся темпе несутся со сцены жалобы побежденного владыки и плач его вельмож. Афинский люд радовался, видя, как его еще недавно могучий и страшный враг валяется в пыли. Но он же вместе с поэтом сочувствовал жертвам войны, всем, кого разлучила смерть.
Итак, первую награду во время Великих Дионисий 472 г. до н. э. получили поэт Эсхил и его хорег Перикл — сын Ксантиппа.
Падение Фемистокла
Посланец Ксеркса, рассказывая царице и придворным Саламинской битве, даже не вспомнил о Фемистокле можно предположить, что каждый афинянин знал, кому принадлежала мысль завлечь персов в западню. Однако в драме, поставленной за четыре года до этого, в 476 г. до н. э., заслуги Фемистокла превозносились весьма откровенно и горячо. Драма называлась «Финикиянки». Ее автором был поэт Фриних, а хорегом — сам Фемистокл. Постановка обошлась ему в кругленькую сумму: он должен был оплатить не один, как обычно, а целых два хора. Один из них представлял финикийских женщин, мужья и сыновья которых погибли, служа царю на кораблях, а другой — персидских сановников, как и у Эсхила. События в драме происходят при дворе Ксеркса. Причиной жалоб и плача, так же как в «Персах», было поражение у Саламина; однако в «Финикиянках» имя Фемистокла часто произносилось со сцены. Драма получила тогда первую награду, а гордый победитель персов приказал выбить надпись: «Хорегом был Фемистокл, поэтом — Фриних, архонтом — Адимант».
В год «Финикиянок» Фемистокл был на вершине славы и им восхищался не только Фриних. Через несколько месяцев после постановки драмы начались игры в Олимпии. Сюда прибыл и Фемистокл. Когда саламинский герой появился на трибунах, зрители встали с мест и устроили ему овацию. Люди, приехавшие из самых отдаленных уголков эллинского мира, показывали его друг другу: «Смотрите, вот он, саламинский победитель!»
Афиняне имели еще больше причин для благодарности. Фемистокл обеспечил их городу безопасное будущее: сразу после изгнания персов он выстроил стены, защищавшие Афины. Спартанцы были против этого, ибо они хотели бы видеть столицу Аттики беззащитной, зависящей в случае опасности от их помощи. Фемистокл сумел обмануть спартанцев, искусно ведя с ними долгие переговоры. Одновременно он направил всех жителей города, даже женщин и детей, на строительство укреплений, которые должны были стать его щитом. В течение нескольких месяцев были построены основные стены. Их длина в наших единицах измерения составляла около 6 км, а толщина — в зависимости от местоположения — от 2 до 5 м. Фундамент был сделан из валунов, выше положили кирпичи. Строители в спешке использовали любой материал: обломки разрушенных персами домов и даже каменные надгробия. Через несколько лет были построены несколько десятков мощных башен и десять хорошо укрепленных ворот, четверо из которых вели на запад, к морю.
Фемистокл делал все, чтобы навсегда связать Афины с морем. Кажется, он даже предлагал вообще бросить старый город и построить на побережье, в Пирее, новый. Этого, однако, не произошло, хотя после учиненного персами погрома такая возможность была: в Афинах уцелели только те дома, в которых размещалась персидская знать. Но люди предпочитали строиться на пепелищах, вблизи родительских могил и древних святынь. Пирей тоже разрастался из года в год. Для того чтобы обезопасить его жителей и порт от внезапных нападений, Фемистокл и здесь приступил к строительству больших стен. Они были длиннее и мощнее афинских и, перекрыв полуостров со стороны материка, тянулись вдоль извилистого побережья на протяжении 13 км. Их толщина составляла от 2,5 до 5, а местами до 8 м. В несколько десятков шагов одна от другой возвышались башни.
Фемистокл не закончил укрепление Пирея. В 472 г. до н. э., когда Эсхил и его хорег поставили «Персов», над головой выдающегося военачальника и политика стали сгущаться тучи. Это явилось одной из причин, по которой его имя ни разу не упоминалось в драме.
Гром грянул весной следующего года. «Суд черепков» приговорил Фемистокла к изгнанию как подозреваемого в тиранических замыслах. Недавний властитель Афин выехал в Аргос, но и оттуда он вскоре был вынужден бежать, подобно преступнику. На этот раз афиняне обвинили его в сговоре с персами. К преследованию рьяно подключились спартанцы, которые незадолго до этого под тем же самым предлогом казнили Павсания — победителя персов при Платеях.
С Пелопоннеса Фемистокл сумел бежать на остров Керкиру в Ионическом море. Но его жители, хотя и многим ему обязанные, опасались обоих могущественных государств. Они избавились от докучливого гостя, перевезя его на континент, на побережье Эпира. Оттуда Фемистокл пришел в страну молоссов. Это был родственный грекам народ, но уже сильно перемешанный с соседними племенами. Царь молоссов Адмет был давним врагом Фемистокла (последний, еще будучи на вершине власти, отказал ему в одной просьбе). Тем не менее изгнанник направился прямо в дом царя. Того не было дома. Жена Адмета посоветовала ему: «Возьми моего сына на руки и сядь возле очага!»
Древний закон гостеприимства свято соблюдался в этом диком краю. Адмет взял несчастного под свою опеку и приказал провести его через грозные и дикие горы Македонии на восток, к побережью Эгейского моря. Здесь Фемистоклу, который, естественно, скрывал свое настоящее имя, удалось сесть на торговый корабль, направлявшийся к малоазиатским берегам. На половине пути разыгралась страшная буря и «купцу» пришлось зайти на остров Наксос, где стояла афинская эскадра. Преследуемому пришлось прямо сказать капитану: «Ты должен меня спасти. Если мы попадем в руки афинян, я скажу им, что ты взял меня на борт, прекрасно зная, кто я такой и почему я скрываюсь. Тебя покарают как соучастника. Но ты можешь спасти и себя и меня, если выполнишь то, что я тебе скажу: не позволяй никому покидать корабль, и, как только мы очутимся в Азии, я щедро тебя награжу».
Целые сутки капитан держал свой корабль в открытом море, вдали от афинского флота, хотя сильная волна и грозила перевернуть судно. Когда буря утихла, они поплыли в Эфес. Оттуда Фемистокл уже по суше отправился в глубь персидского государства, где правил царь Артаксеркс. Изгнанник послал ему письмо следующего содержания: «Среди всех греков я, Фемистокл, больше всего повредил твоему дому. Но делал я это лишь тогда, когда твой отец угрожал Элладе. Зато во время его отступления я оказал вам не одну услугу. Теперь греки меня изгнали, ибо им стало известно о моей симпатии к твоей семье. Пусть же мне будет позволено доказать свою преданность. Через год я предстану перед твоим царственным ликом и расскажу о цели своего приезда».
В течение года Фемистокл научился персидскому языку. Никто из греков так и не узнал, о чем он разговаривал с царем во время их встречи. Фактом является то, что с этого времени изгнанник пользовался милостями владыки и большим влиянием при его дворе. Он также получил в дар три города в западной части Малой Азии и обосновался в одном из них — Магнесии, сумев перевезти туда всю свою семью. Из этого города, лежащего поблизости от побережья Эгейского моря, он внимательно следил за всем происходящим на родине. С каким чувством он — основатель Пирея и создатель афинского флота — узнавал о том, что его соотечественники теперь господствуют на море и совершают смелые экспедиции на Кипр и даже в Египет? Ведь это были плоды того дерева, которое посадил он, изгнанник, осужденный афинским судом.
Фемистокл умер в возрасте 65 лет. Его могила и надгробие сохранялись в Магнесии в течение многих веков. Кто бы ни посещал город, думал об удивительной судьбе этого человека и задавал себе вопрос: «Почему он был изгнан? Почему его обвинили в измене и так яростно преследовали на суше и на море?»
Сам Фемистокл в письме к царю, кажется, признал справедливость обвинений. Он называл себя другом персов, в прошлом сделавшим для них много хорошего. Все это, конечно, так, но не будем забывать, что в то время он уже был изгнанником, хватающимся ради своего спасения за любую соломинку. С другой стороны, у Фемистокла должны быть какие-то доказательства его преданности, которые он мог представить царю. Наверняка во время нашествия и после него он вел с персами тайные переговоры. Как опытный политик, не желающий закрыть двери для дальнейших контактов даже тогда, когда уже льется кровь, афинянин делал своим партнерам различные намеки. Фемистокл смотрел далеко вперед и понимал, что после ухода персов может возникнуть конфликт со Спартой. Вероятно, уже в то время он рассматривал возможность привлечения царя на свою сторону. Афинский вождь вел опасную игру, но с единственной целью — на благо родного города. Он готов был обеспечить ему первенство в Элладе даже ценой союза с врагами.
Главной причиной падения Фемистокла явился направленный против него союз двух могущественных партий в самих Афинах. В едином строю выступили сторонники и Алкмеонидов, и Филаидов. В помощь себе они взяли зависть, которую вызывали слава вождя и его влияние на парод. Умело использовалась подозрительность масс, видящих в каждом выдающемся политике кандидата в тираны. Сознательно раздувались слухи о тайных контактах Фемистокла с персами.
Человека, который уже после изгнания Фемистокла в Аргос обвинил его в государственной измене, звали Леобот из рода Алкмеонидов. Он способствовал тому, что победитель под Саламином был вынужден бежать, как преступник, и скрыться у персов, тем самым подтвердив справедливость обвинений.
Враги рассчитали точно. Фемистокл, изгнанный путем остракизма, не мог вернуться в Афины и выступить в свою защиту. Даже если бы он предстал перед афинским судом, по своей воле или приведенный туда насильно, он и тогда ничего бы не смог доказать. Обвинительный приговор был неизбежен, так как вместе с соотечественниками обвинения выдвинули его злейшие враги — спартанцы. Главной причиной их ненависти стало то, что Фемистокл обманул их и окружил родной город мощными стенами. Казалось бы, свидетельства спартанцев не должны были много значить для афинских судей, но в данном случае спартанцы могли сослаться на свою «беспристрастность»: «Убежденные в вине нашего великого вождя Павсания, мы без колебаний приговорили его к смерти. Когда же он спрятался в святилище богини Афины Халке, мы замуровали двери и уморили его голодом. Следствие показало, что и Фемистокл был в сговоре с персами».
Какая же защита могла опровергнуть такое внешне очевидное свидетельство? И если спартанцы столь сурово обошлись с предателем, несмотря на все его прошлые заслуги, то неужели афинский народ сможет позволить себе снисходительность точно в таком же случае?
Большое значение имело и то, что у спартанцев в Афинах оказался очень влиятельный союзник. Это был человек, выступавший с совершенно четкой политической программой: дружба и сотрудничество со Спартой во имя борьбы против персов. Настроенного проспартански политика поддержал муж его сестры — самый богатый человек в Афинах.
Сокровища Каллия
Мильтиад умер в 489 г. до н. э., вскоре после того, как был приговорен к возмещению расходов за неудавшийся поход на Парос. Обвинителем по делу выступал Ксантипп — отец Перикла.
Афинское право предусматривало, что в случае смерти должника его обязательства перед казной переходили к сыновьям, отказ от уплаты отцовского долга грозил им бесчестьем. Первородный сын Мильтиада был захвачен финикийцами еще во время бегства семьи из Херсонеса, теперь он в достатке и спокойствии проживал в Персии. В Афинах, однако, находился сын Мильтиада от брака с фракийской княжной. Звали его Кимон. В момент смерти отца ему не исполнилось и 20 лет. На плечи молодого человека легла огромная ответственность: он унаследовал отцовскую славу и враждебность многих людей; являлся наследником огромного состояния и еще большего долга, который был не в состоянии заплатить.
Чтобы собрать необходимые деньги, Кимон заложил все свои имения и стал нищим. Теперь он жил вместе со своей единственной сестрой Эльпиникой очень скромно. Бедность сильно докучала Кимону — аристократу не только по праву рождения, но и по манерам. Он охотно бы принимал в своем доме десятки гостей. Не сторонился Кимон и любовных утех, но в этом случае бедность ему не мешала, так как был он мужчиной очень красивым — высоким, стройным, с прекрасными пышными волосами — и всегда мог рассчитывать на взаимность. Юноша снискал в городе всеобщую симпатию своей естественностью и непосредственностью, хотя и был далек от панибратства. С первого же взгляда было ясно, что Кимон — человек простой и чистосердечный. К этому следует добавить, что и образование сын Мильтиада получил прекрасное. Может быть, поэтому он никогда не увлекался ни модными песенками, ни красноречием судебных ораторов — словом, всем, что интересовало афинскую «золотую молодежь». Не отличался Кимон и быстротой ума, хотя в случае необходимости всегда мог сразить противника острым словцом. Зато он высоко ценил настоящую поэзию и прекрасно чувствовал себя в окружении служителей муз.
У Кимона было слишком мало ловкости и много внутреннего благородства, чтобы самостоятельно выйти из того тяжелого положения, в котором он очутился вследствие политической и материальной катастрофы отца. Ему были одинаково отвратительны и торгашеские денежные махинации, и интриги политических партий. Поэтому многим казалось, что величие дома Филаидов уже в прошлом. Но, как рассказывали, этот старинный афинский род спасла Эльпиника. Необычайная красота девушки привлекла внимание богатейшего человека тогдашних Афин — Каллия.
Об источниках огромного состояния Каллия говорили разное. Особенно распространенной была следующая версия. Перед битвой под Марафоном Каллий надел вместо тяжелых доспехов длинную жреческую одежду, а волосы стянул широкой лентой. Сделал он это потому, что происходил из рода Керкиров, представители которого на протяжении веков исполняли жреческие обязанности в храме Деметры Элевсинской. Во время мистерий посвященные мужчины из рода Керкиров несли горящие факелы; их колеблющееся пламя освещало дорогу тем, кто осмелился вступить во мрак подземелья, чтобы вкусить сладость мистического познания божества и преодолеть страх смерти.
Каллий, надевая свою ритуальную одежду, глубоко верил, что если он получит в битве смертельную рану, то овеянный славой войдет в страну мертвых, где его с честью примут подземные боги. Однако жрец не погиб. Вместе со всеми он радовался победе и со страхом смотрел, как персидский флот огибает полуостров, чтобы высадить десант под Афинами. Когда Мильтиад со своими изнемогающими воинами бросился на защиту города, на марафонской равнине осталась лишь горстка греков для охраны добычи и пленных. А охранять было что! Побежденные бросили в своем лагере серебряную и золотую посуду, дорогие одежды и прекрасное оружие, великолепные палатки. Скромным афинянам эти богатства казались сказочными.
Охрана персидских трофеев была поручена Аристиду, известному своей поразительной честностью. Аристид не доверял никому, даже собственным воинам. Огромные богатства, попавшие в руки афинян, ошеломляли, пробуждали алчность. Поэтому бескорыстный вождь подобрал стражу из своих родственников, среди которых был и Каллий. Поскольку он все еще расхаживал в своих великолепных одеждах, пленники были убеждены, что перед ними глава всех эллинов. Один из них шепнул Каллию: «Самые большие богатства наши закопали во время бегства. Если ты вернешь мне свободу, я покажу тебе тайник».
Каллий тут же согласился, поклявшись всеми богами выполнить просьбу перса. Ночью они оба тайком пробрались в заветное место. Сокровища действительно были весьма значительными. Но вместо обещанной свободы пленник получил предательский удар ножом в спину. Так Каллий приобрел свои богатства. Однако читатель не должен верить этим россказням, распространявшимся завистниками. Источником преуспеяния Каллия было состояние, унаследованное от предков и многократно умноженное с помощью смелых операций в области горного дела.
На южной оконечности Аттического полуострова находился район горных разработок, называвшийся Лаврионом. Здесь добывали свинец и серебро. Богатства этой земли принадлежали государству, сдававшему горные участки в аренду частным лицам. Каллий мог себе позволить арендовать несколько участков, это облегчало поиск руды и увеличивало прибыль. Сереброносные жилы Лавриона капризно извивались в подземной глубине, и только эксплуатация значительных земельных наделов гарантировала стабильные доходы. Для добычи руды и плавки металла Каллий держал в Лаврионе несколько сотен рабов. Условия их труда ужасали современников. Подземные коридоры из экономии прорывали крайне узкими, поэтому рудокопы отбивали горную породу почти лежа, лампы с оливковым маслом, единственный источник света, едва тлели. Не лучше было положение невольников, работавших у металлургических печей и вдыхавших ядовитые газы, выделяемые свинцовой рудой.
И все же в целом жизнь рабов в Афинах нельзя назвать особенно тяжелой. Правда, число их, первоначально не очень значительное, по мере развития экономики и роста благосостояния быстро увеличивалось. Постепенно уходили в прошлое патриархальные нравы, когда раб являлся почти членом семьи. Вскоре после окончания персидских войн число рабов в Афинах наверняка достигло Нескольких десятков тысяч. Небольшая часть их работала домашней прислугой, большинство же трудилось в сельском хозяйстве и ремесленных мастерских. Но если люди бедные, особенно крестьяне, мелкие торговцы и ремесленники, обходились совсем без рабов, то такие богачи как Каллий, имели их сотни. Были в Афинах и государственные рабы: несколько сотен рослых скифов, специально привезенных с северного побережья Черного моря, служили в городе полицейскими. Они не щадили палок даже для людей свободнорожденных. Однако и обычные рабы вели себя достаточно смело, что явилось причиной многочисленных сетований олигархов. Один из них, автор трактата «Устройство Афин», позднее жаловался: «Какой же непозволительно большой свободой пользуются в Афинах рабы, поселившиеся здесь чужеземцы и метеки! Даже тронуть их нельзя. А когда идешь по улице, раб ни за что не уступит тебе дорогу. Могу вам сказать, откуда в этой стране взялись такие обычаи. Что бы случилось, если бы каждый гражданин имел право ударить раба, метека или вольноотпущенника? Тогда бы часто получалось так, что он лупил по спине свободного афинянина, будучи уверенным, что бьет раба. Чернь в этом городе одевается не лучше рабов и метеков, да и выглядит подобно им. Кто-нибудь из вас может спросить: почему же афиняне позволяют своим рабам жить с удобством и в достатке, а некоторым и просто в роскоши? Легко увидеть, что для этого есть причины. Афиняне могущественны благодаря морю. Поэтому вполне понятно, что рабы здесь трудятся по найму, а я, их господин, существую за счет этих заработков и потом освобождаю своего невольника. Ну а там, где есть богатый раб, он уже не боится господина. В Спарте же раб относится к свободному с уважением»[25].
Вряд ли эти слова можно отнести к рабам с лаврионских рудников. Благодаря их тяжкому труду деньги звенящим потоком текли в сундуки Каллия. Приданое Эльпиники его вообще не интересовало: он выбрал ее в жены за красоту и благородное происхождение. Кимон пока сам по себе значил немного. Однако, как человек предусмотрительный, Каллий понимал: у этого юноши большое будущее, он носит славное имя, а трагическая судьба его отца вызывает к нему всеобщую симпатию. Кимон не отличается особой изворотливостью в политике и в этом смысле не может сравниться с Фемистоклом, зато он тактичен и расторопен, а также может подать себя публике — немаловажное достоинство в государстве, где надо лично привлекать на свою сторону избирателей и постоянно быть на виду у людей. Сын Мильтиада, думал Каллий, может многое сделать в таком городе, как Афины, а поэтому вполне стоит не только помочь ему, но и связать с собой родственными узами.
Предусмотрительность свояка позволила Кимону в скором времени начать пользоваться своим огромным состоянием, уже свободным от долгов. А это открывало перед ним перспективы блестящей политической карьеры. Но тем временем наступил 480 г. до п. э., Аттике угрожало нашествие Ксеркса.
Аристид
Уже пали Фермопилы, в любой момент персы могли ворваться на полуостров. Фемистокл призвал детей, женщин и старцев бежать за море. Мужчины же должны сесть на корабли, которые заменят им родную землю, занятую неприятелем.
Не все, однако, понимали тяжесть положения и справедливость слов Фемистокла. Многие спрашивали: «Как же так? Мы должны добровольно покинуть родину и стать народом-скитальцем? Разве мы не сможем противостоять неприятелю на поле боя, как десять лет назад под Марафоном? Да, врагов теперь больше, чем тогда, но ведь и мы стали сильнее. У нас есть союзники: спартанцы наверняка пришлют помощь».
Толпы горожан заполнили агору, узкие и крутые центральные улицы. Люди кричали, метались из стороны в сторону. Одни были готовы бежать куда угодно, хоть на край света, другие готовились к битве, отвергая саму мысль об уходе из города. Все доказывали свою правоту со свойственным эллинам темпераментом. Неожиданно шум и крики начали стихать. Через рынок в окружении друзей и слуг шел Кимон — высокий, мужественный, спокойный. Держа в руке, разукрашенную конскую уздечку, он направлялся прямо к Акрополю. Его люди кричали в толпу: «Приносим эту узду в дар Афине, ибо кони нам теперь пи к чему; будем сражаться на кораблях!»
Коль скоро сын победителя персов зовет их на суда и сам подает пример, то кто же будет настаивать на том, чтобы остаться в городе и дать бой на суше! Вероятно, Фемистокл и впрямь прав — вся надежда только на корабли. Толпа медленно расходилась. Женщины с детьми и наскоро собранным нехитрым скарбом спешили в Пирей, готовясь отплыть на острова и Пелопоннес. Мужчины собирали оружие и также шли в порт, чтобы влиться в боевые экипажи триер. Так перед Саламинской битвой Кимон помог Фемистоклу убедить афинян осуществить невиданное ранее предприятие — эвакуировать население всей Аттики. Он сделал это не потому, что являлся другом Фемистокла (как и его отец, Кимон скорее был близок к Аристиду), а потому, что ясно видел: другого пути спасения нет.
Взаимная симпатия Аристида и Мильтиада впервые проявилась за десять лет до описываемых событий, в дни первого персидского нашествия. Неприятель уже высадился под Марафоном, а в Афинах все еще шли жаркие споры: надо ли встретить врага в открытом поло или укрыться за городскими степами. Мильтиад настаивал на немедленном выступлении навстречу врагу; он опасался, что в случае обороны города и затягивания военных действий верх возьмут предатели и сторонники тирана Гиппия. Но Мильтиад был не единственным командиром. Во главе войска стояли целых десять стратегов, по одному от каждой филы. Обычно каждый стратег командовал по одному дню. В их числе находился тогда и Аристид, изо всех сил поддерживавший Мильтиада. Когда наконец было принято решение выступить к Марафону, Аристид первым отказался от командования в пользу Мильтиада, его примеру последовали и остальные.
Теперь же Аристид окружил заботой Кимона. Он надеялся, что со временем тот станет противовесом чрезмерному влиянию и слишком смелым замыслам Фемистокла. Аристиду нравились манеры, чувство собственного достоинства и умеренность сына Мильтиада, а также его взгляды по вопросам внутренней и внешней политики. Оба государственных мужа были полностью согласны в том, что нужно поддерживать как можно лучшие отношения со Спартой.
Через несколько месяцев после Саламинского сражения, в июне 479 г. до н. э., к спартанцам отправилось посольство, в состав которого входили Ксантипп и Кимон (последний благодаря поддержке Аристида). Обстановка тогда была сложная, и от результатов посольства зависело очень многое. Правда, персидская эскадра уже покинула греческие воды, однако огромная сухопутная армия захватчиков еще топтала землю Эллады. Весной она, как и год назад, вторглась в Аттику. Ее жители снова были вынуждены бежать из своих наскоро отстроенных домов. А тем временем спартанцы медлили с посылкой войск. Без их помощи нельзя было даже думать о том, чтобы помериться силами с врагом в открытом поле. (Спартанцы же всю осень и зиму строили мощную стену на Истмийском перешейке. За этим прикрытием они чувствовали себя на Пелопоннесе в полной безопасности. Некоторые из влиятельных спартанцев ясно давали понять, что судьба остальной Эллады здесь никого не волнует. Более того, в Спарте раздавались циничные голоса: «Персы сражаются за нас и для нас, обращают в прах те государства, которые могли бы с нами бороться за первенство в Греции».
Конечно же, среди спартанцев были люди, анализировавшие ход событий более трезво и глубоко и принимавшие во внимание не только узкокорыстные интересы своего государства. Они прекрасно понимали, что после захвата средней Греции персы всей своей мощью обрушатся на Пелопоннес и их не сдержат ни стена, ни отвага ее защитников. В этом случае уже некому будет воспевать будущие Фермопилы.
Когда афинское посольство прибыло в Лаконию[26], ее жители спокойно и благочинно отмечали праздник гиацинтий. Он был посвящен юноше Гиацинту, в которого влюбился Аполлон. Вместе они ходили на охоту и забавлялись на лугах. И вот как-то им захотелось посостязаться в метании диска. Первым его метнул Аполлон. Далеко улетел тяжелый бронзовый круг, и сразу же побежал за ним обрадованный юноша, жаждущий испытать свою силу. Но диск, брошенный рукой божества, заключал в себе чудовищную энергию, он отскочил от земли и смертельно ранил наклонившегося над ним Гиацинта, Бесполезным оказалось лекарское искусство бога. Все, что он мог сделать для своей невольной жертвы, — это превратить ее кровь в пурпурный весенний цветок.
Афинские послы пригрозили спартанцам: «Персидский царь хочет возвратить нам нашу землю и заключить союз, как равный с равными. Обещает отдать нам в собственность, ту страну которую мы сами выберем. Делав! все для того, чтобы оторвать нас от общего дела. Но мы боимся гнева Зевса — бога всех эллинов. Думаем, что не! ничего хуже на свете, чем предательство. Поэтому-то мы и отвергли столь выгодные условия. Таковы наши мнение и поступки, хотя остальные греки обижают нас и ведут предательскую политику. Вы же, зная, что мы ад предадим общего дела и будем сражаться до конца, чувствуете себя за нашей стеной в полной безопасности. Вы не прислали войск, как обещали, и персы снова безнаказанно вторглись в пашу страну. Поэтому мы должны вал: откровенно сказать, что все афиняне чувствуют себя оскорбленными и призывают вас как можно скорее идти в бой».
Десять дней ждали послы ответа. Когда их наконец вызвали на совет, они, потеряв всякое терпение, прямо сказали: «Заключим мир с персами и вместе с ними выступим против любого государства». Последовал спокойный ответ: «Прошлой ночью 5 тыс. человек выступил вам па помощь. Их ведет Павсаний».
Посольство выполнило свою задачу. Два месяца спустя войска греческих государств под командованием Павсания одержали блестящую победу над персами под г. Платеи.
Вскоре после этих событий Кимона избрали одним из афинских стратегов. В получении этого ответственной поста ему помогли слова отца, благорасположение Аристида и личные заслуги: удачные переговоры со спартанцами, а также храбрость, проявленная в битвах у Саламина и под Платеями.
Весной 478 г. до н. э. эллинский флот отправился к черноморским проливам, чтобы изгнать оттуда персидские гарнизоны. Таким образом он должен был продолжить дело, начатое Ксантиппом, за год до этого захватившим Сеет и Херсонес. Общее командование осуществлял Павсаний, а во главе афинской эскадры стояли Аристид и Кимон. Осенью греки захватили Византий. Путь в Черное море был открыт.
События под Византием
Этому городу над Босфором в истории Европы была суждена немеркнущая слава: почти через 700 лет, в 330 г., по воле римского императора Константина он сменил свое название на Константинополь, а старое имя передал государству, столицей которого был потом в течение многих веков, — Византийской империи. Но уже в том далеком 478 г. до н. э. под стенами Византия произошли события, ставшие поворотным пунктом не только в истории Афин, но и всей Древней Греции: приморские и островные государства отказались подчиниться спартанцам, передав верховное командование в войне против персов афинянам. Родился союз, названный позднее Морским.
Несомненно, переворот произошел в значительной мере по вине самих спартанцев, прежде всего Павсания. Вождь восстановил против себя буквально всех. Союзников он рассматривал как подданных, держался высокомерно, все время подчеркивая превосходство своих соотечественников. Даже у источников стояли его люди с палками, чтобы спартанцы могли первыми набрать воды. Ввел Павсаний и спартанскую дисциплину: даже за мелкие провинности нарушителю полагались порка или стояние по целым дням с тяжелой железной цепью на шее. После взятия Византия спартанский вождь присвоил себе богатые персидские одежды и постоянно в них щеголял. Воины шептались между собой: «Неужели Павсанию пришлась по душе роскошь Востока, а может, он хочет править греками с соизволения персидского царя?»
Распространялись слухи и о его сговоре с врагом. Ведь не случайно же пленники, захваченные в Византии, среди которых было много вельмож и близких царя, удивительным образом смогли бежать. Не имел ли к этому отношения Павсаний? Всеобщее возмущение вызвала рифмованная надпись, вырезанная на огромном бронзовом кратере (сосуде для смешивания вина с водой), установленном над берегом моря как памятник победы. Она гласила, что Павсаний — владыка Эллады — дарует этот кратер Посейдону — владыке морей. Поведение Павсания вызвало в лагере всеобщую неприязнь к спартанцам, зато Аристид и Кимон — доступные в любое время дня и ночи, человечные и справедливые — приобрели для своего государства много сторонников.
В конце концов спартанцы отозвали Павсания и прислали на его место нового вождя, но и тот ничего не смог исправить и вернулся на родину вместе со спартанской эскадрой. Тем временем большинство государств, чьи корабли принимали участие в походе на Византий, обратились к афинянам с просьбой, чтобы они взяли на себя руководство военными действиями. Конечно, поводом к такому шагу явились не только личные симпатии и антипатии. Греки остановили свой выбор на. Афинах потому, что они имели самый сильный флот и, следовательно, могли обеспечить приморским государствам эффективную поддержку в случае нового персидского вторжения. Было очевидно и то, что афиняне с большим пониманием отнесутся к делам торговли и судоходства, нежели сухопутная крестьянская Спарта. Во многих городах получило признание афинское государственное устройство, которое давало свободу слова и политические права всем гражданам независимо от происхождения и имущественного положения. В Спарте же власть принадлежала узкому слою граждан; это была типичная олигархия, т. е. правление небольшой группы привилегированных.
Под стенами Византия афиняне и представители приморских и островных государств дали друг другу клятву: будем иметь общих друзей и врагов, а клятва эта останется в силе до тех пор, пока раскаленные бруски металла, которые мы в этот миг бросаем в морскую пучину, не всплывут обратно на поверхность.
Руководителем, или гегемоном, союза были Афины, командовавшие общим флотом и собиравшие денежные взносы. Их величину Аристид, пользовавшийся всеобщим доверием, определил в зависимости от величины и богатства каждого из государств. Ежегодно в союзную казну должно было поступать 460 талантов. Сокровища хранились на острове Делос под защитой Аполлона и Артемиды; распоряжались ими назначенные афинянами специальные чиновники — элленотамии. На Делосе собирался и союзный совет, называвшийся синодом, каждое государство имело в нем один голос. Афиняне взносов не платили, зато выставляли наибольшее число кораблей и воинов; кроме них, большие эскадры имели острова Самос, Лесбос и Хиос. Другие государства предпочитали платить больше, но не посылать своих людей на войну.
Однако в случае острой необходимости и они были вынуждены платить дань кровью.
Союз быстро превратился в значительную силу. Он насчитывал около двухсот членов, а в лучшие времена — почти четыреста и подчинял своему влиянию все побережье и острова Эгейского моря. Союз был величайшей политической организацией, которую древние греки создали на протяжении своей истории. Его будущее в значительной мере зависело от того, будет ли гегемон уважать независимость государств, отдавшихся под его покровительство.
Со времени создания Морского союза Кимон непрерывно шел в гору и вскоре стал ведущей политической фигурой не только Афин, но и всей Греции, громил персов на суше и па море. Почти каждый год его выбирали в коллегию стратегов, где он имел решающий голос. В 472 г. до н. э., когда молодой Перикл одержал свою первую победу — театральную, в качестве хорега поэта Эсхила, — Кимон, который был старше его на 15 лет, являлся самым влиятельным человеком в Афинах. Да и кто мог бы с ним сравниться в популярности? Ксантипп, отец Перикла, наверняка уже умер, Аристид отошел на обочину политической жизни. Правда, еще жив был Фемистокл, но память о нем блекла в ореоле недавних Кимоновых триумфов. Фемистокл, воздвигнув вокруг города стены, защитил его от смертельной опасности. Но теперь, когда афинские триеры под командованием Кимона бороздили водную гладь у побережья Малой Азии и Кипра, никто уже не думал об обороне за стенами.
Кимон хотел остаться в памяти современников и потомков не только как политический деятель, но и как великий строитель. После одной из своих побед над персами он велел возвести на агоре крытую колоннаду. Народ разрешил, чтобы в ней стояли три статуи Гермеса, па постаменте которых были выбиты надписи, прославляющие победу. Имя вождя в них даже не упоминалось. Таков был один из фундаментальных принципов афинской демократии: сражается народ и ему же принадлежит вся слава. Личность, даже находящаяся на руководящем посту, — всего лишь слуга масс и должна оставаться безымянной. Принцип был прекрасный, и политики вели между собой яростный спор: кто из них лучше сумеет служить народу. Когда Кимон вступил в союз с Алкмеонидами и взял в жены женщину из их рода, Исодику, жертвой политической интриги пал Фемистокл: объединившиеся роды совместными усилиями с помощью остракизма отправили его в 471 г. до н. э. в изгнание. Но этот союз оказался непрочным: через десять лет был вынужден удалиться в изгнание Кимон, побежденный более ревностным слугой народа — Периклом.
Часть четвертая Кимон и Перикл
Первая победа Софокла
Во время Великих Дионисий 468 г. до н. э. спор о том, кому следует присудить первую награду, разделил не только судей, но и зрителей. Действительно, произведение молодого поэта радует сердце и слух, по можно ли возвышать молодого человека, впервые ставящего драму, и тем самым оскорблять уже признанный талант — Эсхила? Даже если на этот раз Эсхил и не показал всего, на что способен, он тем не менее выше остальных.
Орел не всегда парит над облаками, но даже когда он на своих мощных крыльях кружит у самой земли, то и тогда выглядит величественнее верткой ласточки.
Некоторые, впрочем, возражали: «Эсхил получил первую награду, когда ему уже было 40 лет, но разве это означает, что все поэты должны ждать так долго? Да, его сопернику нет еще и 30, но какой же у него замечательный талант! Его "Триптолем" полон очарования и внутреннего спокойствия, вместе с тем драма держит зрителя в постоянном напряжении. Автор создал гимн в честь бессмертных богов и увековечил заслуги нашей родины перед всем человечеством».
Именно такой была главная мысль драмы и такие чувства вызывала она у афинских зрителей. В ней рассказывалось о путешествиях и приключениях Триптолема. Юноша на своей колеснице, в которую были запряжены драконы, посетил самые отдаленные уголки света — Раздавал зерно, учил людей земледелию и оседлой жизни. В далекий путь его отправила сама Деметра — богиня злаков и урожая. Родители Триптолема, проживавшие в Элевсине, предоставили ей дом и опеку, когда богиня в тревоге и отчаянии искала по всему свету свою дочь Персефону (позднее оказалось, что девушку похитил бог подземного царства). Но не только благодарность и благословения, одариваемых ждали Триптолема на его долгом пути. Варвары — подозрительные и жестокие, как все дикие люди, — отвечали злом на добро. Они стремились лишить благодетеля жизни, с помощью коварства завладеть воздушной колесницей. Но наш герой благодаря покровительству богов, эллинской ловкости и отваге всегда успешно избегал опасности.
Поскольку элевсинский храм находился на аттической земле, зрители воспринимали драму как возвышенный гимн в честь Афин. Подобно тому как некогда отсюда распространялись умение возделывать землю и начатки цивилизации, ныне Афины дают всем людям и городам, которые опекает Морской союз, блага мира и процветания.
Поскольку театральные представления носили официальный характер, ими руководил верховный архонт. Иначе и быть не могло, ибо празднества были выражением благодарности и даром афинских граждан богу Дионису. О том, кому достанется награда, решали избранные путем жеребьевки судьи. Поскольку в данном случае выбор сделать было не так-то просто, архонт стал обдумывать, как бы ему спять с себя ответственность за решение судейской коллегии. Выход нашелся сам собой.
В театре в тот момент находились Кимон и другие стратеги. Они прибыли в полном составе для того, чтобы не только насладиться зрелищем, но и по дедовскому обычаю совершить возлияние вина в честь Диониса. Архонт якобы из уважения к прославленному вождю отказался от своих судейских полномочий. Он просил Кимона и других стратегов принять судейскую присягу и вынести свой вердикт по столь запутанному делу. Избранная таким необычным образом коллегия признала победу молодого поэта, автора «Триптолема». Решающим оказался голос Кимона. Создателю Морского союза понравилось произведение, показывавшее, что именно на аттической земле берут начало все блага цивилизации.
Победителя звали Софокл. Он был почти ровесником Перикла (разница в возрасте у них составляла не более двух-трех лет). Родился Софокл в местечке Гиппо-Колон, расположенном в получасе пути от столицы. На всю жизнь сохранил поэт благодарную память об очаровании сельских мест, родных тенистых рощ, где пели соловьи. В укромных зеленых долинах буйно росли кусты и деревья, опутанные цепким плющом. Говорили, что по ночам там резвятся нимфы. По утрам роса, подобно жемчужинам, сверкала на цветках шафрана и белых лепестках нарцисса, столь любимого Персефоной. Чистый, прозрачный поток Кефиса причудливо огибал Колон и окрестные луга.
Софокл происходил из очень богатой семьи. Кроме земли, его отцу принадлежала оружейная мастерская. Мальчик был красивый, прекрасно пел и играл на кифаре, но не раз побеждал своих ровесников в борьбе и других состязаниях в гимнасии. Когда Софоклу исполнилось 15 лет, ему была оказана особая честь: во время празднества в честь победы у Саламина будущий поэт шел впереди танцевального хоровода афинских юношей, благодаривших бессмертных богов за их благорасположение. Хор пел радостный гимн-пеан, шедший впереди с кифарой в руках Софокл начинал каждую новую строфу. А теперь, не достигнув еще и 30 лет, он благодаря Кимону стал одним из самых известных поэтов Афин.
В том же 468 г. до н. э., вскоре после Великих Дионисий, когда море стало доступным для судоходства, из Пирея вышли двести триер. Флотом командовал Кимон. Целью похода было южное побережье Малой Азии, где издавна процветало множество греческих городов. Появление афинской эскадры привело к тому, что почти все они присоединились к Морскому союзу. Одновременно Кимон получил тревожное сообщение: недалеко от устья р. Эвримедон собирается персидский флот. Уже сейчас он насчитывает несколько сотен кораблей и еще восемьдесят спешат на соединение с ним. Флот с берега поддерживает сильный отряд, расположившийся лагерем на побережье. Может быть, персы готовились к новому походу, чтобы возвратить себе господство над Эгейским морем? Когда Кимон покидал Пирей, никто и не предполагал встретиться со столь мощным и опасным противником. Его эскадра выполняла строго ограниченную задачу. Теперь вождь должен был сам, и притом немедленно, принять решение огромной важности — отступить или атаковать.
Неожиданное нападение афинян принесло им двойную победу. В один и тот же день они захватили и уничтожили около двухсот персидских кораблей и разгромили сухопутный отряд, взяв при этом полный сокровищ лагерь. Еще через несколько дней были уничтожены и те восемьдесят судов, которые спокойно плыли к назначенному месту.
В следующем году, командуя лишь несколькими кораблями, Кимон неожиданно напал на сильный персидский флот, действовавший у побережья Херсонеса и побуждавший соседние фракийские племена к выступлению против Афин.
Итак, персы были вытеснены с моря. Но уже в 465 г. до н. э. Кимон сражался не с ними, а с греками: ему приказали захватить остров Фасос, стремившийся выйти из союза.
В одном из походов должен был принимать участие и Перикл. Он входил в число тех призывников, которых привлекали к военной службе за пределами государства. Хотя солдат Перикл и не совершил каких-либо выдающихся подвигов, но сражался он мужественно.
Перикл обвиняет Кимона
Весной 463 г. до н. э. Кимон предстал перед судом в связи с обвинением, выдвинутым Периклом и его друзьями. Они утверждали, что прославленный полководец был подкуплен царем Македонии Александром. Правда, Кимон подавил восстание на Фасосе и не допустил его отделения от Морского союза, но вместо того чтобы потом ударить по Македонии и захватить ее богатые прибрежные области, преспокойно вернулся в Афины. Он поступил так потому, что взял от царя деньги: во имя личной корысти предал интересы народа.
Вождя сняли с поста стратега. Дело было серьезным. В случае вынесения обвинительного приговора Кимон как предатель мог потерять все свое состояние и даже жизнь. История повторялась: сын Ксантиппа жаждал гибели сына Мильтиада, потомок Алкмеонидов бросил вызов потомку Филаидов. Союз обоих родов, который за несколько лет до этого сверг Фемистокла, оказался недолговечным и распался из-за отсутствия общего врага.
Однако не только старая родовая вражда повлияла на обвинение Кимона. Не менее важными были реальные политические противоречия. Все обвинители, включая, разумеется, и Перикла, входили в одну партию — демократов. Что это означало в тогдашних Афинах? Демократы провозглашали лозунги прямого и ничем не ограниченного участия в управлении всех граждан независимо от их имущественного положения; одновременно они обвиняли аристократов в подготовке государственного переворота и в сговоре со Спартой — опорой олигархического строя. Вполне понятно, что Перикл, верный традиции рода, связал свою судьбу с демократами. Пока он не играл среди них первой роли, ими руководил Эфиальт — уже пожилой человек, известный своей справедливостью и решительной борьбой с нарушавшей законы знатью. А поле для такой деятельности было весьма широким: подкупы, коррупция, махинации чиновников и судей буквально разъедали афинскую государственность и тогда, и позднее. Перикл относился к Эфиальту с полным доверием еще и потому, что тот был близким родственником великого законодателя и создателя афинской демократии Клисфена. Само собой разумеется, без ведома и согласия Эфиальта Перикл не смог бы принять участия в выступлении против Кимона, давшем ему возможность выделиться из безликой толпы второстепенных политических деятелей.
Некоторые утверждали, что карьере Перикла мешает его несмелость. Вероятно, ее усиливали два фактора. Во-первых, красоту молодого человека явно портила несколько удлиненная голова. Злые языки, которых в Афинах было полным-полно, сравнивали ее с луковицей. Сколько же шуток раздавалось по этому поводу! Чаще всего Перикл появлялся в шлеме, скрывавшем его физический недостаток, но это только подзадоривало шутников, ехидно говоривших: «До чего же мужественный воин! Даже по городу ходит в доспехах». Во-вторых, один из стариков якобы обратил внимание на то, что голосом и фигурой молодой политик очень напоминает тирана Писистрата. Эти слова ужаснули Перикла: вдруг народ сочтет, что кандидата в новые тираны лучше заблаговременно убрать из города? Воображение рисовало мрачную картину остракизма, изгнания, крушения всех надежд в самом начале жизненного пути. Так говорили. Но в 463 г. до н. э., когда Перикл выступил с обвинением Кимона, со времени смерти Писистрата прошло 60 лет и сходство с ним не могло быть опасным, поскольку умерли последние свидетели тирании.
Верил ли сам Перикл в те обвинения, которые выдвинул вместе с другими демократами? Во время процесса он только один раз встал со своего места, чтобы произнести обязательную обвинительную речь. Она была очень осторожной и лишена всякой резкости. Наверняка Перикл предвидел то, что действительно произошло позднее, — полное оправдание Кимона.
Вождь действительно был невиновен: полностью отсутствовали доказательства факта подкупа. Произнеся речь в свою защиту, он имел полное право сказать: «В нашем городе есть люди, которых узы гостеприимства связывают с богатыми поселениями Малой Азии и Фессалии. Они защищают их интересы и, конечно, получают за это богатые дары. Я же, как всем известно, являюсь другом спартанцев — людей бедных и экономных. Две эти добродетели я ценю выше всяких богатств и не извлекаю личной выгоды из контактов со Спартой. Зато меня радует, что сокровища, захваченные мною у врагов, обогатили наше государство».
Кимон мог бы также добавить: «Посмотрите на эту мощную стену из каменных глыб, вознесшуюся па Акрополе. Она служит не только для защиты святого места, но проходит таким образом, что увеличивает поверхность холма. Сейчас мусором из развалин разрушенных персами домов там засыпают неровности почвы, чтобы воздвигнуть новые прекрасные святыни. Посмотрите на платаны, высаженные на агоре, в самом сердце города, их зелень радует глаз и дает прохладу в жаркие дни. И наконец, взгляните на Академию — священный округ за городом, недалеко от Дипилонских ворот. Теперь его украшает прекрасный парк, обильно орошаемый водой. Всем этим афиняне обязаны сокровищам, захваченным во время моих походов».
Особенно большие богатства и источники доходов — золотые и серебряные прииски, многочисленные торговые фактории на фракийском побережье — государство получило в результате последней войны с островом Фасос. Жители острова входили в Морской союз, однако взялись за оружие, заподозрив, что афиняне хотят захватить их владения. Последние располагались на материке прямо напротив острова и издавна были собственностью и главным источником благосостояния его жителей. Чистый ежегодный доход от приисков составлял от 200 до 300 талантов. В 465 г. до н. э. афиняне послали туда несколько тысяч своих колонистов. Они обосновались недалеко от устья р. Стримон, в местности, само название которой — Эннеагодой (Девять путей) — свидетельствовало о том, что это важный коммуникационный узел. Здесь пересекались дороги, идущие вдоль побережья и протянувшиеся из глубины материка. Колонисты не скрывали своих намерений: они должны подчинить все окрестные земли, взять в своих руки торговлю с фракийскими племенами, а потом осуществлять эксплуатацию рудников.
Выйдя из Морского союза и предприняв враждебные действия против Афин, островитяне рассчитывали на помощь дружественных им фракийцев царя Македонии Александра. Его владения простирались на запад от Стримона, следовательно, появление афинян на этой реке не было для него безразлично.
Весной 465 г. до н. э. Кимон во главе сильного флота выступил против Фасоса, победил его корабли в морской битве и захватил тридцать из них, после чего приступил к осаде города. Одновременно отряд вооруженных колонистов из Эннеагодой выступил в глубь Фракии, смело проникнув в самое сердце диких и обрывистых гор. Под местечком Драбеск афиняне попали в засаду. Спаслись лишь немногие. Напуганные поражением и угрозой фракийского нападения колонисты поспешно покинули негостеприимную землю и возвратились в Аттику. Новая афинская колония, но уже под другим названием появилась здесь только через 30 лет.
Смерть под Драбеском нескольких сотен юношей погрузила Афины в траур. Почти каждая семья оплакивала близких. А тем временем их незахороненные тела гнили на чужбине. Поэтому было принято решение достойным образом почтить память погибших и смягчить боль живых: организовать торжественные похороны за счет государства для всех: и для тех, чей прах удалось перевезти в Аттику, и для тех, чьи могилы остались пустыми. До этого павших хоронили в общих могилах прямо на поле битвы, например, под Марафоном. Теперь впервые, конечно вынужденно, обычай был нарушен, проведен церемониал, который в дальнейшем афиняне могли наблюдать неоднократно.
Прах погибших или пустые урны с написанными на них именами выставили в военных палатках, чтобы родные и друзья возложили перед ними дары. Через два дня прах положили в огромные гробы из кипарисового дерева. Их было ровно десять — по числу фил. Пустые закрытые урны несли в память о тех, чьи тела остались на чужбине. Под плач и причитания женщин траурная процессия вышла с агоры и направилась к Дипилонским воротам. За ними рядом с красивой дорогой, которая вела в рощу Академа, отвели большой участок, земли для военного кладбища. Братская могила воинов, погибший под Драбеском, была здесь первой. Перед ней установили памятник и мраморную плиту с именами тех, кто погиб в предательской засаде в грозных фракийских горах.
Путешественники позднейших веков никогда не обходили стороной кладбища у Дипилонских ворот. Они читали имена погибших под Драбеском и тогда, когда могущество Афин, за которое эти юноши отдали жизнь, отошло в безвозвратное прошлое.
Однако поражение афинян ничем не облегчило положение осажденного г. Фасос. Его жители обратились за помощью к спартанцам. Последние готовы были ее предоставить, поскольку получили бы прекрасную возможность поколебать Морской союз — основу афинского могущества. Если другие государства убедятся, что этот союз можно безнаказанно покинуть, то они последуют Примеру Фасоса и союз распадется, как груда камней. Поэтому спартанцы по секрету сообщили островитянам, что вторгнутся в Аттику и создадут угрозу самим Афинам. Но во время подготовки к походу на Спарту обрушилось страшное несчастье — землетрясение, обратившее р руины большинство населенных пунктов. В столице уцелело только пять домов.
Стихийным бедствием воспользовались илоты — полузависимые земледельцы, угнетаемые и эксплуатируемые еще многочисленными спартанцами. Восстание охватило не только Лаконию, но и соседнюю, также захваченную спартанцами область — Мессению. Десятки тысяч необученных и плохо вооруженных илотов вступили в отчаянную борьбу с несколькими тысячами спартанцев, для которых убивать было ремеслом. Теперь, когда под угрозой оказалось существование спартанского государства, никто уже не думал о дальнем походе.
Предоставленный самому себе Фасос, несмотря на мужественное сопротивление, капитулировал весной 463 г. до н. э. Побежденные были вынуждены разрушить стены своего города, выдать корабли, покрыть расходы победителей и отказаться от фракийских владений. Таким образом, афиняне неплохо заработали па этой войне. Однако их манили и прибрежные македонские земли. Здесь также находились рудники, которые, как говорили, ежедневно дают царю Александру талант чистого дохода. Играя на ненасытной жадности афинского народа, враги Кимона и выдвинули свое абсурдное обвинение: вождь был обвинен, поэтому не занял район горных разработок, другой стороны, самовольное развязывание конфликта. Могущественным царем свидетельствовало бы только о легкомыслии Кимона и независимо от его результатов повлекло бы за собой обвинение со стороны тех же самых людей: вождь ни во что не ставит права и привилегии народного собрания, принимает единоличные решения, как тиран, навлекает на Афины большую опасность только для того, чтобы удовлетворить свое тщеславие.
Остров Фасос являлся одним из самых богатых государств — членов Морского союза. 15 лет назад он вступил в него добровольно и охотно принял афинское руководство. Союз должен был быть объединением равных с равными. Демократическое устройство Афин, казалось бы, гарантировало это условие. Однако вскоре по вине Афин и других союзников возникли и стали множиться недоразумения.
В момент создания организации было принято решение, что каждое из государств будет вносить определенную сумму, называвшуюся «форос», в общую казну. Величина взноса, определенная Аристидом, зависела от состоятельности участника союза. Позднее происходили определенные изменения, по так, чтобы в сокровищницу на острове Делос ежегодно поступало около 460 талантов. Когда прямая угроза со стороны персов миновала, многие союзники постарались уклониться от этой обязанности, равно как и от предоставления определенного числа людей и кораблей для военных походов. Однако афиняне были непреклонны. Они силой изымали взносы и принуждали к предоставлению в их распоряжение воинских контингентов. Чтобы избежать последнего, большинство государств предпочитало платить дополнительные взносы на афинские вооружения. Благодаря этому Афины построили большой флот, союзники же, не имея собственного, вынуждены были соглашаться на все требования руководителя, открыто стремившегося к превращению добровольной организации в государство, подчиненное Афинам. Еще до Фасоса другой остров — Наксос — пытался выйти из союза и был жестоко наказан.
Но не была ли победа над островитянами свидетельством дискредитации великой идеи? Уже начало оформляться то политическое единство, которое в дальнейшем могло бы стать основой всегреческого государства, если бы строго соблюдался принцип равноправия и уважения всех союзных государств, больших и маленьких, демократических и олигархических. Но у великой идеи были могущественные враги: эгоизм, великодержавные амбиции и жадность афинского народа, а также честолюбие и недальновидность афинских политиков. С этой точки зрения Перикл и Кимон — истец и ответчик на процессе 463 г. — мало чем отличались друг от друга.
Сестра Кимона и новые течения в живописи
Афинское общественное мнение обратило внимание на сдержанность Перикла во время суда над Кимоном. По городу пошли гулять слухи. Рассказывали, что незадолго до начала судебного заседания в двери Периклова дома постучала Эльпиника, в то время уже расставшаяся с Каллием. Перикл, еще не женатый, пользовался славой знатока женской красоты. Эльпинике же он сказал с усмешкой: «Слишком уж ты стара, чтобы решать такие дела». Действительно, сестре Кимона было уже около 50 лет. Однако тот факт, что женщина, некогда слывшая первой красавицей Афин, пришла к нему с просьбой, чрезвычайно польстил молодому политику: все еще помнили, как великие художники прославили и увековечили ее красоту.
Толпы зрителей всегда останавливались перед огромной картиной. Она была нарисована на деревянной доске и украшала большой зал, открытый фронтон которого поддерживали колонны. Здание называлось Стоя Поикиле, т. е. Разрисованное, и построил его один из родственников Кимона. Поскольку оно стояло рядом с рынком, за день через него проходили сотни людей, ища спасения от жары летом и от холода и дождя — зимой. Здесь обсуждали со знакомыми торговые дела, иногда проводили судебные заседания или официальные торжества.
Интересующая нас картина была одной из четырех, украшавших Стоя Поикиле, и изображала разрушение Трои. Она восхищала свободой композиции и новизной техники исполнения. По широкому, лишь слегка намеченному полю художник умело разбросал красочные сцены. И хотя фигур на картине много, впечатления толкучки нет. Фоном трагических событий художник избрал стены и храмы Трои, окружающие горы и леса. Персонажи представлены в движении, их лица, обращенные к зрителю, выражают сильные чувства. Рот многих из них открыт. Казалось, что зрители слышат, как уводимые в неволю женщины оплакивают свою судьбу, а победители вопят от восторга. Суровые вожди осуждают безбожного Аякса: ос л ей ленный желанием, он совершил святотатство — похитил Кассандру, хотя девушка и искала спасения у алтаря Афины, обняв обеими руками статую богини.
Еще ни один мастер ранее не смог столь счастливо соединить в одной картине столько новых методов передачи движения и чувств. Необычность творческой манеры живописца бросалась в глаза каждому, кто входил в Стоя Поикиле. Конечно, многие были недовольны излишней смелостью автора и с сожалением говорили: «Раньше рисовали проще и достойней. Лица героев были серьезными и даже суровыми, словно маски. Молодые же просто не понимают, сколько достоинств и красоты таится в умеренности. Хотят во что бы то ни стало отличаться от своих предшественников. Куда же пас заведет эта погоня за новизной в искусстве?»
Все, однако, единодушно признавали мастерство и талант Полигнота. Некоторые даже утверждали, что только с него начинается настоящая живопись: он открыл это искусство так же, как Дедал — ваяние. Но многие, а может быть, большинство зрителей вовсе и не думали о новом направлении в живописи. Их интересовала только одна деталь картины, только один персонаж среди множества изображенных. С понимающей усмешкой зеваки доказывали друг другу девушку, стоявшую у алтаря, у которого Кассандра отчаянно искала спасения. Лицо девушки, словно солнце, излучало необычайную красоту, каждая его черточка с любовью была выписана художником, словно этот персонаж был ему особенно дорог. Зрители язвительно спрашивали: «Почему такое внимание к этой девушке? Не потому ли, что она представляет Лаодику, самую красивую из всех дочерей царя Трои?»
Ответ подразумевался сам собой: «Дело вовсе не в этом, просто Лаодика на картине — точная копия Эльпиники».
Если же кто-то наивный спрашивал, почему именно Эльпинике была оказана столь высокая честь (наверное, художник отдал дань красоте, являющейся даром богов), ответом ему был презрительный смех «знатоков»: «Она просто не скрывала от Полигнота своих прелестей. Нет слов, изобразил он ее превосходно, но, видно, и узнал неплохо».
Многие горячо возражали на эти сплетни: «Даже если Эльпиника и не жила в любви и согласии со своим мужем Каллием, родовая гордость наверняка удержала ее от любовных приключений с художником, ведь она дочь Мильтиада!»
В том же зале рядом с «Разрушением Трои» находилась картина учеников Полигнота. На ней были изображены три эпизода битвы под Марафоном. Картина вызывала всеобщее восхищение, ибо приятно щекотала гордыню афинян. Первый эпизод показывал, как афиняне бегом пересекают равнину, сближаясь с персидскими шеренгами. Мильтиад, находящийся в первых рядах, указывает на врага. Второй эпизод показывает саму битву: над беспорядочной толпой воинов, стремящихся поразить друг друга мечами и копьями, летают божества и герои древних мифов. Среди них можно увидеть Афину, Геракла, Тесея и простого землепашца Эхетла, поражающего захватчиков своим плугом. Часть персов, оттесненная к прибрежным болотам, тонет.
И наконец, третий эпизод: персы в панике ищут спасения на кораблях, а самые смелые из афинян пытаются ворваться на них. Кинетир, брат поэта Эсхила, ухватился рукой за борт, но защищающий доступ на палубу перо уже поднял тяжелый топор. Другой афинянин, Каллимах, тянется вверх, пронзенный несколькими копьями; он уже мертв, но копья не дают ему упасть.
Лица всех выдающихся участников битвы нарисованы с максимальной точностью. Художники постарались отобразить мельчайшие подробности великого противоборства: не забыли даже о собаке, последовавшей за своим хозяином в самую гущу кровопролитной схватки.
Смотря на расположенные рядом картины, старики горько вздыхали, показывая то на Мильтиада, то на Эльпинику: «До чего же мы дожили: дочь отца-героя стала любовницей художника!»
Но у Эльпиники нашлись защитники, отвечавшие ревнителям старинной добродетели: «Полигнот не первый попавшийся мазила, живущий из милости заказчиков и потакающий их прихотям. Он великий художник и состоятельный человек. „Разрушение Трои" подарил нашему городу, спасшему свободу Эллады, от нас за это получил афинское гражданство, потому что родом он с Фасоса».
Противники тут же выдвигали новое обвинение: «Эта женщина всегда вела себя не лучшим образом. Какое-то время жила со своим единокровным братом Кимоном».
Надо заметить, что афинское право допускало браки между единокровными братьями и сестрами. Суть обвинения, таким образом, сводилась не к предполагаемому сожительству, а к отсутствию брачного союза. Сплетни опирались на тот факт, что после смерти Мильтиада, как мы уже упоминали, брат и сестра совместно вели скромное хозяйство, до тех пор, пока богач Каллий не взял Эльпинику в жены.
Красивая женщина всегда является объектом зависти и недоброжелательства. Однако в данном случае легко заметить, что сплетни и выдумки распространяли политические круги. Уже много лет они яростно преследовали семью Мильтиада, и любые средства были хороши, чтобы уничтожить его дом.
Кто убил Эфиальта?
Процесс Кимона завершился летом 463 г. до н. э. А спустя несколько месяцев, ранней весной 462 г., в Афины прибыли посланцы Спарты. Даже десятки лет спустя афиняне не могли скрыть удовольствия, рассказывая об этом событии. Мертвенная бледность лиц послов особенно выделялась на фоне их красных плащей. Сидели на ступенях алтарей и, стеная, умоляли: «Если не пришлете нам помощь, мы погибли».
Спартанцы просили военной поддержки. Восстание илотов, начавшееся после страшного землетрясения 464 г. до щ э., все еще продолжалось. Его центром стала Мессения — плодородный и многолюдный край к западу от Лаконии. Спартанцы захватили его несколько поколений назад в результате длительных ми кровопролитных войн. Но, превратив жителей Мессении в своих подданных, они не могли вырвать из их сердец воспоминаний о былой свободе. Главной твердыней повстанцев стал высокий и обрывистый горный массив Ифома, возносившийся в самом центре области. Ворваться на пего не было никакой возможности, а восставшие имели достаточный запас продовольствия и, используя укрытия и тайные тропы, затерявшиеся среди скал и лесов, совершали неожиданные вылазки. Продолжение осады подрывало авторитет спартанцев в глазах всей Эллады. Каждую минуту могли вспыхнуть новые восстания илотов в тех районах, где они уже были подавлены. Поэтому-то спартанцы и пошли на унижение: известные своим военным мастерством и доблестью, граждане самой могущественной эллинской державы, они обратились ко многим правительствам с просьбой о помощи. Особенно им нужны были афинские войска, имевшие большой опыт ведения осадных работ.
Вопрос о том, надо ли оказывать помощь, вызвал в Афинах горячие споры. Демократы, особенно их вождь Эфиальт, горячо возражали против удовлетворения просьбы спартанцев. «С какой стати мы должны поддерживать наших самых опасных врагов? Пусть себе погибают! Надо раз и навсегда смирить их гордыню».
Иным было мнение Кимона. Он произнес перед народным собранием большую речь, в которой весьма красноречиво доказывал: «Без Спарты, ее военной силы Эллада как целое всегда будет хромать. Наше государство и спартанское, словно два коня, впряженных в одну колесницу. В одиночку нам ее не сдвинуть».
Такова была принципиальная позиция Кимона, которую он выражал со свойственной ему смелостью: Афины будут увеличивать свое могущество на море, па суше же первенство остается за Спартой. Чтобы показать, сколь близко его сердцу государство на р. Эврот, он назвал своего старшего сына Лакедемонием.
Поскольку «македонский» процесс закончился полным оправданием Кимона, его положение было необычайно устойчивым. Народное собрание согласилось с мнением вождя. Четыре тысячи тяжеловооруженных воинов-гоплитов под командованием самого Кимона немедленно выступили на Пелопоннес.
Вскоре оказалось, что Кимон проявил себя не лучшим политиком. Голосуя за посылку отряда и возглавив его, он сам готовил себе погибель. Уже через несколько месяцев, поздней осенью 462 г. до н. э., корпус Кимона вернулся на родину, хотя Ифома все еще оборонялась. Спартанцы заявили, что уже не нуждаются в посторонней помощи. Это была неправда, ибо воинов других государств они просили остаться. Причину такого отношения к афинянам нетрудно угадать: спартанцы опасались, что солдаты демократического государства войдут в соглашение с повстанцами и вообще со всеми илотами. Опасения эти были обоснованы, ибо в отсутствие Кимона демократы в Афинах одержали большую победу.
Уже давно объектом яростных нападок Эфиальта стал ареопаг — совет бывших архонтов. Так называлась скалистая и труднодоступная гора на западе от Акрополя, где часто проходили заседания ареопага. Члены его исполняли свои обязанности пожизненно и имели весьма широкие права. Совет являлся главной опорой аристократов и богачей, поскольку архонтов избирали только из их числа. Эфиальт стремился подорвать влияние ареопага, постоянно подавая в суд на отдельных его членов за нарушение закона. Но только поход Кимона на Пелопоннес дал демократам возможность нанести решающий удар. Отсутствие вождя уже само по себе облегчило проведение политической кампании. Не менее важным явилось и то, что вместе с Кимоном на помощь Спарте отправились тысячи его сторонников, ибо гоплитами были представители высших и средних классов: только они были в состоянии купить полное вооружение. Таким образом, летом 462 г. до н. э. перевес в народном собрании получили бедные граждане, обычно служившие легковооруженными воинами, лучниками или гребцами на триерах. Поскольку в то время (дело было уже после захвата Фасоса) афиняне не вели никакой морской войны, почти все бедняки, являвшиеся, естественно, горячими сторонниками демократов, оставались в городе.
Законы, предложенные народному собранию Эфиальтом и Периклом, были приняты. У ареопага отобрали почти все его полномочия. Он вел теперь только некоторые судебные дела: об умышленном убийстве и членов вредительстве, отравлении и поджогах. Кроме того, ареопаг наблюдал за оливами — священными деревьями богини Афины — и судил тех, кто осмеливался их срубать, а также за священными округами божеств по всей Аттике. Зато все остальные ответственные привилегии ареопага перешли к совету пятисот, частично к народному собранию и судам. С этого момента именно совет пятисот следил за соблюдением законов и привлекал к ответственности виновных в их нарушении. Каждый гражданин имел право представить в него жалобу на чиновника. В определенных случаях совет мог приговаривать не только к штрафу и тюремному заключению, но и к смерти.
Напрасно пытался Кимон добиться отмены уже принятых законов. Демократы защищались и атаковали, не стесняясь в средствах. Снова ожили и стали распространяться отвратительные сплетни об Эльпинике. Их отзвуки мы еще слышим в комедии, созданной несколько десятилетий спустя: «Кимон был человек неплохой, но вот беда, очень уж любил выпить, да и поступал легкомысленно. Кроме того, часто ночевал в Спарте, оставляя свою Эльпинику одну-одинешеньку»[27].
Но что действительно больше всего повредило Кимону, так это бесславное возвращение из-под Ифомы. Теперь демократов охотно слушали даже те, кто еще совсем недавно считал себя сторонником Кимона. Демократы говорили: «Спартанцы нас оскорбили. Наконец-то показали, что они о нас думают: считают нас людьми, способными на любую подлость и предательство. Чего же стоили все попытки Кимона подружиться со Спартой? Если даже он, самый, горячий ее сторонник, встретил подобный прием, то как бы спартанцы поступили со своими противниками? Нет, Кимонова политика была бессмысленной». Поэтому, когда весной 461 г. до н. э. демократы обратились к народному собранию с вопросом о том, стоит ли проводить «суд черепков», ответ был утвердительным. В результате Кимон отправился в десятилетнее изгнание.
Вскоре Эфиальт пал жертвой подлого убийства. Следствия никто никогда не проводил и преступников не нашли. Конечно, и тогда, и позднее сторонника демократов утверждали, что убийцы принадлежат к лагерю олигархов: они мстили за изгнание Кимона. Коварная рука поразила человека, уничтожившего всевластие ареопага и укрепившего права народа. Но были и другие мнения: «Убийцу не схватили, потому что не хотели этого сделать. У власти сейчас демократы, значит, на них прежде всего и лежит вина за промедление и нерасторопность. После смерти Эфиальта демократов возглавил Перикл. Если кому-то преступление и принесло выгоду, то прежде всего ему».
Такие нелепые обвинения нельзя было принимать всерьез. Фактом, однако, оставалось то, что смерть Эфиальта вознесла Перикла, ранее остававшегося в тени, на первое место в государстве. Он возглавил правящую партию, и, хотя не занимал никакого официального поста (только позднее его стали постоянно избирать стратегом), было известно, что народное собрание будет голосовать согласно с его волей. Потому-то все афинские граждане, все жители городов, входивших в Морской союз, все руководители греческих и соседних государств с интересом приглядывались к этому мужчине 30 с небольшим лет, который отныне определял политику великой державы и в какой-то степени — судьбы тогдашнего мира.
Часто спрашивали, что представляет собой сын Ксантиппа и потомок Алкмеонидов? Каковы его взгляды, вкусы и слабости? Но Перикл оставался загадкой для всех. Кроме того, что он неравнодушен к женской красоте, о его личной жизни ничего не было известно. Всегда серьезный, Перикл держался с достоинством, даже улыбка редко освещала его спокойное лицо. Можно было видеть, как глубоко погруженный в мысли, он идет одной и той же дорогой — от дома к агоре. Никогда не принимал приглашений на приемы и пиры. Одевался скромно и опрятно, всегда следя за тем, чтобы правильно лежали складки хитона. Жил экономно, хотя и обладал большим состоянием. Перикл очень редко произносил речи и, очевидно, поэтому всегда овладевал вниманием слушателей. Его выступления, деловые, ясные и немногословные, отличались отсутствием какой-либо аффектации. Полушутя, полусерьезно говорили, что, выходя на трибуну, Перикл обычно произносил тихую молитву: «Боги! Сделайте так, чтобы я не сказал больше, чем нужно для дела».
Но именно простые, безыскусные слова были гораздо убедительнее, нежели мутные потоки пустопорожних фраз, которые обрушивали на своих слушателей мелкие политики. Тот, кто слушал Перикла, охотно соглашался 6 его идеями и предложениями, ибо приходил к неоспоримому выводу: вот человек, для которого на первом месте всегда находятся интересы дела. Как ясно он представил все «за» и «против». Конечно, он совершенно прав, и в данном случае надо поступать только так, как он советует.
Таинственный метеорит и учитель Перикла
За серьезность и сдержанность Перикл вскоре получил прозвище Олимпийца. Это означало, что он, подобно богу-олимпийцу, стоит выше серых будней и суеты мелких людишек, охваченных неразумными чувствами. Молва приписывала подобную черту характера влиянию человека, который, хотя и не был афинянином и сторонился политики, принадлежал к числу ближайших друзей Перикла. Звали его Анаксагор. Был он родом из Клазомены в Малой Азии, а в столицу Аттики прибыл около 468 г. до н. э. вследствие необычайного происшествия.
В том году жители многих областей 75 дней подряд наблюдали огромное небесное тело, напоминавшее своими очертаниями огненное облако. Оно появилось в западной части небосклона, двигаясь по ломаной линии. Огненные брызги рассыпались в разные стороны подобно падающим звездам. Наконец, через 75 дней жители Херсонеса услышали ужасающий грохот, как будто на них обрушилось небо, землю полуострова встряхнуло до самого основания. Когда миновали первые, самые страшные мгновения, толпы людей бросились к тому месту, где приземлился огненный гость. Было это недалеко от речки Эгоспотамой. Все ожидали увидеть какую-нибудь раскаленную гору, но после долгих поисков обнаружили в глубокой яме закопченный камень величиной с мельничный жернов. Его вытащили и потом в течение сотен лет показывали путешественникам как святыню этих мест.
Стали думать, как объяснить столь необычное явление. Одни говорили: «Страшный ураган оторвал кусок скалы где-то в высоких горах и нес его по воздуху, вращая как волчок. Наконец сила ветра ослабла, уменьшились обороты валуна, и он упал именно здесь».
Другие понимали происшедшее по-своему: «То самое огненное облако, которое мы видели на небе, вызвало сильный порыв ветра, унесший глыбу с горных вершин на Херсонес».
Точка зрения Анаксагора полностью отличалась от двух вышеуказанных. Огненное облако на небе и весть о херсонесском камне стали для него как бы откровением. С глаз упала пелена — и просветленному разуму открылись неизмеримое пространство вселенной и удивит тельный космический порядок: «Валун, упавший на Херсонес, и есть то огненное тело, которое мы столько дней видели на небе. Ведь все, что летает высоко над нами: звезды, солнце и луна — не что иное, как огромные камни. Блестят и светятся по той простой причине, что, преодолевая сопротивление эфира, они раскаляются. Что удерживает их на небе, не дает им упасть? Силы, например, сила инерции, пронизывающая весь мир. Временами, однако, возникают какие-то препятствия и потрясения. Тогда небесные тела покидают привычные дорожки и падают вниз. Но подобные глыбы редко достигают земли, обычно они тонут в бескрайних океанах».
Таково было первое открытие Анаксагора, вокруг которого он начал строить целую систему, чтобы в конце концов прийти к выводу: «Наш мир создали не боги, а Разум, приведший в движение хаотично перемешанную материю; тогда-то и началось разделение первородных элементов».
В 468 г. до н. э. Анаксагору было около 30 лет. Происходил он из богатой семьи, но семейные и финансовые дела его абсолютно не интересовали. Решил бросить все, что уводило мысли от самого важного — изучения причин возникновения и устройства окружающего мира. Именно поэтому он покинул Клазомены и переехал в Афины. Этот выбор может показаться странным, ибо аттическая столица ничем не отличалась в истории эллинской философии. Любомудрие родилось и процветало в течение нескольких поколений в городах Малой Азии, Милете и Эфесе, а несколько позже быстро распространилось также и на Западе, в Италии и Сицилии. Однако выбор Анаксагора не был случайным. Тамошние греки — оборотистые купцы и смелые мореплаватели — имели широкий кругозор. Во время своих путешествий они видели разные страны и обычаи. Сравнивали, делали выводы, заимствовали все, что казалось им стоящим. Зато города самой Греции первоначально были убогими и отсталыми, их вечно сотрясали внутренние неурядицы и постоянные войны с соседями, которые велись зачастую только из-за пограничной межи, они не имели широких контактов с людьми иной культуры. Здесь не мог даже завязаться цветок нового направления культуры — бескорыстного изучения вселенной, размышления о ее природе и о том, как сплетены с ней людские судьбы. Конечно, и в Греции процветали многие виды искусства, по только те, которые, как считалось, имели практическое значение. Поэзия служила восхвалению богов и героев, учила благородным поступкам. Строительство святынь и украшение их статуями позволяли приобрести благорасположение небожителей.
И все же Анаксагор переехал в Афины — город, живший политикой и торговлей. Людей, среди которых он поселился, по-настоящему волновали только распри партий, деньги, судебные процессы и военные походы. Очевидно, философ руководствовался тем соображением, что со времени создания Морского союза Афины фактически стали столицей Эллады. Сюда быстрее всего доходили новости со всего света, а они были для Анаксагора тем материалом, из которого он строил величественное здание своей системы. В Афины с запада и востока по государственным и частным делам приезжало много интересных личностей, здесь можно было встретиться и побеседовать с самыми светлыми умами и лучшими знатоками всех наук.
Но каковы бы ни были причины переезда в Афины, это решение имело далеко идущие последствия. На аттическом дичке была привита благородная ветвь ионической философии. Отныне оп приносил прекрасные плоды. Анаксагор стал первым в длинном ряду афинских мыслителей, людей, родившихся или творивших в этом городе. Среди наиболее известных назовем лишь некоторых: Сократ, Платон, Аристотель, Зенон, Эпикур. Для современников Анаксагора самым важным было то, что он — друг и учитель Перикла. Его влиянию приписывали олимпийское спокойствие и стройность мысли афинского политика. Люди говорили: «Как, согласно Анаксагору, всем управляет Разум, вносящий порядок в мир вещей, так и Перикл стремится вести политические дела по образцу Разума».
В этом утверждении было много язвительности. Позднее среди набожного афинского люда стали раздаваться голоса, что Анаксагор внушает своему ученику неверие. И хотя Перикл придерживался принципов официального культа, приносил жертвы богам, поддерживал строительство святынь, тем не менее многие утверждали: «Все это он делает напоказ, чтобы не оттолкнуть от себя народ, верный старым божествам и традициям отцов. Зато наверняка он не верит в гадания и предсказания будущего, хотя бессмертные боги не раз давали нам указания и предостерегали от опасностей. Сам Перикл мог в этом убедиться».
Далее обычно рассказывали о таком случае. Однажды Периклу принесли голову барана, родившегося в одном из его пригородных имений. Она представляла собой настоящее чудо природы, ибо вместо двух из нее рос только один рог — большой и твердый, как кремень. В это время в доме Перикла находились Анаксагор и знаменитый предсказатель Лампон. С последним Перикл охотно общался, возможно, для того, чтобы опровергнуть слухи о своем неверии. Лампон, увидев диковину, мгновенно вскричал: «Знак небес! Человек, на чьей земле родился единорог, будет единственным хозяином города».
Анаксагор, усмехнувшись на эти слова, приказал разрубить голову и принялся доказывать, что баран родился с одним рогом из-за неправильного развития черепа и мозга.
Слушатели спрашивали: кто же из двоих был прав? Может быть, оба? В любом случае важнее были слова Лампона, ибо дело происходило тогда, когда Перикл боролся за первенство в государстве с Фукидидом, сыном Мелесия, — вождем олигархов. Вскоре Фукидид был подвергнут остракизму, а Перикл действительно на долгие годы встал у руля государства.
Однако все это произошло только в 443 г. до и. э. А гораздо раньше рядом с Периклом появился таинственный человек, которому приписывали влияние, равное влиянию Анаксагора. Звали его Дамой, и был он учителем и прекрасным теоретиком музыки. Все согласно утверждали, что по-настоящему его интересует только политика, а искусство игры — лишь прикрытие истинной деятельности. Ходили также упорные слухи о причастности Дамона ко многим изменениям в государственном устройстве, осуществленным Периклом. Может быть, все же правильнее было бы сказать, что именно Дамон предостерегал Перикла от слишком смелого реформаторства, ибо этот учитель музыки по своим убеждениям являлся консерватором. Так, нам кажется, понимал наставления и деятельность Дамона и Платон, который в книге четвертой своего «Государства» говорит устами Сократа: «Тем, кто блюдет государство, надо прилагать все усилия к тому, чтобы от них не укрылась порча, и прежде всего им надо оберегать государство от нарушающих порядок новшеств в области гимнастического и мусического искусств. Надо остерегаться вводить новые виды мусического искусства — здесь рискуют всем: ведь нигде не бывает перемены приемов мусического искусства без изменения в самых важных государственных установлениях»[28].
Часть пятая Добрые богини
Орестея
К подножию статуи Афины прильнул смертельно уставший человек. Громко молил ее: «Госпожа моя! Ниспошли мне свою милость! Я столько скитался по разным землям. От пролитой крови меня очистил Аполлон, и вот теперь, следуя его воле, я прибрел сюда, в твой город, чтобы просить только одного: справедливого приговора».
Измученный путник еще не закончил молитвы, как появились черные богини. Пронзительно кричали: «Видим четкий след. Преследуем его, как охотничьи псы оленя, чувствуем запах крови. Теперь убийца от нас не уйдет. Вот он! Обнял преступными руками статую богини. Но ему уже ничто не поможет, за пролитую им кровь мы сами выпьем живую кровь из его жил. Сейчас он сойдет в мрачные подземелья и узнает, что там ожидает святотатцев: тех, кто нарушил право гостеприимства, и тех, кто поднял руку на родителей. Теперь его уже не спасут ни Аполлон, ни Афина, он станет поживой для духов подземелья, сгинет, как бескровный дух. Мы справедливы, наш гнев не коснется того, у кого руки чисты. Но горе тому, кто замарает себя преступлением, подобно этому человеку. Защищая права умерших, мы не знаем промаха».
Зловеще воя, черные богини тесным кольцом окружили статую и склонившуюся в немой мольбе фигуру, однако умолкли, когда среди облаков появилась Афина в блестящем доспехе. Она издалека услышала призывы о помощи и теперь удивленно смотрела по сторонам: откуда столько беспокойства в ее любимом городе? Преследуемый смиренно обратился к богине: «Я родом из земли аргивян. Ты хорошо знаешь моего отца — Агамемнона, царя Микен, того самого, что отправился под Трою и благодаря твоему покровительству захватил город Приама. Но когда он спустя много лет вернулся домой, то погиб страшной смертью от руки своей жены и моей матери. Она опутала мужа плащом, когда он мылся в бане, а любовник убил его топором. Я отомстил за кровь отца. Однако я был не один и могу назвать своего сообщника. Был им Аполлон — бог, который объявляет свою волю в Дельфах. Он пригрозил мне страшными муками, если я не покараю мать. Я рассказал тебе все как было, моя госпожа. Суди сама, правильно ли я поступил. Заранее подчиняюсь твоему приговору».
На это Афина ответствовала: «Трудное дело, более трудное, чем думаете вы, смертные. Ты чист перед богом и людьми и не замараешь моей святыни. Но черные богини не уйдут с пустыми руками; если не отдам им тебя, то ядом своего гнева они забрызгают землю моих любимых Афин. Но коль скоро дело вынесено на мое решение, да будет так. Я приведу сюда достойных мужей и прикажу им рассудить о пролитой крови. Сердца их полны справедливости, они не нарушат присяги, которую я устанавливаю ныне и на веки веков».
Прибыли судьи, собрался народ. Явился и бог Аполлон, чтобы свидетельствовать правоту Ореста: он убил мать и отомстил за отца по воле Зевса. Черные богини не уступали, настаивали на своих правах, которые родились вместе с миром: если извечный порядок будет нарушен, рухнут мирская и божественная справедливость.
Перед голосованием Афина обратилась к народу: «Вот первое дело об убийстве, которое здесь рассматривается. Отныне и навсегда устанавливаю в этом городе совет судей. Оп будет заседать на горе, называемой Ареевой. Пусть вечно будут здесь уважать закон и трепетать перед его нарушением. Но может случиться так, что люди будут толковать мои законы себе во зло, подобно тому как болотная грязь мутит кристальную чистоту источника. Я советую моему народу одинаково избегать и безрассудного своеволия, и рабского подчинения воле одного человека. Пусть также из города не удаляют всего, что возбуждает страх. Кто же будет справедливым, ничего не боясь. Страх божий — опора, надежда и спасение вашего города. Итак, создаю этот суд — чистый, неподкупный, снисходительный и суровый одновременно, никогда не дремлющую стражу родной земли».
Судьи голосовали, бросая в урну камешки. Их голоса разделились поровну. Последней бросила свой белый камень в защиту Ореста сама Афина. Чтобы смягчить взбешенных богинь мести, она подарила им храм на том самом холме, где проходил суд. Хор богинь благословил аттическую землю. Им ответила Афина: «Благодарю вас за добрые слова. Теперь при свете факелов я отведу вас в пещеры, где вы поселитесь навсегда. Станете в своей новой святыне источником доброты и благодеяний. Поэтому отныне вы будете называться не Эринии, а Эвмениды — добрые богини. Народ афинский будет чтить вас жертвами из крови ягненка, меда, молока, чистой воды источников, пурпурной одежды. А в память об этой минуте жертвоприношения будут совершаться ночью, при свете факелов».
Такова была последняя сцена трилогии «Орестея», которую Эсхил показал афинянам во время Великих Дионисий 458 г. до н. э. Он получил за нее первую награду. Произошло это через десять лет после того, как Кимон присудил награду Софоклу. Эсхил, отодвинутый тогда на второй план, теперь великодушно защищал ареопаг, падение которого стало одной из причин изгнания Кимона.
Орест родился в Микенах — грозном и мрачном замке, стены которого видели не одну трагедию и преступление. Когда Эсхил ставил свою драму, Микены принадлежали Аргосу. Поэтому-то Орест, взывая к Афине у подножия ее статуи, обещал: «Я и моя родина, мой народ аргивянский будем твоими верными союзниками во веки веков».
Аполлон же, когда суд уже оправдал несчастного, благодарил Афину за его защиту такими словами: «Возвышу сей град над всеми иными. Сделаю твой народ великим. Я прислал сюда Ореста, приказал ему искать спасения в твоем храме, чтобы он навсегда остался преданным тебе. И не только он, но и все его потомки из земли аргивянской. Пусть его внуки и правнуки заключат с тобой священный союз!»
Еще более недвусмысленным был ответ Ореста: «До того, как покинуть вас, хочу принести торжественную присягу на верность тебе, твоему народу и городу. Никогда не перейдут ваших границ отряды моих аргивян. Если кто-нибудь нарушит эту клятву, обреку его на горе и несчастья, даже если уже буду лежать в гробу. Ниспошлю ему дурные предзнаменования, лишу неразумного храбрости, и он долго будет жалеть о содеянном. Зато буду благословлять и осыплю дарами тех аргивян, которые останутся верными граду Афины».
Афинские зрители с одобрением внимали таким словам, хотя в них было больше риторики, нежели настоящей поэзии. Однако в 458 г. до н. э. эти прозрачные намеки имели особое значение, ибо уже в течение трех лет Аргос и Афины связывал союз. Он был заключен вскоре после оскорбительной отсылки афинского отряда из-под Ифомы. Аргос, который уже на протяжении многих веков вел со Спартой войны за пограничные земли, охотно объединился с врагами своих врагов.
Спартанцы, почувствовав угрозу со стороны новых союзников, были вынуждены вступить в переговоры со все еще сопротивлявшимися илотами — позволили им вместе с семьями покинуть Пелопоннес при том условии, что они никогда не вернутся обратно. В противном случае станут рабами. Афиняне поселили защитников Ифомы в г. Навпакт. Он располагался напротив Пелопоннеса, у входа в Коринфский залив. В Коринфе начался страшный переполох: афиняне в любой момент могли закрыть залив и перекрыть жизненно важные морские пути в Италию и Сицилию. Старое соперничество между Афинами и Коринфом с каждым годом все обострялось. Навпакт создал новый источник вражды. Коринф уже давно конфликтовал из-за пограничных земель с Мегарой (соседствовал с этим городом с севера). Оба города-государства принадлежали к Пелопоннесскому союзу, предводительствуемому Спартой. Последняя, однако, благоразумно не вмешивалась в спор. Вообще-то справедливость требовала встать на сторону более слабой и обижаемой Могары, но стоит ли ссориться с богатым Коринфом? Предоставленные самим себе, не видя иного выхода, жители Могары обратились за помощью к Афинам. Афинские отряды немедленно появились на их земле. Произошло событие огромной важности: спартанцы и их союзники оказались отрезанными с суши от средней Греции.
Чтобы обезопасить Мегару от внезапного нападения, афиняне построили длинные стены, которые соединили город, лежавший в глубине материка, с его портом Нисея; на стенах разместили своих воинов. Вскоре приступили к строительству подобных стен и у себя; они соединяли Афины с портом Пирей.
На земле и на море разгорелась война. Против Афин также выступил их извечный враг — остров Эгина. Но прошло совсем немного времени, и эгинский флот был разбит, а город на острове попал в осаду. Его оборонял присланный эгинцам на помощь отряд из трехсот спартанцев. Тем временем коринфяне, рассчитывая на то, что запятые Эгиной афиняне не смогут защитить Мегару, вторглись в ее пределы. Они здорово ошиблись.
Стратег Миронид спешно собрал в Афинах войско из юношей и пожилых людей (обычно не участвовавших в заграничных походах) и бросился на помощь оказавшемуся в беде союзнику. Первая битва на земле Мегары не принесла победы ни одной из сторон. Во второй военное счастье улыбнулось афинянам.
Таковы были важнейшие события в Элладе в течение трех лет — от изгнания Кимона весной 461 г. до весны 458 г., когда Эсхил поставил свою драматическую трилогию «Орестея». Неудивительно, что поэт под давлением современных ему событий ввел в свое прекрасное произведение, рассказывающее об извечной проблеме преступления и наказания, мало значащие для нас политические акценты. Но, вероятно, именно им драма была обязана успехом и наградой. Не все зрители смогли понять трагедию Ореста — грешника без вины, однако все они с радостной гордостью слушали, как благословляют их землю добрые богини, согласно кивали головами, когда со сцены призывали Аргос к союзнической верности, столь необходимой в дни войны.
В описываемые годы афинской политикой руководил Перикл. Ее результатом были союзы с Аргосом и Мега — рой, приведшие к братоубийственной войне сильнейших государств Древней Греции. Перикл действовал расчетливо и вполне осознанно. Он стремился раз и навсегда сделать невозможной Кимонову программу мира со Спартой и войны только с персами. Все действия его правительства ясно показывали: Эллада должна признать первенство Афин. Казалось бы, в свете вышеизложенного Афины, по крайней мере временно, должны были сохранять пассивность па Востоке. Быть может, Перикл так и намеревался поступить, но изменил свое мнение, как только появилась возможность нанести персам мощный удар.
Поход в Египет
Персидский царь Ксеркс погиб от руки начальника своей стражи в начале 464 г. до н. э. Только после долгих внутренних неурядиц и упорной борьбы его сын Артаксеркс прочно утвердился на престоле. Новый владыка сразу же отправился на восток, чтобы в приаральских степях подавить восстание местных кочевых племен. Этим воспользовался ливийский князь Инар. Он вторгся в долину Нила, и угнетаемое персами местное население сразу встало на его сторону. Инара провозгласили фараоном. Никто все же не сомневался, что персы, пока отступившие, вскоре вернутся. Поэтому фараон вооружал египтян, набирал наемников и лихорадочно искал союзников. Единственным государством, способным в то время поддержать восставших, были Афины, потому что только они имели сильный военный флот.
Когда посланцы Инара появились в столице, Перикл принял их очень сердечно. Но многие в городе резко протестовали против договоренности с египтянами. Был уже 460 г. до н. э., конфликт со Спартой и Коринфом мог в любой момент перерасти в войну. Политические противники Перикла спрашивали не без резона: «Да разве можно вести войну одновременно в стольких местах, против сильнейших государств Эллады и всей персидской мощи? Зачем посылать людей и корабли куда-то на край света, в Египет? Страна эта нам не очень знакома, а еще меньше мы знаем о силах и намерениях самого Инара. Допустим, что в битве под пирамидами мы победим, а это наверняка будет не так-то легко сделать, ибо персы, даже раз изгнанные, будут слать все новые армии, но где гарантия, что египтяне останутся верными союзниками? Оплатят ли они нам стоимость такой далекой, длительной и опасной экспедиции?»
Сторонники смелых военных предприятий отвечали им: «Когда персы 65 лет назад захватили Египет, они тем самым нанесли сильный удар, но торговле всех эллинских государств: оттуда за изделия наших ремесленников мы получали пшеницу и папирус. Теперь же мы вынуждены переплачивать за египетские товары персидским и финикийским посредникам. Как же мы можем упустить такую прекрасную возможность открыть себе доступ к источнику столь важного сырья? Не забудем и того, что одновременно мы нанесем персам сильный удар, потому что оторвем от их государства одну из самых богатых сатрапий. Ежегодно оттуда в царскую казну поступают 700 талантов серебра, не считая того, что на содержание персидских гарнизонов край этот дает 12 тыс. мер зерна. Действуя заодно с египтянами, мы без труда отобьем даже самые большие персидские армии. К тому же надо принять во внимание, что они будут сражаться вдали от родины после долгих маршей по безводным пустыням или среди враждебных им народов. Собственного флота у персов нет, значит, они возьмут финикийские корабли, а их мы уже били не раз. Что касается стоимости похода, то она не будет слишком большой, потому что содержать наших людей будет Инар».
Такие аргументы оказались убедительными, и флоту, который в тот момент находился у побережья Кипра, был отдан приказ немедленно идти в Египет. Но еще до того, как эскадра подошла к нильской дельте, Инар разгромил персидское войско, двигавшееся со стороны Палестины. Несмотря на это, часть персов сумела прорваться в глубь Египта и запереться в г. Мемфис. Он располагался недалеко от верхнего угла дельты, напротив нынешнего Каира. (В глубокой древности, во времена строительства пирамид, Мемфис был столицей всей страны.) Персидские корабли кружили по Нилу и его рукавам, доставляя осажденным продовольствие. В этот-то момент и появился мощный афинский флот, насчитывавший двести триер. Он без труда овладел водами великой реки, вытеснив отовсюду корабли противника. Вскоре афиняне и египтяне завладели Мемфисом. Персы укрылись в цитадели.
В последней сцене «Орестеи» демоны мести уходят в свой новый дом — пещеры горы Арея, чтобы оттуда, уже как добрые богини, заботиться о городе. Тот, кто смотрел драму весной 458 г. до н. э., был готов признать, что Афины действительно находятся под опекой благожелательных божеств. Хотя везде еще шли бои, чаша весов явно склонялась в сторону града богини Афины: в Мега — ре отбито наступление коринфян, столица острова Эгина в осаде, в Египте уничтожена персидская эскадра, взят Мемфис и вот-вот должна пасть его цитадель. А ведь еще живы были люди, ну хотя бы сам автор «Орестеи», которые 30 лет назад защищали отечество под Марафоном, а еще через 10 лет видели дым над подожженным персами Акрополем. Теперь же афинский флот господствовал на море от черноморских проливов до устья Нила.
Многое за 30 лет изменилось и в самих Афинах. Сын марафонского победителя Кимон уже три года находился в изгнании, а государством руководил потомок Алкмеонидов — рода, который в момент величайшей опасности был готов выдать город персам.
Народные суды
Перикл делал все, чтобы стереть память о победах Кимона, и, казалось, это ему в полной мере удается. Между тем изгнанный вождь был популярен среди афинян не только вследствие его военных успехов, но и как муж великой щедрости. Постепенно исчезали гнев и возмущение, которые вызвало бесславное возвращение афинского войска из-под Ифомы. Теперь люди вспоминали совсем о другом: «Сколько же народу пользовалось милостями Кимона! Каждый человек из его общины мог попросить у него все, что ему необходимо для жизни. Кимоновы имения за городом вообще не были огорожены. Осенью прохожие собирали там столько фруктов, сколько им было нужно. Бедным Кимон часто раздавал одежду. А какие он давал пиры, сколько приглашал гостей! Да, это действительно был большой господин, щедрый и благородный».
Перикл, тоже состоятельный человек, и не думал состязаться с Кимоном в этой области. Кроме того, экономность была его природной чертой. Однако и здесь он смог победить своего аристократического соперника. Выступив перед народным собранием, Перикл предложил проект закона, с огромным энтузиазмом принятого массой беднейших граждан. Закон гласил: судьи будут получать по два обола за каждый день судебных заседаний, в которых они примут участие.
Народные суды учредил еще за 130 лет до описываемых событий Солон. Судьей мог стать каждый афинский гражданин старше 30 лет, если он не имел задолженности государству и не совершил бесчестных поступков. Каждый год из числа желающих путем жеребьевки выбирали 6 тыс. суден. Па горе Ардетт они приносили присягу следующего содержания: «Буду принимать решения, согласуясь с законами и постановлениями совета и народного собрания. Если же по данному случаю закон не содержит никаких указаний, то я отдам свой голос, руководствуясь своими убеждениями, а не дружбой и враждой. Буду одинаково беспристрастно слушать истца и ответчика и принимать во внимание только суть дела, а не связанных с ним лиц».
Далее с помощью очень сложной процедуры всех судей распределяли по различным судебным палатам (их называли дикастериями), причем таким образом, чтобы в каждой из них были представители всех десяти фил. Обычно в трибунале было несколько сотен членов, а когда рассматривались особо важные дела, например, политические, несколько дикастериев объединялись. Судами руководили те чиновники, к компетенции которых данное дело относилось по закону и обычаю. Вся система должна была сделать невозможной коррупцию (не найдется человека, который бы смог подкупить стольких судей) и обеспечить правопорядок и непосредственное участие масс в судопроизводстве и управлении государством. Последнее было возможно потому, что народные суды рассматривали не только почти все уголовные и гражданские дела, за исключением тех, что еще оставались в ведении ареопага, но и в определенных случаях могли принимать решения по поводу действий тех или иных чиновников.
Два обола — нищенский заработок. Столько обычно платили за день труда неквалифицированному работнику. И все же на эти деньги хотя и весьма скромно, по можно было прожить: купить ячменную лепешку, сушеную рыбу, оливки. Благодаря новому закону участвовать в судебных заседаниях могли даже самые бедные граждане: мелкие ремесленники и торговцы, крестьяне — словом, все те, кто раньше даже на день не мог оторваться от своего тяжелого труда и практически не пользовался своими гражданскими правами.
Не обошлось и без критических голосов. Олигархи жаловались, что Перикл щедр за государственный счет и дает народу то, что и так ему принадлежит, по может быть использовано гораздо лучше. Значение судов упадет. Кто будет идти в судьи? Только негодяи и бездельники. Вот уж когда расцветет подкуп! Несомненно, общая сумма скромного судейского жалованья легла тяжелым бременем на казну, особенно с тех пор как его повысили до трех оболов. Зато как же любили Перикла народные массы! Участие в судебных заседаниях для многих стало самым приятным времяпрепровождением. Вот как хвалится своим судейством бедняк — герой комедии Аристофана:
Есть ли большее счастье, надежней судьба в наши дни, чем судейская доля? Кто роскошней живет, кто гроза для людей, несмотря на преклонные годы? С ложа только я сполз, а меня уж давно у ограды суда поджидают Люди роста большого, продажный народ… Подойти я к суду не успею, Принимаю пожатия холеных рук, много денег покравших народных, И с мольбой предо мной они гнутся в дугу, разливаются в жалобных воплях… Но приятнее всех мне судейских утех, я сказать позабыл, — вот какая: Только я ворочусь с триоболом домой, домочадцы гурьбою обступят И начнут лебезить, знают: деньги принес! Первым делом меня моя дочка И омоет, и ноги мои умастит, и, прижавшись ко мне, поцелует, И лепечет мне: «Папочка мой», — а сама языком своим удит монетку. Чтоб умаслить меня, моя женушка мне мягкий хлеб предлагает любовно И, подсевши ко мне, угощает меня.[29]Не только судьи получали деньги благодаря Периклу. Он ввел, хотя и не известно в каком году, оплату труда членов совета пятисот, постепенно начали платить ежегодное жалованье и чиновникам. Деньги были небольшие — всего несколько оболов, но их получали сотни людей. И хотя в целом они составляли весьма значительную cyммy, главным был не финансовый, а политический аспект. Жалованье позволило даже самым убогим стать судьями, советниками, чиновниками. С другой стороны, служение отчизне, считавшееся ранее почетной обязанностью, стало теперь для многих источником существования. Демократия постепенно превращалась в бюрократию.
Длинные стены
После 460 г. до н. э. началось строительство стен, которые должны были соединить город с портом. Степа, названная Северной, шла прямо к Пирею. Ее длина превышала 6 км. Вторая стена — Фалернская — вела к старому порту в Фалере. Оба укрепления строили солидно, фундамент насыпали из валунов, а наземную часть — из кирпичей. Через каждые несколько десятков шагов вперед выступали высокие башни. Благодаря этим, как их называли, Длинным стенам Афины в любой ситуации имели связь с морем, а поскольку на нем господствовал афинский флот, ни один враг не был страшен.
Перикл лично представил народному собранию проект строительства. Он внимательно следил за ходом работ, хотя большая политика и не прекращавшиеся войны постоянно отвлекали и его внимание, и весьма значительные суммы. Зато сторонники Кимона яростно боролись против возведения Длинных стен — единственно по причинам политического характера. Они прекрасно понимали, что отныне город навсегда может связать свою судьбу с морем. Поэтому беднота, работающая в порту, будет иметь в государственных делах решающий голос, а люди, живущие плодами земли, утратят свое влияние. Но вслух олигархи выдвигали совсем другие аргументы: они указывали на огромную стоимость строительства и его бессмысленность с военной точки зрения. У афинян просто не хватит людей, чтобы разместить их на всем протяжении стен. А что будет, если неприятель высадит десант на неукрепленном участке побережья между Фалером и Пиреем?
Последний аргумент был не лишен оснований. Поэтому уже через несколько лет сам Перикл предложил осуществить строительство еще одной стены, получившей название Средней. Она проходила между Фалернской и Северной параллельно последней, на расстоянии менее 160 м от нее, и соединялась с укреплениями Пирея. Теперь надобность в Фалернской стене фактически отпала; она была оставлена в качестве первой линии обороны.
Но строительство Средней стены еще впереди, а пока Перикл ни в чем не отступал от своего основного плана. Он проявлял даже определенное упрямство, лишь бы не признать правоту сторонников Кимона — это могли посчитать признаком слабости. Однако вопрос о Длинных стенах разбудил страсти. Не смея напрямую критиковать вождя за введение судейского жалованья — заметим, кстати, меры весьма популярной, — олигархи подвергли нападкам план строительства укреплений. Их слепая ярость позволила Периклу пойти на хитрость. Неожиданно по Афинам разнеслась весть: сторонники Кимона готовят государственный переворот в целях не допустить окончания строительства. Поэтому они ищут помощи у спартанцев и хотят тайно впустить их в город. Неприятельские войска уже стоят в Беотии. Демократия в опасности!
Разумеется, олигархи даже и не думали о приглашении спартанцев. Столь же абсурдными были бы попытки свергнуть строй, пользовавшийся поддержкой масс. Но никто в Афинах не сомневался в правдивости слухов. Общественное мнение сочло олигархов предателями, а строительство укреплений — основной задачей демократии. Надо признать, что один факт придавал слухам видимость правды: спартанские войска действительно подошли к границам Аттики.
Танагра
Весной 457 г. до н. э. 1,5 тыс. спартанцев и 10 тыс. их союзников расположились в средней Греции. Они прибыли сюда морским путем, с Коринфского залива, чтобы оборонять Дориду — маленький и убогий край, затерявшийся в складках огромного массива горы Ойта. Легенды гласили: много веков назад вышли из этой бесплодной страны дорийцы и отправились на покорение Пелопоннеса. Спартанцы по происхождению были дорийцами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, получив известие о захвате соседями дорийцев — фокейцами — одного из их городков, спартанцы немедленно выступили им на помощь. Поход должен был одновременно продемонстрировать военную мощь пришельцев.
С фокейцами спартанцы расправились без всякого труда, но сразу возник вопрос: как вернуться домой? В Коринфский залив уже вошли афинские триеры. Сухопутная дорога перекрыта афинским гарнизоном в Мегаре. Спартанцы решили, что самым разумным в создавшейся ситуации будет на какое-то время остаться в Беотии и вплотную заняться ее делами. Больше всего их интересовали Фивы. Во время персидских войн этот богатый город выступил на стороне захватчиков и вследствие своего предательства потерял былое значение. Теперь спартанцы открыто помогли Фивам возродиться. Поступая таким образом, они руководствовались следующим: Беотия соседствует с Аттикой, это делает Фивы и Афины естественными врагами. Пока Фивы были слабыми и не претендовали на руководство городами края, афиняне могли не беспокоиться о своих западных границах, теперь же за ними приходилось зорко следить.
В июле 457 г. спартанцы разбили лагерь под Танагрой, в восточной Беотии. Отсюда до Афин оставался всего один дневной переход. В городе началась паника. Возродились старые слухи, распространявшиеся сторонниками Перикла. Раздавались возгласы: «Олигархи сговорились со спартанцами! Впустят их в город, чтобы сделать невозможным строительство Длинных стен. Не будем терять ни минуты, закроем врагу дорогу в Аттику!»
Однако способных носить оружие в Афинах оставалось немного. Несколько тысяч воинов сражались в Египте, другие осаждали Эгину и стояли гарнизоном в Мегаре. Людские потери везде были значительными. В 458 г. до н. э. одна только фила Эрехфенда потеряла на всех театрах военных действий свыше 180 человек (обломок плиты с именами погибших сохранился до наших дней). А ведь фил было десять, и война шла уже несколько лет, поэтому убитых, раненых и взятых в плен насчитывалась не одна тысяча.
На отчаянный призыв Афин о помощи прибыли тысяча аргивян и жителей городка Клеон. Подкрепление удалось получить и от членов Морского союза, хотя они уже дали много людей для египетского похода. Фессалийцы прислали небольшой отряд конницы. В целом удалось собрать 14 тыс. людей, способных носить оружие. Силы сторон были примерно равны, так как спартанцы в свою очередь получили помощь от беотийцев.
Когда афинская армия уже стояла под Танагрой, в лагерь неожиданно явился Кимон. Он умолял разрешить ему принять участие в битве, где будет сражаться как простой воин. Если родина в опасности, надо забыть о раздорах, — так было и при Саламине. В конце концов он просто имел право встать в одну шеренгу с другими гражданами. «Суд черепков» приказал ему покинуть пределы государства, но армия теперь находится на чужой земле. Возможность на глазах у всех сразиться со спартанцами была для Кимона делом принципиальным, так как его самого и его друзей подозревали в сговоре с врагами и намерении впустить их в город.
Перикл резко воспротивился просьбе изгнанника: он прекрасно понял, к чему тот стремится. Личное участие Кимона в битве докажет абсурдность всех обвинений, сотрет из людской памяти бесславное возвращение из-под Ифомы, покажет гнусность всех слухов о сговоре со спартанцами. Но сам Перикл не мог и не хотел единолично решать столь сложный вопрос, поэтому перед битвой в афинском лагере был созван военный совет. Тем временем люди Перикла всюду распространяли слухи, что Кимон прибыл в лагерь и якобы хочет сражаться против своих друзей спартанцев лишь для того, чтобы во время битвы сеять замешательство и сомнения в рядах соотечественников. Совет постановил: изгнанник не имеет права защищать родину с оружием в руках наравне с другими гражданами.
Решение достойно сожаления. Ведь не прошло и четверти века с тех пор, как перед лицом нашествия Ксеркса из изгнания возвратились многие выдающиеся политики, в том числе и отец самого Перикла, Ксантипп. Теперь же Кимон был вынужден покинуть войско, оставив друзьям свои доспехи. По его совету виднейшие аристократы вышли на битву вместе, плечом к плечу, как отдельный отряд. Погибли все, все до единого! Их мужество и геройская смерть явились лучшим ответом тем, кто пытался их очернить. Позднее это признали все. Но Перикл и его близкие тоже не уступали аристократам в самоотверженности, и все-таки битва была проиграна. Решающую роль сыграло предательство фессалийской конницы, которая в разгар боя неожиданно перешла на сторону врага. Однако афиняне отступили в полном порядке, а поле боя осталось за спартанцами. По тогдашним представлениям они победили, но были настолько обескровлены, что даже не думали о вторжении в Аттику; отошли на Пелопоннес через земли Мегары, вырубив там оливковые рощи. Афинский гарнизон не посмел противостоять победителям.
Из десятой, части танагрской добычи спартанцы выковали огромное позолоченное навершие в форме щита. Его поместили на фронтоне храма Зевса в святом округе в Олимпии. Именно тогда после 12 лет трудов архитектор Либон завершил возведение этой грандиозной постройки. Ранее Зевс — хозяин и бог Олимпии — имел только маленькую часовенку, а жертвы ему приносили на алтаре под открытым небом. Между тем его жена Гера уже много веков проживала в той же Олимпии в собственном внушительном доме. Сначала он был деревянным, но постепенно отдельные его части заменяли на каменные. Значит, и отцу богов и людей надлежало занять помещение, соответствовавшее его величию. Олимпия входила в состав Элиды. Жители этого края получили деньги на строительство храма благодаря победоносной войне со своими соседями. Тогда-то Либону и было дано ответственное задание. Архитектор блестяще с ним справился, создав одну из самых больших и впечатляющих святынь Древней Греции. Она имела в современных измерениях 64 м в длину и 27 м в ширину. Крышу поддерживали дорические колонны десятиметровой высоты, их было соответственно тринадцать и шесть. Храм соорудили из известняка, который в изобилии встречался вблизи Олимпии. Строители старательно оштукатурили стены, чтобы создать впечатление твердого камня.
Вход в храм располагался с восточной стороны. Отсюда через коридор можно было попасть в главный зал. Два ряда колонн делили его на главный неф и два узких, боновых. В глубине святыни находилось еще одно культовое помещение. К моменту окончания работ главный неф пустовал, а в дальнейшем там была установлена огромная статуя Зевса. Главный зал, как и ведущий в него коридор, планировали украсить резными метопами[30]. Восточный и западный фронтоны здания также еще ожидали заботливой руки скульптора.
Золотой щит на фронтоне стал одним из первых украшений только что построенной святыни. На щите была изображена Медуза — девушка со змеиными волосами, чей взгляд, как гласили мифы, превращал людей в камень. У подножия установили мраморную плиту. Выбитое на ней стихотворное посвящение сообщало, что навершие подарено храму спартанцами и их союзниками после победы под Танагрой.
Много веков огромный щит ослепительно сверкал над входом в главную святыню Олимпии. Участники игр и зрители, прибывавшие из разных краев, читали хвастливую надпись о братоубийственной битве. Три фрагмента надписи сохранились до наших дней.
Говорили, что у спартанцев имелись особые причины для принесения дара богам именно в Олимпии. Дело состояло не только в прославлении своего подвига, но и в широком жесте по отношению к жителям Элиды, ибо в ней родился человек, которому спартанцы были обязаны и танагрской победой, и четырьмя предыдущими. Его звали Тисамен. Много лет назад он спросил пророчицу Аполлона в Дельфах, даруют ли ему боги потомство. Аполлон, однако, ограничился тем, что сообщил просителю о предстоящих ему победах в пяти крупнейших состязаниях. Доверившись пророчеству, Тисамен посвятил все свое время подготовке к состязаниям. Во время одной из Олимпиад он выступил в пятиборье и победил во всех видах, за исключением борьбы. Неужели бог ошибся? Поскольку о пророчестве было широко известно, зрители оживленно комментировали поражение фаворита. Но коль скоро предсказание не сбылось дословно, может быть, надо искать его скрытое значение? Возможно, под состязаниями следует понимать не бескровные игры, а противоборство с врагом? Именно так истолковали предсказание спартанцы. Их представители прямо сказали Тисамену: «Можешь неплохо заработать, не затратив при этом никакого труда: во время сражений будешь изображать одного из наших вождей».
Наш герой, кроме денег, потребовал еще и спартанского гражданства. Это очень возмутило его нанимателей, заботившихся о чистоте своего происхождения. Но вскоре над Элладой нависла угроза персидского нашествия, и в Спарте рассудили, что нельзя пренебрегать ни одной возможностью обеспечить себе помощь богов. Так Тиса — мен стал спартанцем, а его новые сограждане с того момента действительно стали побеждать во всех битвах, в которых он участвовал. Первой из них была битва под Платеями, последней — танагрская.
В Афинах сражение под Танагрой также отметили созданием памятника, отличавшегося, правда, суровостью и простотой. На государственном кладбище для заслуженных людей, расположенном на дороге от Дипилонских ворот к Академии, недалеко от места погребения колонистов, погибших во Фракии, теперь похоронили воинов из-под Танагры. Перед братской могилой встала мраморная плита, украшенная барельефом, — два всадника стремительно мчатся в бой. Так был отображен один из заключительных эпизодов сражения: после измены фессалийцев основной удар приняла малочисленная афинская конница, залившая поле битвы своей кровью. Под барельефом шла надпись, сочиненная поэтом Симонидом. Сохранились не только текст, но и часть самой плиты. Мы и теперь можем прочитать: «Привет вам смелые, славой военной овеянные афинские юноши, великолепные всадники! Вы отдали ваши молодые жизни, сражаясь против сильнейшего войска в Элладе, за отчизну, славную танцевальными хороводами»[31]. А немного дальше на том же кладбище покоился прах афинских союзников из Аргоса и Клеон.
Энофиты и Эгина
Еще только каменщики начали вытесывать камни для надгробия, а резчики и скульпторы принялись считать, сколько места на плитах займут имена павших героев, как в городе воцарилась великая радость. Наконец-то пришла хорошая весть: ровно через 62 дня после поражения под Танагрой афинский отряд под командованием Миронида разгромил войско беотийцев. Битва произошла под местечком Энофиты, совсем недалеко от несчастной Танагры. Победа не только стерла из памяти недавнее поражение, но ш имела весьма значительные последствия: вся Беотия, за исключением Фив, перешла под афинский контроль. Везде силой вводилось демократическое устройство и изгонялись олигархи. Беотийские города принуждали посылать войска по первому требованию из Афин. Укрепления Танагры были уничтожены, чтобы наказать город, видевший смерть стольких афинян.
Соседствовавшие с беотийцами с запада фокейцы вскоре после битвы совершенно добровольно признали афинскую гегемонию. Недавний поход спартанцев в Дориду сделал фокейцев их смертельными врагами и, следовательно, друзьями Афин. Совсем по-другому повели себя озольские локры, жившие еще западнее, в том месте, где находилась самая узкая часть Коринфского залива. Поскольку на их земле находился г. Навпакт, в котором поселили бывших повстанцев с Ифомы, локры склонялись к союзу со Спартой. Но теперь они также были вынуждены подчиниться сильнейшим и дали афинянам сто заложников.
В том же году сдались, наконец, брошенные всеми на произвол судьбы жители Эгины. Афины продиктовали жестокие условия капитуляции: островитяне должны разрушить стены своего города, выдать все военные корабли, вступить в Морской союз и ежегодно выплачивать в его казну огромную сумму — 30 талантов.
Никогда уже не восстановила Эгина былого своего величия. А ведь в течение двух веков она принадлежала к числу самых богатых государств Эллады, хотя и была всего лишь маленьким островком площадью около 80 квадратных километров, бедным плодородной землей и водой. Наверное, поэтому ее смелые и предприимчивые жители все свои силы отдавали мореходству и торговле, которые дали им больше, чем другим странам золотые прииски. Эгинцы прекрасно использовали выгодное положение своего острова — посреди Саронического залива, где пересекаются морские пути из Аттики, Мегариды, с Пелопоннеса. Смелые мореходы, они добирались до самых отдаленных уголков тогдашнего мира: побережья Черного моря, устья Нила, до богатой серебром, и оловом Испании. Островитяне были расчетливыми купцами и первыми во всей Элладе поняли, как облегчает торговлю монета. По примеру некоторых народов и городов Малой Азии здесь ее стали чеканить уже около 650 г. до и. э. Только через несколько десятков лет своими монетами обзавелись Афины, Коринф, Халкида и Сикион. Но и тогда тяжелые серебряные эгинские драхмы с изображением черепахи во многих местах брали охотнее, нежели афинских «сов» или коринфских «пегасов».
Когда афинские корабли стали все смелее проникать в глубь моря, зародилось торговое соперничество между двумя государствами, а уж за ним последовали и непримиримые политические противоречия. С побережья Аттики хорошо был виден поднимающийся со дна моря горб гористого островка, и каждый взгляд в сторону залива наполнял гневом и завистью афинские сердца: поток золота и серебра течет в сторону жалкого островка, а должен впадать в аттические порты! Многие афинские государственные мужи стремились к уничтожению Эгины, но эту голубую мечту нескольких поколений довелось осуществить только Периклу. Надо прямо сказать: ликвидацию островного конкурента, так же как противодействие Спарте, он поставил во главу угла своей внешней политики, ибо знал, что только такая политика встретит одобрение народа. А поэтому Перикл часто публично заявлял: «Мы должны вытащить эгинскую соринку из глаза нашего Пирея!»
Когда в 457 г. до н. э. уничтожались стены купеческого города, мало кто из афинян пожелал вспомнить, что 23 года назад, под Саламином, эгинцы отличились особым мужеством при атаке на персидскую эскадру.
Так, не без участия Перикла навеки погас блеск островного государства. В последующие десятилетия и столетия судьба не жаловала остров, ее удары иногда превращали Эгину в безлюдную дикую пустыню посреди лучезарного моря, того самого моря, хозяйкой которого она некогда была. И все же, какие бы ураганы не проносились над островом, они не смогли полностью уничтожить следы его золотого века. На восточном побережье на поросшем соснами холме и сейчас можно увидеть белые колонны дорической святыни, построенной в последние годы свободы острова. Это один из наиболее сохранившихся во всей Греции древних храмов. Когда-то в нем почитали Афайю — местную богиню плодородия и урожая. Барельефы на обоих треугольных фронтонах здания, изображающие битву мифических героев, относятся к лучшим образцам древнегреческой скульптуры. И если имя Эгины не звучит для нас пустым и мертвым звуком, если оно навсегда вписалось в книгу истории европейской культуры, то это произошло благодаря таким вот великолепным произведениям искусства.
С захватом Эгины афинские успехи не закончились. Весной 456 г. до н. э. флот под командованием Толмида направился к побережью Пелопоннеса. Были разорены принадлежавшие Спарте остров Кифери — святой остров богини любви Афродиты — и верфи в Гифии. Потом Толмид направился на запад, в Ионическое море. Ободренные появлением его эскадры тамошние острова Закинф и Кефаллония вступили в Морской союз. Далее афинский флотоводец вторгся в Коринфский залив, высадился около Сикиона и победил его жителей в сухопутной битве.
Афины находились на вершине своего могущества. Они господствовали над средней Грецией и почти над всем Эгейским морем. Спартанцы не смогли защитить даже Пелопоннес. Влияние Афин простиралось далеко на запад: в союз вошли два ионических острова, договор был заключен с г. Сегеста на Сицилии. Наконец-то были построены и Длинные стены. Кто же теперь осмелится поднять руку на город, владеющий морем, неприступный со стороны суши?
В те же самые годы, вероятно, в 458 г. до н. э., умер в изгнании Фемистокл. Его похоронили на рынке Магнесии в великолепном склепе, который в течении многих веков был предметом гордости города. Но вскоре стали ходить упорные слухи, что склеп пуст: друзья покойного выкрали его прах и тайно погребли в родной земле, в Аттике. И действительно, в Пирее, у самого моря, на скалистом мысу появилось удивительное надгробие в форме алтаря, а на нем — бюст человека с чертами лица, напоминавшими Фемистокла. Правда это или легенда — спорили уже в древности. Одно несомненно: люди правильно указали то место, где должен был покоиться прах строителя Пирея.
Старый миф рассказывает, как некогда владыка морей Посейдон поспорил с богиней Афиной о том, кому из них владеть Аттикой. Победила Афина, подарившая этой земле ее самое большое богатство — оливковое деревце. Потом на многие века сельское хозяйство стало главным источником существования аттических жителей. Только Фемистокл передал страну во власть Посейдона. Благодаря новому порту Афины обратились лицом к морю. Сначала порт дал им богатство, потом — народовластие. Отныне все афиняне были детьми Пирея.
Часть шестая Поражение и мир
Просопитида
Весть о катастрофе в Египте пришла в Афины только летом 454 г. до н. э., хотя уже раньше ходили слухи, что дела там обстоят плохо.
Большая персидская армия двинулась в Египет вес — пой 456 г. Флот, состоявший из трехсот кораблей, главным образом финикийских, плыл вдоль побережья Сирии и Палестины, параллельно движению сухопутных войск. В битве, произошедшей в окрестностях Мемфиса, персы взяли верх. Афиняне и люди Инара оставили Мемфис и сосредоточились в центральной дельте, называвшейся Просопитида. Собственно говоря, это был остров, окруженный со всех сторон рукавами Нила и широкими каналами. В дельту, известную во всем Египте, свозили кости сдохших коров — священных животных богини Хатор. В ее храме на Просопитиде находилось огромное кладбище этих весьма почитаемых реликвий.
Здесь, на плодородной земле, в изобилии водились различные животные. Пока афинские корабли были хозяевами Нила, остров оставался неприступным. В течение полутора лет персы ничего не могли предпринять. Наконец, в июне 454 г. до н. э. они нашли прекрасный выход из положения: отвели воду из большого рукава Нила, в котором стояли афинские триеры. Все они увязли в песке, и командам пришлось их сжечь. Персы перешли на Просопитиду посуху. Фараон и его союзники укрылись в одном из городков. Поскольку помощи ждать было неоткуда, они вскоре сдались с условием, что Инару будет дарована жизнь, а греки свободно покинут Египет. Выбрали дорогу на запад, шли вдоль ливийского побережья в греческие города Киренаики. Это был мучительный путь через безводные и пустынные земли. Афиняне гибли от болезней, голода и жажды, их постоянно атаковали воинственные кочевые племена. Таяли остатки той великолепной армии, которая четыре года назад отправилась освобождать из-под персидского ярма древнюю страну фараонов. После многих месяцев скитаний в Афины вернулась горстка измученных оборванцев. Государственное кладбище за Дипилонскими воротами пополнилось новым надгробием и новой плитой с именами погибших героев.
А еще раньше, ничего не зная о захвате персами дельты, афиняне послали на смену сражавшимся там воинам пятьдесят военных кораблей. Эскадра спокойно вошла в один из нильских рукавов и стала легкой добычей врага. Так закончился египетский поход. В нем погибли 35 тыс. юношей из Афин и других союзных городов. Египет снова стал персидским. Только в труднодоступных болотах дельты еще держались повстанцы под руководством Амиртея.
Коринфский залив
Летом 454 г. до н. э., т. е. в то самое время, когда среди разливов Нила гибель грозила флоту афинян, они потерпели поражение и в самой Греции, на равнинах Фессалии. Туда отправили отряд под командованием прославленного вождя Миронида. Он получил задание восстановить на престоле князя Ореста, изгнанного фессалийскими аристократами. Однако отряд дошел до г. Фарсал, но взять его не смог. Великолепная фессалийская конница не давала афинянам даже носа высунуть из лагеря. Тяжеловооруженные гоплиты не умели с ней сражаться. Отступление Миронида нанесло сильный удар по военному престижу государства.
Когда после известия о неудаче в Фессалии в Афинах узнали о египетской катастрофе, город объял страх: опасались появления персидского флота в Эгейском море. Говорили даже, что теперь-то уж персы заключат союз со Спартой и Коринфом, чтобы раз и навсегда покончить с Афинами. По утверждениям пессимистов, Морской союз переживал последние дни. Паника охватила и простых людей, и серьезных политиков. Никто не мог указать пути спасения. Единственное, что было решено в тех условиях, — перевезти в Афины, на Акрополь, казну Морского союза, ранее находившуюся на острове Делос под защитой бога Аполлона.
Решительные действия персов могли тогда погубить Афины. К счастью, таких действий не последовало. Причина крылась частично в непонимании персами сложившейся ситуации, частично — в неповоротливости, свойственной всем большим государствам. Они охотились на неуловимого Амиртея и дали афинянам возможность не только прийти в себя, но и принять кое-какие контрмеры. Вот когда Перикл показал, что он и в самом деле хороший политик. Если раньше он навлек на государство большую опасность, чрезмерно напрягая его силы, распыляя их на разных фронтах, то теперь поступил разумно и доказал всей Элладе, что мощь Афин, несмотря на поражение в Египте, непоколебима и они способны к наступательным действиям.
Тысяча гоплитов под командованием Перикла выступила в Пегимегарский порт в Коринфском заливе. Со времени заключения союза с Мегарой там стояла афинская эскадра. На ее борту Перикл и его воины направились к Сикиону. Горожане, рассчитывая на свой численный перевес, вступили в бой, но были разбиты и укрылись за городскими стенами. С теми небольшими силами, которыми он располагал, Перикл даже думать не мог об осаде, кроме того, он вынужден был считаться с возможностью прибытия на помощь Сикиону подкреплений из Коринфа и Спарты. Поэтому, удовлетворившись только частичным успехом, стратег поплыл дальше. Города Ахайи, страны на севере Пелопоннеса, были ему дружественны. Здесь Перикл получил подкрепления и отправился еще западнее, за пределы собственно Коринфского залива. Он высадил своих людей на побережье Акарнании и осадил г. Эниады, который располагался на скалистой горе, высившейся над болотистой равниной, и находился в тесных экономических и политических отношениях с Коринфом (именно поэтому Перикл так стремился его захватить). Неприступный город, однако, оказался афинянам «не по зубам», им пришлось свернуть лагерь и отплыть назад, в Пеги. Оттуда войска сухопутным путем вернулись на родину. Основная цель похода была достигнута: государства Пелопоннеса воочию убедились, что, несмотря на временные неудачи, Афины и не думают отказываться от своих великодержавных амбиций.
Периклу блеск полководческой славы был весьма кстати. Раньше он главным образом занимался политическими делами, а командование войсками доверял таким способным и испытанным военачальникам, как Миронид и Толмид. Сам же если и принимал участие в какой-либо кампании, то только в качестве одного из членов коллегии стратегов — этот пост, следуя примеру Кимона, он занимал уже неоднократно. Экспедиция в Коринфский валив была первой, за которую Перикл нес персональную ответственность. Сам факт проведения операции малыми силами и в чрезвычайно критический момент свидетельствовал о Перикле как о хорошем стратеге.
Будни демократии
После похода в Коринфский залив в Элладе на несколько лет воцарился мир. Хотя мирный договор и не был заключен, враждующие стороны не возобновляли военных действий. Годы спокойствия Перикл использовал для укрепления в Афинах демократии, с которой было неразрывно связано его личное положение. Неуклонно приближалось время возвращения из изгнания Кимона, а это грозило полным изменением расстановки политических сил. Не исключалась возможность, что олигархи на какое-то время восстановят свое влияние, а руководители демократов подвергнутся остракизму. Накопленный опыт подсказывал: в государствах, где существуют две сильные партии, а народные массы могут свободно высказываться за одну из них, через определенное время у значительной части голосующих происходит полное изменение политических симпатий. Механизм политических перестановок был очень прост: вину за все неудачи всегда возлагали на партию, находившуюся у власти. От ее соперницы все ожидали чуда. Разумеется, эти надежды не осуществлялись, и тогда взгляды избирателей обращались к противникам правящей группы.
Прекрасно отдавая себе отчет в том, что он уже слишком долго стоит у кормила власти, а ряды врагов и критиков все растут, Перикл видел спасение только в самом тесном сплочении своей политики с широкими массами.
Именно тогда он создал общинные суды, которые быстро и на месте рассматривали все мелкие имущественные и уголовные дела. Такие суды были чрезвычайно удобны для деревенских жителей: они теперь могли не отрываться от хозяйства и не тратить время на поездку и пребывание в городе. Хотя Аттика и невелика по размерам и даже из самой отдаленной ее части можно пешком добраться до Афин за несколько часов, путешествие туда и обратно, ожидание очереди в суде присяжных занимали несколько дней. Аттические же крестьяне, как в общем-то и все афиняне, занимались судебными тяжбами с большим удовольствием. И причины здесь не только в жадности, хотя, конечно, она всегда имела место. Основной причиной нескончаемых процессов являлись родовые и соседские споры — своеобразная вендетта, передаваемая из поколения в поколение.
Кроме того, общинные суды разгрузили тяжеловесную машину народных судов, которые теперь могли полностью сосредоточиться на рассмотрении важных дел (их тоже было более чем достаточно). С некоторых пор от граждан государств — членов Морского союза требовали вести свои дела, в том числе и частного характера, только в афинских судах. Это неслыханное нарушение прав и свобод союзников, естественно, вызвало среди последних сильное недовольство. Они открыто жаловались: «Мы вынуждены приезжать в Афины из самых отдаленных краев даже по пустяковому поводу. Тратим массу времени и денег. Даже само ожидание начала процесса стоит очень дорого. На нас зарабатывают все, кому не лень: хозяева постоялых домов, купцы, разного рода посредники, судебные ораторы, знатоки афинских законов и даже посыльные, ибо мы платим за каждую мелочь и каждый совет. Каждый из нас отдельно вынужден льстить черни, которая здесь является живым правом. Судьям мы униженно подаем руку, хотя многие из нас — люди богатые и благородные. И добро бы еще приговоры были справедливыми! Ведь суды обычно оправдывают демократов и, наоборот, приговаривают к наказанию граждан, подозреваемых в симпатиях к олигархам. Так мы превратились в рабов афинян!»
В Афинах прекрасно знали о подобных настроениях. Однако Перикл и его сторонники решили превратить Морской союз в зависимое от Афин государство. Переход союзников под афинскую юрисдикцию был важным шагом в этом направлении. Отныне можно было вмешиваться во внутренние дела государств — членов союза, карать и награждать их граждан в зависимости от желания афинских властей. Население Пирея и Афин извлекало большие доходы из пребывания иностранцев, а судьи получали дополнительную оплату за счет сумм, затраченных сторонами во время судопроизводства по делам частных лиц.
Одновременно Перикл осуществил реорганизацию флота и войска. Эта реформа также имела политическую направленность. Была создана учебная эскадра в составе шестидесяти кораблей, которые находились в море шесть месяцев. Значительно улучшилась морская и военная подготовка экипажей, но возросли государственные расходы: ранее гребцам и воинам триер жалованье платили только во время боевых походов, теперь же все члены учебной эскадры получали в течение полугода по три обола ежедневно. Экипаж триеры обычно состоял почти из двухсот человек; таким образом, общая сумма расходов была весьма значительной. Но служившие па флоте бедняки с радостью восприняли возможность длительного и стабильного заработка. Из этих же слоев населения набирали отряды лучников. До сих пор в них насчитывалось семьсот человек, теперь же их число увеличивалось, а жалованье приравнивалось к жалованью гоплитов. Конным стрелкам из лука назначили двойное жалованье. Таким образом, реформа изменила характер афинской армии — она стала народной.
Чтобы удовлетворить гордыню и чувство собственной исключительности афинян, Перикл в 451 г. до н. э. ввел закон, по которому полноправным гражданином считался только тот, у кого оба родителя были афинянами. Раньше нередко случалось так, что мать афинского гражданина происходила из другого полиса. Это не считалось зазорным. Мать Кимона, например, была фракиянкой, что не помешало ему достичь самых высоких постов.
Закон не имел обратной силы и, следовательно, не был направлен против Кимона. Причину его появления следует искать в тогдашней демографической ситуации. В столицу Морского союза прибывали массы граждан зависимых городов и купцы из разных стран. Некоторые из них в надежде разбогатеть оставались здесь навсегда. Чужеземцев, живших в Афинах из поколения в поколение, называли метеками. Они имели все обязанности и ни одного из прав граждан. Наплыв чужеземцев, а также контакты во время походов и дальних торговых путешествий привели к тому, что смешанных браков в Афинах становилось все больше. И чем больше реальных выгод и привилегий давала демократия, тем неохотнее она делилась ими с чужаками. Народ смотрел на свое государство как на торговое предприятие, доходы от которого должны служить только ему.
Когда Перикл вносил законопроект на рассмотрение народного собрания, он был уже женат, конечно, на афинянке. Мы даже не знаем имени этой женщины, известно только, что она приходилась ему дальней родственницей и родила Периклу двух сыновей. Старший получил имя деда — Ксантипп, младшего назвали Парал, несомненно в память о той партии, которая в течение долгого времени составляла основу мощи Алкмеонидов; таким образом вождь хотел показать, что он чувствует себя преемником рода матери не только по рождению, но и по политическим взглядам.
Посмертная победа Кимона
Весной 451 г. до н. э. истек срок десятилетнего изгнания Кимона. Будучи предусмотрительным политиком, Перикл предпочел уклониться от новой схватки — ее возможный исход был слишком неопределенным. Ходили слухи, что еще до того, как Кимон вступил на афинскую агору, оба государственных мужа заключили между собой тайный договор. Посредничала при переговорах якобы Эльпиника. Суть соглашения стала ясной, когда после возвращения Кимона были осуществлены существенны изменения в государственной политике: на пять лет заключено перемирие со Спартой, а весной 450 г. Кимон во главе двухсот кораблей отправился в поход против персидских вассалов на Кипре. Перикл же остался в Афинах и должен был направлять их внутреннюю политику. Некоторые следующим образом комментировали новую расстановку сил: «Эти двое поделили между собой власть: Кимон будет предводительствовать войском, а Перикл — народом. Не может быть лучшего доказательства слабости Перикла. А между тем чего он только не делал для привлечения парода на свою сторону! Нет, настоящую славу дают только победы в битвах! Теперь они будут уделом Кимона. Далее: Перикл много лет упорно стремился к уничтожению Спарты и Коринфа. Во имя достижения своей мечты он даже пошел на риск войны на два фронта: против этих государств и Персии. Но теперь ему придется отказаться от плана подчинения Эллады Афинам. Все наши противники получат достаточно времени на восстановление своих сил, в то время как мы истечем кровью в сражениях с персами».
Когда флот Кимона оказался у побережья Кипра, вождь послал шестьдесят кораблей в Египет, па помощь Амиртею, который мужественно сопротивлялся персам в нильской дельте. С оставшимся флотом Кимон приступил к осаде г. Китион, расположенного на южном побережье острова. В нем правил князь Балмелек — верный союзник Персии. Захват Китиона — одного из важнейших городов острова — дал бы в руки афинян важный стратегический пункт, откуда они могли бы осуществить захват всего острова и контролировать морские пути, ведущие в Сирию и Финикию.
В Афинах рассказывали, что в ночь перед выходом флота из Пирея Кимона мучили кошмары. Ему спился пес, лай которого напоминал человеческий голос: «Иди, иди ко мне! Будешь моим другом и другом моих щенят!»
Полководец рассказал о странном сне одному из своих домашних — известному толкователю слов. Тот объяснил скрытый смысл видения: «Такой сон — предвестник твоей скорой смерти. Пес лает па того, кого считает своим врагом, но он обещал стать твоим другом. А когда можно стать другом врага? Конечно, только после его смерти».
Во время осады кипрского города Кимон тяжело заболел. Ожидал самого худшего и потому прямо заявил на военном совете: «Мою смерть сохраните в тайне. Что касается осады, то ее так или иначе придется прервать: у нас мало продовольствия».
Вскоре великий вождь умер. Афиняне отступили от Китиона в полной уверенности, что Кимон, хотя болен и не покидает корабль, продолжает командование. Казалось, поход так и закончится безрезультатно. И вдруг у кипрского городка Саламин — «тезки» славного островка у аттического побережья — афиняне неожиданно столкнулись с персидским флотом. В морской битве персы были разбиты, потерпели поражение и неприятельские солдаты, искавшие спасения на берегу. Можно было бы захватить и весь остров. Именно теперь флоту так нужен был вождь, способный принять смелое решение! Оно имело бы огромное значение для будущего Кипра с его смешанным населением. Финикийские князья правили здесь от имени персидского царя и жестоко подавляли все попытки кипрских эллинов обрести самостоятельность. Последние же, лишенные поддержки со старой родины, не могли противостоять волнам, постоянно набегавшим с востока.
Через тридцать дней отступления из-под Китиона афиняне уже швартовались в Пирее, куда привезли останки своего вождя и известие о двойной победе под Саламином. Это был последний поход афинян и их союзников против персов.
Каллиев мир
После смерти Кимона во главе олигархов встал Фукидид, сын Мелесия. Однако он, хотя и являлся весьма достойным и уважаемым человеком, не имел ни славы, ни богатств покойного. Новый руководитель олигархов не мог противостоять влиянию Перикла, который с этого момента фактически стал владыкой афинского государства, ибо народ всегда голосовал согласно его рекомендациям.
Перикл смотрел на сложившуюся ситуацию следующим образом. Войну с персами надо прекратить, поскольку она на руку злейшим врагам Афин в самой Элладе — Спарте и Коринфу, а они в настоящий момент представляют наибольшую опасность. Поэтому следует отказаться от попыток отнять у персов Кипр и Египет. Как раз теперь, после Саламинской победы, возникла прекрасная возможность начать с ними мирные переговоры. «Царь царей» наверняка уже сыт по горло войной, тянущейся из десятилетия в десятилетие. Он тем более должен стремиться к ее завершению, что в его государстве постоянно вспыхивают то бунты сатрапов, то восстания угнетенных народов».
И Перикл оказался прав в своих расчетах. Действительно, вскоре после возвращения флота с Кипра в Афины прибыли посланцы двух персидских сатрапов, которые действовали с молчаливого согласия самого царя. Задача у послов была весьма деликатной: тайно и неофициально выяснить, склонны ли афиняне приступить к переговорам. Сам царь никогда бы не унизился до прямого обращения, причем первым, с просьбой о мире, а от посланников своих сатрапов он мог отказаться в любой момент и сделать вид, что все происходит без его ведома и согласия. Афинская сторона сразу перехватила инициативу. К царскому двору в далекие Сузы, расположенные восточнее Вавилона, было направлено официальное посольство. Во главе его стоял Каллий. И это не случайно, ибо Каллий в свое время был мужем Эльпиники, сестры Кимона. Афины хотели показать, что заключение мира — воля пе только Перикла и его сторонников, но также людей, близких покойному вождю.
Переговоры привели к заключению весной 449 г. до н. э. мирного договора, который гласил: «Корабли царя персов не будут входить в Эгейское море, для них будут определены пограничные пункты у северного и южного побережья Малой Азии. Сухопутное войско царя не будет приближаться к берегу моря ближе того расстояния, которое конь пробежит в течение одного дня. Афиняне же обязуются не посылать своих воинов на земли персов и не помогать тем, кто осмелится восстать против царя».
По сути дела, договор означал, что персы отказываются от господства над западным побережьем Малой Азии. Однако его формулировка не подрывала авторитета царя и не унижала его. Он не терял своих прав на эти земли. Таким образом, договор вовсе не являлся полной победой афинян. Пришлось отдать и Кипр, на котором жило много эллинов и за который было пролито столько крови. Враждебная Периклу партия получила возможность заявить: «Мы продали персам наших кипрских братьев. И что же получили взамен? Неприятельские корабли и раньше не осмеливались показываться в Эгейском море. Малоазиатское побережье тоже наше, поскольку все тамошние города входят в Морской союз. Договор позорный и невыгодный. Каллий имел наглость его заключить, вероятно, потому, что взял от царя деньги, которые он любит больше, чем родину. Очевидно, посол рассчитывал, что его спасет от ответственности авторитет Перикла. Ведь он знает, как тот ненавидит Спарту: готов отдать все, лишь бы иметь свободные руки в Элладе. Предателя Каллия надо наказать! Покажем Периклу, что он не всевластен!»
Договор мог вступить в силу только после его одобрения народом. Тем временем обвиненный в получении взятки Каллий был вызван в суд, ему грозила смерть. Но речь шла даже не о жизни этого человека. Обвинительный приговор означал бы отклонение договора с персами и полное поражение Перикла. К счастью, олигархи оказались слишком слабы, чтобы добиться в суде, большинство членов которого составляли представители народных масс, вынесения приговора Каллию. Обвинение в коррупции, а следовательно, и в предательстве было с него снято полностью. Суд обнаружил только неточности в счетах посольства и приговорил Каллия к штрафу в размере 50 талантов. Но приговор уже не имел политического значения, поскольку не опровергал правомочности договора. Да и это решение суда благодаря стараниям Перикла было отменено, когда миновало первое возбуждение, связанное с процессом. По инициативе Перикла народное собрание выразило Каллию благодарность за его заслуги, а в память о заключении мира в Афинах был воздвигнут алтарь богини мира Эйрене.
В городе осталась еще одна памятка Каллиева посольства. В его окружении оказался смазливый юноша по имени Пириламп. Честью участия в посольстве он был обязан дружбе с Периклом. Этот молодой человек привез из путешествия на Восток несколько дотоле невиданных в Европе птиц. Они стали предметом всеобщего удивления и зависти. Афиняне особенно восхищались их пышными разноцветными хвостами, а резкие и пронзительные голоса «восточных гостий» доносились из одного конца города в другой. Позднее эти великолепные пернатые стали украшением лучших афинских домов. Враги Перикла, однако, обратили внимание на следующую закономерность: почти все птицы попали в те дома, которые имели прелестных женщин. Сразу пошли сплетни: Пириламп посылает своих птичек в подарок только тем женщинам, расположения которых добивается его достойный приятель.
Супружеская неверность
Нам хорошо известно, что замужние афинянки не пользовались большой свободой: они постоянно находились в отдельной части дома, а в город выходили только в сопровождении домашних. Но некоторые женщины изыскивали массу способов, чтобы обмануть даже самых ревнивых мужей. На стороне последних было, однако, старое суровое право, позволявшее убить любовника жены, схваченного на месте преступления. Вот как защищался один афинянин, обвиненный в подобном убийстве: «Когда я женился, то сначала поступал так, чтобы ни жене не докучать, ни позволять ей слишком много; следил за ней, как полагается. После рождения ребенка я полностью доверился супруге, посвятил ее во все свои дела, полагая, что не может быть более крепкого залога верности. И лучше моей жены не было женщины во всем мире: отличная хозяйка, очень экономная, со всем она управлялась прекрасно. Но смерть моей матери стала началом всех моих несчастий. Во время похорон жену увидел ее будущий соблазнитель. Он выследил служанку, обычно ходившую на рынок за продуктами, сговорился с ней, а потом добрался и до самой госпожи.
Должен тут сказать, что дом у меня двухэтажный, разделенный на мужскую и женскую половины. Жена кормила ребенка сама. Я, чтобы не утруждать ее ежедневным схождением вниз на омовение, поселился на верху, женщины же заняли первый этаж. И так уж получилось, что жена часто отправлялась спать вниз, к ребенку, и я по своей наивности не только ни о чем не догадывался, но даже считал свою жену самой добродетельной женщиной в городе.
Однажды я вернулся домой из деревни раньше, чем предполагалось. После ужина ребенок кричал, был очень беспокоен. Подкупленная служанка специально его дергала, поскольку в доме находился чужой мужчина. Но все это выяснилось уже позднее. Тогда же, ни о чем не догадываясь, я велел жене спуститься вниз и дать ребенку грудь, чтобы дитя наконец успокоилось. Она сначала не хотела, якобы радуясь моему возвращению, а когда я, разгневанный, приказал ей удалиться, устроила скандал: «Так значит мне нужно уйти, чтобы ты привел сюда служанку! Знаю, что однажды, напившись, ты уже приставал к ней!»
Услышав столь нелепое обвинение, я рассмеялся, а жена встала и ушла. Тем не менее, как бы в шутку, она закрыла меня в комнате, а ключ забрала с собой. Не обратив внимания па женские капризы, я сразу же лег и, измученный целым днем работы в поле, мгновенно заснул. Уж рассвело, когда жена поднялась наверх и открыла дверь. На мой вопрос, почему ночью скрипела калитка, коварная женщина ответила: «Погас светильник у изголовья колыбельки. Пришлось идти к соседям за огнем».
Я ничего на это не ответил, убежденный, что так оно и было на самом деле. Мне только показалось странным, что жена накрашена, хотя не прошло еще и тридцати дней, как умер ее брат. Однако и об этом я не сказал пи слова.
Прошло некоторое время, и я уже стал забывать о случившемся. Но вот однажды на улице ко мне подошла старуха. Как оказалось, ее послала женщина, с которой любовник моей жены сожительствовал ранее. Когда оп перестал ее навещать, разгневанная и оскорбленная женщина начала следить, куда он ходит теперь. Подосланная (но старуха подстерегла меня около моего дома и говорит: «Не хочу совать нос в чужие дела, но знай: человек, покусившийся на твою честь и честь твоей жены, является также и нашим врагом. Порасспрашивай свою служанку — и все узнаешь. Его зовут Эратосфен, и живет он в доме Оя. Соблазнил не только твою жену, но и многих других. Такое уж он избрал себе ремесло».
Сказав так, она быстро удалилась, а я, как вкопанный, остался стоять посреди улицы. Мне сразу все вспомнилось: и как жена закрыла меня в комнате, и как скрипела калитка, и как она была накрашена. Едва вернувшись домой, я приказал служанке идти со мной в город; привел ее в дом одного из моих родственников и только там сказал: «Знаю все, что делается в доме. Выбирай: либо тебя высекут и навсегда отправят на работу на мельницу, либо скажешь правду и будешь прощена. Только не ври, говори все как было!»
Девушка сначала все отрицала, кричала, что я могу делать с ней что хочу, но она ничего не знает и ничего не скажет. Но когда я упомянул имя Эратосфена, сразу испугалась. Упала мне в ноги, и я еще раз обещал ей прощение. Только тогда она рассказала, как тот человек приблизился к моей жене после похорон и к каким уловкам прибегал, чтобы привлечь ее внимание, как во время праздника Фесмофорий, когда я был в деревне, жена ходила в храм вместе с его матерью. Когда она закончила, я ей пригрозил: «Ни одна живая душа не должна знать о происшедшем, иначе наш договор потеряет силу. И еще я хочу, чтобы ты мне все показала. Слова ничего не стоят, я хочу сам убедиться в измене».
Четыре или пять дней спустя уже после захода солнца я встретился со своим другом и родственником Состратом: он возвращался с поля. Зная, что в такое позднее время у него в доме не водится еды, я пригласил его к себе. Сытно перекусив, Сострат отправился к себе, а я лег спать. Разбудил меня голос служанки: «Эратосфен у госпожи!»
Я велел ей сторожить ворота, а сам потихоньку выскользнул на улицу и начал обходить разных знакомых. Иных застал дома, других нет. Во всяком случае собрал всех, кого только мог. В ближайшей лавке мы взяли факелы и вошли в дом. Служанка открыла нам ворота. Те, которые вошли первыми, увидели Эратосфена лежащим с женщиной, а остальные — уже стоящим на постели и абсолютно нагим. Я ударил его — он упал. Мы стянули ему руки назад и крепко связали. И тут я крикнул: «Что, захотелось испоганить мой дом?» А он только умоляюще лепетал: «Плохо, плохо я сделал, признаю. Не убивай меня! Возьми деньги, дам тебе сколько хочешь!» Он скулил, а я только и ответил: «Не я тебя убью, а законы нашего города, которые ты, проклятый распутник, нарушил. Ты опозорил меня, мою жену и детей!»
Так он нашел ту судьбу, которую законы нашего города уготовили людям, совершающим подобные преступления. Эратосфен вовсе не был схвачен на дороге, как утверждают мои обвинители, и не искал спасения у домашнего очага, да это и не было возможно, коль скоро руки у него были связаны, а я его крепко держал»[32].
Дело об убийстве Эратосфена слушалось через 30 лет после смерти Перикла, но подобные случаи имели место и при нем, и ранее. В Афинах издавна действовал закон, позволяющий оскорбленному мужу самому, без суда, на месте свершить правосудие, лишь бы при этом присутствовали свидетели. И если Перикл действительно соблазнял замужних женщин, как упорно и повсеместно утверждали в Афинах, то он должен был бы соблюдать чрезвычайную осторожность не только для сохранения своего доброго имени.
Всегреческий конгресс
Эллины с радостью встретили весть о заключении мира с персами. Только в Спарте и Коринфе она могла возбудить страх: теперь Афины обрушатся на них всей своей мощью. Но даже и там отдавали себе отчет в том, что в истории Эллады наступил великий момент, ибо кровавое противоборство с Персией длилось уже полвека, с момента восстания в Милете. Оно заполнило жизнь двух поколений и закончилось, что бы ни говорили враги Перикла, успехом, превосходившим самые смелые мечты бойцов под Марафоном и Фермопилами. Кто бы мог подумать тогда, когда бесчисленные полчища Ксеркса, подобно вышедшей из берегов реке, затопили Беотию и Аттику, а воины на кораблях у Саламина видели дымы горящих Афин, что через 30 лет «царь царей» согласится уступить часть своих земель и примет унизительное для него условие не посылать кораблей в Эгейское море.
Но самая большая радость охватила жителей городов, входивших в Морской союз. Целью его существования была война с Персией. Поэтому, создавая союз, греческие города обязались покрывать его военные расходы. Со временем, когда Афины крепкой рукой взяли бразды правления, взносы союзников превратились в обязательную дань, взыскиваемую афинянами со всей суровостью. Пока длилась война, все терпели подобное положение как вынужденную необходимость: попыток выйти из союза было сравнительно немного. Теперь же, после заключения мира, выплата фороса утратила всякий смысл. Сложившуюся ситуацию понимали следующим образом.
Конечно, союз был создан «на вечные времена» и может, следовательно, продолжать свое существование. Мало ли в Элладе союзов, возникших в далеком прошлом и существующих только для того, чтобы вместе чтить божества и заботиться об их святынях. Однако нет никакого смысла платить взносы, да еще такие высокие. К тому же у союза, несмотря на все траты за 30 лет, и так накопилась огромная сумма в 5 тыс. талантов. Коль скоро отпала необходимость в вооружении, ее должно хватить на века. На что пойдут эти деньги? Разве что на жертвы бессмертным богам, приносимые для общей удачи.
Афинянам трудно было ответить на столь весомые доводы. Договор с персами превращался одновременно в могилу Морского союза, являвшегося фундаментом афинской мощи. Перикл прекрасно осознавал опасность — он знал о настроениях союзников. Все считали, что после заключения мира наконец-то наступят перемены к лучшему, ждали награды за долгие годы лишений. Нельзя было не учитывать подобных настроений, одновременно не упуская из внимания и того, что отказ Афин от верховенства в союзе был бы для них политической и экономической катастрофой.
Весной 449 г. до н. э., почти сразу после утверждения договора с персидским царем, по предложению Перикла афинское народное собрание приняло решение: в следующем административном году (т. е. в 449/448) взносы в казну союза взиматься не будут. Перикл явился инициатором еще одного постановления, вызвавшего много толков по всей Элладе. Оно гласило: «Наши послы отправятся во все эллинские государства Европы и Азии. Послов будет двадцать, и изберут их из числа самых достойных мужей старше 50 лет. Пятеро из них посетят города Азии и острова от Лесбоса до Родоса, еще пятеро — города на фракийском побережье и у проливов вплоть до г. Византии. Третья пятерка завезет наше послание в города Беотии, Фокиды, Пелопоннеса и в те, что расположены на побережье Ионического моря. И наконец, четвертая пятерка объедет города Евбеи, Фессалии и соседние края. Послы будут просить большие и малые государства, чтобы в установленное время они прислали своих представителей в Афины. Народ афинский и совет пятисот собирают всегреческий мирный конгресс. Он будет обсуждать три вопроса, которые одинаково волнуют всех эллинов: во-первых, восстановление разрушенных персами святынь. Во-вторых, выполнение обетов, данных бессмертным богам в то время, когда эллины защищались от захватчиков. В-третьих, безопасность на морях, чтобы все могли плавать без страха.
Послы также дадут торжественное обещание в том, что для осуществления трех этих задач афиняне предоставляют 5 тыс. талантов из казны Морского союза».
Созыв конгресса был весьма ловким политическим кодом. Сам факт обращения Афин ко всему греческому миру являлся демонстрацией их значения: они победили персов, а значит, имеют право руководить другими и принимать решения большой важности.
Огромные деньги, уже лежавшие в сокровищнице, делали программу будущего конгресса совершенно реальной. Правда, легко можно было подсчитать, что 5 тыс. талантов не хватит для осуществления всех намерений, например, постоянное патрулирование моря потребовало бы особенно значительных доплат. Поэтому государства — участники конгресса должны были на будущее определить какие-то способы финансирования совместных действий. Если бы они согласились платить взносы (сумма была бы весьма незначительной из-за большого количества участников), то тем самым признали бы афинскую гегемонию над всем греческим миром.
Было, однако, ясно, что многие государства вообще не примут приглашения. В частности, не вызывала никаких сомнений позиция Спарты и Коринфа. Перед Афинами они не склонятся и никоим образом не признают их первенства. Перикл предвидел и такой оборот дела — он даже отвечал его намерениям. В таком случае можно было заявить, что завистливая Спарта помешала осуществить прекрасное и одинаково полезное для всех дело. Движимая враждой к Афинам, она не позволила эллинам выполнить обещания богам и восстановить святыни. На Спарту и ее самолюбивых и напыщенных жителей падет ответственность за гнев богов, который наверняка обрушится на Элладу, и за отсутствие безопасности на море.
Действительно, Спарта и Коринф, а также зависимые от них государства Пелопоннеса решительно отказались от участия в конгрессе, и Перикл немедленно приступил к осуществлению второй части своего плана. В Афинах его сторонники доказывали: «Коль скоро так глупо и недальновидно была, отвергнута протянутая нами рука, поступим иначе. Программу конгресса мы выполним без чьей-либо помощи, ибо она угодна богам и выгодна для греков».
Летом 449 г. до н. э., всего через несколько дней после получения известия об отрицательном ответе из Спарты, Перикл представил народному собранию проект нового постановления: 5 тыс. талантов из сокровищницы Морского союза надлежит предназначить на восстановление наших афинских святынь, разрушенных персами». Фукидид яростно напал на проект: «Союзники справедливо жалуются на нас. Пять лет назад мы пошли на хитрость, чтобы добиться перевозки сокровищницы с Делоса в наш город. Тогда мы говорили, что персидские корабли вот-вот могут появиться вблизи острова и деньги будут в полной безопасности только за афинскими стенами. После египетской катастрофы такое объяснение даже казалось правдоподобным. И вот теперь Перикл показывает всем лживость наших объяснений. Мир заключен, и не может быть и речи о какой-либо опасности. Справедливость требует возвратить союзную казну на Делос. Но вместо того чтобы так поступить, Перикл предлагает афинянам просто присвоить деньги. Наносит обиду и унижает наших друзей. Явно показывает, что наше правление — не что иное, как тирания. Деньги, которые союзники выплачивали, отказывая себе буквально во всем, для совместной защиты от захватчиков, мы хотим обратить на украшение нашего города. Поступаем, как кокетка, обвешивающаяся золотом и драгоценными камнями!»
Перикл отвечал своим оппонентам: «Мы не обязаны никому давать отчета в расходовании этих денег. Мы их честно заработали, взвалив на свои плечи основную тяжесть войны. Мы отдавали кровь, а они — только золото. Сейчас, когда город надежно защищен стенами, надо обратить деньги на божественные цели, которые обеспечат нам одновременно и славу, и выгоду. Большое строительство позволит расцвести всем искусствам. Сотни и даже тысячи людей получат работу. Разовьются ремесла. Святыня будет не только украшать, но и кормить наш город».
Такие слова гораздо больше убеждали народ, нежели абстрактные рассуждения олигархов о справедливости. Народное собрание приняло представленный Периклом проект, а потом и решение о том, что начиная со следующего административного года, т. е. с 448/447, союзники снова должны выплачивать форос, причем в том же размере, что и раньше. Это объяснялось неудачей конгресса. Аргументация была простая: «Коль скоро государства Эллады не хотят обеспечивать безопасность на морях, эта обязанность ложится на Афины и их союз. И хотя сейчас исчезла угроза со стороны персов, в море могут появиться пираты. Любое соседнее государство также может захотеть ограбить наши купеческие корабли. Поэтому надо держать в постоянной боевой готовности флот и патрульные эскадры, что требует больших затрат».
Перикл отдавал себе отчет в том, какая буря возмущения поднимется среди союзников. Некоторые из них захотят выйти из союза. Такое случалось и прежде, когда еще шла война и его существование было абсолютно необходимо. Теперь же получалось, что тяжело добытый мир принес мизерную выгоду: год перерыва в выплате дани.
Как бы то ни было, цель была поставлена — господство над Морским союзом. Каждый год принимались новые решения, ставившие союзников в полную зависимость от Афин. Лучше всего об этом свидетельствовало распоряжение, разосланное всем городам союза в том же или в следующем году. Отныне союзникам под страхом сурового наказания запрещалось чеканить собственную серебряную монету и вообще пользоваться какими-либо серебряными деньгами, кроме афинских. Везде вводились аттические меры веса и длины. Право на собственную монету было символом государственной независимости. Отобрав у союзников это право, Афины показали, что считают их своими подданными.
Афина Лемносская
В 447 г. до н. э. Перикл отправился на Херсонес. Плыл не один, а в сопровождении почти тысячи афинян, которые остались там в качестве колонистов. На Херсонесе они получили наделы земли, или клер, от которого и произошло их название — клерухи. Жили на чужбине, сохраняя афинское гражданство и являясь как бы передовым отрядом афинян на подступах к Черному морю.
Основание клерурхии на Херсонесе преследовало еще одну цель. Эллинов, живших здесь уже в течение ста лет, со времени Мильтиада Старого, постоянно атаковали их соседи — фракийцы. Новые поселенцы закрепляли греческое присутствие. На всякий случай Перикл по примеру Мильтиада перегородил полуостров стеной. Поскольку поселенцы заняли часть сельскохозяйственных угодий, херсонесцам снизили размер их ежегодного взноса в казну Морского союза; принцип этот афиняне отныне постоянно применяли в тех государствах, на чьих землях они устраивали свои клерухии. Так Перикл Алкмеонид принял наследство, которое оставили Афинам на — Херсонесе род Филаидов, Мильтиад и его преемники.
В то же самое время колонии были основаны на островах Имброс и Лемнос. Толмид высадил тысячу клерухов на Евбее и пятьсот на Наксосе. На Андрос их отправилось более двухсот. Немного позднее в местность Брея на фракийском побережье были посланы тысяча человек, но они основали не клерухию, а отдельное государство, впрочем полностью зависимое от Афин. До наших дней сохранилось выбитое на мраморной плите установление народного собрания об основании колонии Брея. Вот его основные положения: «Для раздела земли будут избраны десять человек, по одному от каждой филы. Демоклид, по чьему предложению создается колония, получает для осуществления этой задачи самые широкие полномочия. Священные округа, уже существующие на территории будущей колонии, сохраняются; нельзя, однако, создавать новых. Во время праздника. Великих Панафиней, т. е. летом каждого года, колонисты из Бреи будут присылать в жертву Афине одного быка и полный воинский доспех. Еще одну жертву они принесут во время Дионисий. Если на колонию нападут враги, то помощь ей окажут соседние города, входящие в Морской союз. Воины, ныне находящиеся за пределами страны, также могут отправиться в Брею, но сделают это не позднее тридцати дней после окончания их службы. Колонисты должны выехать на новое местожительство в течение тридцати дней со дня принятия постановления. Затраты на путешествие им возместит по прибытии на место сопровождающий их чиновник».
К основному тексту было добавлено очень важное приложение: колонистами могут стать только представители двух самых бедных групп граждан[33].
Постановление народного собрания, таким образом, указало причины переселенческой политики: Аттика была перенаселена. Предоставление земли и работы ее жителям диктовалось экономической необходимостью и вместе с тем увеличивало популярность Перикла как настоящего друга народа, заботящегося прежде всего о неимущих.
Не везде афинские колонисты продержались долго. Даже те из них, кого пощадили войны и перевороты последующих десятилетий, позднее растворились в массе аборигенов. Память о них сохранилась только благодаря великим произведениям искусства. Так, выезжавшие на Лемнос клерухи захотели обеспечить помощь и благорасположение покровительницы города и своей новой родине. Сложились и заказали мастеру Фидию бронзовую скульптуру Афины, которая была установлена с левой стороны от входа на Акрополь. Сохранилась ее копия: богиня изображена молодой девушкой в ниспадающем складками пеплосе, волосы перевязаны широкой лентой. Свой шлем Афина сняла и держит его в правой руке, левая покоится на древке копья. Юное прекрасное лицо спокойно и доброжелательно. Такой ласковой и доброй покровительницей, к которой в любых случаях жизни можно обратиться с покорной просьбой и доверчивой мольбой, хотели видеть хозяйку Акрополя покидавшие ее землю афиняне. И хотя уже прошли века с тех пор, как умерли последние почитатели ее культа, никогда не будет недостатка в людях, преклоняющихся перед красотой Афины, прозванной Лемносской.
Коронея
Пока действовало пятилетнее перемирие со Спартой, Афины могли безнаказанно угнетать своих союзников. Правда, оба государства не скрывали взаимной вражды. Спартанцы недвусмысленно показывали, что они не намерены отказываться от своего влияния в Греции. И вот случилось так, что в те же годы святыню в Дельфах захватили фокеяне — немногочисленный разбойничий народ, как и все горцы, жадный до богатств, собранных в храме Аполлона. Правившая Дельфами жреческая олигархия немедленно обратилась за помощью к спартанцам. Те выгнали фокеян и преспокойно вернулись на Пелопоннес. Фокеяне же в свою очередь обратились за помощью к афинянам, с которыми их связывал союзный договор. Сам Перикл во главе афинских войск вошел в Дельфы и снова отдал их в руки фокеян. И хотя дело не дошло до непосредственного столкновения двух эллинских «сверхдержав», Афин и Спарты, это был первый грозный предвестник надвигавшейся бури.
Тем временем афинянам пришлось столкнуться еще с одним противником. Со времени битвы под Энофитами, т. е. уже в течение десяти лет, они правили Беотией. Благодаря афинской поддержке к власти во всех тамошних городах пришли демократы, беотийские олигархи утратили всякое влияние, а некоторым из них пришлось отправиться в изгнание. Афиняне верили, что такая система обеспечит им благорасположение беднейшего населения края. Они жестоко ошиблись. Беотяне восприняли демократию как нечто, навязанное извне, как свидетельство унизительной зависимости от чужой держады. Афинянам были враждебны не только местные олигархи, но и средние слои. Возник широко разветвленный заговор, в который оказались вовлеченными многие греческие государства, а его нити держали в своих руках спартанцы. Прекрасную организованность заговорщики показали летом 447 г. до н. э., когда одновременно в нескольких городах Беотии произошли перевороты. При поддержке всего населения демократия была ликвидирована и восстановлено прежнее устройство.
Перикл сразу понял: переворот — дело не отдельной группы лиц, а большинства населения. Поэтому он не настаивал на немедленной интервенции. Во время дебатов в совете и народном, собрании его аргументы могли бы быть таковы: «Афины никогда не были и не являются сухопутной державой. А Беотия — край многолюдный и богатый: ее города без всякого труда выставят тысячи воинов. Поэтому поход надо хорошенько подготовить и осуществить его только тогда, когда выяснится то, что нас беспокоит больше всего: в чем причина антиафинских выступлений сразу в стольких городах?»
Но прославленный вождь Толмид придерживался иного мнения. Его аргументы тоже были весьма убедительными: действовать надо быстро, пока новая власть в Беотии еще не окрепла и восставшие города не получили помощь извне. Толмид объявил набор добровольцев для беотийского похода, и вскоре был собран отряд в тысячу гоплитов из представителей самых знаменитых афинских родов. К ним присоединили воинов, прибывших из некоторых городов Морского союза. Перикл резко возражал против авантюры, вплоть до самого последнего момента предостерегая нетерпеливых: «Вы можете пренебречь моим мнением, но наверняка ничего не потеряете, если ненамного отложите поход. Как известно, время — лучший советчик».
Увы, Перикл не убедил народ, уверенный в своем могуществе. Отряд Толмида выступил в Беотию. Сначала казалось, что смелое предприятие увенчается полным успехом. Был взят один из главных центров восстания — Херонея, в ней разместился афинский гарнизон. Афиняне надеялись, что захват Херонеи остудит воинственный пыл других городов, и, поскольку уже наступила осень — плохое время для ведения военных действий, Толмид направился в Аттику.
Мрачная тайна окружала все, что было связано с маршем через беотийские равнины. Поговаривали о каких-то злых предзнаменованиях. Одни утверждали, что вождь полностью ими пренебрег, другие — что он неправильно их истолковал. Причины случившегося искали и во враждебности беотийских богов. В общем, до Афин добрались немногие, да и те были склонны к преувеличениям, чтобы как-то оправдать поражение.
В действительности случившееся несчастье можно легко объяснить. Неприятель ударил по растянувшейся на марше афинской колонне неожиданно и с большим перевесом сил. Произошло это под Коронеей, куда собрались не только беотяне, но и жители расположенного поблизости острова Евбея. Здесь афиняне также правили твердой рукой, поддерживая демократов и изгоняя олигархов. Несколькими месяцами раньше именно Толмид разместил на Евбее сотни клерухов, что вызвало на острове взрыв негодования. Под Коронею прибыли и фокеяне — недавние союзники Афин, что явилось ярчайшим свидетельством всеобщей ненависти, питаемой к афинской власти жителями средней Греции. К месту битвы в полной тайне подошли тысячи людей из разных местностей — это лишний раз доказывало разветвленность и прекрасную организацию заговора.
Из тысячи афинских гоплитов не спасся никто. Многие погибли, некоторые попали в плен. На поле боя пал и сам Толмид. Среди убитых был Клиний — родственник Перикла, двух осиротевших мальчиков погибшего Перикл взял в свой дом. Старшего из них звали Алкивиад.
На афинском государственном кладбище за Дипилонскими воротами появилась еще одна братская могила. Первые слова надписи, выбитой на, надгробной плите, гласили: «Несчастные! Вступив в страшное противоборство в безнадежной битве, по воле богов вы отдали свою жизнь. Ибо вас погубила не вражеская сила, а расчетливый удар одного из небожителей»[34].
Толмиду и его прорицателю позднее в Афинах были поставлены памятники. Тем самым государство подтверждало; не они отвечают за поражение, его хотели боги. Такое объяснение, хотя и спасало честь афинян в их собственных глазах, не повлияло на дальнейшее развитие событий. Афинское господство над Беотией рухнуло, а это в свою очередь повлекло за собой потерю Фокеиды и края локров. Перед лицом» такой мощной волны ненависти, поднявшейся в средней Греции, Перикл даже не думал о применении силы. Он понял: Афины слишком слабы, чтобы одновременно господствовать на суше и на море. Второе он считал предпочтительным. Надо сосредоточить все силы на том, чтобы государства Морского союза не воспользовались благоприятной ситуацией и не оторвались от Афин. Но что делать с Беотией? Города края могут вступить в союз со Спартой, а срок перемирия истекает через несколько месяцев!
В сложившейся ситуации Перикл решился на заключение договора с беотянами, который признавал их полную независимость. Взамен получил немногое: на родину вернулись афиняне, взятые в плен под Коронеей.
Евбея
Тревожные предчувствия Перикла оправдались — события в Беотии оказали влияние на позицию государств союза. Вспыхнуло восстание на Евбее — богатом острове, отделенном от Аттики и Беотии только узким проливом. Перикл отправился туда летом 446 г. до н. э., но едва он ступил на остров, как пришла весть о новой катастрофе: от Афин отпала Мегара, вступившая в сговор с Коринфом и Сикионом. Афинские гарнизоны были повсеместно вырезаны, спаслись лишь те, кто бежал в порт Нисея. Возникло подозрение, что спартанцы готовятся к нападению на Аттику.
Пришлось немедленно вернуться в Афины вместе с войском, оставив пока Евбею в покое. В Мегару были немедленно отправлены афинские отряды из трех фил под командованием Андокида. Когда войско добралось до Пег, пришло известие, что спартанцы уже в Аттике. Андокид и его люди оказались в ловушке. К счастью, один мегарец по имени Питион провел афинян на родину окольной дорогой, через Беотию. С этого времени он жил в Афинах. Когда Питион умер, спасенные им воины поставили на его могиле надгробную плиту, сохранившуюся до наших дней, с надписью следующего содержания: «Под этой плитой покоится прах славного мужа — Питиона из Мегар. Семь человек прошил он копьем, семь копий сломал в их телах. Прославился сам и прославил свой род. Сей муж спас воинов трех афинских фил, проведя их из Пег через Беотию в Афины. Благодаря ему Андокид пленил 2 тыс. человек. Никого из живущих па земле он не обидел и ушел в царство теней, признанный всеми весьма счастливым. Филы же эти такие: Пандиоп, Некроп и Антиох»[35].
Спартанской армией, вторгшейся в Аттику в 446 г. до н. э., командовали молодой царь Плистоанакт и его советник Клеандрид. Спартанцы дошли до Элевсина, опустошили некоторые районы и сразу же отступили. Это вызвало в Спарте подозрение, что афиняне подкупили царя. Так же думали и в Афинах. Когда Перикл представил народному собранию финансовый отчет за прошедший год, то по поводу расходования суммы в десять талантов он коротко сказал: «Деньги истрачены на весьма важное дело».
Такое объяснение сочли вполне достаточным, и никто не потребовал дополнительных разъяснений. Быть может, именно это заявление спартанцы и расценили как доказательство вины обоих военачальников. Молодой царь был наказан высоким денежным штрафом. Поскольку он не мог его заплатить, то отправился в изгнание. Клеандрид предусмотрительно бежал в Италию еще до начала судебного разбирательства, его заочно приговорили к смерти. Но обвинение в измене явилось результатом либо клеветы, либо недоразумения. Причина отступления из Аттики объяснялась просто: афиняне скрылись за своими стенами, которые при существовавших тогда осадных приспособлениях были неприступными.
Хотя Аттике грозило новое спартанское нашествие, Перикл не мог дольше задерживаться на родине. Он должен был подавить восстание на Евбее, где укрепились враждебные афинянам олигархи. Поэтому поход состоялся, несмотря на угрозу вторжения спартанцев. Перикл вел с собой 50 кораблей и 5 тыс. гоплитов. Только теперь стало ясно, сколь правильным и дальновидным было решение заключить договор с беотянами, хотя раньше, вероятно, многие критиковали своего руководителя за излишнюю уступчивость. Города Беотии строго соблюдали нейтралитет. Знаменательно, что еще раньше беотяне пропустили через свои земли отряд Андокида, отступавший из-под Мегары. Теперь же они не оказали никакой поддержки жителям Евбеи, всего год назад пришедшим им на помощь под Коронеей, и безразлично взирали на то, как на другой стороне пролива афинские войска захватывают один город за другим. Правда, только один из них (Гестея) был полностью очищен от жителей и передан афинским колонистам — наказание за уничтожение горожанами экипажа корабля, случайно попавшего в их руки. Зато другие города острова, например Халкида, лишь потеряли часть своих земель. Они также должны были остаться в Морском союзе, преобразовать свой политический строй в соответствии с афинскими требованиями и заключить договор, регулирующий их отношения с сувереном. Выбитый на мраморных плитах текст договора с Халкидой сохранился до наших дней. Все жители этого крохотного государства должны были принести присягу такого содержания: «Ни словом, ни делом, ни с помощью какого-нибудь коварства не отступлю от афинского народа и не пойду за отступником. Если кто-нибудь задумает измену, то я сообщу об этом афинянам. Буду платить установленную дань. Буду по мере моих сил наилучшим и самым честным образом исполнять обязанности союзника. Буду помогать афинскому народу и сражаться с его врагами. Буду всегда послушен афинскому народу».
Каждому мужчине города, не принесшему присяги, грозили потеря гражданских прав и конфискация имущества. Одно из дополнительных постановлений предписывало отправить в Афины заложников, в другом же говорилось следующее: «Жители Халкиды могут подвергать своих граждан суду точно так же, как афиняне своих, за исключением тех случаев, когда им грозят изгнание, смерть или лишение гражданских прав. Эти дела будут рассматриваться в самих Афинах».
Нельзя было яснее показать зависимость жителей Халкиды. Со своей стороны, афинский совет и судьи от имени всего народа также должны были принести присягу: «Не буду изгонять жителей Халкиды и не разрушу их города. Не обижу никого из тамошних людей, не приговорю их к изгнанию или тюремному заключению и никого из них не убью. Без согласи афинского народа не отберу имущества ни у одного человека, не подвергшегося суду. Не накажу ни всех в целом, ни отдельного человека без решения суда. Когда из Халкиды прибудет посольство, поставлю его перед советом и народом в течение десяти дней»[36].
Подобный договор был заключен и с Эретрией. Таким образом полностью восстанавливалось господство над Евбеей, что имело для Афин огромное значение. Этот большой, густо заселенный и плодородный остров являлся житницей Аттики, и в случае его откола от Афин восточному побережью полуострова грозила бы постоянная опасность.
Но почему же спартанцы не пришли Евбее на помощь? Почему не оттянули на себя афинские войска, напав на Аттику? На то было несколько причин. Прежде всего спартанцы правильно рассудили, что ничего не смогут сделать, поскольку афиняне уклонятся от битвы и укроются за стенами своего города. Во-вторых, дело о «подкупе» царя вызвало в Спарте правительственный кризис. Среди влиятельных лиц было много сторонников изгнанника. Никто также не спешил встать во главе нового похода, чтобы в случае неудачи не навлечь на себя тех же обвинений, которые погубили несчастного. И наконец (и это, наверное, самое важное), в Спарте уже зрела мысль о том, что самое разумное — заключить с афинянами мир на основе раздела сфер влияния. Уход последних из Беотии ясно показывал, что аттическая республика не стремится стать сухопутной державой, а этого в Спарте опасались больше всего. Оставив Евбею на произвол судьбы, Спарта дала понять: она не собирается вмешиваться в дела Афинского союза и предоставляет ему право господствовать на морях.
Тайные переговоры между обоими государствами, очевидно, велись уже во время похода Перикла на остров. Под конец 446 г. до н. э. в Спарту отправилось официальное посольство в составе десяти человек. В их числе были Андокид и Каллий. Переговоры завершились заключением мира сроком на 30 лет, т. е. на период жизни целого поколения. В мирном трактате говорилось, что афиняне отказываются от всех земель и городов, которые они захватили или присоединили к себе на Пелопоннесе. Обе стороны обязались не принимать в свои союзы государств — перебежчиков. Государства, до сих пор не вступившие ни в один из союзов, могут сделать это по своему усмотрению. Остров Эгина получит определенную автономию. Юрисдикция данного трактата не распространяется на Аргос, но он может заключить с Афинами отдельный договор. Во время действия мирного договора все споры будут решаться путем переговоров или передаваться на рассмотрение третейского суда.
Парфенон
Большое строительство, начатое в Афинах еще до заключения мира, после 446 г. до н. э. достигло небывалого размаха. Таким образом, осуществлялась одна из тех целей, ради которых Перикл несколькими годами ранее намеревался созвать всегреческий конгресс — восстановление разрушенных персами святынь. Правда, сначала в Афинах думали, не оставить ли Акрополь в том виде, в каком его застали сразу после ухода персов — в развалинах и пепелищах. Пусть и будущие поколения увидят варварство захватчиков! Позднее, однако, решили: надо восстановить жилища богов, сделать их еще краше. Созданные тогда шедевры известны ныне всему миру.
Еще до начала работ на Акрополе в самом городе, рядом с агорой, была воздвигнута святыня Гефеста — покровителя кузнецов и ремесленников. Она стоит и поныне, являясь наиболее сохранившимся древним храмом во всей Греции. Тот же самый архитектор, к сожалению, неизвестный нам, но имени, вскоре построил еще три святыни: бога войны Арея в Афинах, бога моря Посейдона на мысе Суний и богини Немесиды в Рамнунте, в глубине Аттики.
Зато мы знаем, что строителей храма Деметры в Элевсине — месте тайных обрядов — звали Коробий и Писаний.
Главной строительной площадкой на многие годы стал сам Акрополь. Сначала начали возводить храм Девы Афины — покровительницы города, или Парфенон, под руководством зодчих Иктина и Калликрата, вместе с которыми работал и скульптор Фидий. Он создал для святыни статую богини из золота и слоновой кости. Ее высота в несколько раз превышала человеческий рост. Вторая, бронзовая, статуя еще больших размеров, достигавшая в высоту 16 м, была воздвигнута Фидием перед входом в святыню. Эту богиню звали Афина Промахос, т. е. Защитница. Она как бы приветствовала всех поднимающихся на холм, а острие ее копья можно было различить издалека, даже с кораблей, приближавшихся к порту. Фидий и его ученики также создали фриз, бегущий вдоль внешней стороны стен святыни. Его барельефы представляли процессию, которая во время ежегодного праздника Панафиней поднимается из города на Акрополь, чтобы преподнести богине драгоценные дары.
Строительство Парфенона было закончено в 438 г. до н. э., хотя мелкие работы продолжались и далее, и сразу же началось возведение великолепного входа на Акрополь. Он представлял собой комплекс зданий и ворот, носивший название Пропилеи. Архитектора звали Мнесикл, а строительство прервали в 432 г. до н. э., так и не завершив начатого.
У южного склона Акрополя по инициативе самого Перикла — ученика композитора и музыкального теоретика Дамона — соорудили здание, называвшееся Одеон и предназначенное исключительно для музыкальных, инструментальных и вокальных выступлений. Оно представляло собой зал четырехугольной формы с крышей, напоминавшей персидский шатер. Очевидно, в те же годы рядом с Одеоном начали возводить каменный театр, вместо старого, деревянного.
Как и предвидел Перикл, большое строительство дало работу тысячам людей — свободным и рабам, что способствовало экономическому оживлению и расцвету ремесел по всей Аттике. Затраты не очень обременяли казну, поскольку афиняне без особого смущения черпали деньги из сокровищницы Морского союза.
Частично сохранились счета строительства Парфенова, Пропилей, а также создания статуи Афины в самой святыне. Их выбили на мраморных плитах и выставили на всеобщее обозрение на Акрополе, чтобы каждый гражданин мог проверить и подсчитать, сколько и на какие цели затрачено, а также кто конкретно несет ответственность за израсходованные суммы. Открытость государственных счетов должна была предотвратить финансовые махинации.
К сожалению, до наших дней дошла только часть надписей, да и то в очень плохом состоянии, поэтому трудно восстановить точную смету работ и сделать какие-либо выводы. Зато весьма поучителен анализ расходов строительства святыни Эрехфейон, также на Акрополе, в 409 и 408 гг. до н. э. Из него следует, что из семидесяти одного предпринимателя и рабочего, непосредственно занятых на строительстве, двадцать были афинскими гражданами, тридцать пять — метеками, шестнадцать — рабами; все они получали одинаковую плату за однотипную работу. Вероятно, так же обстояло дело во время строительства храмов и при Перикле.
Часть седьмая Аспазия и мудрецы
Философ учит гетеру
Олимпиец достиг уже почти 50 лет. Он владел Афинами, влиял на судьбы всей Эллады, но не было покоя в его собственном доме. Жена, родившая ему двух сыновей, не принадлежала к числу женщин с легким характером. А может быть, увлечение Перикла красивыми женщинами привело к семейному разладу? Владыка Олимпа Зевс много претерпел от своей ревнивой супруги Геры, но избавиться от нее не мог. Зато для Олимпийца не составляло труда утишить домашние бури, поскольку в Афинах развод являлся делом простым, особенно в случае, если обе стороны выражали на него согласие. Она вскоре вышла замуж за Гиппоника — сына богача Каллия; от этого брака на свет появился мальчик, получивший имя деда, Каллий, — единоутробный брат сыновей Перикла. Сам Перикл сразу привел в дом девушку, которую горячо любил, но жениться на ней, увы, не мог.
Ее звали Аспазия, и происходила она из Милета. Уже само по себе это делало невозможным заключение законного брака, т. е. такого, который обеспечивал бы потомству афинское гражданство. По инициативе самого Перикла в 451 г. до н. э. был издан закон, гласивший, что только тот, у кого оба родителя являются афинянами, может считаться полноправным гражданином. Сточки зрения права брак Перикла и Аспазии, даже если бы он был освящен всеми необходимыми церемониями, все равно считался бы сожительством. Да и Перикл не торопился связать свою судьбу с Аспазией, прежде всего из-за ее происхождения. Отец Аспазии Аксиох — купец в пришедшем в упадок Милете, — как и многие другие, приехал искать счастья в столицу Морского союза. Но и здесь, как это часто случается при демократическом строе, очень ценили аристократическое происхождение. Народ никогда бы не простил своему вождю женитьбу на женщине из низов. Перикл мог с ней жить — это дело другое. Но зачем жениться? Афинские лавочники, крестьяне, ремесленники по-настоящему уважали только тех сограждан, которые имели благородное происхождение, ибо его нельзя было ни купить за деньги, ни добиться горлопанством на агоре. Именно поэтому немногочисленные и постоянно гонимые афинские олигархи тем не менее являлись значительной политической силой.
Афинское общественное мнение и тогда, и позднее единодушно утверждало, что какое-то время Аспазия была гетерой, т. е. девушкой, чье сердце всегда открыто для богатых друзей и покровителей. Можно, конечно, посчитать это сплетней, пущенной врагами Перикла, однако мы не должны применять к той отдаленной эпохе наших оценок и морали. Жизнь с гетерой не наносила вреда репутации мужчины. В этом смысле афиняне, как и все народы древности, были чрезвычайно снисходительны. Всеобщее осуждение вызывало лишь совращение замужних. Зато институт гетер считался вполне нормальным и даже необходимым в каждом обществе. Поэтому-то в Афинах, городе большом и многолюдном, гетер было очень много, причем разных категорий. Некоторые из них являлись настоящими «светскими дамами», прекрасно образованными, и вызывали удивление. В обычном афинском доме женщины жили затворницами, и только гетеры пользовались полной свободой и привлекали к себе интересных людей. Если Аспазия до встречи с Периклом действительно была гетерой, то она жила так же, как та гетера Феодота, с которой мило и шутливо беседовал Сократ, всегда верный своему призванию: везде и во всем искать прекрасное и доброе.
Однажды кто-то в присутствии Сократа завел разговор о Феодоте: «Ее красота неописуема. Эту девушку изображают художники, и она не скрывает от них своих прелестей.
— Ну что же, надо к ней пойти, — решил Сократ, — и увидеть все собственными глазами. Трудно с чужих слов судить о той, чья красота неописуема.
Сократ и его друзья застали Феодоту в тот момент, когда она позировала какому-то художнику.
— Друзья! — воскликнул философ. — Кто кого должен благодарить? Мы ли Феодоту, позволившую нам взирать на ее красоту, или она нас за то, что мы ею восхищаемся? Если Феодота больше приобретет, показывая нам себя, то тогда она должна быть нам благодарна, если же, смотря на нее, мы получаем большее удовольствие, то все выгоды на нашей стороне!
И далее он так развивал свою мысль:
— Феодота уже сейчас заработала нашу похвалу, но ее прибыль будет еще больше, когда мы всем расскажем о ее красоте. Мы же хотели бы прикоснуться к тому, что увидели. Уйдем отсюда возбужденные, а потом будем тосковать. Отсюда вывод: мы ей служим, а она — наша госпожа!
На это Феодота ответила:
— Клянусь Зевсом! Если все действительно обстоит так, как ты говоришь, то скорее я должна быть вам благодарна.
Тем временем Сократ заметил, что на хозяйке весьма дорогой наряд и одежды ее матери ненамного дешевле. От его быстрого взора не укрылись и большое количество красивых, хорошо ухоженных служанок, а также богатая обстановка дома, и он сразу же спросил:
— Скажи откровенно, Феодота, как велики твои земельные владения?
— У меня их вообще нет.
— Может быть, ты сдаешь в наем дом?
— И собственного дома у меня тоже нет.
— Ну тогда наверняка на тебя работают мастерицы?
— С чего ты это взял?
— Каковы же в таком случае твои средства существования?
— Попросту если кто-то доброжелательно ко мне относится, то оказывает мне помощь, — вот и все средства моего существования.
— Клянусь Герой, Феодота, лучше и придумать нельзя. Стадо друзей — большее богатство, нежели стадо коров, коз или овец. Но скажи мне, полагаешься ли ты на счастье и ждешь, чтобы какой-нибудь приятель попался тебе, подобно мухе, или сама прилагаешь к этому старания?
— А разве в подобном деле можно что-либо предпринять?
— Клянусь Зевсом, можно. Здесь надо уподобиться пауку. Знаешь, как он добывает себе средства к существованию? Плетет тончайшую сеть и питается тем, что в нее попадет.
— Так, значит, ты и мне советуешь плести сеть?
— А почему бы и нет? Неужели ты воображаешь, что столь ценную добычу, как друзья, можно поймать без всякого искусства? Посмотри, сколько разных уловок придумали люди, охотясь на такого нестоящего зверя, как заяц. Зайцы, как известно, выходят на прокорм ночью. Поэтому охотники специально обучают псов для ночной охоты. А днем, когда зайцы спят, выпускают уже других псов, приученных выискивать их укрытия. Мало того, еще содержат псов, которые прекрасно бегают, а на заячьих дорожках ставят силки.
— Каким же из этих способов — ты советуешь мне ловить друзей?
— Вместо пса ты должна иметь помощника. Он будет отыскивать для тебя людей богатых и влюбленных в красоту, а потом так их направлять, чтобы они попали в твои сети.
— Не знаю, есть ли у меня такие сети, Сократ?
— Одни есть наверняка, и притом прекрасно сплетенные, — твое тело. А в теле скрывается душа, которая всегда подскажет, каким взглядом очаровать и каким словом привести в восторг. Душа советует нам любезно принять преданного человека и захлопнуть дверь перед носом недоброжелателя; если друг заболеет — нежно за ним ухаживать, а если ему повезет — радоваться его успеху. И вообще тому, кто добр к тебе, надо от чистого сердца отвечать взаимностью. А о том, что целовать ты умеешь не только страстно, но и сердечно, я знаю очень хорошо. Не только словом, но и делом показываешь, сколь дороги тебе твои друзья.
— Клянусь Зевсом, я не применяю ни одного из названных тобою способов!
— И напрасно, ведь к каждому человеку надо подходить соответственно его характеру. Потому что силой не добудешь друга и не удержишь его при себе. Этого зверя можно поймать и приручить только, заботясь о нем и давая ему наслаждения.
— Ты совершенно прав.
— Прекрасно. В таком случае ты должна поступать следующим образом: сначала обращайся к своим обожателям только с теми просьбами, выполнение которых не вызовет у них затруднений. Тогда они будут тебе верны, надолго сохранят любовный жар и в дальнейшем окажут много ценных услуг. И запомни, желанной ты станешь только в том случае, если подаришь свою благосклонность тому, кто страстно о ней мечтает. Даже самое изысканное яство может показаться пресным, если получишь его до того, как пожелаешь. Более того, у сытого оно может вызвать отвращение. Зато голодный с жадностью набрасывается даже на самую простую пищу.
— Но каким образом я могу вызывать подобный голод у моих друзей?
— Пресыщенным не показывай, не напоминай о своих прелестях. Когда же пресыщение пройдет, в приятной беседе напомни им о наслаждениях любви, намекай на свои чувства, но уходи от прямого ответами так поступай до тех пор, пока желание в твоем друге не дойдет до предела. Вовсе не одно и то же, будут ли дары преподнесены именно в такой момент или еще до того, как ты вызовешь в мужчине желание.
— А может быть, ты, Сократ, и станешь моим помощником в охоте на друзей?
— Непременно, если, конечно, ты сумеешь меня уговорить.
— Как же мне это сделать?
— Сама догадаешься, коль скоро я действительно тебе необходим.
— В таком случае заглядывай ко мне почаще.
— К сожалению, Феодота, мне не так уж легко найти свободное время. Множество частных и государственных дел постоянно занимают мою голову. А кроме того, у меня есть еще и подружки, которые не отпускают меня ни днем, ни ночью, обучаясь различным способам приготовления приворотного зелья и любовным заклятьям.
— Так ты и это умеешь?
— Друзья, в окружении которых я перед тобой стою, не покидают меня ни на секунду. Думаешь, так бы было, если бы я не использовал приворотного зелья или любовных кружочков?
— Дай мне такого зелья! Испробую его на тебе.
— Но я вовсе не хочу, чтобы ты меня к себе приманивала. Предпочитаю сам притягивать других. Лучше ты приходи ко мне.
— Я согласна. Только бы ты захотел меня принять.
— Безусловно захочу. Если, конечно, в этот момент у меня не будет в гостях кто-нибудь покрасивее тебя»[37].
Аспазия — новая Омфала
Сократ беседовал с Феодотой уже пожилым человеком. Но в то время, когда Перикл взял Аспазию в свой дом, т. е. приблизительно в 445 г. до н. э., Сократу было чуть более 20 лет и занимался он тем ремеслом, которому его обучил отец, — тесал камни. Позднее философ часто и охотно беседовал с Аспазией. Спустя много лет он с одобрением вспоминал некоторые ее высказывания, например такое: «Можно вступить в брак при помощи свахи, но только при условии, что каждой из сторон она скажет правду, избегая лживых похвал».
Не только Сократ, но и весь город считал Аспазию мудрой женщиной. Именно поэтому и появились опасения, что она завлечет Перикла своими чарами. Люди огорченно говорили: «На глазах у всех он целует ее, когда уходит из дома и когда приходит».
Вполне попятное огорчение, поскольку афинские мужья никогда не позволяли себе подобных нежностей. Вскоре после переезда в дом Перикла Аспазия родила сына. И хотя он являлся незаконнорожденным, но, весьма красноречивый факт, получил имя отца — Перикл. Это всех убедило в большом влиянии Аспазии на вождя афинского народа. Стремясь выставить на посмешище Перикла и его политику, недоброжелатели пустили слух, что она пишет ему речи и дает советы по всем государственным вопросам.
Но особенно благодатной темой роман Перикла и Аспазии был для авторов комедий. В те времена комедии в Афинах ставили два раза в год: ранней весной, во время Великих Дионисий, и в середине зимы, когда праздновали Сельские, или Ленейские, Дионисии. Награды присуждались в обоих случаях, а председательствовал в коллегии на празднествах один из архонтов. Хор оплачивал кто-либо из богатых граждан. Несмотря на помощь и надзор со стороны государства, комедии весьма зло высмеивали всех более или менее известных политиков. Не щадили и их домашних дел. Иногда отпускаемые в комедиях шуточки были просто непристойными, а словарный запас отличался большой красочностью. Но не только отдельные лица становились жертвами насмешек, авторы комедий насмехались и над самим народом, хотя в принципе это было запрещено.
Один из тогдашних олигархов жаловался: «Афиняне сами поощряют к высмеиванию в комедиях частных лиц, и всякий, кому только придет охота, высмеивает всякого. Всеобщее удовольствие вызывает то, что подвергаемые осмеянию, как правило, принадлежат не к простонародью, а к числу наиболее известных и уважаемых граждан. Правда, случается, на посмешище выставляют кого-нибудь из бедняков или черни, но это бывает только в том случае, если они уж очень гоняются за новшествами или хотят выдвинуться»[38].
Излюбленным объектом шуток являлась все без исключения вожди. Народ от души веселился над тем, как метко и зло комедии высмеивают его любимцев и вообще всех знаменитостей. Но вот представление кончалось, люди отправлялись на заседание совета пятисот, в собрание, в суды и там горячо поддерживали тех, кого только что в театре показывали, как глупцов, жуликов, воров и бабников. Иностранцев шокировали такие афинские обычаи. Они с удивлением спрашивали: «Как же может существовать государство, в котором не уважают власть? Как можно допускать такую разнузданность, такую ничем не ограниченную свободу слова? И что это за ребяческое отсутствие последовательности: сегодня забрасывать человека грязью, а завтра доверять ему самые ответственные посты?»
Что касается афинян, то они не обращали внимания на язвительнозавистливые сожаления чужеземцев. Из поколения в поколение они воспитывались в убеждении, что «исегория», свобода слова, является фундаментом демократии. А на обвинения ответ был простой: «Конечно, авторы комедий немного преувеличивают. Но разве можно определить границы свободы слова? Если хотя бы один раз что-либо или кто-либо встанет выше критики, то далее последуют новые запрещения и ограничения свободы — и так будет до тех пор, пока гражданам совсем не заткнут рот. А ведь для государства нет ничего хуже рабства мысли его граждан. Если же какое-то важное лицо почувствует себя оскорбленным шутками в театре, то оно должно поскорее расстаться с общественной деятельностью: нет ничего хуже для страны, чем находящийся у власти угрюмый фанатик — борец за чистоту нравов. Мы противоречивы и непоследовательны, насмехаемся надо всем, что можно и нельзя, но нашему государству это не вредит: жизнь в нем кипит и оно наверняка богаче, нежели Спарта, где граждане не осмеливаются критиковать даже проекты законов.
Вот и Перикл, руководствуясь этими обычными принципами афинской демократии, не обижался, когда комедиографы стали уделять ему и Аспазии все больше «заботливого» внимания. Их любовь стала излюбленным объектом насмешек для известного в то время автора Кратина. В одном из его произведений со сцены раздавались такие слова: «Отвратительная похоть породила его Геру — Аспазию, наложницу с собачьими глазами»[39].
Богиню Геру называли «волоокой», а глаза коровы считались красивыми и полными грусти. Зато «собачьи глаза» Аспазии должны были, по мнению автора, свидетельствовать о ее бесстыдстве.
Кратин называл Аспазию «новой царицей Омфалой, что было довольно оскорбительно, ибо каждый из зрителей прекрасно помнил, что у Омфалы в течение года служил сам Геракл. Герой снял свою львиную шкуру и, отложив в сторону палицу, дни и ночи выполнял желания своей ненасытной госпожи. В часы отдыха Геракл, облаченный в женскую одежду, прял у ног царицы. Вот каким стал теперь Перикл, поучал Кратин.
Архитектор проектирует идеальное государство
Каково было действительное влияние Аспазии на Перикла, очевидно, не знал никто из современников. И нам было бы смешно рассуждать об этом по прошествии двадцати пяти веков. Но одно является несомненным. В доме Перикла и Аспазии собиралось множество ярких и талантливых людей, главным образом выходцев из малоазиатских государств. С помощью Аспазии им было легче попасть к Олимпийцу. В группе друзей, конечно же, выделялся Анаксагор. Перикл познакомился с ним еще раньше, но теперь их дружба значительно окрепла. Когда позднее враги решили поразить Перикла, удар был нанесен по самым близким ему людям — Анаксагору и Аспазии. Анаксагор приехал из г. Клазомены, зато из самого Милета, родного города Аспазии, происходил Гипподам — архитектор и политический реформатор в одном лице.
Почти через сто лет, но все же на основе непосредственных свидетельств и живой традиции великий философ Аристотель так писал о личности и взглядах этого интересного человека: «Гипподам, сын Еврифонта, уроженец Милета (он изобрел разделение полисов и спланировал Пирей), первым из не занимавшихся-государственной деятельностью людей попробовал изложить кое-что о наилучшем государственном устройстве.
Он проектировал государство с населением в десять тысяч граждан, разделенное на три части: первую образуют ремесленники, вторую — земледельцы, третью — защитники государства, владеющие оружием. Территория государства также делится на три части: священную, общественную и частную. Священная — та, с доходов которой должен отправляться установленный религиозный культ; общественная — та, с доходов которой должны получать средства к существованию защитники государства; третья находится в частном владении земледельцев. По его мысли, и законы существуют только троякого вида, поскольку судебные дела возникают по поводу троякого рода преступлений (оскорбление, повреждение, убийство).
Он предполагал учредить одно верховное судилище, куда должны переноситься разбирательства по всем делам, решенным, по мнению тяжущихся, неправильно; в этом судилище должно состоять определенное число старцев, назначаемых путем избрания. Судебные решения в судах должны, по его мнению, выноситься не путем подачи камешков: каждый судья получает дощечку, на которой следует записать наказание, если судья безусловно осуждает подсудимого, а если он его безусловно оправдывает, то дощечка оставляется пустой; в случае же частичного осуждения или оправдания пишется определение. Современные законоположения он считает неправильными: вынося либо обвинительный, либо оправдательный приговор, судьи вынуждены нарушать данную ими присягу.
Сверх того, он устанавливает закон относительно тех, кто придумал что-либо полезное для государства: они должны получать почести; и дети павших на войне должны воспитываться на казенный счет, коль скоро такого установления еще нет у других. Такого рода закон в настоящее время существует и в Афинах, и в других государствах. Все должностные лица должны быть избираемы народом, т. е. теми тремя частями государства, о которых упомянуто ранее. Избранные должностные лица обязаны иметь попечение о государственных делах, а также о делах, относящихся к чужестранцам и сиротам»[40].
Этот проект идеального государства, не единственный в те времена и не очень оригинальный, тем не менее вызвал интерес как у современников Гипподама, так и у потомков. Создание стройных логических конструкций было любимой забавой эллинов (именно таким образом формировались основы математики). С такой же беззаботной смелостью они судили о делах государства и общества, Пытливый исследователь открывает и изучает особенности геометрических фигур, их соотношение, почему же нельзя таким же образом узнать формулу идеального государства и определить составные части общественного организма? Через несколько, десятков лет мысль Гипподама талантливо развил Платон. Он начертал план создания идеального государства, в котором были предусмотрены буквально все детали, но сохранена основная мысль Гипподама — разделение общества на касты. Игра в конструирование идеального государства продолжается уже много веков, приводя ко все более трагическим последствиям. Справедливости ради надо сказать, что время от времени раздаются голоса предостережения. Уже ученик Платона Аристотель критиковал его конструкции идеального государства. Он ясно показал их внутреннюю противоречивость и отстраненность от действительных потребностей общества.
Было бы интересно узнать, как относился к предложениям Гипподама Перикл. Он, несомненно, высоко ценил способности Гипподама-архитектора, иначе никогда бы не доверил ему строительство Пирея. Перикл полностью развязал ему руки, хотя урбанистические планы Гипподама выглядели для того времени революционными. Ни один город в Элладе не имел тогда правильной планировки улиц, пересекающихся под прямым углом. Это производило впечатление, а вместе с тем облегчало застройку и передвижение по городу. Правда, некоторые жаловались: «В старых городах каждый строил как хотел и где хотел, если имел хоть кусочек земли. Улицы были узкие и извилистые: что ни шаг, то тупик. Но в этом была и своя хорошая сторона, например во время войны. Бывает, что неприятель врывается в город; вот тут-то он и начнет плутать среди беспорядочного скопления домов и узких проулков, окруженный со всех сторон яростно нападающими жителями».
После окончания основных работ в Пирее Перикл использовал талант Гипподама при закладке другого города, из чего вовсе не следует, что он был в восторге от его политических проектов. Опытный политик, афинский вождь прекрасно понимал: невозможно придумать такой порядок в государстве, чтобы все было простым и четким, как сеть улиц на плане города. Более того, придумывание будущего людского сообщества может оказаться весьма опасным, ибо жизнь капризна и полна неожиданностей. Расстановка сил как внутри государства, так и вне его подвержена постоянным изменениям. Конечно, хороший политик заранее определяет цель и упорно стремится к ее достижению, но как извилисты порой бывают дорожки, ведущие к ней!
Может быть, поэтому, хотя Перикл и имел огромное влияние в обществе и мог бы действительно подумать о радикальном изменении государственного устройства, он никогда не утверждал, что все исправит, урегулирует и предусмотрит, ибо так можно только выставить себя на посмешище. Вот отчего принятых по его инициативе законов было относительно немного. Очевидно, Перикл придерживался того мнения, что каждый закон вызывает такие побочные эффекты, которых не в силах предусмотреть даже самый блестящий ум. Уж лучше ограничиться и законодательной деятельности самым необходимым. Жизнь общества подобна быстрому и мощному потоку, который пробивает себе дорогу, послушный лишь неведомым законам природы. Задача политика состоит в том, чтобы регулировать и расчищать его русло, а не засыпать его камнями или преграждать плотиной, поскольку в таком случае поток быстро превращается в грозную опустошающую стихию или в гниющее застойное болото.
Однако Перикл, как и все эллины, обожал распутывание сложных теоретических проблем. Его старший сын высмеивал отцовскую страсть к диалектике и диспутам, рассказывая по всему городу: «Отец может весь день рассуждать с философами о какой-нибудь ерунде. Однажды, например, во время занятий молодежи в гимнасии кто-то случайно убил своего приятеля копьем. Так вот, мой отец со своими мудрецами без конца рассуждал о том, кто является действительным виновником несчастья и кого надо наказать: бросившего копье, наставников или же копье».
Проект Гипподама был очень заманчивым, но только в качестве предмета дискуссии. Вероятно, Перикл резко критиковал архитектора, ибо его идеальные государство и общество очень уж напоминали страну, с которой афинянин столько лет вел упорную борьбу, — Спарту. Там тоже были три категории жителей: воины, ремесленники, земледельцы, или спартиаты, периэки и илоты. Но правили только воины, угнетая два остальных класса. Даже если не обращать внимания на это сходство, то все равно в проекте Гипподама было много слабых пунктов. Позднее их точно подметил Аристотель, но наверняка видел уже Перикл.
Ремесленники, земледельцы и воины должны были обладать равными гражданскими правами. Но если земледельцы не будут иметь оружия, а ремесленники — ни земли, ни оружия, то очень скоро представители двух этих классов превратились бы в рабов тех, кто вооружен. Все важнейшие должности тоже достанутся воинам. А коль скоро остальные классы не будут на равных участвовать в управлении, то нельзя быть уверенным в их преданности своему государству.
Далее. Класс воинов должен быть не только хорошо вооруженным, но и многочисленным, таким, как два остальных вместе взятых. В таком случае нет необходимости, чтобы те делили с воинами власть. По Гипподаму, воины должны пользоваться государственной землей. Но возникает вопрос: кто будет ее обрабатывать? Бели сами воины, то чем они, собственно, будут отличаться от земледельцев? Разве только тем, что последние, имея землю на правах собственности, находились бы в несравненно лучшем положении. А если крестьян заставят обрабатывать и свою собственную землю, и государственную, для воинов, то, во-первых, неизвестно, справятся ли они с работой и хватит ли ее плодов для двух семейств, а во-вторых, сразу возникает простой вопрос: зачем же делить землю на частную и государственную? Не лучше ли всю ее отдать земледельцам, чтобы они и сами с нее кормились, и уступали часть урожая воинам? Можно, конечно, предположить, что государственную землю будут обрабатывать какие-то другие люди, не воины и не крестьяне, сидящие на своих наделах, но в таком случае это был бы уже четвертый класс, не имеющий никаких прав и остающийся вне сообщества граждан.
Так же сурово Аристотель осудил Гипподамову систему правосудия, закончив весь этот раздел рассуждениями о том, что вообще не надо менять законы и государственное устройство: «Может показаться, что изменение лучше. И правда, оно полезно в других областях знания, например в медицине, когда она развивается вперед сравнительно с тем, какою она была у предков, также в гимнастике и вообще во всех искусствах и науках. Так, как и политику следует относить к их числу, то, очевидно, и в ней дело обстоит таким же образом. Сама действительность, можно сказать, служит подтверждением этого положения: ведь старинные законы были чрезвычайно несложны и напоминали варварские законодательства.
В первобытные времена греки ходили вооруженные, покупали себе друг у друга жен. Сохраняющиеся кое-где старинные законоположения отличаются вообще большой наивностью. Таков, например, закон относительно убийств в Киме: если обвинитель представит известное число свидетелей из среды своих родственников, подтверждающих факт убийства, то обвиняемый тем самым признается в убийстве. Вообще же все люди стремятся не к тому, что освящено преданием, а к тому, что является благом. Отсюда ясно, что некоторые законы иногда следует изменять.
Однако, с другой стороны, дело это требует большой, осмотрительности. Если исправление закона является незначительным улучшением, а приобретаемая таким путем привычка с легким сердцем изменять законы дурна, то ясно, что лучше простить те или иные погрешности как законодателей, так и должностных лиц: не столько будет пользы от изменения закона, сколько вреда, если появится привычка не повиноваться существующему порядку.
Обманчив также пример, заимствованный из области искусств. Не одно и то же — изменить искусство или изменить закон. Ведь закон бессилен принудить к повиновению вопреки существующим обычаям; это осуществляется лишь с течением времени. Таким образом, легкомысленно менять существующие законы на другие, новые, — значит ослаблять силу закона»[41].
Под подобными рассуждениями наверняка подписался бы обеими руками вождь афинской демократии. И если он даже никогда не сформулировал их так четко, то в своей политической практике действовал согласно с их духом. А это важнее всего.
Законы города Фурии
Как он мало ценит Гипподамовы проекты идеального государства, Перикл показал, когда возник, казалось бы, удобный случай для их реализации. В далеком краю заложили новый город, который должен был стать крохотным, но отдельным и независимым государством. Гипподам тоже принимал участие в его создании, но вовсе не как законодатель, о чем, очевидно, мечтал больше всего. Его задача была скромнее: так же как в Пирее, представить на плане регулярно расположенные прямые улицы.
Фурии — так назывался второй город, построенный по плану Гипподама. Его основали в Южной Италии, на плодородной равнине, где некогда процветал г. Сибарис.
Богатство и изнеженность сибаритов вошли в Древней Греции в поговорку. Но затем начались неудачные войны с соседями, принесшие разруху. Край обезлюдел. Поэтому-то сибариты сами попросили прислать из Эллады колонистов: есть много хорошей земли, а работать на пей некому! Первые афиняне прибыли сюда уже в 445 г. до н. э. и вскоре вообще выгнали старых хозяев. Через два года здесь появились еще более многочисленные отряды переселенцев со старой родины. И на этот раз большинство составляли афиняне, но не было недостатка и в людях с Пелопоннеса и средней Греции, поскольку Перикл распорядился сообщить везде, где только можно, что Фурии открыты для всех греков. Он сделал это для того, чтобы ослабить подозрения и беспокойство со стороны других государств, ибо цель основания Фурий была совершенно ясной: они должны были стать опорой афинского владычества над богатым Западом, Италией и Сицилией. Новый город, внешне независимый и суверенный, на самом деле явно находился под сильным афинским влиянием, — и не только потому, что большинство колонистов были родом из Аттики и городов Морского союза. Афинское государственное устройство стало для Фурий образцом; даже фил было десять, хотя они и носили другое название.
Зато законы Фурий отличались от афинских. Однако и в этом случае никто не обратился за советом к знаменитому архитектору и политическому реформатору в одном лице. За основу были взяты старые законы другого греческого города в Италии — Локр, много — поколений назад разработанные Залевком. Но жители Фурий поступили так, как позднее советовал Аристотель: изменили старые предписания, приспособив их к потребностям более цивилизованного общества. Таким образом, законы Фурий были не только родом из седой древности, но и вполне отвечали современным нуждам.
Справедливости ради надо сказать, что даже среди самых старых установлений локрян многие пользовались в Греции доброй славой. Вот некоторые из них: «Тот, кто женится во второй раз, давая своим детям мачеху, не может быть допущен к обсуждению общественных дел, ибо человек, который не в состоянии позаботиться о судьбе собственных детей, не будет заботиться и об общем благе. И вообще: если кому-то повезло с первым браком, он должен остановиться на этом счастье и более не искушать судьбу; если же первый опыт был неудачным, но человек готов повторить ошибку, то он, без сомнения, безумец.
Все сыновья граждан должны уметь читать и писать. Затраты на их обучение покроет государство, чтобы и бедняки получили доступ к благородным искусствам.
Люди, сознательно выдвинувшие против сограждан ложные обвинения, если это доказано в ходе судебного разбирательства, должны в течение определенного времени появляться в городе только с тамарисковым венком на голове, чтобы каждый знал: вот идет лжец и клеветник.
Человек, бросивший своих товарищей во время битвы или вообще не явившийся в войско, будет три дня подряд сидеть в женской одежде на главной площади города.
Тот, кто желает изменить какой-либо из ныне действующих законов, должен повесить себе на шею веревочную петлю и ходить так до тех пор, пока народ и власти не решат, достоин ли его проект принятия. В случае согласия законодатель может спокойно идти домой. Если же предложенная поправка будет отвергнута, сторонника улучшения законов повесят на его собственной веревке».
Позднее утверждали, что за все время существования Локр, так же как и Фурий, было только три случая, когда лицам, добивавшимся изменения законов, была дарована жизнь.
Однажды случилось так, что одноглазому выбили глаз. Старый закон гласил: «око за око». Но ведь одноглазый стал слепым. Поэтому он считал, что наказание будет слишком мягким, если виновника его несчастья лишат только одного глаза, и требовал, чтобы расплата была полной: зрение за зрение. Народ признал справедливость такого аргумента, и виновник был ослеплен.
В другом случае изменения закона потребовал старик. Его молодая жена развелась с ним и вышла замуж за своего ровесника. Старец потребовал принять закон: разведенная женщина может повторно выйти замуж за кого ей только заблагорассудится лишь при одном условии — ее новый муж должен быть старше предыдущего.
В третьем случае речь шла о девушке. Старый закон, кстати говоря, имевший аналог и в афинском законодательстве, гласил: на девушке, оставшейся единственной наследницей состояния, должен жениться ее ближайший родственник. Речь шла о том, чтобы имущество оставалось в распоряжении рода. Но иногда наследница вообще не имела никакого состояния. В этом случае ближайший родственник, если он не хотел взять девушку в жены, был обязан подарить ей пятьсот драхм на приданое. Так вот, в Фуриях одна бедняжка сумела с помощью плача и неустанных жалоб убедить народное собрание изменить старый закон. Отныне ближайший родственник должен был жениться на единственной родственнице независимо от размеров приданого; нельзя было откупаться от этой обязанности милостыней в пятьсот драхм. Таким образом оборотистая девица добыла и мужа, и состояние, ибо так получилось, что ее ближайший родственник был человеком очень богатым.
Потомкам остается только удивляться великодушию народного собрания, состоявшего исключительно из мужчин. Многие из голосовавших в поддержку проекта бедной девушки точили топор для своей собственной шеи, ибо каждому могла попасться в жизни такая бедная родственница. Но, очевидно, та, что стояла перед ними с веревкой на шее, была очень красива. И не один, вероятно, вздохнул про себя и подумал в тот момент: «Хорошо бы и мне попалась такая девушка, на которой я был бы обязан жениться. Пусть бедная, лишь бы такая же красивая».
Видно, забыл, что бывают наследницы убогие и уродливые.
Беседа с Протагором
Как мы уже говорили, многие старые локрийские законы в Фуриях были изменены. Сделал это человек, которого тогда считали одним из самых светлых умов, — Протагор. Ему дали столь почетное задание благодаря протекции Перикла, поскольку Протагор входил в кружок его ближайших друзей. Именно с ним Перикл и вел утонченный диспут о том, кто виноват в случайной смерти в гимнасии: юноша, метнувший копье, наставник или же само копье.
Протагор происходил из Абдеры на фракийском побережье. В Афинах, однако, он бывал довольно часто, равно как и во многих других греческих городах. Здесь нет ничего удивительного, ибо Протагор был бродячим учителем мудрости, или, как тогда говорили и как он сам себя называл, — софистом. Эта мудрость заключалась в умении так красиво и ловко высказаться, чтобы всегда иметь возможность отстоять свою точку зрения как в суде, так и в политическом диспуте. Протагор утверждал, что только благодаря его науке юноши приобретают гражданское мужество. Его воспитанник будет чувствовать себя спокойно в любой ситуации, ибо с помощью соответствующих выводов сможет выиграть даже, казалось бы, безнадежное дело. Ведь все в мире относительно, все можно представить в том или ином свете в зависимости от потребностей данного момента. Конечно, имелись в виду только отношения между людьми, а также общественные и государственные дела, ибо только они и имеют ценность для человека, и надо по-настоящему учиться искусству жить среди сограждан, искусству убеждать их в том, что тебе выгодно, и вести за собой. А то, что происходит на небе, как и из чего сделан мир, какие силы его создали и поддерживают в нем порядок, не должно нас особенно интересовать, так же как и извечный вопрос: существуют ли боги и если существуют, то какие они. Протагор прямо говорил: «Что касается богов, то я не уверен ни в том, что они существуют, ни в том, что их нет. Равным образом я ничего не могу сказать и о том, как они выглядят. Многое мешает нашему познанию божественного, прежде всего неясность самого предмета и краткость нашей жизни». И утверждал далее: «Человек является мерой всех вещей: существующих, что они существуют, и не существующих, что они не существуют».
Наука Протагора пользовалась огромной популярностью среди молодых людей из хороших семей, хотя учеба стоила недешево. Через какие-нибудь десять или, может быть, более лет со дня основания Фурий прославленный софист после длительного отсутствия снова заглянул в Афины. Это вызвало большое оживление среди местной молодежи.
При первых лучах солнца какой-то человек изо всех сил стучал палкой в ворота дома Сократа. Когда ему наконец открыли, вбежал в дом, возбужденно крича:
— Эй, Сократ! Просыпайся скорее.
Тот сразу узнал гостя по голосу:
— А, это ты, Гиппократ. Какие новости ты принес?
— Только хорошие.
— Прекрасно! Но почему в столь раннюю пору?
— Протагор приехал!
— Знаю, еще позавчера. Аты об этом узнал только сейчас?
— Клянусь бессмертными, вчера вечером…
Говоря эти слова, Гиппократ с трудом нащупал в темноте какой-то стул, уселся у ног все еще лежавшего Сократа и продолжил беседу:
— Да, вчера вечером и притом очень поздно, после возвращения из Энои. От меня, видишь ли, сбежал мальчишка-слуга, Сатир. Я даже хотел тебе сказать, что буду его искать, но почему-то забыл. Я уже поужинал и собирался ложиться спать, когда брат сказал мне: «Приехал Протагор!» Я сразу вскочил и собрался бежать к тебе, но подумал, что уже поздно. Зато сегодня я проснулся чуть свет и сразу же бросился к тебе.
Хотя было видно, что Гиппократ очень взволнован и настроен весьма решительно, Сократ начал как ни в чем не бывало:
— А почему, собственно, эта новость тебя так взбудоражила? Может, этот Протагор тебя чем-нибудь обидел?
Гиппократ рассмеялся:
— Ничем, клянусь богами. Разве только тем, что сам он мудрец, а меня им не сделал.
— Клянусь Зевсом! Если дашь мне денег и как следует попросишь, то я наверняка превращу тебя в мудреца.
— Если дело только за этим, то я не пожалею ни собственного имущества, ни имущества своих друзей. Я и пришел для того, чтобы ты поговорил с ним о моем деле. Сам я еще молод и никогда не видел, и не слышал Протагора. Я был еще совсем ребенком, когда он в первый раз приехал в наш город. Но знаешь, Сократ, все его хвалят и говорят, что нет человека умнее его. Пойдем поскорее, а то не застанем его дома. Говорят, он живет у Каллия, сына Гиппоника.
— Дорогой мой, идти туда еще рано. Пойдем-ка прогуляемся по двору, а после того как совсем рассветет, отправимся к Протагору.
Так они и сделали. Когда спустя некоторое время друзья вошли в дом Каллия, то застали в окруженном колоннадой внутреннем дворике множество людей. Здесь же среди своих почитателей прохаживался и сам Протагор. Среди них были Каллий, его единоутробные братья, сыновья Перикла Парал и Ксантипп, и еще несколько юношей. Все они шли в одну шеренгу по обе стороны от учителя. Сзади к ним пристроилось еще несколько человек, в большинстве своем чужестранцев, которых Протагор, подобно Орфею, привлек с разных концов Эллады чарами своего голоса. Они внимательно следили за тем, чтобы случайно не оказаться у Протагора перед носом. Поэтому, как только первая шеренга поворачивала, идущие сзади ловко расступались и снова оказывались за спиной собеседников.
Под сводами галереи в удобном кресле устроился другой прославленный софист — Гиппий из Элиды. Вокруг него также собралась большая группа любопытных. Они задавали вопросы, на которые философ по очереди отвечал. Речь шла о сущности природы и явлениях на небе. В доме Каллия находился еще один софист — Продик с острова Кос. Тот, как это было видно со двора, лежал в одной из внутренних комнат, заботливо накрытый овечьими шкурами и одеялами. Он тоже не был одинок, рассуждал о чем-то, но эхо его низкого голоса расходилось по всему дому, делало слова неразборчивыми и не давало возможности находившимся во дворе ухватить суть разговора.
Через пару минут, осмотревшись как следует, Сократ наконец сумел представить своего молодого друга Протагору:
— Позволь тебе представить Гиппократа, сына Аполлодора, здешнего жителя. Он происходит из знатного и богатого рода. Что касается его способностей, то думаю, что он не уступает никому из своих сверстников. Он надеется стать кем-нибудь в нашем государстве. По его мнению, это можно сделать только, пребывая в твоем обществе.
Далее разговор зашел о том, чему, собственно, учит Протагор. Все уселись на лавки рядом с Гиппием. Каллий и Алкивиад, родственник и воспитанник Перикла, даже привели с его ложа Продика. Судя по личностям собеседников и предмету разговора намечался занятный диспут. На просьбу Сократа ответить ему ясно и недвусмысленно, что собой представляет его учение, Протагор сказал:
— Хороший вопрос, Сократ, достоин хорошего ответа. Так вот, слушай! Если Гиппократ придет ко мне, то он не будет испытывать тех неудобств, которые ему пришлось бы испытать у других мудрецов. Они обычно очень мучают молодых людей: несчастные только-только распростились со школьной скамьей, а их уже снова тащат в школу. Их учат арифметике, астрономии, геометрии (тут он искоса посмотрел на Гиппия). У меня же юноша узнает только то, что ему действительно необходимо: как вести хозяйство, чтобы его дом стал самым лучшим, в как вести государственные дела, чтобы словом и делом выделяться среди остальных.
— Если я правильно тебя понял, ты говоришь об искусстве политики и обещаешь сделать своих учеников хорошими гражданами?
— Да, Сократ, ты правильно меня понял.
— Прекрасным умением ты обладаешь, Протагор, если, конечно, действительно им обладаешь. Не обижайся, но я буду говорить прямо. Я никогда не предполагал, что этому можно научиться. Но, с другой стороны, коль скоро ты так утверждаешь, то я не могу тебе не верить. Мне только хотелось объяснить, почему этому нельзя учить и вообще передать подобное знание от человека человеку. Так вот, я, как и все остальные эллины, считаю афинян мудрыми людьми. И что же я вижу? Мы собираемся на народное собрание, и там нам приходится рассматривать вопросы строительства общественных зданий. В таком случае собрание обращается за советом к архитектору. Так же происходит при постройке кораблей: в этом случае вызывают корабельных плотников. И так происходит всегда, когда афиняне обсуждают проблему, решение которой требует специальных знаний. А как они поступают тогда, когда со своими советами лезет тот, кого они не считают знатоком в данной области? Даже если это человек очень милый, богатый и вдобавок хорошего происхождения, афиняне все равно не прислушаются к его поучениям. Будут смеяться и кричать до тех пор, пока он, оглушенный, не перестанет говорить, а может и так случиться, что по приказу пританов его стащит с трибуны стража, следящая за порядком. Вот как поступают афиняне, когда речь идет о том, что, по их мнению, требует специальной подготовки. Но коль скоро на собрании заговорят о том, как вести государственное хозяйство, то. тут уж всем есть что сказать — и каменщику, и кузнецу, и сапожнику. Все лезут на трибуну: купец, командир корабля, бедный и богатый, аристократ и человек из народа. И никто им не предъявляет претензий. А ведь этой профессии они нигде не учились и не имели никаких учителей. Отсюда мы можем сделать вывод, что, по мнению афинян, этому вообще нельзя научиться.
Так бывает не только когда речь идет об общественных делах. И в частном порядке самые мудрые и лучшие из наших граждан не. считают, что они могли бы передать другим свои достоинства. Вот, например, Игрикл — отец юношей, которых ты видишь перед собой, дал им прекрасное воспитание, обучил их всем тем искусствам, которые имеют своих учителей. Но своей мудрости он их не обучил и даже не пытался этого сделать. Поэтому-то юноши ходят где хотят и пасутся свободно, подобно животным, посвященным богам. Может быть, они сами случайно где-нибудь наткнутся на гражданскую доблесть? Или вот еще, послушай. Кроме присутствующего здесь Алкивиада, Перикл воспитывал еще и его младшего брата Клиния. Опасаясь, что старший брат будет на него дурно влиять, Перикл отдал Клиния на воспитание своему брату Арифрону. Но не прошло и полгода, как Арифрон вернул его назад, ибо не мог справиться с мальчишкой. Я мог бы указать тебе многих достойных людей, которые никого не смогли сделать лучшими-ни членов своей семьи, ни кого-либо из чужих. Вот почему я не склонен считать, что гражданская доблесть — это то, чему можно научить другого человека. Однако, когда я слышу, что ты делаешь людей хорошими гражданами, то начинаю сомневаться в своей правоте. Может быть, у тебя есть свои тайны? Я считаю тебя человеком большого опыта и знаний, открывателем нового и неизвестного. Если у тебя есть доказательства того, что гражданская доблесть может стать предметом обучения, то не скрывай их от нас; мы с удовольствием тебя послушаем.
Так начался весьма продолжительный диспут. Его быстрый и изменчивый поток подхватил обоих спорщиков, стал бросать из стороны в сторону и наконец совершенно одуревших выбросил на берег. Это хорошо выразил сам Сократ:
— Мне кажется, окончание нашего разговора, подобно человеку, ругает нас и смеется над нами. А если бы оно могло говорить, то наверняка бы сказало: «Странные вы люди, Сократ и Протагор! Ты, Сократ, сначала утверждал, что нельзя научиться гражданской доблести. А теперь горячо опровергаешь сам себя. Ты доказываешь, что справедливость, рассудок, отвага являются знанием, а поскольку они являются составными частями гражданской доблести, то ей тоже можно научить. Зато Протагор стал утверждать прямо противоположное, поскольку теперь он говорит, что доблесть является всем чем угодно, но только не знанием. А если так, то обучить ей нельзя никого!»
Я вижу, наши аргументы встали с ног на голову, а потому хочу, чтобы все прояснилось. Неплохо бы подробно рассмотреть проблему и решить наконец, что такое доблесть, а уж потом вернуться к рассуждениям о том, можно ли ей обучить[42].
Может ли государственный строй воспитать человека?
Об «арете» — гражданской доблести — говорили не только Сократ и Протагор: об этом горячо спорили во многих семьях и в кругу друзей. Вопрос о правильном воспитании молодежи стал серьезно беспокоить всех мыслящих людей. Как это часто бывает во время больших, политических перемен, старые идеалы и принципы воспитания сделались совершенно непригодными. Еще 30–40 лет назад, когда нынешние родители сами были детьми, Эллада была значительно беднее и вела смертельную борьбу с могущественным врагом. Суровая жизнь сама воспитывала молодежь. В те часы, когда пылал Акрополь, каждый знал, что такое «арете» и как ей обучиться. Теперь же, особенно в Афинах, материальные условия невиданно улучшились. Господствовала полная свобода, а войны шли где-то далеко. Даже в самых бедных домах молодым людям ни в чем не было отказа. Широко распространилось просвещение, культурная жизнь расцвела так, как никогда раньше, стало проще путешествовать и поддерживать контакты с другими странами. И все же, к удивлению старших, молодежь совсем не ценила своей счастливой судьбы, материального благополучия и всего того, что ей давала жизнь. Молодые были циничны, самоуверенны, стремились только к наслаждениям, которыми их манил большой город. Сократ не случайно вспомнил об Алкивиаде и его брате — испорченных и несносных юношах. У скольких же родителей тогда срывалась с уст горестная жалоба: «Почему молодежь становится все хуже, коль скоро им живется все лучше?»
Многие считали, что виновата вовсе не молодежь, а государственный строй. Сторонники такого взгляда доказывали: хорошего государственного и общественного устройства вполне достаточно, чтобы люди стали справедливыми, разумными, отважными, преданными общему делу. Но каким образом реформировать строй? Одной из попыток дать ответ на столь сложный вопрос и явился проект идеального государства, придуманный архитектором Гипподамом. Но возможен был и другой ответ, в притом более конкретный. Афинские олигархи прямо указывали на Спарту, где молодежь воспитывали жестко, если не сказать жестоко.
Другие же, в том числе и Сократ, придерживались прямо противоположной точки зрения. Они утверждали, что человек должен добыть «арете» своим трудом, собственными усилиями. Каждый сам должен сделать в жизни свой выбор и твердо идти к намеченной цели. Учитель может только поощрять ученика и подсказывать ему дорогу. Сторонники подобной теории согласились бы с таким утверждением: хороший государственный строй создают хорошие граждане, а не наоборот. Спор этот длится уже на протяжении многих веков.
Упоминание об «арете» не могло не появиться в том выдающемся историческом произведении, которое тогда создавалось. Его автора звали Геродот. Он не был афинянином, происходил из г. Галикарнасе в Малой Азии, но лишь небольшую часть жизни прожил на родине. Изгнанный оттуда еще в, юношеском возрасте в результате политического переворота, Геродот на какое-то время поселяется на острове Самос. После очередного переворота он возвращается в родной город, но ненадолго. Очевидно, не сумев вернуть конфискованное имущество, Геродот покидает неблагодарную отчизну. Вынужденный ради получения средств к существованию стать купцом, он путешествует по всему тогдашнему миру, посещает Египет, Финикию, Вавилонию, побережье Черного моря и, конечно, страны Малой Азии и Эллады. Однако охотнее всего Геродот живет в Афинах, становится горячим поклонником их заслуг и величия, прославляет, хотя и не открыто, политику Перикла. Все это он делает в труде, материалы для которого собирал в течение многих лет во время дальних путешествий. В нем рассказывалось о борьбе греков и азиатов, начиная с легендарных времен и кончая захватом Сеста Ксантиппом, отцом Перикла. Уже в 445 г. до н. э. Геродот прочитал в Афинах некоторые фрагменты своего исторического сочинения. Они были приняты слушателями с таким восторгом, что один из граждан, Анит, выступил в народном собрании с предложением наградить историка большой суммой денег. Вскоре Геродот уехал в Фурии. Прожил там еще несколько лет, продолжая работать над описанием великих войн.
В «Истории» Геродота была запечатлена и такая сценка. В 480 г. до н. э., уже во время похода в Грецию, Ксеркс совершал смотр своей огромной армии. Рядом с ник находился спартанский царь Демарат. Это был тот самый Демарат, который за четверть века до описываемых событий, во время спартанского вторжения в Аттику, поссорился с царем Клеоменом — врагом Клисфена. Ксеркс, весьма довольный мощью и выправкой своих войск, спросил Демарата:
— Скажи мне: осмелятся ли эллины поднять на меня руку? Мне кажется, что даже если бы не только они, но и все жители Запада собрались вместе, то и тогда они не смогли бы противостоять такому нашествию. Но я хотел бы знать, что ты сам об этом думаешь.
Демарат в свою очередь спросил:
— Я должен говорить откровенно или то, что тебе будет приятно услышать?
— Конечно, говори правду. Независимо оттого, что скажешь, всегда будешь мне приятен и дорог.
— Царь! Коль скоро ты приказываешь мне говорить откровенно, чтобы потом не вышла наружу какая-нибудь ложь, то дело обстоит так: эллины всегда живут рука об руку с бедностью, а доблесть приобретают благодаря мудрости и суровым законам. Именно доблесть защищает их и от бедности, и от тирании.
Будучи спартанцем, Демарат стал прежде всего расхваливать свой народ:
— Прежде всего, они никогда не выполнят твоих приказов, несущих Элладе рабство. А потому возьмут в руки оружие, даже если все остальные перейдут на твою сторону. Не спрашивай об их числе. Будут сражаться независимо от того, сколько их выйдет в поле. Может, тысяча, а может, немного больше или немного меньше.
Ксеркс выслушал слова Демарата и, рассмеявшись, спросил:
— Как же так? Тысяча будет сражаться против моих бесчисленных отрядов? А ты сам выйдешь против десяти моих? Нет, даже против двадцати, ведь ты царь и должен биться с вдвое сильнейшим неприятелем. Я бы поверил твоим словам, если бы они, как это бывает у нас, подчинялись воле одного господина. Тогда под бичами пошли бы и против более сильного врага.
А Демарат говорил все смелее:
— Спартанцы свободны, но не полностью. У них есть господин. Им является закон. Они боятся его еще больше, чем твои подданные тебя. Спартанцы всегда делают то, что велит им закон. А он говорит: с поля боя нельзя убегать даже тогда, когда противник многократно превосходит тебя числом. Что бы ни случилось, спартанец должен оставаться в строю и победить или умереть[43].
Такова, если верить Геродоту, была беседа об «арете» греков царя персов и его гостя, изгнанника из Спарты. Историк писал эти слова уже в Фуриях, когда между Афинами и Спартой наступил мир.
Часть восьмая Поход на Самос
Война и поэты
«Поэта Софокла я встретил на острове Хиос. Он прибыл туда с Лесбоса во главе нескольких кораблей. За чашей вина Софокл любил веселье и хорошую шутку. Прием в его честь дал близкий друг Софокла и афинский представитель на острове Гермесилай.
Тут же у огня стоял мальчик, подававший вино. Его прелестное лицо раскраснелось. Софокл спросил у него:
— Ты хочешь, чтобы вино доставляло мне удовольствие?
— Конечно, — сказал мальчуган.
— Тогда подавай мне чашу очень медленно и также медленно ее уноси.
Лицо ребенка залил прелестный румянец, а Софокл обратился к своему соседу за пиршественным столом, процитировав поэта Фриниха:
— На пурпурных лицах сияет блеск любви.
Тут в разговор вмешался педагог Эрифрей:
— В поэзии ты, Софокл, разбираешься превосходно, но вот Фриних, мнение которого ты тут привел, выразился неудачно. Пурпурные лица! Да ведь если бы какой-нибудь художник разрисовал лицо этого мальчика красной краской, то оно уже не казалось бы нам таким прекрасным! Значит, красоту нельзя сравнивать с тем, что по сути дела не является красивым.
Софокл рассмеялся:
— Так, значит, друг, тебе не нравится стих Симонида, который эллины очень хвалят: «Улетели слова с губ пурпурных девицы»? Наверное, ты осуждаешь и того поэта, который называет Аполлона златовласым? Ведь если бы художник действительно изобразил бога с золотыми волосами, а не с черными, как это принято, то картина выглядела бы не лучшим образом. А еще кто-то сказал: «Розовые пальчики нимфы». Но если мы покрасим пальцы женщины розовой краской, то это будут пальцы красильщицы, а не прелестной девушки.
Тут все рассмеялись, а пристыженный Эрифрей замолчал. Софокл снова обратился к маленькому виночерпию. Заметив, что тот вынимает мизинцем из вина какую — то крошку, он спросил:
— Ты хорошо видишь эту крошку?
— Да.
— Так сдуй ее и не мочи пальца в вине.
Мальчик наклонился над чашей, которую Софокл как раз подносил к губам. Головы их сблизились, а когда они уже почти соприкасались, поэт неожиданно обнял мальчика, притянул его к себе и поцеловал. Пирующие даже зааплодировали от восторга. Многие, смеясь, восклицали:
— Ну и ловко же ты его обманул!
В ответ Софокл сказал:
— Вот так, мои дорогие, я и учусь искусству стратегии. Ведь Перикл утверждает, что я хороший поэт, но плохой командир. А вы что скажете, удалась моя военная хитрость или нет?»[44]
Так описал эту сцену в своих воспоминаниях один из ее свидетелей — поэт Ион Хиосский. Он был почти ровесником Софокла, которому тогда исполнилось 56 лет. Так же, как Софокл, Ион был драматургом. Трагедии поэта с острова Хиос пользовались успехом. Зрителям нравились гладкость и плавность их языка, хотя, по мнению многих, они не могли сравниться с более глубокими и наполненными очарованием творениями Софокла. Ион попробовал свои силы и в других видах творчества. Он был автором дифирамбов и прелестных любовных элегий и даже покусился на изложение истории родного острова в форме эпопеи. Но самое главное, в воспоминаниях Иона представлены портреты многих его современников.
Перикл на пиру не присутствовал. В тот момент он находился вместе с эскадрой далеко от Хиоса, у южного побережья острова Самос, и намеревался преградить дорогу кораблям самосцев, которые возвращались из похода на Милет. Софокл ждал подкреплений с Хиоса и Лесбоса, ибо перевес сил был на стороне самосцев: они имели семьдесят кораблей против сорока у Перикла. Вождь беспокоился: сможет ли Софокл проявить решительность по отношению к обоим островным государствам, которые в последнее время как будто колебались в своей верности Морскому союзу и Афинам?
Перикл имел все основания не доверять стратегическим талантам поэта. Избранием в коллегию десяти стратегов на 441/440 административный год Софокл был обязан не славе вождя, а успеху поставленной в 442 г. до н. э. трагедии. Тогда его «Антигона» получила первую награду. А когда несколько месяцев спустя выбирали стратегов, многие граждане предпочли видеть на этом посту именно Софокла. Очевидно, они думали, что тот, кто устами Антигоны столь красноречиво защищал неотъемлемые права людей, став членом правительства, будет охранять счастье и свободу отдельной личности. Стратеги оказывали огромное влияние не только на военные дела, но и на всю государственную политику. Поэтому-то Перикл, и ранее многократно избиравшийся в коллегию стратегов, с 443 г. входил в нее постоянно. Свои — голоса ему отдавали все десять фил. Это возвышало его над остальными коллегами, которые представляли только отдельные филы. Перикл внимательно следил, чтобы в коллегию подбирались люди, поддерживавшие его политику. Тайные интриги, связанные с персональным составом коллегии, вероятно, были одним из важнейших факторов политической жизни Афин, для нас, к сожалению, совсем не известным. Доверив Софоклу столь важный пост, сограждане совершили ошибку, к слову сказать весьма распространенную. Богатое воображение и тонкая интуиция, необходимые поэту, скорее мешают политику, которому нужны жесткость и быстрота в принятии решений. Тем более эти качества должны быть у военачальника. Человек же интеллигентный и творческий, столкнувшись с проблемой, видит слишком много путей ее разрешения и нескончаемую цепь последствий каждого шага, он колеблется, пребывает в нерешительности, в то время как ситуация требует немедленных действий.
И тем не менее Перикл не противился выдвижению кандидатуры Софокла, несмотря на то что Софокл никогда не принадлежал к числу сторонников его политики. Некоторые даже считали, что в «Антигоне» поэт хотя и не напрямую, но беспощадно критиковал предводителя афинского государства. Сторонники такой точки зрения утверждали: «Креон, холодный и бездушный блюститель интересов государства, — не кто иной, как Перикл. Именно поэтому уже в начале трагедии он назван стратегом, хотя на самом деле был царем».
Соглашаясь на избрание Софокла, Перикл, очевидно, рассуждал следующим образом. В предыдущем году поэт входил в состав коллегии десяти надзирателей за союзной казной. Тогда он вел себя весьма лояльно по отношению к правящей партии. Став стратегом, он вряд ли поступит иначе. Административный год пройдет тихо и мирно, не возникнет даже необходимости на деле проверить полководческие способности Софокла. К тому же во всех важнейших вопросах решающим будет мнение большинства, поддерживающего своего вождя. Кто мог подумать во время выборов 442 г. до н. э., что вскоре вспыхнет тяжелая война и поэту будет доверена важная военная миссия?
Итак, Перикл напряженно ожидал, кто же явится первым: корабли союзников под командованием Софокла или флот самосцев. Именно в этот момент поэт упражнялся в военных хитростях за гостеприимным столом на Хиосе. Ион смотрел на его шалости с дружеской снисходительностью и с тех пор часто повторял: «Как собеседник во время застолья Софокл просто незаменим: симпатичный, веселый, остроумный».
Но тут же признавал: «И все-таки Перикл прав. Как политик Софокл действительно не. отличается ни быстротой, ни энергией. Поступает как честный, но самый обычный афинянин».
Удивительно слышать оценку, данную Периклом Софоклу в устах Иона, ибо хиосский поэт не выносил вождя афинских демократов и никогда не скрывал этого. Он считал его самоуверенным гордецом, презирающим всех окружающих. Но Иона раздражало не только поведение Перикла, которое можно было бы оценивать по-разному. У него были и другие, более глубокие причины для антипатии. Прежде всего Ион не любил афинскую демократию и вообще демократов — и не только потому, что сам был аристократом. Его родной остров Хиос — могущественный и богатый край — входил в Морской союз, однако Хиос всегда стремился жить по своим законам. В то время как афинские демократы хотели полностью подчинить себе государства союза, олигархи, казалось, выступали за более мягкие формы власти. Так во всяком случае гласила молва, усиленно распространяемая олигархами, которые таким путем стремились усилить свое влияние в союзных городах. Однако если кто-то и связывал свои надежды с олигархами, он глубоко ошибался. Слишком уж быстро все забыли, как вождь олигархов Кимон жестоко подавлял все попытки выйти из союза, например восстание на острове Фасос. Если бы олигархи снова пришли к власти, то они проводили бы по отношению к подчиненным государствам такую же твердую линию, как и их предшественники.
Другое дело, что Кимон — человек открытый и доступный — везде приобретал себе друзей и имел их среди союзников великое множество. Ион сохранил в своей благодарной памяти прекрасный образ сына Мильтиада, прославлял его везде, где только мог. «Военная хитрость» Софокла за столом у Гермесилая напомнила Иону другой пир, состоявшийся примерно 30 годами ранее, и рассказ о другой военной хитрости. Описание тех событий он тоже включил в свои воспоминания.
«Однажды, будучи совсем молодым человеком, я приехал с Хиоса в Афины. Меня пригласил в свой дом Лаомедопт. На пир явился и Кимон. Сначала мы принесли жертвы богам, а потом кто-то попросил Кимона спеть. Тот согласился и запел весьма приятным голосом. Все начали его хвалить:
— Насколько же ты выше Фемистокла. Он открыто говорит, что не учился ни музыке, ни пению и умеет только одно: делать наше государство великим и богатым. Ты же умеешь и то, и другое: и веселиться, и побеждать.
После этого завязалась беседа о деяниях Кимона. И тут он сам вмешался в разговор:
— Хотите знать, что я считаю самой удачной военной хитростью? Так вот, не так давно при поддержке наших союзников мы захватили два города у проливов, ведущих в Черное море. Большие персидские гарнизоны попали к нам в плен. Союзники обратились ко мне с просьбой разделить добычу. Я приказал отдельно разложить одежды и оружие пленников, а их самих поставить рядом. Послышались жалобы, что дележ будет неравным. Тогда я сказал союзникам:
— Сами выбирайте, что хотите. Мы, афиняне, удовлетворимся оставшимся.
А они в ответ:
— Ясное дело, берем одежды и оружие персов!
И еще радовались, как я хорошо все поделил. Ведь им достались золотые наплечники, цепочки, оружие, роскошные одежды, а нам — полуголые пленники, слишком изнеженные, чтобы использовать их на какой-нибудь работе. Прошло некоторое время — и к нам из разных концов Азии стали приезжать друзья и родственники наших пленников. Выкупали их за бешеные деньги. Заработанных денег хватило на содержание флота в течение четырех месяцев и еще осталось на то, чтобы немалую сумму внести в государственную казну»[45].
Война и Аспазия
Кроме неприязни к демократам и восхищения Кимоном, была еще одна причина, по которой Ион не мог относиться к Периклу дружелюбно. Несколько лет назад им обоим понравилась одна девушка — Хрисилла из Коринфа. Оба не скрывали своих чувств. Ион написал в честь прекрасной коринфянки любовную элегию, пользовавшуюся большим успехом. А страсть Перикла к Хрисилле была столь известна, что стала благодатной темой для авторов комедий. Теперь воспоминание о старом соперничестве вызывало у Иона только усмешку. Кто еще помнит о прекрасной Хрисилле? Все только и говорят об Аспазии. Война с Самосом придала ее роману с Олимпийцем новое, политическое значение, ибо противники демократов в Афинах утверждали: Перикл заварил кашу только для того, чтобы понравиться Аспазии. Такое не может не возмущать. Правда, женщины уже не раз были причиной пролития крови. Сколько храбрых воинов погибло под Троей, чтобы отомстить за похищение Елены! Спор из-за женщин, как утверждает Геродот, явился первой причиной ссоры греков и азиатов: некогда финикийцы похитили девушку Ио из Аргоса. В ответ греки украли царевну Европу из Финикии и Медею из далекой черноморской Колхиды. Как тут не вспомнить старую персидскую пословицу: только негодяи похищают женщин, но только глупцы ищут возможности отомстить за похищение. Разумные люди не беспокоятся об этом, ибо крадут только тех женщин, которые хотят быть украденными. Что же можно сказать о мужчине, начавшем войну даже не из-за женщины, а для женщины и не сумевшем устоять перед ее просьбами? Ведь известно, что Аспазия родом из Милета, а Милет поссорился с островом Самос и был побежден. Но последний нашел выход из положения, обратившись к своей прекрасной дочери, которая управляет Периклом, а через него — Афинами и всем Морским союзом.
Нападки, прежде всего комедиографов, стали настолько резкими, что дело дошло до неслыханного ранее в Афинах события: власти запретили высмеивание со сцены еще живущих людей. Закон был вскоре отменен, осталось в силе только запрещение насмехаться над правящим архонтом и самим народом. Но и его часто обходили.
На первый взгляд в язвительных замечаниях врагов Перикла было много правды: вождь явно отдавал предпочтение Милету. Однако истинной причиной такого положения являлась не столько Аспазия, сколько важные доводы политического характера. Милет, так же, как и Самос, входил в Морской союз. Некоторое время с молчаливого согласия Афин городом правили олигархи. Однако они оказались нелояльными по отношению к руководителям союза, а кроме того, учинили кровавую расправу над своими противниками в самом государстве. Поэтому уже в 450 г. до н. э. в Милете при афинской помощи был совершен государственный переворот, власть захватили демократы. Два самых могущественных аристократических рода приговорили к изгнанию навечно. В принятом в связи с этим законе отмечалось, что тот, кто убьет кого-нибудь из их членов, получит от властей в награду сто статеров. С новым правительством Афины заключили договор, а все милетцы дали им присягу на верность.
Только один день пути отделял Милет, расположенный на азиатском побережье у устья р. Меандр, от острова Самос. Морская дорога вела вдоль длинного и гористого мыса Микале, того самого, где некогда Ксантипп, отец Перикла, уничтожил персидский флот. Самос являлся как бы продолжением мыса. Земли острова не отличались плодородием, поэтому его жители издавна селились на материке, особенно в окрестностях г. Приена. Он расположился сразу за горным хребтом на мысе Микале, на берегу Меандра и был близким соседом Милета, который, естественно, предъявлял права на эти плодородные земли. Так возник конфликт, а позднее и война между Милетом и Самосом, длившаяся с незначительными перерывами на протяжении жизни многих поколений.
Получив известие о том, что между обоими государствами вновь начались вооруженные столкновения, Афины, как гегемон союза, потребовали немедленно прекратить военные действия и предложили свои посреднические услуги. Самосцы отказались подчиниться, ибо не без основания сомневались в беспристрастности афинян. Если во всех государствах Морского союза те поддерживали демократов, то неужели олигархический Самос может рассчитывать на их расположение?
Переговоры шли трудно. В Афинах все еще колебались, какую позицию занять по отношению к упрямым островитянам. А тем временем в город тайно прибыли представители самосских демократов. Они жаловались на свое правительство и порядки на острове, давали понять, что народ с радостью встретит политические изменения. Это перевесило чашу весов. Перикл решил действовать.
Ранней весной 440 г. до н. э. он сам отправился на Самос во главе эскадры из нескольких десятков кораблей. Остров был захвачен без боя. Перикл отстранил от власти и изгнал олигархов, установил демократическое правление. Однако во избежание каких-либо неприятных неожиданностей он оставил на острове афинских чиновников и воинов, а из самых влиятельных семей взял в заложники пятьдесят мужчин и столько же мальчиков. Было приказано содержать их под надзором на острове Лемнос, где уже несколько лет находились афинские клерухи.
Поход длился всего несколько дней, и чрезвычайно довольный Перикл вернулся в Афины. Казалось, новый порядок прочно укоренился на острове. Но именно легкость, с которой все произошло, и должна была встревожить предводителя афинского народа, ибо он никогда еще до тех пор не вмешивался столь откровенно и жестоко во внутренние дела союзного государства — обычно достаточно было легкого нажима или посылки небольших отрядов. А ведь Самос не был каким-то второстепенным государством без всяких традиций и политического значения. Совсем наоборот, он весьма гордился своим славным прошлым. Всего век назад остров являлся самым могущественным государством в Эгейском море. Его жители могли смело говорить о себе: «Мы — одни из основателей и полноправных членов Морского союза. Пусть Перикл устраивает какие хочет порядки в маленьких городишках. Им-то все равно. Они ничего не значат, не имеют ни собственной армии, ни воспоминаний о былой славе. Что же касается нас, то мы и сами можем управлять своей страной».
Унижение, которому жители Самоса подверглись со стороны афинян, привело к тому, что их симпатии обратились к свергнутому строю. Не прошло и двух месяцев со времени Периклова похода, а на острове уже снова правили олигархи. Достаточно было того, чтобы их небольшой отряд высадился в одну из ночей на побережье, — и на Самосе вспыхнуло восстание. Демократов прогнали, а афинских чиновников и воинов поймали и выдали персам. Дело в том, что во время своего изгнания олигархи установили контакт с персидским сатрапом из Сард. С его помощью были освобождены заложники, находившиеся на Лемносе.
С этого времени недобрые вести посыпались на Афины, как из дырявого мешка. Новое самосское правительство объявило о выходе из Морского союза, его примеру осмелились последовать жители Византия. Под подозрение попали города Карии на азиатском побережье и несколько городов во Фракии. Создалась угроза, что в считанные месяцы, а может быть, и дни будет уничтожено величайшее детище Афин, великолепное здание, старательно возводимое в течение сорока лет с помощью хитроумных договоров, насилия и предательства. Конечно, союз давал входившим в его состав крохотным государствам определенные выгоды: мир и безопасность мореплавания, а также выгоды от развития торговли. Но удивительно, какое маленькое значение приобретают экономические интересы, когда дело касается оскорбленных чувств какого-нибудь народа, его жажды полной независимости. В государствах союза, как нам кажется, верх взяла следующая точка зрения: «Афиняне смотрят на нас как на своих подданных, заставляют платить дань, навязывают государственный строй, судят своим судом и запрещают чеканить монету. Разве под властью персов нам было бы хуже? И кто является худшим тираном: персидский царь или афинский народ? Лучшими господами над нами были бы, наверное, спартанцы. Правда, они поддерживают олигархов, зато не требуют от своих союзников никаких денег».
Грозные известия пришли с Пелопоннеса. Тамошний союз собрал под председательством Спарты свой совет. Раздумывали о том, не воспользоваться ли создавшейся ситуацией и не ударить ли по Аттике. Раздавалось много голосов в пользу войны. Но неожиданно воспротивились пользовавшиеся большим влиянием представители Коринфа. Каждый, говорили они, может поступать со своими союзниками так, как ему заблагорассудится. Мнение коринфян было тем более странным, что никто, казалось, не желал упадка афинского могущества больше, нежели они. Но на то имелась своя причина: между Самосом и Коринфом издавна существовала глубокая ненависть.
Перстень Поликрата
Было это лет за сто пятьдесят до описываемых событий. В порт Самоса по пути в Малую Азию зашел коринфский корабль. Он не вез никаких товаров, что весьма удивило островитян. Зато на борту находились под постоянным надзором множество красивых мальчиков. Несмотря на бдительность стражи, самосцам удалось с ними поговорить. И вот что они рассказали: «Мы родом с острова Керкира, расположенного далеко на запад отсюда, в Ионическом море. Наша родина, правда, является колонией Коринфа, но всегда была с ним в ссоре. И вот на нас обрушился гнев тирана Коринфа Периандра, поскольку на нашем острове убили его сына. Из мести Периандр велел захватить нас, детей из знатнейших родов. Теперь нас везут к царскому двору в Сарды, где превратят в невольников».
Жалость охватила самосцев, и они посоветовали несчастным: «Мы не можем освободить вас силой, ибо это вызовет войну с Коринфом, но, как только стемнеет, постарайтесь покинуть корабль и бегите к храму богини Артемиды. По нашим законам никого, кто ищет у нее убежища, нельзя взять оттуда силой. Такова воля богини. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы ваши стражники с уважением отнеслись к обычаю и святости места».
Так и произошло. Когда мальчики очутились на территории святилища, они уже были в полной безопасности. Правда, взбешенные коринфяне попытались вытащить их оттуда, но на защиту беглецов стеной стали самосцы. «Мы не можем вам этого позволить, ибо гнев богини падет на нашу землю», — сказали они. Тогда коринфяне решили взять мальчиков измором. Но не тут-то было. Каждую ночь в храм стали приходить самосские юноши и девушки, которые водили хороводы и возлагали на алтарь богини лепешки из кунжута и меда. Коринфяне не смели этому мешать. Наконец, потеряв терпение и измучившись от скуки, они покинули остров. Чудом спасенных детей самосцы за свой счет отвезли на родину.
Говорят, что вспыхнувшая тогда ненависть Коринфа к Самосу уже никогда не угасала. Ее еще больше подогревало морское и торговое соперничество. Через полвека после случая с керкирскими мальчиками коринфяне вместе со спартанцами напали на Самос. Островом тогда правил тиран Поликрат. Захватчики утверждали, что хотят освободить остров от деспотического правления и вернуть изгнанных тираном граждан. Они прибыли на множестве кораблей, сорок дней осаждали город, но, ничего не добившись, удалились восвояси.
Это был очередной триумф Поликрата, которому уже много лет везло буквально во всем. С тех пор как стал хозяином Самоса, тиран не ведал поражений. Под рукой имел всегда сто пятьдесят кораблей и тысячу лучников. Он захватил несколько соседних островов и городов на азиатском побережье. Богатства Поликрата были неисчислимыми, ибо он не брезговал пиратством, грабил и друзей, и врагов. Никто в тогдашнем греческом мире не мог противостоять ему на море. Правда, появилась угроза с востока — молодая и динамичная персидская монархия. Но «царь царей» был далеко, а с его малоазиатскими сатрапами Иоликрат поддерживал неплохие отношения. С тогдашним фараоном Египта Амасисом его даже связывали узы сердечной дружбы. От него-то Поликрат и получил письмо следующего содержания: «Приятно слышать, что удача во всем сопутствует моему дорогому другу. Но непрерывный поток твоих успехов рождает во мне опасения. Я хорошо знаю, как завистливы боги, и поэтому предпочитаю, чтобы везение иногда сменялось неудачей. Лучше умеренность, чем непрерывная полоса успехов, ибо тот, кому везет во всем, умрет в нищете. Послушай-ка, доброго совета! Найди среди своих вещей такую, потеря которой огорчила бы тебя больше всего на свете. Выброси ее, и притом так, чтобы никто ею уже никогда не завладел. А если тебе и после этого будет везти по-прежнему, используй в дальнейшем тот же способ отведения от себя зависти богов».
Прочитав письмо Поликрат решил, что среди всех дорогих предметов и ценностей есть только один, потеря которого действительно его глубоко огорчит, — прекрасный перстень с изумрудом. Тиран поднялся на борт свое — го самого большого корабля и вышел в открытое море. Там он снял перстень с пальца и бросил его в зеленую глубину.
Через несколько дней какой-то рыбак поймал рыбу такой величины, что решил подарить ее владыке острова. Повар вскрыл ей брюхо и, не помня себя от радости, побежал к Поликрату. В руках у него был любимый перстень тирана.
Когда Амасис узнал из письма об этом происшествии, он тут же послал на Самос вестника. Тот предстал перед
Поликратом и сказал: «Мой господин понял теперь, что не в человеческих силах уйти от приговора судьбы. Если боги отдают тебе даже то, что ты сам хотел потерять, — это значит, они готовят тебе страшный конец. Поэтому мой господин отказывает тебе в своей дружбе. Он не хочет ни погибнуть вместе с тобой, ни горевать, когда с тобой случится несчастье».
Несколько лет спустя персидский сатрап предательски заманил к себе Поликрата. После страшных пыток он был распят на кресте. Однако на Самосе еще долго сохранялась память о величии Поликрата. Поколение за поколением восхищались чудесами техники и великолепными зданиями, построенными по его приказу. Среди них туннель длиной в восемь стадий, т. е. более чем в 1 км. Пробитый в горе, он дал возможность горожанам пить здоровую родниковую воду. По современным подсчетам прокладка туннеля заняла не менее пятнадцати лет. Весьма впечатлял и каменный мол, защищавший вход в порт и протянувшийся в море на несколько сотен метров.
А за городом возносила к небу свои колонны огромная святыня, долгое время считавшаяся самой большой во всей Греции. Хозяйкой храма была Гера, ибо, как гласили мифы, она родилась на Самосе.
Жители острова с гордостью показывали чужеземцам эти постройки. Наверное, некоторым из них приходила в голову мысль, что все тирании стремятся к монументальности. Хотят восхищать и поражать, жаждут, чтобы современники падали перед ними на колени, а потомки славили их имена, восклицая: «Прекрасны правители, создавшие такое чудо!»
Но правду не закроет ни одно здание, даже если оно упирается крышей в небо. Мы знаем, что каменные глыбы таскали свободные, но запуганные люди, а туннель рыли доведенные до скотского состояния полурабы. Счастлива страна, жители которой не могут показать чужестранцам никаких диковинок архитектуры. Они спокойно живут в бедных домиках среди полей и огородов, а воду черпают из отдаленного источника. Вечером за чашей вина свободно беседуют об общих делах. Но тиран никогда не поймет их хозяйственных забот, их, казалось бы, мелких дел, а ведь они и составляют то, что мы называем радостью жизни. Нет, его привлекает только «великое», угнетающее человека. И грозит такой деспот людям: «Уж я-то научу вас работать!»
Война и философы
Летом 440 г. до н. э. вести с Самоса держали Афины в постоянном напряжении. Сначала все говорили: Перикл затаился со своей эскадрой и наверняка застанет врасплох самосцев, возвращающихся из-под Милета. Ведь те даже не знают, что уже началась война. Лишь бы только Софокл вовремя прибыл с подкреплениями с Хиоса и Лесбоса».
И действительно, через несколько дней пришло официальное сообщение Перикла о победе: «Хотя нас было и меньше, мы рассеяли семьдесят самосских кораблей и теперь плывем прямо к самосской столице».
Однако торжествовать победу оказалось рано. Афиняне узнали, что у самосцев действительно было семьдесят кораблей, но из них только двадцать военных, а остальные — обычные торговые суда. Их флотом командовал Мелисс. И как командовал! Он сумел прорваться сквозь афинские боевые порядки и вернуться в свой город. Перикл не смог отрезать Мелисса от его базы и решить исход войны в одной битве. Ничего удивительного, что он был взбешен. Говорили, афинский вождь приказал ставить самосским пленникам клейма на лоб.
Позднее настроение в Афинах снова изменилось: Перикл блокировал Самос со стороны моря. Наконец-то прибыл Софокл и привел с собой несколько кораблей. Их могло бы быть и больше, по наши союзники предпочитают переждать, кто окажется победителем. Рано или поздно город сдастся, хотя бы от голода».
И вдруг, как снег на голову, новое известие: «С юга к Самосу идет большой финикийский флот под персидским командованием. Пять самосских триер прорвали блокаду. Наверное, соединятся с финикийцами и приведут их на помощь своему городу. Периклу придется отступить, иначе эти тараны разнесут его флот в щепки».
Почти десять лет назад Афины заключили с персами мир. Он гарантировал, что персидский флот не войдет в Эгейское море. Неужели «царь царей» нарушил договор? В данной ситуации это означало бы катастрофу. Ведь персы не только могли оказать помощь Самосу, но и договориться со Спартой.
А тем временем с Самоса пришла еще более страшная весть: «Мелисс разгромил нашу эскадру, блокировавшую вход в порт. Самосцы снова хозяйничают на море. Везут в город все, что только пожелают. Теперь они мстят за Перикловы жестокости: выжигают пленным афинянам на лбу изображения сов!»
Все с удивлением спрашивали, как же такое могло произойти. Объяснение пришло вскоре, но оно не делало чести авторитету вождя: «Перикл поступил легкомысленно, взял из-под Самоса шестьдесят кораблей и поплыл на юг, чтобы расправиться с финикийцами как можно дальше от острова. Как же можно было так ослаблять отряд, охранявший порт? Ведь в нем осталось всего несколько кораблей. Мелисс не слепец, он сразу все заметил. Как коршун, бросился он на наших. Уничтожил или прогнал афинские триеры, взял в плен сотни людей. Надо признать — он прекрасный вождь. Удивительно то, что этот философ демонстрирует столько энергии и стратегических талантов».
Многие, заинтересовавшись, каких же философских взглядов придерживается столь умелый военачальник, теперь узнали о его книжке. Она называлась «О природе вещей». В ней рассказывалось о бытии. Вот что говорилось в самом ее начале: «То, что существует, всегда существовало и существовать будет. Ибо если бы оно когда-нибудь появилось на свет, то не существовало бы до своего появления. А если бы оно и раньше не существовало, то никоим образом не могло возникнуть из ничего. Поэтому то, что никогда не рождалось, существует ныне, существовало раньше и впредь всегда будет существовать. И оно не будет иметь ни начала, ни конца, а будет бесконечным, и так же, как его жизнь будет вечной, так и размеры — бесконечными. Ибо то, что имеет начало и конец, не может быть вечным и безграничным. Но то, что безгранично, должно составлять единство, ведь если бы существовали два бытия, то они были бы не безграничными, а ставили бы друг другу предел»[46].
Вряд ли кто-нибудь проявлял больший интерес к взглядам Мелисса, как два воина, стоявших у борта одной из афинских триер, находившихся в районе самосского побережья. Не будет преувеличением сказать, что один из них вызывал не меньший интерес, чем самосский философ-военачальник. Давайте послушаем их беседу.
«По сути дела Мелисс опровергает и твои взгляды, Архелай, хотя, и не называет никого по имени. Получилось немного смешно. Наверняка многие на нашем флоте посмеиваются над тобой: "Ого, а Архелай-то специально приехал на Самос, чтобы расправиться с философом, который иначе думает о природе вещей. Оп сам верит во множественность, а тот — в единство бытия. И вот теперь, когда им не хватило философских аргументов, они взялись за мечи: началась война мыслителей". Как теперь отвечать на подобные шуточки? Ведь, по правде говоря, ты действительно не был обязан участвовать в этом походе. Во-первых, ты не афинский гражданин, хотя уже много лет живешь в нашем городе. Во-вторых, твой возраст в любом случае освободил бы тебя от военной службы за пределами страны. Другое дело я: мне 30 лет и таких всегда посылают на войну.
Ты вовсе не должен меня убеждать, я сам прекрасно знаю о причинах твоего появления здесь. Ты приехал только из-за меня. Ты — мой учитель и друг и не хотел расстаться со мной в столь тревожные времена. Но скажи откровенно: поверит ли кто-нибудь в твою привязанность ко мне? Честно сказать, я сам этому удивляюсь. Что есть во мне достойного внимания? Я не красавец. Особенно меня портит нос, широкий и вдавленный. А может быть, ты ценишь во мне благородство происхождения? Вот этому я поверю больше, поскольку действительно происхожу из весьма знатного рода: мой отец был каменотесом, а мать — повитухой. Впрочем, что я говорю. Тебя наверняка привлекают мое огромное состояние и слава. По мере своих сил я пытаюсь заниматься тем ремеслом, которому научил меня отец. Должен, однако, открыто признать, что больших успехов я не достиг. Свои скромные жизненные потребности я обеспечиваю главным образом благодаря доброте друзей. В них у меня и вправду нет недостатка, ибо я целый день вращаюсь среди людей. С утра я развлекаюсь в гимнасии, с интересом наблюдая, как состязается наша молодежь. В полдень меня можно увидеть на агоре, ибо в это время там больше всего народа. А остаток дня я провожу там, где можно встретиться с интересным собеседником.
Вряд ли ты сможешь кого-нибудь убедить в скрытых достоинствах моего ума и характера. Я сам весьма сомневаюсь в том, что чем-либо отличаюсь от жалкой посредственности, разве только красноречием. Так что не обессудь, никто не поверит, будто ты прибыл сюда только из-за меня — скромного воина Сократа. Все, и в лагере, и на флоте, будут смеяться и говорить о войне философов, о том, что ты приехал силой обратить Мелисса в свою веру, коль скоро не можешь этого сделать словами.
Итак, вернемся к Мелиссу. Его мысли не поражают новизной. Я уже знаком с такими взглядами и способами доказательства. О том же самом, только красивее и торжественнее, пишет в своей поэме Парменид. Некоторые строчки я даже помню наизусть: «Коль скоро природа не родилась, не может она умереть. Напрасно, друг, ты ищешь начало ее и конец. Она едина, однородна, уничтожить ее нельзя, да и увеличиться она не может. Невозможно, чтобы одно бытие породило другое, ведь было б тогда их два. Но также не можешь ты утверждать, что бытие возникло из небытия»[47].
С Парменидом я познакомился несколько лет назад. Как ты, наверное, помнишь, он приезжал в наш город во время праздника Панафиней издалека, из родного города Элеа в Южной Италии. Уже тогда ему было не меньше 65 лет, но держался он превосходно. Был похож на одного из героев Гомера — достойный уважения и одновременно пробуждающий в душе какую-то смутную тревогу. Вместе с ним прибыл его ученик Зенон — очень красивый и высокий сорокалетний мужчина. Оба они, хотя и приехали издалека, были нам хорошо известны по многочисленным рассказам. Приезжие разместились у своего друга Пифодора, жившего за городскими стенами, в предместье Керамик. Сразу же распространились слухи, что Зенон привез свой чрезвычайно интересный трактат. Поэтому мы отправились в дом Пифодора большой компанией, чтобы попросить Зенона прочитать нам его. Тот охотно согласился. Я прекрасно помню, что Парменида с нами тогда не было, он отправился в город по каким-то делам. Зенон как раз заканчивал чтение, когда он вошел в сопровождении двух своих приятелей. Мне очень хотелось поговорить с этим замечательным человеком, и поэтому я попросил Зенона повторить основные положения своего первого умозаключения. Зенон откровенно признался: «Целью моей книжки является защита взглядов Парменида от тех, кто их высмеивает. Я опровергаю всех утверждающих, что положение о единстве бытия приводит к абсурдным и противоречивым выводам. В своем трактате я обрушиваюсь на сторонников множественности бытия и наношу им один за другим сокрушительные удары. Я доказываю, что те, кто отстаивает множественность бытия, приходят к гораздо более абсурдным выводам, нежели мы. Из любви к философским битвам осмелился я, еще совсем молодой человек, написать эту вещицу».
Благодаря словам Зенона я смог втянуть в беседу и Парменида. Так вот, мне кажется, Мелисс поступает так же, как Зенон, хотя и не признается в этом: с помощью новых аргументов он защищает Парменида. Может быть, между ними и есть какая-то разница, но она не существенна. Зато нет никакого сомнения в том, что именно ты, Архелай, и твой учитель Анаксагор являетесь противниками Парменида. Помнится, ты читал мне когда-то его книжку. Ее начало великолепно, и я запомнил его наизусть: «Все вещи были вместе, а их число и малость не имели границ. Ибо в природе не существует самого крохотного: всегда будет что-то еще меньше. Но всегда существует и еще больше. Каждая вещь, взятая сама по себе, является одновременно и большой, и маленькой»[48].
Но больше всего меня восхищает то, что над множественностью и безграничностью бытия Анаксагор ставит Разум. Он един, бесконечен, самовластен, существует сам для себя, ни с чем не соединяется и не смешивается. И тогда я думал: «Предположение, что Разум владеет всем наконец-то объяснило мне, почему мир устроен так, а не иначе, Если мир — творение Разума, то все созданное им разумно и доступно познанию».
Я внимал этой книге, глубоко надеясь получить ответы на все вопросы вплоть до самого для меня интересного: является Земля плоской или круглой, как шар. Увы, как ты знаешь, я ошибся. Оказалось, что Разум, согласно Анаксагору, хотя и существует, но ничем нам помочь не может. Все, как объясняет этот философ, зависит от действия разных факторов. Я не получил на свои вопросы никакого ответа и охладел к его учению. Хватит с меня поисков бытия (в единственном числе или во множественном) и размышлений о том, почему оно возникает и гибнет. Это все равно что смотреть на солнце: либо ослепнешь, либо сойдешь с ума. Я предпочитаю простые слова и мои ежедневные разговоры с обычными людьми. Мы начинаем беседу и шаг за шагом, поправляя друг друга, поднимаемся от простых понятий и выражений все выше и выше. Не думаю, что, двигаясь этой «горной дорогой», мы найдем что-нибудь необыкновенное, но она по крайней мере самая надежная и доступная моему уму.
Ну а тебе и Мелиссу я оставляю ваш великий спор о сущности бытия. Я говорю спор, ибо вопреки надеждам наших смелых воинов сражаться друг с другом вы не будете. Если и произойдет между вами поединок, то совсем по другой причине. Ведь ты родом из Милета, постоянно враждующего с Самосом. Посмотри, как забавно получается: Периклова Аспазия ведь тоже из Милена. Куда ни посмотришь — на философов или на прелестных женщин — везде получается одно и то же: люди из Милета подталкивают нас, любящих мир афинян, к войне с любящими мир жителями Самоса».
Война и финансы
«На каждом корабле находится экипаж, состоящий из воинов й гребцов, — всего около двухсот человек. Каждый из них ежедневно получает в качестве жалованья и на питание около одной драхмы. Следовательно, каждая триера ежедневно обходится государству в двести драхм, или в две мины серебра. За месяц их будет уже шестьдесят — ровно один талант.
Ныне флот у Самоса после его многократного усиления различными, эскадрами насчитывает почти двести судов. Правда, более четверти из них — это корабли с Лесбоса и Хиоса, оплачиваемые тамошними государствами. Соответствующие суммы они высчитывают из своей ежегодной дани. Зато содержание оставшихся тяжелым бременем ложится на афинскую казну: из месяца в месяц только на судовые команды надо тратить почти сто пятьдесят талантов. И это еще не все. Военные расходы огромны, и их нельзя покрыть за счет обычных доходов — таможенных и судебных сборов, сдачи внаем рудников, налогов с метеков и гетер. Все, что поступает из этих источников, полностью идет на текущие административные расходы, поддержание в порядке зданий, крепостных стен, водопроводов. Война затянулась, конца ее не видно, откуда же взять деньги?»
Такие заботы одолевали афинский совет и чиновников поздним летом 440 г. Финансовые проблемы росли с каждым днем, ибо сначала стоимость войны почти не принималась во внимание. Думали, что все пойдет так же легко, как и раньше, — тогда Перикл занял остров за несколько дней. Ныне у Самоса собраны почти все военные корабли, но до победы еще очень далеко.
Радовало только одно: слухи о флоте, идущем на помощь Самосу, оказались ложными. Персы не разорвали договор и не отправились в Эгейское море. Правда, несколько городов Карии, воспользовавшись ситуацией, вышли из союза, но эту потерю можно было пережить.
Как только Перикл понял, что персы не решатся напасть, он немедленно вернулся к Самосу и заблокировал порт. На суше также возвели укрепления. Но битв и столкновений афинский стратег избегал: голод сам заставит самосцев сдаться на милость победителя. Вот это-то и огорчало афинских финансистов: «Такая стратегия нас разорит! Придется держать у Самоса двести кораблей в течение нескольких, а может быть, и многих месяцев. Откуда же достать столько денег?»
Выход был только один: взять заем из сокровищницы Морского союза, которая под опекой богини Афины располагалась на Акрополе. Заем оказался крайне необходимым, ибо осада длилась целых девять месяцев. Он пошел главным образом на жалованье воинам и гребцам, а те в свою очередь истратили большую его часть на афинских девиц легкого поведения, которые скрашивали им суровые будни военной кампании. В благодарность за хороший заработок «жрицы любви» пожертвовали деньги на строительство на Самосе храма своей покровительницы, богини Афродиты. Во всяком случае, так утверждала местная легенда.
Защитникам острова не помогли ни отвага, ни энергия их вождя Мелисса. Он ясно видел, что лишенный продовольствия город неизбежно падет и только битва может принести спасение. Поэтому была предпринята отчаянная попытка вырваться из порта, но напрасно. Вскоре (весной 439 г. до н. э.) обреченный город капитулировал. Условия мира были суровыми. Самосцы обязывались срыть крепостные стены, отдать все военные корабли и заложников, несколькими частями заплатить афинские военные издержки (почти полторы тысячи талантов), уступить божествам афинского пантеона некоторые владения на острове. Мирный договор выбили на мраморной плите, установленной на Акрополе (ее фрагмент сохранился до наших дней). И уж само собой разумеется, на Самосе был восстановлен демократический строй.
Позднее рассказывали, что Перикл крайне жестоко поступил с воинами самосского флота. Всех их привезли в Милет и привязали к столбам на тамошней агоре. Несчастные простояли так десять дней и ночей, а потом умирающих добили палками. Тела их были выброшены на поживу псам и птицам.
Быть может, враги афинян и Перикла и «приукрасили» описание экзекуции. Известно, что Перикл принародно хвастался: «Царю Агамемнону понадобилось десять лет, чтобы захватить Трою, а я заполучил богатейший город Ионии всего за девять месяцев!»
Афиняне, павшие в этой войне, были погребены за счет государства. Надгробную речь на кладбище за Дипилонскими воротами произнес сам Перикл. Слушатели запомнили и передали потомству несколько красивых фраз из нее: «Уход из жизни этих молодых людей можно сравнить только с потерей, которую ощутили бы времена года, если бы у них отняли весну. Но те, кто пал в бою, сделались бессмертными и подобными богам. Мы, смертные, не видим богов, однако приходим к выводу, что они существуют, замечая, какие почести им воздаются и какое благо они нам даруют. Так и павшие за родину герои заслужили почести для себя и великое благо для нас, живущих».
Когда Перикл закончил, его окружили женщины, осыпая, словно олимпийского победителя, цветами и лентами. Сквозь толпу с трудом протиснулась старушка Эльпиника. Стоявшие рядом запомнили ее слова: «Твои деянья прекрасны и достойны удивления, Перикл! Ты отправил на смерть столько храбрецов. И ради чего? Только для того, чтобы надеть ярмо на братский, союзный с нами город. Мой брат тоже сражался и вел воинов в смертельную схватку. Но ведь он побеждал врагов Эллады — персов и финикийцев!»
Прибежище Еврипида
Отверстие грота, в тени которого часто нежился Еврипид, открывало его взору серебристое море. Здесь царил покой, нарушаемый лишь мерным плеском волн о прибрежные валуны да жалобными криками гнездящихся на скалах птиц. Поэт приносил сюда свитки папирусов. Он любил книги и, хотя и не был богат, покупал их где только мог. В гроте Еврипид читал и творил. Иногда в поисках соответствующего слова и рифмы он подолгу всматривался в небо или медленно провожал взором лодки и корабли, тихо скользящие по сверкающей глади в сторону Пирея.
Еврипид смотрел на море с холмов Саламина. Здесь он родился, здесь хозяйствовал на клочке земли, унаследованном от отца. Особого имущества у него никогда не было, и позднее многие смеялись над тем, что мать поэта сама продает овощи на рынке.
Расщелина в скале влекла Еврипида не только прекрасным видом, открывающимся отсюда, но и тишиной, удаленностью от крикливой толпы. Любовь к уединению привела к тому, что позднее Еврипида обвиняли в недоброжелательстве к людям вообще. Неправда! Поэт презирал не людей, а чернь. У него вызывали отвращение ее крикливость, низменные вкусы, наивное ловкачество и смешная уверенность в себе. В этом смысле он вполне разделял взгляды Гераклита — философа, жившего за век до него. Очевидно, Еврипид специально отправился на его родину, в г. Эфес в Малой Азии, чтобы выучить наизусть Гераклитовы тексты, хранившиеся в сокровищнице местного храма Артемиды. Но дело даже не в том, где поэт читал эти книги, главное — он всем сердцем воспринимал содержащиеся в них мысли: «Обыкновенные люди не ведают, что творят наяву, так же как не помнят своих снов. Не умеют ни как следует слушать, ни говорить. Где у них разум, где рассудок? Верят уличным певцам, учатся у сброда. Они не способны понять, что глупцов вокруг без счета, а умных — единицы»[49].
Зато перед людьми тихими, задумывавшимися над тайнами вселенной Еврипид радостно раскрывал свое сердце. Неторопливые беседы в кругу избранных пьянили поэзией и спокойной мудростью. Поэтому-то он часто говорил: «Счастлив тот, кто проникает в тайны познания. Его не завлечет губительная для всех политика, он никого не обидит. Как зачарованный, всматривается он в вечно молодую и бессмертную природу, исследует ее нерушимый порядок».
Даже за чашей вина Еврипид не умел беззаботно смеяться. Как же он отличался в этом смысле от Софокла, который, хотя и был старше его на 15 лет, сразу становился душой всякого застолья, блистал, веселился сам и веселил других! Пиршественное «поле битвы» Еврипид всегда охотно уступал этому любимцу богов и людей. Однако его всегда огорчало то, что, по мнению публики, он никогда не сравнится с ним как поэт. Софокл получил первую награду в 28 лет, он — только в 40. Но Еврипид не переставал работать. Когда Софокл в качестве стратега находился на Самосе, Еврипид в своем скальном убежище создавал новые драмы. Чтобы представить свои произведения во время Дионисий 438 г. до н. э., ему нужно было передать их на суд архонта, вступившего в должность в июле 439 г. На этот раз поэт решил внести изменения в обычный набор пьес. После трагедийной трилогии вместо сатировой драмы он дал сценическую повесть, хотя и со счастливым концом, но с серьезным содержанием, касавшуюся больших проблем. Поэт выбрал миф об Алкестиде. Ее муж Адмет должен умереть. Боги, однако, согласились даровать ему жизнь, если кто-нибудь пожертвует взамен свою. Даже стоящие одной ногой в могиле родители Адмета не спешили умереть, не хотели отдать ни одного дня своего старческого существования. Только один человек согласился добровольно уйти в царство теней — молодая жена Адмета Алкестида. Лишь в последний момент ее вырвал из когтей бога смерти Таната прибывший в гости к Адмету Геракл.
Вот такую драму о жертвенной любви, победившей смерть, написал Еврипид в дни кровавой войны с Самосом.
Часть девятая Все защищают мир
Два посольства
В июле 433 г. до н. э. в Афины одновременно прибыли послы Коринфа и Керкиры. Они предстали сначала перед советом, а потом и перед народным собранием. Первыми изложили свое дело керкиряне: «До сих пор мы ни с кем не связывались узами союза. Поэтому-то ныне мы вынуждены вести войну с Коринфом в одиночку. Может быть, кто-нибудь спросит, почему мы не хотели иметь союзников. Ответ прост: мы опасались, что союзный договор заставит нас заниматься делами, далекими от наших интересов, и принудит к войне с людьми, которые при других обстоятельствах были бы нашими друзьями. Мы считали, что поступаем предусмотрительно, но, как оказалось, ошиблись. Правда, нам удалось отбить первое нападение коринфского флота. Однако против нас готовится новый поход: Коринф обращается за помощью к разным государствам Эллады. С такой мощью Керкире не справиться. Поэтому мы и обращаемся к вам с просьбой о помощи. Надеемся, что ее предоставление будет для вас выгодным и, конечно, не принесет никакого вреда. Во-первых, вы окажете помощь не обидчикам, а жертве нападения. Во-вторых, на веки вечные заслужите нашу благодарность. И наконец, в-третьих, ваш флот превосходит все остальные, но самым сильным после него является наш. У нас сто двадцать военных кораблей. Поэтому в случае заключения союзного договора в выигрыше-окажемся не только мы. Ведь и вы одновременно приобретете славу защитников справедливости и усилите вашу морскую мощь.
Но, быть может, некоторые из находящихся здесь судят, что никогда не произойдет такой войны, в котором мы могли бы пригодиться? Они глубоко заблуждаются! Спартанцы живут в постоянном страхе перед вами и наверняка стремятся к конфликту. И уж во всяком случае, этого желают ваши злейшие враги — коринфяне. Их замыслы угадать нетрудно: сначала победить нас, а потом ударить по Афинам и Морскому союзу. Из опасения перед нашими объединенными силами они жаждут либо подчинить себе наш остров, либо полностью его уничтожить.
Конечно, коринфяне будут утверждать, что вы не имеете права принимать нас в ваш союз, ибо Керкира их колония. В таком случае мы хотели бы напомнить: только та колония, к которой хорошо относятся, уважает свою метрополию. Колонисты не подданные. Когда между нами и Коринфом разгорелся спор из-за Эпидамна, мы хотели решить дело полюбовно, но коринфяне предпочли войну.
Ваш договор со Спартой говорит ясно и недвусмысленно: те государства, которые не состоят ни в каких союзах, могут присоединиться к одному из них. Как будто прямо о нас написано. Таким образом, ничто не препятствует принятию Керкиры в число членов Морского союза. Кроме того, наш остров находится в Ионическом море и может сослужить хорошую службу афинскому флоту в случае его похода на Запад, но он ведь может стать базой и для кораблей Запада, если тамошние государства захотят оказать помощь Спарте и Коринфу. Что вы предпочтете?
Хотим вам напомнить еще раз: во всей Элладе есть только три морских державы — Афины, Коринф и Керкира. Если Коринф поглотит наши запасы и силы, то на море вам придется противостоять превосходящим силам неприятеля».
Послы Коринфа ответили на это такой речью:
«Жители Керкиры утверждают, что они обижены своей метрополией. Мы же считаем: коринфяне основали эту колонию вовсе не для того, чтобы терпеть оскорбления от ее жителей. Как известно, другие колонии относятся к нам с уважением. Керкиряне богаты — вот в чем причина их надменности и несправедливости. Они вспомнили об Эпидамне, городе, который мы основали у входа в Адриатическое море. Так вот, когда соседние варварские народы стали нападать на город, керкиряне не пришли ему на помощь, хотя и были обязаны это сделать, и притом по разным причинам. Но после того как мы помогли Эпидамну, керкиряне вскоре его захватили. Сейчас они утверждают, что хотели кончить дело полюбовно. Но когда они сделали столь прекрасное предложение? Тогда, когда поняли, что мы не отнесемся безразлично к нападению на город, находящийся под нашим покровительством.
Теперь жители Керкиры просят вас заключить с ними союз. Поступив так, вы, по нашему мнению, разделите с ними вину, хотя до этого не принимали участия в их несправедливых делах. Мы также утверждаем, что, приняв керкирян в Морской союз, афиняне поступят вопреки духу мирного договора со Спартой. Да, действительно, договор позволяет каждому независимому государству свободно выбирать себе союзника, но разве можно удовлетворить просьбу тех, чье вступление в Морской союз неизбежно вовлечет его в войну? Сейчас, пока действует мирный договор, мы в некоторой степени являемся вашими союзниками. Однако, приняв к себе Керкиру, вы сразу же превратитесь в наших врагов, ибо, сражаясь с этим островом, мы будем вынуждены сражаться и с вами. Честно говоря, вам бы следовало вместе с нами выступить против жителей Керкиры. Они пугают вас войной. Неизвестно, будет ли она вообще. Стоит ли из опасения войны, которой, может быть, никогда и не будет, приобретать себе врагов в нашем лице?
Когда восемь лет назад от вашего союза отпали самосцы, в нашем Пелопоннесском союзе возник спор, надо ли прийти им на помощь. Мнения, как вы знаете, были разные. Мы же тогда открыто заявили: «Самосу помогать нельзя, афиняне имеют полное право наказывать своих союзников». Наше мнение победило, и вы смогли расправиться со строптивым островом. Конечно, между нами существует недоверие из-за Мегары, которой вы оказали помощь пятнадцать лет назад. Но это дело прошлое. Нынешняя услуга сотрет из памяти давнее недоразумение. Повторяем: в случае с Самосом мы вели себя по отношению к вам не просто нейтрально, но даже дружественно. Мы надеемся, что вы сейчас поступите подобным же образом и признаете наши права на собственную колонию!»
Целых два дня обсуждало народное собрание дело Керкиры. В первый день преобладало мнение, что правда на стороне коринфян, хотя сам ход событий показывал, как трудно докопаться до истины.
Город Эпидамн (современный Дуррес в Албании) был основан керкирянами совместно с коринфянами. Вокруг жили враждебные поселенцам варвары-иллирийцы. Несмотря на столь неприятное соседство, город быстро рос и богател. Он наверняка справился бы с полудикими соседями, если бы в нем самом не началась борьба за власть между олигархами и народом. И хотя олигархов и прогнали, но ушли они недалеко: присоединились к иллирийцам и вместе с ними нападали на жителей Эпидамна. Отчаявшиеся горожане обратились за помощью к Керкире. Все напрасно: на острове правили олигархи, поддерживавшие своих собратьев, изгнанных из Эпидамна. Поэтому послы, несмотря на то что они умоляли керкирян о милосердии в их главной святыне, у алтаря богини Геры, уехали ни с чем. Только теперь, очевидно, по приговору дельфийского оракула Эпидамн отдался под покровительство Коринфа. Тот сразу воспользовался возможностью укрепить свои позиции в районе Ионического залива. Могущественная и богатая Керкира стояла непреодолимой преградой на пути коринфской торговли с Западом, поэтому вражда между обоими государствами, несмотря на их исторические связи, нарастала из поколения в поколение. «Как же можно, — говорили в Коринфе, — не воспользоваться случаем и не усесться под боком у дерзких керкирян?» Вскоре в Эпидамн в сопровождении отряда воинов прибыли переселенцы из Коринфа и дружественных ему городов. Но почти одновременно около города появились корабли Керкиры. С них раздавались призывы прогнать пришельцев и вернуть назад олигархов. Когда это не помогло, с Керкиры прислали вторую эскадру, на борту которой находились изгнанники из Эпидамна. Флот начал осаду, что не представляло большого труда, ибо Эпидамн был расположен на перешейке.
Получив известие об этих событиях, коринфяне немедленно стали собирать помощь: снарядили тридцать кораблей и три тысячи гоплитов. Многие государства помогли им деньгами и флотом. Воинственные приготовления соперников привели керкирян в ужас. Верх взяли сторонники мирного разрешения спора. В Коринф были отправлены послы, которые прибыли туда вместе с делегатами Сикиона и Спарты. Последние пытались взять на себя посредничество. Они не хотели, чтобы Коринф — опора Пелопоннесского союза — ввязался в бессмысленную войну. Керкиряне соглашались решить дело полюбовно. Когда Коринф потребовал немедленно прекратить осаду, керкиряне выразили свое согласие при условии удаления из Эпидамна коринфского гарнизона и колонистов. Они также предлагали заключить перемирие, сохранив свое статус-кво. Однако Коринф, уверенный в своем превосходстве, отверг все эти требования. На. остров был отправлен гонец, объявивший с соблюдением всего тогдашнего церемониала войну.
Летом 435 г. до н. э. из Коринфа вышли семьдесят пять кораблей, везшие большой отряд гоплитов. Триеры направились на запад, а когда вышли из Коринфского залива, повернули на север. Теперь флот двигался вдоль побережья Ионического залива. На полпути от Керкиры, около мыса Актий, увенчанного святыней Аполлона, мощная эскадра встретилась с маленькой жалкой лодчонкой. В ней стоял керкирский глашатай, поднимавший над головой посох — знак своей должности. Громким голосом он взывал: «От имени керкирян я требую, чтобы вы не плыли дальше!»
Ответом ему были только насмешки. Коринфские корабли рвались вперед, они уже приблизились к проливу, Отделявшему материк от Керкиры. Дальше пути не было! у южной оконечности острова, называвшейся Левкимме, стояли восемьдесят керкирских кораблей.
Битва у мыса Левкимме закончилась победой защитников острова. Они захватили пятнадцать коринфских кораблей. Остатки армады повернули туда, откуда прибыли. В тот же день сдался осажденный керкирянами Эпидамн. По условиям капитуляции все находившиеся в городе коринфяне были задержаны, а граждане других государств проданы в рабство. Более тяжелое наказание постигло пленников, захваченных у Левкимме. Правда, коринфян только бросили к темницу, зато все остальные были убиты.
Керкиряне стали хозяевами всего западного побережья Греции от Пелопоннеса до Адриатики. Они безнаказанно нападали на города, поддерживавшие Коринф. Только летом следующего года Коринф послал эскадру и сухопутный отряд в два пункта на побережье. Керкиряне в полной боевой готовности уже ждали их. Но до битвы дело не дошло: наступившее осеннее ненастье на время примирило противников. Это вовсе не означало, что коринфяне отказались от своих планов. Совсем наоборот, они не щадили средств на вооружения. Стало известно, что коринфяне набирают гребцов по всей Греции и даже в городах, входящих в афинский союз: они построили много новых кораблей и им не хватило собственных людей. А между тем Керкира, гордая своими победами, совсем не заботилась об обороне. Вот этот-то страх перед мощью Коринфа и заставил ее искать союза с Афинами, а также направить туда посольство летом 433 г. до н. э.
Приблизительно таким образом представлялась афинским гражданам история вражды Коринфа и Керкиры.
В первый день обсуждения народное собрание склонялось в пользу Коринфа. Поведение керкирян казалось наглым и вызывающим, а их отношение к Коринфу действительно сильно отличалось от общепринятого в эллинском мире отношения колонии к своей метрополии. Зато афиняне с благодарностью вспоминали о благородстве, проявленном Коринфом во время самосской войны. Но главное, что заставило многих ораторов в первый день высказываться, за Коринф, был самый обыкновенный страх, ибо оказание помощи этому острову могло втянуть Афины в страшную войну со всем Пелопоннесским союзом. Большая часть общества опасалась войны, хотя, конечно, нашлись люди, в глубине души, желавшие ее: купцам и ремесленникам она могла принести большие прибыли, а жадной до приключений воинственной молодежи дать возможность, не считаясь ни с чем, увеличивать афинскую мощь.
Какова же была позиция Перикла в сложившейся ситуации? Уже сам по себе весьма знаменателен тот факт, что в первый день, когда верх взяли сторонники невмешательства, не провели голосования. Перикл выступил в собрании только на следующий день. Попытаемся представить его аргументы:
«Что будет в случае, если Коринф действительно победит Керкиру? Тогда он станет бесспорным владыкой всего Запада. В его руках окажутся все морские пути, ведущие в Италию и Сицилию. А ведь у нас самих там есть жизненные интересы. Десять лет назад мы основали колонию в Фуриях. Еще раньше, пятнадцать лет назад, мы заключили союз с г. Регий в Италии и с г. Леонтины в Сицилии. Известно ли вам, что эти города хотели бы теперь возобновить договоры? Но чего они будут стоить, если мы не сможем прийти нашим союзникам на помощь, ибо дорога на запад будет для нас навсегда закрыта? Правда, Коринф утверждает, что он не считает себя нашим врагом и желает сохранения мирного договора. Но не изменится ли его позиция после захвата Керкиры и превращения в великую морскую державу? Надо принять во внимание и отношение к нам других государств Пелопоннеса: они вовсе не пылают к нам любовью. Вижу, как с той стороны надвигается военная буря. Имеем ли право в такой ситуации позволить усилиться пелопоннесскому государству, которое уже сейчас располагает значительным флотом и может с нами соперничать?
Однако я вовсе не призываю вас к безрассудству. Наоборот, действовать надо не только расторопно, но и осторожно. В наших интересах не война с Коринфом, а сохранение существующей расстановки сил на Западе, т. е. постоянное давление на Коринф самим фактом существования мощного керкирского флота. Союз с Керкирой действительно может втянуть нас в войну с Коринфом и волей-неволей привести к разрыву мирного договора со Спартой. Этого мы, конечно, не хотим, но отучить Коринф от нападений на Керкиру надо. Единственный выход из создавшегося положения — заключить с островом такой оборонительный договор, в котором бы недвусмысленно говорилось: если кто-либо нападает на Афины или Керкиру, другая сторона немедленно окажет жертве па — падения военную помощь. Мы можем даже послать в Ионическое море несколько кораблей и тем самым показать серьезное отношение к своим обязательствам. Будем надеяться, что коринфяне не осмелятся задирать островитян, ибо это сразу приведет к бою с нашей эскадрой. Если они все же ударят, то станут нападающей стороной и на них ляжет ответственность за разрыв мирного договора и развязывание войны!»
Перикл не мог открыто представить народному собранию все доводы в пользу вмешательства в дела Запада. Но для тех, кто внимательно следил за политическими событиями, они были известны так же хорошо, как и те, что приводились открыто. Несколько лет назад, уже после покорения Самоса, Перикл лично вывел отлично подготовленную афинскую эскадру на просторы Черного моря. В принципе поход носил мирный характер: тамошним эллинским городам и окрестным варварским народам надо было продемонстрировать мощь Афин и склонить их к установлению тесных экономических и политических отношений с Аттикой. Мероприятие имело полный успех. Эскадра прошла все Черное море. В южной его части, в городах Синопа и Амис, остались афинские колонисты. На севере же был заключен мирный договор с царем полуострова, называвшегося Херсонесом Таврическим (ныне Крым). В окрестностях Керчи афиняне получили в качестве базы для своей торговли порт Нимфей. Многие из приморских городов вступили в Морской союз. Так под влияние Афин попали города и земли, которые в течение жизни многих поколений являлись настоящей житницей Эллады: отсюда в Грецию везли пшеницу, шкуры, сушеную рыбу.
Приблизительно в то же самое время афинская колония возникла на фракийском побережье, у устья р. Стримон. Она стала наследницей несчастного первого поселения, памятного афинянам поражением тридцатилетней давности под Драбеском. Теперь колонисты под руководством Гагнона построили на место бывшей Эннеагодой большой город. Поскольку его с двух сторон омывал Стримон, он получил название Амфиполь. Оба рукава реки были соединены длинными стенами, что сделало город почти неприступным. Вскоре Амфиполь стал оплотом афинского господства на северном побережье Эгейского моря.
Таким образом, господство афинян на востоке усилилось как никогда. Естественно, возросли их тщеславие и агрессивность. Теперь аттические жители обратили свои жадные взоры на острова и отдаленные края, лежащие на западе, за Ионическим морем. Богатства тамошних городов, овеянных туманами легенд, казалось, стоили любых усилий и жертв. Основание Фурий явилось первым шагом на. пути к этим сказочным землям, шагом еще очень несмелым, ибо город был общей колонией всех эллинов, а не только афинян. Но и эта попытка не имела бы никакого значения, если бы не удалось обеспечить свободу мореплавания по Ионическому морю. Значит, надо сделать керкирян своими друзьями. Уже тогда в Афинах находились люди, мечтавшие о завоевании Сицилии и Италии. Позднее можно было бы высадиться в Африке (там нужно уничтожить Карфаген — колонию ненавистных финикийцев), а также в Испании, славящейся залежами ценных металлов. Перикл, хотя и не принадлежал к числу таких мечтателей, тоже внимательно приглядывался к западным землям. Легкость, с которой он распространил афинское влияние на Черное море, придала ему отваги.
Была еще одна причина, о которой вождь государства и народа не только не говорил, но даже, наверное, глубоко не осознавал. Тем не менее она в какой-то степени влияла на решительность предпринимаемых им шагов. Ему уже перевалило за шестьдесят, неумолимо приближался конец активной политической жизни, а может быть, и жизни вообще. Перикл мог с гордостью обозревать дело своих рук за почти тридцатилетний период правления. Но главная цель пока не достигнута: Афины еще не добились полного господства над эллинским миром. Мощь Спарты и возглавляемого ею союза фактически не поколеблена. Как же можно передать молодому поколению руль корабля, если ему по-прежнему грозит Пелопоннесская скала? И вот сейчас, да, да, именно сейчас, возникла прекрасная возможность широко открыть дорогу на запад при помощи Керкиры. Это уже само по себе нанесет мощный удар Спарте и ее союзникам. Правда, такие действия грозят войной. Ну и пусть. Время пришло! Ради господства над Элладой стоит рискнуть.
Что такое право?
Еще мальчиком Перикл учил элегию, в которой Солон делил жизнь человека на следующие периоды: «Мальчик, глупый несмышленыш, теряет молочные зубы в семь лет. Если же боги позволят ему еще семилетье прожить — явит он в теле своем зрелости след. В третьей семерке лет — развиваются члены прекрасны, а брадою покрыто лицо. Ну а в четвертой — юноша крепостью тела отважен, то добродетель бойца. В пятой семерке — уж надо о браке подумать и о потомстве. В шестой семерке — разум людской созревает, он верховодит действом любым и поступком. Ну а семерки седьмая-восьмая — речь укрепляют и мысль человека. Он еще крепкий бывает в семерке девятой, но уж слабеть начинает мудрость, а язык красноречие теряет. Если же боги позволят дожить до семерки десятой — к смерти готовиться самое время настало»[50].
До сих пор жизнь Перикла точно распределялась по семилетним отрезкам. В брак он вступил в пятой семерке лет, уже перейдя тридцатилетний рубеж. Приблизительно тогда же стал принимать все более активное участие в политической жизни, а после смерти Кимона руководил государством в течение двух самых лучших семерок лет своей жизни (седьмой и восьмой). Теперь он вступил в девятую семерку, когда «слабеть начинает мудрость, а язык красноречье теряет». Однажды в разговоре двадцатилетний Алкивиад, близкий родственник и недисциплинированный воспитанник, откровенно сказал об этом Периклу. Юноша спросил великого государственного мужа:
— Скажи, Перикл, ты можешь объяснить мне, что такое право?
— Конечно могу, — излишне самоуверенно, как потом оказалось, ответил тот.
— Заклинаю тебя богами, объясни же мне наконец, что же это такое. Когда я слышу, что какого-то человека называют справедливым, мне в голову сразу приходи мысль: тот, кто не знает, что такое право, конечно, никогда бы не заслужил такой похвалы.
— Вопрос твой вовсе не труден. Знай же: правом мы называем то, что постановило и приказало записать народное собрание. Оно же указывает, что надо делать, а чего избегать.
— А как велит поступать народ в собрании: плохо или хорошо?
— Ну конечно же хорошо, сын мой! Никому не позволено делать плохо.
— А если это будет не народ, а, скажем, группа лиц, как случается при олигархическом строе. Ну, например, несколько правителей собрались и постановили, что делать надо то-то и то-то. Как мы назовем такой закон?
— Все, что правительство государства постановило и объявило, является правом.
— Даже если тиран, владеющий каким-нибудь государством, будет приказывать гражданам, это тоже станет правом?
— Да, все, что прикажет находящийся у власти тиран, тоже является правом.
— Но скажи мне, Перикл, что же в таком случае насилие и бесправие? Мне кажется, это когда сильный подчиняет слабого не путем убеждения, а с помощью насилия.
— Да, и я так думаю.
— Значит, если тиран объявляет какой-нибудь закон и заставляет, а не убеждает граждан его выполнять, — это и есть бесправие?
— Согласен с тобой. Я был неправ, когда утверждал, что правом является все, что постановил тиран, даже против воли сограждан.
— А не назовем ли мы насилием решение, принятое меньшинством вопреки воле и убеждениям большинства?
— И с этим я не могу не согласиться. Если кто-то принуждает других поступать вопреки убеждениям, то такой поступок мы назовем насилием независимо от того, облечен ли он в форму закона или нет.
— Иными словами, Перикл, то, что народ постановил в отношении людей богатых, является насилием, а не правом, если их предварительно пе убедили в справедливости таких действий?
— Да, ты прав, Алкивиад!
И, помолчав немного, Перикл с едва заметным высокомерием добавил:
— Когда я был в твоем возрасте, Алкивиад, меня очень забавляли такие споры. Я всегда брал в них верх, ибо много учился и размышлял, совсем как ты теперь.
Алкивиад не остался в долгу:
— Ах, как жаль, что я не застал того времени, когда ты побеждал на диспутах[51].
Последние слова как раз и означали: «слабеть начинает мудрость, а язык красноречье теряет».
Битва, предшествовавшая войне
Народное собрание постановило заключить с Керкирой оборонительный союз, или, как его называли в Элладе, «эпимахию». В первых числах августа 433 г. до н. э. в Ионическое море отправилась эскадра из десяти кораблей. На них находились целых три стратега; одним из них был сын великого Кимона Лакедемоний. Вожди получили точную инструкцию: ни при каких условиях не вступать в битву с коринфянами, если только они первыми не атакуют керкирян или не высадят десант на их земле. Вот поэтому-то эскадрой и командовали сразу три человека. Они должны были следить друг за другом и не допустить необдуманных действий. Для выплаты гребцам и воинам жалованья из сокровищницы богини Афины выдали двадцать шесть талантов — весьма значительную сумму. Казначеи распорядились выбить на мраморной плите специальный текст: кто и с какой целью получил деньги. Плиту установили на Акрополе среди других документов подобного рода, она сохранилась до наших дней.
Едва только эскадра покинула Пирей, как оппозиция яростно напала на самого Перикла и на его решение по вопросу о Керкире. Как это часто бывает, для подрыва политической позиции противника использовалась личная неприязнь. Враги вождя считали, что он хочет выставить на посмешище, а может быть, и погубить Лакедемония. Перикл ненавидит его, ибо никогда не мог сравняться с его отцом, Кимоном: тот командовал афинским флотом и бил персов на всех морях. Лакедемоний же из милости получил только десять кораблей. А почему не три или два? Что ему делать с таким «великолепным» флотом? Он будет или обречен на бездействие, или вступит в бой и проиграет. Но Периклу только этого и надо. Если Лакедемоний уклонится от битвы, Перикл сразу закричит: «Трус, предатель! Стратег, потворствующий Спарте точно так же, как и его отец!»
Если же Лакедемоний падет в сражении, Перикл обвинит его в неспособности и в неумении командовать. Ко всему прочему, двое других стратегов будут постоянно связывать руки сыну Кимона.
Критические голоса были такими громкими и многочисленными, к ним прислушивалось столько людей, что Периклу пришлось внять им. Уже через несколько дней вдогонку первой отправилась вторая эскадра, на этот раз из двадцати кораблей. Ею тоже командовали три стратега. И снова казначеи богини Афины выплатили им соответствующую сумму, что было отмечено на мраморной плите, сохранившейся вместе с предыдущей.
На закате одного из первых дней сентября эта эскадра приближалась к мысу Левкимме, у острова Керкира. Уже издали афинские моряки увидели десятки судов, теснившихся в проливе. Когда с них заметили приближавшийся афинский флот, началось замешательство и они отплыли к материку. Без сомнения, перед афинянами — коринфская эскадра. Противостоящие ей керкирские корабли тоже отступили, но только к острову; с них, вероятно, даже не заметили афинян. Судя по всему, неожиданное появление новой флотилии прервало подготовку к битве. Но кто же начинает битву на ночь — удивлялись на афинских кораблях. Чем ближе были берега Керкиры, тем чаще встречались обломки кораблей и уносимые волнами трупы. Когда афиняне швартовались к пристани, не обошлось без недоразумений. В темноте керкиряне не разобрались, чьи это суда. Прошло много времени, прежде чем удалось бросить якорь среди своих. Только теперь вновь прибывшие узнали о драматических событиях минувшего дня. Их товарищи с первой эскадры рассказали:
«Битва уже произошла, вот откуда эти обломки и трупы. Никогда еще с тех пор, как эллины воюют с эллинами, не было столь яростного и кровавого сражения. Со стороны коринфян в нем участвовало сто пятьдесят кораблей, со стороны керкирян — сто двадцать. Но как же неумело они боролись! Никто не знал новой тактики морских битв. Обе стороны попросту разместили на своих кораблях столько вооруженных людей — гоплитов, лучников, копейщиков, сколько смогли поднять. Триеры врезались друг в друга, и воины, стоя на бортах, сражались, как на суше. Никто даже не пытался маневрировать кораблями, пробивать вражеский строй в одном месте — словом, делать то, к чему располагает морская битва и чем мы, афиняне, благодаря постоянным войнам и учениям овладели в совершенстве. Здесь же триеры беспорядочно толкались и кружили на месте. Наконец дело сдвинулось на левом крыле, где противниками керкирян были союзники Коринфа. Они сначала начали отступать, а потом рассеялись в разные стороны. Двадцать керкирских кораблей помчались за ними в погоню. Они добрались до материка, ограбили и сожгли вражеский лагерь. Но эта частичная победа в конечном счете привела к поражению. Эти двадцать кораблей не смогли помочь, когда правое крыло керкирян оказалось в трудном положении. Такое можно было предвидеть. Как вы видите, друзья, керкирские корабли слабее и старее коринфских. И что не менее важно, керкиряне посадили на весла главным образом рабов, а у коринфян экипажи состояли из свободных, опытных и хорошо знающих свое дело людей.
Наши корабли не принимали участия в битве. Находясь немного позади боевых порядков, они только в случае необходимости подходили туда, где противник брал верх. Это всегда производило нужное впечатление. Мы точно придерживались данных нам инструкций, хотя в тех условиях они вряд ли были разумными, ибо, не включившись в битву, мы помогали коринфянам. Тем временем коринфяне пошли вперед, и мы, уже не обращая ни на что внимания, приняли бой. Мы несколько раз вступали в схватку с их кораблями, однако ввиду численного превосходства неприятеля успеха не имели. Все наше левое крыло отступало к Керкире. Коринфяне уничтожали экипажи на поврежденных керкирских кораблях, а потом спокойно собирали своих погибших и буксировали разбитые суда к побережью, называемому Сиботы.
Во второй половине дня они снова вышли в море. Керкиряне вместе с нашей эскадрой, чтобы не допустить вражеского десанта на остров, тоже вышли из порта. И вдруг перед началом повторной битвы корабли противника стали отступать и поворачивать к берегу. Сначала никто из нас не понял, что происходит. Только позднее раздались крики, что плывут новые афинские корабли, хотя никто в этом не был уверен».
На ночном совете керкирских командиров и афинских стратегов было сказано следующее: «Не будем обольщаться — вчера мы потерпели поражение. Наши потери составляют семьдесят кораблей и около тысячи человек, правда, только двести пятьдесят из них — это свободные граждане, остальные же — рабы. Коринфских кораблей уничтожено тридцать. Хотя наши потери и тяжелы, нельзя падать духом. Надо действовать, надо показать врагу, что мы в состоянии нападать!»
Вот поэтому-то ранним утром все керкирские и афинские корабли поплыли к пристани в Сиботах. Коринфяне немедленно подняли якоря и встали в боевые порядки. Обе стороны выжидали. Через некоторое время от коринфской линии отделилась маленькая лодчонка и быстро поплыла в сторону афинян. В лодке было несколько человек, но ни Один из них не имел посоха глашатая, это было весьма знаменательно: коринфяне не считали себя в состоянии войны с афинянами.
Посланные громко кричали: «Афиняне! Вы поступаете несправедливо! Вы начали войну, нарушили мирный договор и не позволяете нам расправиться с врагами. Если вы действительно намерены помешать походу на Керкиру или вообще закрыть нас в порту, то теперь для этого самая благоприятная возможность. Хватайте нас, карайте, как карают врагов!»
Услышав такие слова, керкиряне взревели: «Дайте им то, чего они хотят! В кандалы их, под топор!»
Но афинские стратеги были предусмотрительны. Прекрасно понимая провокационный характер коринфских призывов (если схватят посланцев, то ясно покажут, что Афины хотят войны), они ответили так: «Мы не ведем с вами войну и не разрываем мирного договора. Мы просто пришли на помощь союзникам, когда им угрожало нападение, это все. Можете покинуть гавань и плыть, куда вы хотите. Но знайте: если вы обратитесь против Керкиры или ее владений, то будете иметь дело с нами».
В сущности, обе стороны оказались не в лучшем положении. Афинско-керкирский флот как слабейший не мог атаковать, да афиняне этого вовсе и не хотели по политическим соображениям. У коринфян же было повреждено много кораблей. Без верфи, на голом берегу они не могли приступить к их ремонту. А в случае длительной блокады пристани возникли бы трудности со снабжением. Поэтому, получив афинский ответ, коринфяне стали немедленно готовиться к отступлению и вскоре отплыли без всяких препятствий, оставив, однако, на сиботском побережье «трофеон» из захваченного оружия и остатков вражеских кораблей. Такой же памятник встал на маленьких островках напротив побережья, также называвшихся Сиботы. Его воздвигли для увековечения своей победы керкиряне. Обе стороны твердили о своей победе. Так, коринфяне заявляли, что захватили множество кораблей и заставили врага отступить к острову, а их противники гордились уничтожением неприятельского лагеря и тем, что принудили коринфский флот покинуть их море. В действительности и те, и другие понесли большие потери, а битва так и не стала решающе.
Вскоре афинский флот возвратился в Пирей. Собственно говоря, только афиняне могли считать себя победителями, ибо они достигли намеченных целей: не допустили поражения Керкиры и поддержали равновесие сил на Западе. Впрочем, они заплатили за это слишком дорогой ценой, возбудив к себе ненависть коринфян. Зная о таком их отношении, афиняне решили заранее укрепить одно из слабых звеньев Морского союза.
«Пали у врат Потидеи»
Осенью и зимой 433/432 г. до н. э. положение в Греции обострялось с каждым днем. Все государства развили дотоле небывалую дипломатическую активность. Посольства так и сновали из города в город интрига сталкивалась с контринтригой, распалялись страсти.
Наверное, больше всего послов из ближних и дальних земель прибывало в Спарту. Одними из первых там появились посланцы города Потидеи. Их сопровождали послы потидейской метрополии — Коринфа. Потидея располагалась на северном побережье Эгейского моря, на узком перешейке, соединяющем Халкидику с полуостровом Паллена. Дело, с которым жители города обратились к правительству Спарты, было весьма важным.
«Как известно, мы входим в афинский Морской союз. Мы всегда старательно выполняли распоряжения его вождей. Однако в последнее время афиняне выдвигают такие требования, которые свидетельствуют об их враждебности к нам. Чего же они домогаются? Разрушения стен, защищающих нас с юга, со стороны полуострова Паллена; выдачи заложников; изгнания почетных уполномоченных, которых со времени основания города присылает своей бывшей колонии Коринф. Все их требования проистекают из опасения, что, движимые благорасположением к нашей бывшей метрополии, мы можем выйти из Морского союза. У нас и в мыслях этого не было. Лучшим доказательством нашей искренности является то, что недавно в Афины отправилось наше посольство. Оно должно убедить тамошнее правительство в необходимости отменить несправедливое распоряжение. Если всем нам не удастся этого добиться, мы будем вынуждены сражаться против наших обидчиков. Мы хотели бы знать, можно ли будет в таком случае рассчитывать на помощь Пелопоннесского союза?»
Само собой разумеется, Потидею горячо поддержал Коринф. Но еще ближе к сердцу ее дело приняли посланцы другой земли, хотя она и находилась еще дальше, нежели Потидея, и являлась, по мнению многих, полуварварской, — Македония. Послы царя Македонии Пердикки конфиденциально сообщили, что в случае войны охотно поддержат справедливое дело потидейцев, ибо афиняне, опасаясь сильной и единой Македонии, заключили союз с врагами их царя.
Другое посольство Пердикки заявило то же самое коринфянам. Одновременно люди царя действовали на полуострове Халкидика и среди фракийских племен. Они призывали к выходу из Морского союза, к вооруженному сопротивлению. Такие действия были вполне оправданными. Афиняне действительно заключили два союза, прямо направленные против Пердикки: один — с его братом, царем Восточной Македонии, а второй — с владьжой Северной Македонии. Сделали они это умышленно, хотя Пердикка поддерживал с ними дружеские отношения. Цели афинской политики в отношении Македонии были более чем ясны: натравливать друг на друга ее постоянно враждующих владык, чтобы не допустить усиления края. В данный момент самым опасным царем, по мнению афинян, являлся энергичный и честолюбивый Пердикка. Он владел югом Македонии и в будущем мог покуситься на приморские города, входящие в Морской союз.
Афиняне вовремя прознали о тайных переговорах Пердикки со Спартой, Коринфом и Потидеей. Чтобы отбить у него охоту к интригам, решили послать сильный отряд на македонское побережье, к Фермейскому заливу, глубоко врезавшемуся в берег между горным массивом Олимпа и полуостровом Халкидика. Тридцать военных кораблей должны были перевезти тысячу гоплитов. Командование возложили на Архестрата. Ему же поручили проследить, чтобы потидейцы выполнили все приказания Афин: разрушили южную стену, выдали заложников и изгнали коринфских чиновников. Напрасными оказались все усилия потидейских послов: афиняне не отказались ни от одного из своих требований.
Весной 432 г. до н. э. афинский отряд прибыл в Фермейский залив и сразу же попал в гущу грозных событий: при активной поддержке Пердикки вспыхнул бунт в окрестных городах и в самой Потидее. Архестрат немедленно объединился с врагами царя и приступил к осаде сначала г. Ферма, а потом и Пидны. Тем временем в Потидею прибыли значительные подкрепления из Коринфа: вождь Аристей привел с собой две тысячи добровольцев. Тогда афиняне послали под Пидну еще один отряд — две тысячи гоплитов и сорок кораблей. С Пердиккой было заключено перемирие, и все силы афинян сосредоточились под Потидеей. Здесь и ожидали решающего сражения.
* * *
«Я вернулся из лагеря под Потидеей вчера вечером. Приехав после долгого отсутствия, я с радостью поспешил туда, где привык отдыхать и развлекаться. Зашел я и в фехтовальный зал Траврея и встретил там несколько человек. В большинстве своем все они были мне знакомы. Когда они увидели, как я неожиданно вошел, то сразу же подбежали отовсюду и стали меня приветствовать. АХерефонт, молодой и горячий, выскочил вперед, подбежал ко мне и, схватив мою руку, сказал:
— Сократ, ты живым и невредимым вышел из этой битвы?
Дело в том, что незадолго до моего отъезда под Потидеей произошла битва. В Афинах об этом узнали только сейчас.
— Как видишь, — ответил я.
А он:
— Здесь говорят, что битва была очень кровавой. И кажется, погибло много известных мужей?
— Да, это правда.
— Ты участвовал в битве?
— Конечно!
— Тогда сядь и расскажи нам все по порядку, потому что мы не знаем всех подробностей.
После этого Херефонт предложил мне присесть рядом с Критием, сыном Каллесхра. Я сел, поздоровался с ним и со всеми остальными и стал рассказывать новости нашего военного лагеря, все, о чем они меня спрашивали[52].
Сократ мог бы многое порассказать. Битва была тяжелой. Она произошла летом 432 г. под самыми стенами Потидеи. Победа досталась афинянам нелегко: коринфские добровольцы заставили одно крыло их поиска отступить далеко назад. Однако сами потидейцы держались хуже и быстро отступили в город. В сражении пало около трехсот потидейцев и сто пятьдесят афинян, среди них один стратег.
На государственном кладбище за Дипилонскими воротами появилась новая братская могила. Ее украшала мраморная плита, верхняя часть которой представляла сцену битвы. Ниже были выбиты имена ста пятидесяти погибших и их поэтическое восхваление, часть которого можно прочитать и сегодня: «Эфир их души принял, тела же — земля. Пали у врат Потидеи. Одних из их врагов скрыла гробовая доска, а других спасли стены. Наш город и весь народ Эрехфея оплакивают этих мужей, детей Афин, павших в первых шеренгах бойцов. На одну чашу весов положили они свою жизнь, а на другую — славу и мужество и выбрали последнее, прославив отчизну свою»[53].
Мегарянин продает своих дочерей
Герои проливали кровь на чужой земле и отдавали свою молодую жизнь во славу родины, а тем временем политики обдумывали новые ходы в игре, которую уже нельзя было остановить. До сих пор обе стороны старательно избегали прямого столкновения. Оскорбленный керкирскими событиями Коринф тем не менее послал в Потидею не войско, а всего лишь добровольцев. Теперь его представители могли спокойно заявить: «Мы войну не ведем, но не можем чинить препятствий нашим гражданам, стремящимся прийти на помощь жертве афинской алчности». Поэтому-то и Перикл выбрал в качестве объекта для ответного удара не Коринф, а более слабый и в то же время связанный с ним город. Он. выступил перед народным собранием с резкими нападками на мегарян. Вождь напомнил согражданам о всех «прегрешениях» этих соседей Аттики: «Пятнадцать лет назад они предательски нарушили союзный договор и уничтожили наши гарнизоны, связались с Коринфом и Спартой. Восемь лет назад, во время войны с Самосом, их колония Византий подняла бунт и хотела выйти из Морского союза. А год назад Мегара предоставила Коринфу помощь во время похода против Керкиры. Все это мы великодушно стерпели и простили. Но теперь мегаряне ведут себя провокационно. Они принимают наших беглых рабов, захватили некоторые пограничные земли. Наконец — и этого мы недолжны им прощать, если не хотим навлечь на себя гнев бессмертных богов, — они совершили святотатство: распахали священную землю, собственность храма богини Деметры в Элевсине».
По предложению Перикла народное собрание приняло постановление о наказании святотатцев. В нем говорилось, что отныне корабли Мегары не могут пользоваться портами, находящимися под властью Афин. На аттической земле запрещается продавать мегарские товары. В случае обнаружения они будут конфискованы.
Такие действия грозили Мегаре голодом и экономической смертью. Это была маленькая и убогая страна. Зерно она доставляла при посредничестве своей колонии Византия из Причерноморья, что теперь стало невозможно, поскольку все порты находились в руках афинян. Не менее грозным явился запрет продажи мегарских изделий в Аттике. Речь прежде всего шла о шерстяных тканях и овощах — единственных товарах, которые мегарцы вывозили в больших количествах. Расположенная неподалеку от Мегары людная Аттика представляла собой емкий рынок сбыта. Но теперь ввиду закрытия портов нельзя было и думать о том, чтобы найти других покупателей.
Восемь лет спустя комедиограф следующим образом запечатлел последствия Периклова постановления.
Сцена представляет собой афинскую агору. Входит мегарянин с двумя дочерьми. Он в отчаянии причитает:
— Афинский рынок, радость ты мегарская! Мы по тебе скучали, как по матери.
Обращаясь к дочерям, мегарянин говорит:
— Сюда, сюда, бедные дочери несчастного отца! Поднимайтесь наверх, поищем здесь хлеба. Слушайте, что я вам скажу, да подставьте не ухо, а брюхо. Что вы предпочитаете: быть проданными или подохнуть с голоду?
— Проданными, проданными!
— И мне так кажется. Но найдется ли такой глупец, который вас купит на горе себе? Впрочем, подождите, мне в голову пришла одна мегарская штучка: переодену — ка я вас и скажу, что продаю свинок. Скорее надевайте поросячьи копытца! Да смотрите выдавайте себя за деток толстой хрюшки, ведь если я вас не продам, тогда придется вам умирать с голоду в родной халупе. Ну, ладно, ладно. Надевайте быстрее эти рыльца и лезьте в мешок! Да смотрите там у меня: хрюкайте и визжите, как жертвенные поросята для мистерий! А я пойду кликну из дома Дикеополя. Эй, Дикеополь, не купишь ли молодых свинок?
Далее следует такой диалог:
— Кто тут? А, это ты, человек из Мегары.
— Да, это я. Вот пришел с товаром.
— Как там у вас?
— Как у нас? Все голодаем, сидя у очага.
— А еще что нового в; Мегаре? Почем нынче зерно?
— По самой высокой цене, как и боги.
— А что ты принес? Может, соль?
— Я, соль? Да разве не вы ее всю захватили?
— Тогда, может быть, ты принес на продажу чеснок?
— Ну уж скажешь, чеснок! Ведь как только вы, афиняне, попадаете к нам, так сразу, словно мыши-полевки, все сгрызаете.
— Что же ты тогда принес?
— А вот посмотри, молодых поросят для мистерий.
— Поросят! Что ж, отлично!
— Прекрасных, отборных. Ты только взгляни, какие тяжеленькие и жирные, какие красивые!
— Ой, а это что такое?
— Как что, свинка.
— Ты так думаешь?.. А откуда она родом?
— Из Мегар. Разве это не свинка?
— Нет, мне что-то так не кажется.
— Вот так штука! Ишь какой маловер! Говорит, что это не свинка. Давай поспорим на меру соли: то, что ты видишь перед собой, зовется по-гречески свинкой.
— Да, но ведь это человеческая свинка.
— Человеческая!? Клянусь богами, конечно, она принадлежит человеку, т. е. мне. А ты что подумал? Ну желаешь ли послушать, как эта свинка визжит? Ну, дорогой мой поросеночек, скажи нам что-нибудь. Что? Не хочешь, проклятая животина? Вот я отнесу тебя назад.
Наконец афинян соглашается купить свинок:
— Ах, что за милые свинки. Сколько, мегарец, ты просишь за пару?
— Вот за эту возьму пучок чесноку, а за вторую дашь мне кварту соли. Согласен?
— Будь по-твоему, покупаю. Только подожди меня здесь.
— Жду с нетерпением. О, Гермес, покровитель купцов! Вот бы также продать мне женку и мать!
В этот момент появляется доносчик, объявляет «поросят» и самого продавца запрещенным товаром[54].
В оригинале вся сцена, представленная здесь в сокращении, выглядит гораздо веселее и непристойнее, ибо слово «хойридион» означает не только «поросенок».
Автор комедии Аристофан мог сколько угодно смеяться над торговыми трудностями граждан обоих государств, но для Мегары это с самого начала являлось делом жизни и смерти. Из данной ситуации было только два выхода, и оба они вполне устраивали Перикла. Первый, наиболее приемлемый с точки зрения афинян: Мегара порывает с Коринфом и склоняется перед Афинами. И второй: мегаряне будут нажимать на Коринф и Спарту, чтобы они предприняли решительные шаги для их защиты. В таком случае можно будет и поторговаться: мы снимем блокаду Могар, а что вы дадите взамен? Если же Пелопоннесский союз решится на вооруженное выступление, то он окажется нападающей стороной, а Афины предстанут перед всем светом как невинная жертва агрессии.
Коринфяне уже развернули широкую агитацию среди государств Пелопоннеса. Их посольства начали прибывать в Спарту, чтобы вместе с ее правительством обсудить сложившуюся ситуацию. Конечно, коринфян прежде всего беспокоила дальнейшая судьба их людей, запертых в Потидее. Осада города не прерывалась ни на один день и судя по всему должна была продолжаться еще очень долго.
Размышления под Потидеей
Сначала с помощью стены Потидею отрезали от материка с севера, потом из Афин пришли подкрепления — тысяча шестьсот гоплитов под командованием Формиона. Тогда стену построили и с южной стороны, отрезав город от полуострова Паллена. Флот блокировал оба побережья. Однако вождь коринфских добровольцев Аристей сумел вырваться из западни. Во главе горсточки смельчаков он кружил по всей Халкидике и прилегающей Фракии, нанося болезненные удары афинянам и их союзникам. Формион вел с коринфянами тяжелые бои, оставшаяся часть афинского войска наблюдала за городом. Осень сменилась зимой, потом пришла весна, а осажденные все еще держались.
Сократ недолго находился в Афинах. Он вернулся под Потидею вместе с отрядом Формиона. Единственным утешением для него было то, что вместе с ним проходил военную службу двадцатилетний Алкивиад, родственник и воспитанник Перикла, сын того самого Клиния, который погиб под Коронеей. Спустя пятнадцать лет Алкивиад на одном из пиров так рассказывал о той войне и о Сократе-воине: «Все это произошло еще до того, как нам довелось отправиться с ним в поход на Потидею и вместе там столоваться. Начну с того, что выносливостью он превосходил не только меня, но и вообще всех. Когда мы оказывались отрезаны и поневоле, как это бывает в походах, голодали, никто не мог сравниться с ним выдержкой. Зато, когда всего бывало вдоволь, он один был способен всем насладиться; до выпивки он не охотник, но уж когда его принуждали пить, оставлял всех позади, и, что самое удивительное, никто никогда не видел Сократа пьяным. Это, кстати сказать, наверно, и сейчас подтвердится. Точно так же и зимний холод, — а зимы там жестокие — он переносил удивительно стойко, и однажды, когда стояла страшная стужа и другие либо вообще не выходили наружу, либо выходили, напялив да себя невесть сколько одежды и обуви, обмотав ноги войлоком и овчинами, он выходил в такую погоду в обычном своем плаще и босиком шагал по льду легче, чем другие обувшись. И воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними. Но довольно об этом. Послушайте теперь что он, дерзкорешительный муж, наконец предпринял и исполнил во время того же похода. Как-то утром он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы — дело было летом — вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода солнца, а потом, помолившись солнцу, ушел.
А хотите знать, каков он в бою? Тут тоже нужно отдать ему должное. В той битве, за которую меня наградили военачальники, спас меня не кто иной, как Сократ! не захотев бросить меня раненого, он вынес с поля боя и мое оружие, и меня самого. Я и тогда, Сократ, требовал от военачальников, чтобы они присудили награду тебе, — тут ты не можешь ни упрекнуть меня, ни сказать, что я лгу, — но они, считаясь с моим высоким положением, хотели присудить ее мне, а ты сам еще сильней, чем они, ратовал за то, чтобы наградили меня, а не тебя»[55].
В чем же секрет удивительного мужества, которое Сократ проявил, защищая Алкивиада под стенами Потидеи? «Секрет» знали и обсуждали все: Сократ принадлежал к числу самых горячих поклонников молодого человека. И если он и заслужил благорасположение Алкивиада, то добился его нелегко. Утешения и совета философ, вероятно, искал даже у Аспазии. И делал он это не без оснований, ибо никто лучше нее не знал достоинств и недостатков золотоволосого юноши, постоянно пребывавшего в доме своего опекуна — Перикла.
Позднее по Афинам ходила небольшая поэма в форме диалога между Аспазией и Сократом. Некоторые даже приписывали Аспазии авторство. Поэма начиналась со слов: «Сократ, от меня не скрылось, что сердце твое горит любовью к сыну Дейномахи и Клиния! Так послушай меня, если только хочешь, чтобы юноша относился к тебе благожелательно. Для тебя будет лучше, если ты доверишься мне». Сократ же говорит: «Как услышал я эти слова, пот обильный оросил мне чело, слезы счастья из глаз полились.»
Далее Аспазия советует Сократу добиться от Алкивиада взаимности, возбуждая в нем любовь к поэзии. Однако из последующего текста поэмы становится ясно, что столь возвышенный способ не принес ожидаемых результатов. Поэтому Аспазия спрашивает: «Что же ты плачешь, милый Сократ?»[56]
Неизвестно, какой еще совет дала она философу
Часть десятая Судебные процессы и дипломатия
Процесс Фидия
Новость разнеслась по городу с быстротой молнии, ибо каждый понимал, что за этим скрывается какое-то необычайное событие: у алтаря двенадцати богов сидит человек, просящий защиты. Алтарь, воздвигнутый еще во времена тирании, давал неприкосновенность каждому, кто сядет на его ступени. На агору сразу же сбежалась толпа. Многие из зевак сразу узнали просителя: «Ба! Да ведь это же Метон, помощник скульптора Фидия. Разве вы его не знаете? Он помогал мастеру делать статую Афины из золота и слоновой кости — ту, что стоит в Парфеноне».
А Метон кричал, не переставая: «Неприкосновенности! Неприкосновенности! Обеспечьте мне неприкосновенность — и я сообщу о святотатстве».
Многие поддержали эту просьбу: одни из простого любопытства, другие уже догадывались, в чем суть предстоящих разоблачений. Последние так старательно поддерживали Метона, как будто кто-то уже вооружил их прекрасными аргументами.
Метону была обещана безопасность, если он сумеет доказать справедливость своих обвинений. То, что помощник скульптора нуждается в подобных гарантиях, стало ясно при первых же его словах, произнесенных в народном собрании: «Фидий совершил мошенничество и воровство, нанес ущерб афинскому народу и самой богине. Он представил неправильные расчеты расходования слоновой кости, которая пошла на облицовку статуи, присвоил себе большое количество ценностей и неплохо на этом заработал».
Естественно, сразу же возник вопрос: «Почему же Метон, работавший над той же самой статуей и знавший о махинациях своего хозяина, не вывел его на чистую воду раньше»?
Однако, получив гарантию личной неприкосновенности, Метон мог попросту не обращать внимания на такие вопросы. Его также могло теперь не беспокоить подозрение в соучастии в гнусных махинациях Фидия. А на обвинение в том, что он запоздал со своими откровениями на несколько лет, Метон, не раздумывая, ответил: «Как только статуя Афины была установлена в Парфеноне, Фидий уехал на Пелопоннес. Там, в Олимпии, он работал над большой статуей Зевса и вернулся на родину совсем недавно. Если бы я обвинил его раньше, скульптор скрылся бы на чужбине и его безбожный поступок остался без наказания».
Теперь все зависело от проверки веса сделанных из слоновой кости частей статуи. Их сняли, а заодно проверили и вес золотых деталей. Это была долгая и утомительная работа. А тем временем по городу поползли новые слухи: Перикл, в свое время председательствовавший в комиссии по приемке статуи и проверке счетов, состоял в сговоре с Фидием. Но столь явной клевете мало кто поверил. За тридцать лет политической деятельности Перикл приобрел много врагов, нередко обвинявших его в разных проступках. Однако еще никто и никогда не осмелился открыто утверждать, что он использует свой высокий пост для обогащения. Перикл — человек с чистыми руками. Это устоявшееся мнение что-нибудь да значило в, государстве, где деньги ценили превыше всего.
Ожили и сразу же нашли благодарных слушателей многие старые сплетни. Говорили, что скульптора и политика связывали вовсе не денежные дела. Оказывается, в мастерскую Фидия, когда он создавал огромные изображения богов, заглядывали прелестные женщины, в том числе и замужние дамы из самых лучших домов. Там они в благоговейном молчании восхищались совершенством человеческого тела. Часто мастерскую посещал и Перикл, хотя было прекрасно известно, что холодной гармонии идеальных пропорций он предпочитает тепло и мягкость живого женского тела. Так, утверждали многие, мастерская, где создавалась статуя божественной девы, покровительницы города, превратилась в дом свиданий.
Конечно, большинство афинян с негодованием отвергали столь гнусную клевету, хотя собственный сын Перикла, Ксантипп, делал все, чтобы представить отца ненасытным женолюбцем. Неприязнь сына можно объяснить: Перикл всегда был человеком экономным и стремился передать эту добродетель своему потомству. Между тем Ксантипп, которому уже перевалило за двадцать, женился на молодой и любящей роскошь женщине. Да и сам он хотел жить весело й на широкую ногу, как вся золотая молодежь Афин. Оба супруга находились на содержании Перикла, выделявшего деньги весьма скупо и редко. Не видя иного способа добыть деньги, Ксантипп пошел на подлог: он занял значительную сумму якобы от имени отца. Вскоре дело выплыло наружу. Как только мнимый кредитор потребовал от Перикла возвращения долга, тот обратился в суд. Став в глазах общественного мнения посмешищем, Ксантипп мстил отцу, утверждая, что тот ухаживает за его женой. Весь город знал; в доме вождя нет ни мира, ни согласия.
В деле Фидия афинян возмущало совсем другое: на барельефе, украшавшем щит Афины, скульптор увековечил себя и вождя демократов. Здесь изображалась легендарная битва амазонок с афинянами. Две фигуры выделялись среди мужчин, защищавших родину от воинственных девиц: лысый старец с огромным усилием поднимает обеими руками большой камень — это не кто иной, как Фидий, а воин, мечущий копье, напоминает Перикла, только молодого и хорошо сложенного.
Наконец трудная работа подошла к концу: все части статуи взвешены. Действительный вес не соответствовал тому, что было отмечено в счетах: материала израсходовали на меньшую сумму. Таким образом, обвинение полностью подтвердилось. Фидия приговорили к штрафу. Выплатить его он был не в состоянии: старый, больной, сломленный судебным процессом человек вскоре после вынесения приговора умер в тюрьме. Прошел слух, что его отравили. Потомки Фидия переехали в Олимпию, где им предоставили почетную наследственную должность смотрителей за статуей Зевса.
Зато обвинитель великого скульптора Метон получил отличную награду: афинское народное собрание навсегда освободило его от всех налогов в пользу государства. Это была очень редкая и весьма важная для Метона привилегия. Он не имел афинского гражданства и пребывал в Аттике в качестве метека, а представители этой социальной группы населения испытывали наиболее сильный налоговый гнет. Одновременно собрание поручило стратегам позаботиться о безопасности Метона, что вполне понятно, ибо он навлек на себя ненависть многих влиятельных лиц, особенно членов строительной комиссии. Это была жестокая шутка по отношению к Периклу, так как в качестве председателя комиссии стратегов он был обязан заботиться о человеке, который погубил одного из близких ему людей и навлек подозрение на него самого. Каждый афинянин прекрасно понимал, что дело Фидия болезненно отразилось на самом Перикле, хотя во время процесса он сохранял полный нейтралитет. Да он и не мог поступить иначе — каждое выступление в защиту скульптора было бы истолковано как доказательство вины.
Некоторые обстоятельства процесса Фидия при ближайшем рассмотрении могут показаться весьма знаменательными: обвинение было выдвинуто лишь спустя несколько лет после создания статуи; просьбу Метона о предоставлении ему гарантий безопасности сразу же поддержали; обвинителю присудили награду. Может быть, Фидий и в самом деле был виновен, но все факты указывали на то, что за Метоном стояли весьма влиятельные лица, действовавшие вполне целенаправленно. Именно они склонили Метона к выступлению. Трудно поверить, что скромный помощник скульптора, даже не имеющий афинского гражданства, действовал столь смело без какой-либо поддержки.
Кто же были эти таинственные пособники Метона? Спор с Коринфом грозил перерасти в открытую войну со всем Пелопоннесским союзом, о чем говорили совершенно открыто. Люди спрашивали друг друга: «Не ведет ли Перикл слишком опасную игру? Он жаждет усиления могущества Афин и уничтожения всех соперников. Что ж, прекрасно! Но не окажется ли цена слишком высокой? Нет, пока не поздно, этого человека надо остановить».
Решительными противниками войны являлись олигархи. Их позиция объяснялась не только симпатией к Спарте и ее государственному строю, но и тем, что военные действия могли подорвать сельское хозяйство Аттики, а земля по-прежнему оставалась главным источником доходов аристократии. Опасения не были лишены оснований. Стратегический план Перикла предполагал: в случае вторжения спартанцев все население Аттики покидает открытую местность и прячется за городскими стенами. Благодаря постоянной связи с портом Пирей здесь можно будет в безопасности, не испытывая голода, переждать даже самую длительную осаду. Однако придется бросить на произвол судьбы поля, сады, виноградники и милые сельские дома. Это до глубины души возмущало не только олигархов, но и всех зажиточных крестьян, в других случаях, обычно поддерживавших Перикла. Они жаловались: «Как же так? Бросить все добытое в поте лица не только нами самими, но и нашими отцами? Околачиваться за городскими стенами без средств к существованию? Мы же не ремесленники, гребцы или лавочники. Уж те-то, наверное, ничего не потеряют, а может быть и заработают благодаря войне».
Весной 432 г. до н. э. в Афины вернулся вождь олигархов Фукидид, сын Мелесия. Десять лет назад он был подвергнут остракизму, и его отсутствие надолго развязало Периклу руки. Появление на политической сцене этого выдающегося аристократа оживило надежды как врагов демократии, так и тех, кто боялся войны и поэтому жаждал смены «кормчего» у рулевого весла государственного корабля. В такой ситуации процесс Фидия являлся предвестником жестокой борьбы партий за власть. Эти предположения подтвердились. Вскоре Периклу был нанесен второй удар.
Процесс Анаксагора
Перед народным собранием выступил жрец по имени Диопиф, известный своими связями с олигархией. Он представил проект нового закона: надо привлекать к судебной ответственности всех тех, кто не верит в существование бессмертных богов и дерзко рассуждает о том, что происходит на небе.
Никто из многих тысяч граждан, собравшихся на Пниксе, не осмелился усомниться в необходимости такого закона. Безбожие, или «асебейя», являлось, по тогдашним представлениям, тяжким преступлением против общества и государства: оно могло вызвать гнев богов, стать причиной бедствий и даже гибели города. Итак, закон был принят, хотя все прекрасно понимали, что он метит в одного-единственного человека, того самого, который уже в течение многих лет говорил: «Наш мир создали не боги, а Разум. Это он привел в движение аморфную массу материи. Солнце, луна, звезды — не более чем раскаленные камни, влекомые вращающимся потоком эфира. Мы не чувствуем жара звезд, потому что они находятся от нас дальше, чем солнце, а последнее размерами превышает весь Пелопоннес. Месяц сияет отраженным солнечным светом; на нем находятся горы и равнины. Затмения луны вызывает земля, заслоняющая ее от солнца. Вихри, землетрясения и гром — лишь следствие движения и столкновений воздушных масс».
Так учил Анаксагор, а его ученик Перикл во время обсуждения предложения Диопифа ни словом не обмолвился о том, что он является противником предлагаемого законопроекта. Перикл поступил благоразумно, ибо в случае открытого выступления его могли обвинить в покровительстве безбожникам. А тем временем сразу после принятия закона, как это и можно было предположить, выдвигается персональное обвинение против Анаксагора. Нельзя было даже и думать о его защите, так как обвинитель мог сослаться на легкодоступную книгу философа, где все его безбожные мысли излагались ясно и откровенно. В случае вынесения обвинительного приговора Анаксагору грозило суровое наказание — высокий штраф или даже смерть. Ожидая самого худшего, Анаксагор сказал друзьям: «Природа и так уже вынесла свой приговор как мне, так и моим судьям».
Перикл тоже был убежден в том, что, если дело дойдет до суда, оно примет плохой оборот. Опытный политик не тешил себя иллюзиями: союз олигархов и жрецов произведет на суд присяжных огромное впечатление. Единственное спасение — как можно скорее, еще до начала процесса, удалить учителя из Афин.
Анаксагор принял дружеский совет, хотя отъезд из Афин означал для него изгнание. Правда, философ родился в Малой Азии и так и не получил афинского гражданства, однако в Афинах он провел тридцать самых лучших и плодотворных лет своей жизни. Когда-то он нашел здесь много друзей, а теперь оставлял горстку учеников. Несмотря на нанесенный ему болезненный удар, Анаксагор сохранял спокойствие и глубокое убеждение, что все эти годы он недаром ел аттический хлеб: на земле града богини Афины заложены твердые основы новых ценностей. Поэтому, когда кто-то стал лицемерно вздыхать по поводу его нынешнего положения («Что же ты будешь делать, когда тебя лишат твоих афинян?»), Анаксагор прервал лицемерные сожаления коротким замечанием: «Совсем наоборот, это их лишают меня».
История подтвердила правоту его слов. Конечно, имя Анаксагора сейчас не так известно, как имена мыслителей, творивших в Афинах позднее. Однако именно ему первому выпала честь разбудить в этом городе никогда не утоляемую любознательность, научить находить удивительное в самых, казалось бы, простых явлениях и противоречия в «абсолютных» истинах.
Многие совершенно искренне огорчались, что Анаксагору придется умереть вдали от своей второй столь горячо им любимой родины, ибо он уже был почти семидесятилетним старцем. Философ отвечал друзьям со спокойным смирением: «Дорога в мир теней отовсюду одинакова». И добавлял, как бы оглядываясь на прошедшую жизнь и радуясь, что никто уже не в состоянии отобрать приобретенного в ней: «Я родился для того, чтобы изучать солнце, луну и небо, а этим можно заниматься везде».
После отъезда из Афин Анаксагор поселился в г. Лампсак, на азиатском побережье Геллеспонта. Интересно, почему он выбрал именно это место? Не потому ли, что оно лежало почти напротив Эгоспотамой? Тридцать пять лет назад здесь упал камень с неба. Это событие натолкнуло еще молодого тогда человека на мысль о том, что звезды, солнце и луна не являются ни божествами, ни эфирными огнями и по своей природе не отличаются от земной материи. Такие взгляды и явились впоследствии причиной его изгнания из Афин. Круг замкнулся.
Философ, окруженный всеобщим уважением, прожил в Лампсаке еще несколько лет. Когда он почувствовал приближение смерти, то обратился к властям города со следующей просьбой: «Пусть день моей смерти будет ежегодно отмечаться как праздник детей! Пусть в этот день ребятишки не ходят в школу, а посвящают его играм и забавам!»
Просьба великого мыслителя была уважена. И еще много веков спустя дети Лампсака с благодарностью вспоминали имя древнего мудреца, который не только прекрасно разбирался в строении неба, но и мог понять душу ребенка.
Так философ избежал засады, подготовленной для него завистливыми и недалекими афинскими политиками. Они стремились не только обуздать смелый полет человеческой мысли, но и показать бессилие ученика и покровителя Анаксагора. Вторая цель была достигнута — Перикл проиграл. Он спас своего учителя, удалив его из Афин. Теперь все смогли убедиться, что великий стратег и божественный Олимпиец в сущности не оказывает никакого влияния на народ, который он якобы возглавляет. Во время процесса Фидия еще можно было объяснить видимое безразличие Перикла различными причинами: «Что же он мог предпринять для спасения скульпто-
[в сканах стр.225–226 отсутствуют]
Похитили двух девок у Аспасии. И тут война всегреческая вспыхнула, Три потаскушки были ей причиною. И вот Перикл, как Олимпиец, молнии И громы мечет, потрясая Грецию. Его законы, словно песня пьяная: «На рынке, в поле, на земле и на море Мегарцам находиться запрещается». Тогда мегарцы, натерпевшись голода, Спартанцев просят отменить решение, Что из-за девок приняли афиняне. А нас просили часто — мы не сжалились. Тут началось бряцание оружием[57].Преступление двухсотлетней давности и Перикл
Действительно, зимой 431 г. до н. э. в Афинах часто можно было видеть спартанские посольства, которые домогались отмены антимегарских законов. Однако главное их требование было совсем другим. Оно касалось непосредственно Перикла: «Еще раз напоминаем, что среди вас находятся люди, на которых лежит несмываемое преступление, люди, чей род проклят богами. Исполните свою святую обязанность и выбросьте вон эту заразу!»
Семьдесят пять лет назад спартанцы выступали точно с таким же требованием. Тогда их удары были направлены против Клисфена Алкмеонида, отца афинской демократии, а теперь — против его родственника, укрепившего власть народа. В обоих случаях преступление, совершенное в 630 г. до н. э. родом Алкмеонидов, отравляло своим ядом жизнь последующих поколений. Теперь, в 431 г., спартанцы рассуждали следующим образом: «Три судебных процесса скомпрометировали Перикла. Дело Фидия показало, что, если даже Перикл и не замешан в краже слоновой кости, он тем не менее знал о святотатстве. Обвинение Анаксагора в безбожии напомнило афинянам, что этот человек — учитель Перикла. Аспазию, его любовницу, обвинили в сводничестве. И хотя многие не верят в это, зерно подозрения брошено в подготовленную почву. Наверняка есть такие люди, которые готовы поверить во все просто из нелюбви к Периклу. Великий вождь афинского народа показал свое бессилие. Одного из обвиняемых наказали. Другой бежал. Аспазию Перикл защитил слезами, выставив себя на посмешище перед всей Элладой. Коль скоро троп Олимпийца расшатан изнутри, надо подтолкнуть его извне и повадить. Пора напомнить афинскому люду, что Перикл не только сообщник святотатца, ученик безбожника, любовник распутницы, но и человек, в чьих жилах течет кровь рода, запятнавшего себя преступлением. Потребуем от афинян, чтобы они очистили свой город от преступников, проклятых богами. Каждый поймет, кого мы имеем в виду, даже если имя стратега и не будет произнесено.
Мнения в народном собрании, конечно, разделятся. Те, кому Перикл стал поперек горла, и кто не желает войны, используют появившийся у них шанс. Может быть, удастся отправить Перикла в изгнание. Это полностью изменило ситуацию. К власти придет Фукидид, а с ним вполне можно договориться. Даже если ничего не получится, все равно на имени афинского вождя появится новое несмываемое пятно. Кроме того, все эллины узнают, что подготавливаемая нами война будет вестись против проклятого человека».
В сущности, в результате длительных и бурных обсуждений, которые вели в Спарте начиная с осени 432 г. представители союзных государств, вопрос о войне уже был решен. Особенно рьяно на ней настаивали послы Мегары и Коринфа. Что касается самих спартанцев, то среди них сначала не было единодушия. На собрании всех полноправных граждан рассуждали о том, действительно ли афиняне нарушили мир, вмешавшись в дела Керкиры и Потидеи, и стоит ли объявлять им войну. А каковы шансы на победу в ней? Даже один из спартанских царей, Архидам, уговаривал сограждан поступить рассудительно и сначала провести переговоры: «Поверьте старому и опытному человеку — война будет очень — тяжелой. Афины господствуют на море. Они богаты и населения имеют больше, чем какое-либо из эллинских государств, это принимая во внимание только Аттику, а ведь они еще распоряжаются силами союзников. Между тем наш флот значительно слабее афинского, потребуется много времени на его усиление. Нет у нас и денег (ни в казне, ни у частных лиц). Да, наше войско превосходит противника, мы могли бы вторгаться в Аттику и грабить ее. Однако местные жители спрячутся за городскими стенами, и все, что им нужно, доставят морским путем. А как оторвать от них союзников, коль скоро у нас нет флота? Нет, я не верю, чтобы эту войну можно было выиграть старым способом, ограничиваясь разоренном вражеской страны. Наше противоборство растянется на долгие годы. Поэтому я считаю, что сначала нам надо начать переговоры и решительно выступить на них в защиту наших союзников. Одновременно мы должны вооружаться и приобретать себе друзей во всех государствах, как эллинских, так и варварских. Но самое главное, по моему мнению, — собрать необходимые средства. Это даже важнее, чем вооружения. Своим величием наше государство обязано неспешности действий. Той неспешности, которая является следствием осмотрительности. Так давайте проявим ее еще раз, не дадим втянуть себя в опасное предприятие; будем помнить, что от решения, которое мы сейчас примем, зависит судьба тысяч людей и многих государств! Поэтому я предлагаю отправить в Афины наше посольство, а мы тем временем со всей эпергией займемся вооружением и сбором денег».
Однако сразу после Архидама в поддержку войны решительно выступил один из эфоров. Было постановлено провести открытое голосование: граждане должны перейти на ту или другую сторону площади в зависимости от того, за мир они или за войну. Побудительным мотивом решения для большинства явилась боязнь прослыть трусом. После подсчета людей по обеим сторонам площади официально объявили: граждане Спарты признали афинян виновными в нарушении мирного договора. Вслед за этим были собраны представители всех государств — членов Пелопоннесского союза. Одновременно в Дельфы к пророчице Аполлона отправилось посольство. Оно принесло следующий ответ: «Если мы напряжем все силы, то обязательно победим. Бог обещал сражаться на нашей стороне».
Воля бога Дельф вполне понятна и легко объяснима: жреческая олигархия, заправлявшая дельфийским храмом, всегда симпатизировала Спарте.
Заседания делегатов из разных государств, входивших в Пелопоннесский союз, являлись уже только формальностью. Заправляли на них представители Коринфа. В ходе голосования подавляющее большинство собравшихся высказалось за войну. Такая воинственность, возможно, была вызвана и тем, что из Афин доходили вести о трудностях, испытываемых Периклом. Спартанцы и их союзники решили поставить вопрос «на острие меча», чтобы своим решительным поведением спровоцировать раскол среди афинян. Вот тогда-то в Афины и отправилось посольство, потребовавшее «очистить город от тяготевшего на нем проклятия».
Но спартанцы просчитались. Большинство афинян восприняло требование об изгнании Перикла, а дело заключалось именно в этом, как бесстыдное вмешательство во внутренние дела их государства. Даже если над родом Алкмеонидов и в самом деле тяготеет проклятие, то какое до этого дело жителям Спарты? Почему они сами себя назначили исполнителями воли богов и радетелями о справедливости? Сразу же раздались голоса: «Если теперь, когда все говорит о приближении войны, спартанцы хотят изгнания Перикла, то, очевидно, они его попросту боятся. Они хотели бы, чтобы во время бури наш корабль остался без рулевого!»
Кроме того, даже несмотря на три судебных процесса и усилия недругов, позиции Перикла все же не были ослаблены так, как этого желали его враги внутри страны и за ее пределами. Да, действительно, многие афиняне со злорадством и удовлетворением смотрели на то, как высокомерный Олимпиец вдруг превратился чуть ли не в сообщника нечистого на руку скульптора, ученика безбожника и приятеля сводни. Можно этому верить или не верить, но до чего же приятно дать выход чувству зависти к сильным мира сего и такой естественной у простаков склонности к сплетням. Обвинения, выдвинутые, против близких Периклу людей, могли бы послужить хорошим уроком: все смертные похожи друг на друга в своих страстях и страстишках, за всеми нами, великими и самыми обыкновенными, водятся такие дела, о которых лучше и не говорить. Но, когда в домашнюю свару вмешался чужой, более чем чужой — извечный враг, настроение толпы сразу изменилось. Целые поколения афинян родились и выросли под властью Перикла. Он стал символом величия их государства. Даже его недоброжелатели теперь утверждали: «Справедливость требовала, чтобы судебные процессы были проведены, а виновные наказаны. Но это вовсе не означает, что Перикл плохой человек и неспособный политик. Совсем наоборот. В государстве, где действительно правит парод, каким бы влиянием ни пользовался человек и на каком бы высоком посту он ни находился, он и его близкие должны подчиняться законам, обязательным для всех других граждан. Дела Фидия, Анаксагора и Аспазии лишний раз доказывают нашу справедливость и демократичность. Лично Перикл не подвергался никаким нападкам, а его заслуги перед государством и народом никто не ставит под сомнение».
Ответ, который послы Спарты привезли своему правительству, явился лучшим доказательством того, что афинский вождь не утратил своего влияния: «Вместо выискивания преступления, якобы тяготеющего на афинянах, спартанцы должны вспомнить о святотатстве, замаравшем их самих. Ведь не далее, как сорок лет назад они совершили безбожный и жестокий поступок. Тогда не вынесшие их гнета илоты обратились за покровительством к богу Посейдону и нашли убежище в его святилище на мысе Тенар. Получив заверения, что их никто не тронет, они вышли из храма и сразу же были предательски убиты.
А какова судьба Павсания? Ведь и он находился под защитой богов. Подозреваемый в сговоре с персами, он должен был быть арестован. Но в последний момент, но выражению лица эфора царь угадал, что ему грозит. Дело происходило на улице, недалеко от священного округа Афины Халке. Павсаний бросился туда и вбежал в домик, стоявший рядом со святыней. Сначала его вроде бы оставили там в покое, а потом замуровали живым. Когда он совсем потерял силы от голода, его вынесли из святыни и мученик испустил дух. Тем самым были нарушены права богини. Сам Аполлон Дельфийский, хотя он весьма благорасположен к спартанцам, дал им это ясно понять. Он приказал похоронить Павсания в священном округе и отдать богине два тела взамен одного, отнятого у нее силой. И до сих пор как немые свидетеле святотатства возвышаются две статуи Павсания, установленные спартанцами».
После такой отповеди последующие посольства с Пелопоннеса уже не поднимали вопроса о преступлении Алкмеонидов и не домогались изгнания Перикла. Теперь их требования касались самого существа спора: надо прекратить осаду Потидеи и вернуть Эгине ее давнюю свободу. Но прежде всего спартанцы вновь и вновь возвращались к одному и тому же вопросу: законы против Мегары должны быть отменены, и притом немедленно. Послы откровенно говорили, что от этого зависит, будет ли по-прежнему мир или грянет война.
Судьба Мегары приобрела исключительное значение. Конечно, несмотря на давление Коринфа, спартанцев не настолько волновало положение этого крохотного государства под боком у Аттики, чтобы начинать из-за него войну. Нет, проблема заключалась в другом: что станет со свободой морей и мореплавания, если афиняне под любым предлогом будут закрывать свои порты для кораблей других государств, а те ответят подобным же образом? Таким путем, избегая войны, можно будет добиться уступчивости от любого города. Для Спарты сохранение свободы мореплавания являлось очень важным делом, ибо она не обладала сильным флотом.
Но Перикл был неумолим. Он уклонялся от всяких дискуссий по данному вопросу и делал это, как сам утверждал, исходя из формальных, но в то же время принципиальных причин: «Народное собрание приняло решение, запрещающее под страхом суровых наказаний удаление с агоры таблицы с аптимегарскими декретами».
Тогда один из послов предложил: «А вы ее не убирайте, а только поверните текстом к стене!»
Это означало: спартанцы, несмотря на активную подготовку к войне, вполне удовлетворились бы даже не отменой, а просто несоблюдением афинянами постановлений декрета. Это было бы разумное решение, жест примирения. Перикл оказался в трудной ситуации. Как бы найти такой повод для отказа, который бы показался убедительным и афинянам, и спартанцам?
Тогда-то и произошло трагическое происшествие, причины которого так никогда и не были выяснены до конца. В Мегару и Спарту отправился афинский гонец по имени Антемокрит. При загадочных обстоятельствах он был убит на территории Мегары. Кто совершил преступление? Мегарцы клялись и божились, что не они. Но в Афинах уже разгорелось пламя ненависти к государству, растоптавшему самые святые права и обычаи эллинов.
Спустя некоторое время народное собрание приняло решение, в котором эта ненависть нашла свое яркое проявление: «Война с Мегарой начнется без всяких предварительных переговоров и посылки глашатая. Каждый мегарянин, пересекший границу Аттики, будет немедленно казнен. Стратеги, вступающие в должность, будут давать присягу, что в течение срока своих полномочий они дважды поведут свои войска на Мегару».
Антемокрита похоронили на государственном кладбище за Дипилонскими воротами.
* * *
Новое спартанское посольство представило на рассмотрение афинян только один принципиальный вопрос: Спарта — миролюбивая страна, она не начнет войну, если афиняне будут уважать свободу всех государств Эллады. В ответ Перикл произнес в народном собрании одну из своих самых выдающихся, программных речей. Он сопоставил силы и возможности обеих сторон и недвусмысленно указал па неизбежность войны. Спартанцам же Перикл советовал ответить следующим образом: «Мы позволим мегарянам пользоваться нашими портами и разрешим им торговать в Аттике только в том случае, если и спартанцы откроют свою страну для нас и наших союзников. Мы вернем самостоятельность во внутренних делах государствам нашего союза, если и спартанцы позволят, чтобы их союзники правили у себя так, как они сами считают нужным. Нынешний спор мы готовы представить на рассмотрение третейского суда. Войны мы не хотим, но в случае нападения будем защищаться изо всех сил».
Оба афинских условия были для спартанцев неприемлемы, что прекрасно понимали, как Перикл, так и его слушатели. Во-первых, Спарта издавна являлась закрытой страной; чужеземцев туда пускали неохотно, а собственных граждан отправляли за границу только с миссиями государственной важности. Как же спартанцы могли согласиться с нарушением принципа, ставшего одной из основ их государственности?
Второе афинское требование — свобода выбора государственного устройства — означало, что некоторые члены Пелопоннесского союзе могли бы стать демократическими. Сама мысль о подобной возможности внушала ужас крайне консервативному спартанскому правительству.
Ответ, который послы отвезли на родину, закапчивался следующим утверждением: «Не в обычае афинян подчиняться чьим-либо приказам. Но мы верны условиям мирного договора и готовы решить все спорные вопросы путем переговоров».
Это было последнее посольство из Спарты.
* * *
Позднее современник описываемых событий так оценивал влияние Перикла на их ход: «Перикл был в то время самым влиятельным человеком и, пока стоял во главе государства, всегда был врагом лакедемонян. Он не только не допускал уступчивости, но, напротив, побуждал афинян к войне»[58].
Думается, что автор этой ясной и недвусмысленной оценки не был врагом Перикла, и его политики. Для доказательства подобного предположения можно привести еще одно его высказывание о вожде афинских демократов: «Перикл, как человек, пользовавшийся величайшим уважением сограждан за свой проницательный ум и несомненную неподкупность, управлял гражданами, не ограничивая их свободы, и не столько поддавался настроениям народной массы, сколько сам руководив народом. Не стремясь к власти неподобающими средствами, он не потворствовал гражданам, а мог, опираясь на свой авторитет, и резко возразить им. Когда он видел, что афиняне несвоевременно затевают слишком дерзкие планы, то умел своими речами внушить осторожность, а если они неразумно впадали в уныние, поднять их бодрость. По названию это было правление народа, а на деле власть первого гражданина»[59].
Фукидид, сын Олора, из труда которого мы привели эти слова, начал писать его уже во время войны. Однако замысел увековечить противоборство двух ведущих эллинских держав возник у него несколько раньше. Когда происшествия на Керкире открыли дорогу целой лавине грозных событий, Фукидид не достиг еще и тридцати лет. Он происходил из знатной и очень богатой семьи. По отцовской линии историк был связан кровными узами с родом Филаидов, а значит, и с такими великими людьми прошлого, как Мильтиад и Кимон. Он приходился родственником и Фукидиду, сыну Мелесия, нынешнему руководителю олигархов: Все это — происхождение, богатство, семейные связи — позволяло предполагать, что юноша станет на сторону врагов Перикла и его политики. Однако Фукидид был человек независимых взглядов. Он предполагал, что надвигавшаяся война станет не только кровавой, по и долгой, и, кто бы в ней не победил, она окажет решающее влияние на дальнейшую судьбу Греции. Он слышал отдаленное громыхание надвигавшейся бури и искал ее скрытые причины. Фукидид смог подняться выше «патриотической» ограниченности, но взглядах как на внутреннюю, так и на внешнюю политику. Хотя он и был афинянином; но, не колеблясь, говорил правду о настроениях в Греции накануне страшной войны: «Общественное мнение в подавляющем большинстве городов склонялось на сторону лакедемонян (между прочим, потому, что они объявили себя освободителями Эллады). Все — будь то отдельные люди или города — по возможности словом или делом старались им помочь. И каждый при этом полагал, что его отсутствие может повредить делу. Таким образом, большинство эллинов было настроено против афинян: одни желали избавиться от их господства, другие же страшились его»[60].
Часть одиннадцатая Война
Платеи и Эноя
Отряд из трехсот фиванцев под покровом начинавшейся нота, как только опустели улицы, тихо вошел в город. По всей Греции еще царил мир, и стража па улицах отсутствовала. Пригородные жители не заметили пришельцев: ночь была темная, к тому же шел сильный дождь. Предатели не спали. В условленное время, получив сигнал, они тихо открыли одни из городских ворот. Их было немного, фиванских союзников в Платеях, и все они принадлежали к семьям знати. Движимые ненавистью к черни, правившей при поддержке афинян, предатели впустили врагов в свой город. При помощи фиванцев важные платейские господа хотели уничтожить демократию и отложиться от Афин. Фиванцы охотно откликнулись на их просьбу, ибо союзные с Афинами Платеи, как болезненная заноза, торчали в беотийской земле: лишь несколько часов пути отделяли их от Фив. Здесь еще свежа была память о том, как пятнадцать лет назад афиняне контролировали всю Беотию. Ее жители опасались новых покушений на свою свободу. Разница между обеими землями была огромна: земледельческая, консервативная Беотия управлялась олигархами, Аттика же обязана своим благополучием купцам, ремесленникам и морякам, власть народа не являлась здесь отвлеченной идеей.
Триста вооруженных людей встали на платейской агоре, в самом сердце города. Предатели настаивали: пока горожане еще не разобрались, в чем дело, надо захватить указанные ими дома и убрать вождей народа. Но фиванцы не хотели начинать с кровопролития. Они предпочитали привлечь жителей на свою сторону мирными средствами. Пришельцы послали на улицы глашатая, и вскоре его громкий голос поднял на ноги весь город: «Платейцы! Не бойтесь нас! Фиванцы друзья вам. Как в добрые старые времена, вы снова вернетесь в братский союз беотийских городов. Пусть все согласные с этим поспешат па агору и присоединятся к нам!»
Но улицы по-прежнему оставались пустыми, а город казался вымершим. Однако за степами домов, которые, как и везде тогда, выходили окнами во двор, роился человеческий муравейник. По крышам и через наспех пробитые в оградах дыры люди тайком переходили из одного здания в другое. Вожди демократов лихорадочно совещались. Сначала известие о появлении в городе врагов так их поразило, что они готовы были сдаться, лишь бы снасти свою жизнь, и даже послали несколько доверенных лиц на агору. Но постепенно шок от неожиданности происшедшего проходил. Вожди демократов поняли (это подтвердили возвращавшиеся с переговоров посланцы), что фиванцев не так много, как казалось вначале.
Платеи были маленьким городком, они насчитывали всего несколько тысяч жителей. К тому же многие из них ночевали вне городских стен, в своих сельских домах, чтобы с утра снова выйти в ноле. Впрочем, даже несмотря на это, с отрядом в триста воинов справиться было легко. В Афины сразу же отправился гонец, но рассчитывать на быструю помощь не приходилось. Чтобы усыпить подозрение врагов, было решено продолжать переговоры о капитуляции. А тем временем группы вооруженных людей собирались, но домам; чтобы перекрыть улицы, на них выкатали повозки.
Ночь уже подходила к концу, когда началась неожиданная атака платейских воинов па фиванцев, все еще стоявших па агоре. Фиванцы мужественно отбили это и следующее нападения. Они стояли плечом к плечу, как влитые, не давая выманить себя с широкой площади в уличную тесноту. Сплоченные шеренги рассыпались только тогда, когда с соседних домов градом посыпались камни, кирпичи, обломки черепицы. В этой безумной атаке приняло участие все население города, даже женщины и рабы. Сломав ряды, фиванцы разделились на маленькие группки и разбежались по всему городу, лихорадочно ища спасения. Не зная города и его извилистых, часто заканчивавшихся тупиками улиц, они оказались в ловушке. Ворота, через которые они вошли в Платеи, были уже закрыты. Кто-то из платейцев вместо выломанного засова закрыл их собственным копьем. Одна из группок беглецов случайно наткнулась на никем не охраняемые ворота и разрубила замок топором. Некоторые пытались спастись, прыгая вслепую с городской стены.
Многие фиванцы погибли, когда в панике метались по проулкам, или попали в плен. Самый большой их отряд вбежал в большой дом у одних из ворот, приняв его за выход из города. Все, кто попал в эту невольную ловушку, сдались.
На рассвете Платеи были свободны. В Афины поспешил новый гонец — теперь уже с вестью о победе. Фиванцы, сумевшие спастись, в дождь и грязь бежали к родному городу. Вскоре они наткнулись на свой основной отряд, который спешил войти в Платеи, занятые, как предполагалось, еще ночью. Отряд этот должен был подойти еще несколько часов назад, сразу вслед за тремя сотнями смельчаков, но его задержали ливень и вышедшая из берегов р. Асоп. Узнав о происшедшей трагедии, фиванцы ускорили движение, но напрасно: войско буквально утопало в жидкой грязи. Когда же оно наконец дотащилось до городских стен, было уже поздно. А вскоре перед фиванцами предстал платейский глашатай. Он объявил: «Вы поступили подло, напав на наш город в мирное время. Мы требуем, чтобы вы не причиняли никакого вреда нашим людям, не успевшим укрыться за стенами. Мы также требуем, чтобы вы немедленно покинули нашу землю. В противном случае все без исключения пленники будут казнены».
Не видя иного выхода, фиванцы послушно отступили. Несмотря на это, в Платеях были убиты все сто восемьдесят пленников. Вскоре из Афин пришел совет: сохранить пойманным жизнь, а вопрос об их дальнейшей судьбе решить позднее. Но в связи с тем, что произошло, исчезла последняя возможность вести с противником какие — либо переговоры. В Платеи немедленно отправился афинский гарнизон, а из города в Аттику вывезли женщин, детей и всех не способных носить оружие.
Началась великая война эллинов. Ее первый акт — предательское ночное нападение и преступное убийство безоружных пленников. Такой эта война оставалась в течение многих лет: жестокой, полной коварства и беспощадности.
* * *
Жители Аттики увидели огни пожарищ только спустя восемьдесят дней после попытки фиванцев овладеть Платеями. Уже был разгар лета и колосилась пшеница. Но нигде в полях не встретишь земледельцев. Большая пелопонесская армия во главе с царем Архидамом двигалась в глубь Аттического полуострова, опустошая самые плодородные его земли. Были подвергнуты опустошению Элевсин, родина пшеницы, а также соседняя богатая Фриасийская равнина. Потом спартанцы разбили лагерь на территории самого большого аттического округа. Он назывался Ахарны и лежал почти в самом центре полуострова, на р. Кефис.
Захватчики не встретили никакого сопротивления, более того, они не увидели на своем пути не только ни одного человека, но даже животного. Все деревенские жители вовремя покинули свои дома и укрылись за мощными стенами Афин и Пирея. На это у них было достаточно времени. Дело в том, что, когда до спартанцев дошли вести о платейских событиях, они сосредоточили свои и союзные войска на Истме Коринфском. Оттуда Архидам отправил в Афины посла. Он все еще надеялся, что кровопролития не произойдет: перед лицом непосредственной угрозы войны афиняне пойдут на уступки. Однако посол вернулся пи с чем. Его даже не впустили в город, сославшись па решение народного собрания, проект которого предложил сам Перикл. Оно гласило, что, если спартанцы выйдут в поход, никакие переговоры с ними вестись не будут. Таким образом вождь афинского народа заранее обезопасил себя от оппозиции, которая с помощью переговоров могла бы отсрочить начало военных действий и в последний момент спасти мир. Спартанскому послу было приказано в тот же день покинуть пределы Аттики Его собеседники добавили: «Если спартанцы действительно хотят вступить с нами в переговоры, то пусть сначала уведут свои войска на родину».
Послу дали военный эскорт, чтобы по пути он не вздумал разговаривать с посторонними людьми. Так Перикл предусмотрительно воздвигал стену между своим народом и спартанцами. Пересекая границу, посол сказал сопровождавшим его афинским всадникам: «Этот день станет началом великих несчастий для всех эллинов».
Тем временем пелопонесская армия на Истме получила подкрепление от беотян и теперь насчитывала около шестидесяти тысяч человек. Ее основу составляли великолепные спартанские отряды. После пересечения границы армия подошла к крепости Эноя, стоявшей у подножия горы Киферон. Много времени было потеряно в бесплодных попытках штурмом взять ее мощные стены. Гарнизон мужественно отбивал все приступы. Шли дни, и в лагере осаждающих росло недовольство вождями. Воины говорили об Архидаме: «Он уже давно тайно поддерживает афинян. Поэтому-то он всегда и отговаривал нас от войны и прославлял мнимую мощь неприятеля. Мы долго стояли на Истме, потом еле-еле плелись к Аттике, а теперь торчим «здесь без всякой необходимости. Надо было сразу быстро ударить по приморским равнинам. Тогда мы наверняка захватили бы все имущество афинян, а сами они не успели бы удрать под защиту городских стен».
В этих словах было много правды. Афиняне действительно использовали медлительные действия врага, чтобы вывезти с собой не только домашнюю утварь и орудия труда, по даже деревянные части построек. Скот перевезли на Евбею и соседние острова. Плача и проклиная судьбу, люди расставались со своей землей, домами, реликвиями, оставшимися от предков. Афиняне не любили жить в городе. То из них, кто имел малейшую возможность, постоянно пребывали в деревне па своем клочке земли: они возились в огороде с овощами, ухаживали за виноградником п оливковыми деревьями. Персидское нашествие пятьдесят лет назад огнем и мечом прошло по всей Аттике. Со временем разрушенные дома были восстановлены, многие из них превратились в уютные сельские усадьбы, ибо при постоянно растущем богатстве Афин жители могли позволить себе и некоторые излишества. Теперь же плоды неустанного, упорного полувекового труда будут уничтожены: оливковые рощи вырублены, виноградная лоза вырвана с корнем, а посевы потравит неприятельская конница.
Горесть расставания с прелестями сельской жизни усиливалась еще и потому, что город был не в состоянии обеспечить крышу над головой всем собравшимся в него беженцам из Аттики. Лишь небольшая их часть нашла приюту друзей и родственников, имевших дома в Афинах. Другие устроились как могли — скитались по площадям или разложили свой скромный скарб под крышами святынь. Только самые почитаемые из храмов не пустили в свои помещения непрошеных постояльцев. Даже крепостные башни стали временным домом для многих семей. Те же, кто пришел позднее, должны были довольствоваться длинным коридором между стенами, ведущими в Пирей, и самим Пиреем.
Большая стратегия
Переселение аттического населения осуществлялось согласно плану Перикла, составлявшему одно из основных положений афинской военной стратегии. Перикл не раз разъяснял народному собранию ее суть: «Давайте взвесим, с какими силами вступают в борьбу обе стороны. Назвать их не так-то трудно. Жители Пелопоннеса бедны. Они не в состоянии вести долгую войну в далеких краях, поскольку она будет отрывать их от земли — единственного средства существования. Нету них и сильного флота. Конечно, народы Пелопоннеса могли бы в одной битве победить всех остальных эллинов, но они не сумеют противостоять богатому государству, которое по-новому подойдет к делам войны. Надо еще принять во внимание и то, что в Пелопоннесском союзе действует принцип обязательных совещаний представителей всех государств и совместного принятия решений. А равные права и голосование, как известно, — враг быстрых решений, ибо интересы государств не всегда одинаковы. Зато мы можем распоряжаться силами наших союзников, как нам только заблагорассудится.
Пелопоннесские жители не смогут быстро собрать деньги: у них бедны не только государства, но и каждый гражданин в отдельности. Откуда они наберут средства на строительство кораблей и жалованье для их экипажей? Правда, можно взять деньги из храмовых сокровищниц в Олимпии и Дельфах и нанять на них опытных мореходов, так как сами они, будучи земледельцами, совершенно не владеют искусством морского боя и не скоро ему научатся. Однако наемные экипажи никогда не сравнятся с командами из числа полноправных граждан. Я уж не говорю о том, что наш флот гораздо мощнее пелопонесского и будет им постоянно мешать строить корабли и обучать людей.
А теперь посмотрим, каковы наши силы и средства. Что касается денег, то здесь мы можем быть совершенно спокойны. Ежегодно союзники выплачивают нам в виде дани и разного рода налогов шестьсот талантов. Кроме того, в казну из других источников ежегодно поступают еще четыреста талантов. Благодаря такому притоку денег мы смогли часть их отложить про запас. Еще недавно в сокровищнице на Акрополе было девять тысяч семьсот талантов. Теперь их меньше, поскольку две тысячи мы потратили на войну с Потидеей и почти столько же на строительство Пропилей и других зданий. Осталась тем не менее огромная сумма — шесть тысяч талантов в звонкой монете. Но и это еще не все. У нас в сокровищнице хранятся ценные культовые предметы, дары государств и частных лиц и трофеи, захваченные у персов.
Все это золото и серебро весит около пятисот талантов. И наконец, в самом крайнем случае мы могли бы взять деньги из казны святилищ разных божеств, а их там хранится немало. Можно также снять золото со статуи Афины в Парфеноне, а это еще сорок талантов. Так что, сколько бы ни длилась война, денег нам хватит.
Однако мы не только богаты, но и сильны. Мы можем спокойно вывести в поле тринадцать тысяч гоплитов, и при этом в городе для охраны стен останутся еще шестнадцать тысяч. У нас вместе G конными лучниками тысяча двести всадников и целых тысяча шестьсот пеших лучников. Мощный афинский флот насчитывает триста триер, готовых в любую минуту выйти в море.
Какие же из всего этого можно сделать выводы? Они очевидны. Каждый наверняка согласится с тем, что если бы мы жили на острове, то были бы просто непобедимы. Мы господствуем на море, и никто не смог бы нас принудить к битве на суше. Так превратимся же в островитян! Покинем наши поля и селения и укроемся за стенами, а поскольку они соединены с портом, мы никогда не будем страдать от недостатка провианта. Самое главное — не дать втянуть себя в битвы на суше. Будем мужественно терпеть, когда враг станет опустошать наш край. Будем всегда помнить, что одна проигранная битва нам обойдется дороже, чем восстановление всех домов в Аттике. Дома можно поставить новые и даже лучше прежних, а вот погибших заменить будет некем. Да к тому же поражение на суше поколеблет верность наших союзников.
Значит ли все сказанное, что мы будем сидеть сложа руки? Вовсе нет! Наш флот будет постоянно нападать на Пелопоннесское побережье. Для государств полуострова это будет гораздо болезненнее, чем для нас опустошение всей Аттики, так как у нас есть и другие подвластные нам земли».
* * *
Таковы были аргументы Перикла. Они заслужили всеобщее одобрение своей убедительностью и продуманностью. Однако по мере развития событий настроение людей быстро менялось. С грустью они покидали свои дома, жалуясь на городскую тесноту и дороговизну. Но самое настоящее отчаяние охватило афинян, когда враги отступили от Энои и двинулись в глубь Аттики, опустошая по пути ее самые плодородные районы — земли Элевсина, Фриасии и Ахарн.
Говорили, что спартанцы нарочно расположились в Ахарнах, ибо их жители составляли весьма влиятельную часть афинских граждан. Архидам рассчитывал, что они бросятся на защиту своего добра и увлекут за собой всех остальных. Однако вопреки надеждам спартанцев до битвы дело не дошло, хотя в городе и росло недовольство прежде всего против Перикла, которого обвинили в некомпетентности и бездействии.
После бесплодных ожиданий встречи с афинской армией спартанцы в конце концов свернули лагерь в Ахарнах. Опустошив северные и восточные окраины Аттики, они вернулись на Пелопоннес через Беотию и Мегару. Армия была распущена, солдаты разошлись по домам. Нашествие на Аттику продолжалось всего сорок дней, да оно и не могло длиться дольше: для такого большого количества людей не удалось собрать и доставить продовольствие.
Враг еще стоял на аттической земле, когда из Пирея вышел сильный флот: сто триер подняли на борт тысячу гоплитов и четыреста лучников. Эскадра обогнула Пелопоннес и, получив подкрепления от керкирян и других союзников, атаковала южное и западное побережье полуострова, а также Акарнанию. Афиняне оставили после себя пепелища, но нигде не расположились надолго: это была только месть, не больше.
Осенью того же 431 г. после выполнения задания флот возвратился в Эгейское море. На обратном пути в Афины моряки завернули на Эгину и с радостью приветствовали новые тамошние порядки. Еще летом все старые жители острова были выселены, а их земли разделены между афинскими колонистами. Это были жестокие и лишь частично оправданные стратегическими соображениями действия: эгиняне всегда испытывали к спартанцам дружеские чувства, а их остров располагался в заливе между Аттикой и Пелопоннесом. Что касается главной причины бесчеловечного отношения к островитянам, то ею была взаимная ненависть, которую афиняне и эгиняне испытывали друг к другу из поколения в поколение. Наконец-то Перикл добился своего: вынул соринку из глаза Пирея. Большинство изгнанников спартанцы поселили на Пелопоннесе, а часть эгинян, некогда самых лучших купцов и мореходов в Элладе, разбрелись по всему свету.
Во время стоянки на Эгине моряки и солдаты эскадры узнали еще об одном счастливом событии. Большая афинская армия, в которой только гоплитов было тринадцать тысяч, вторглась в пределы Мегары. Флот сразу же присоединился к этому походу. Совместными усилиями с моря и суши удалось опустошить значительные районы Мегариды. Такова была месть за совершенное на аттической земле летом. Именно в то лето, когда военные действия были в самом разгаре, случилось солнечное затмение. Солнце стало размером не больше месяца в новолуние, сделалось так темно, что можно было разглядеть звезды на небе. А произошло это затмение на третий день августа.
Восхваление демократии над гробом павших
Пришла зима и прекратила все битвы на суше и па море. Вот тогда-то афиняне и устроили торжественные похороны своих воинов, погибших в первый год войны. Сделано это было за счет государства. На кладбище за Дипилонскими воротами появилась еще одна братская могила, а прощальную речь над ней произнес сам Перикл.
В толпе слушателей стоял и молодой Фукидид, сын Олора. Вместе с другими он жадно ловил возвышенные слова оратора, взволнованный их величественностью, в которой, однако, не было ни малейшей грусти. Перикл просто воспользовался случаем, чтобы прославить государство, во имя которого эти молодые мужчины отдали свою жизнь на стольких полях сражений. Он хотел оправдать нынешнюю войну, внушить своим слушателям чувство гордости за родину и уверенность в победе, сколько бы крови и жертв она ни стоила.
Главные мысли погребальной речи Фукидид прекрасно запомнил и позднее воспроизвел их в своем труде. Вот некоторые из них: «Прежде чем начать хвалу павшим, которых мы здесь погребаем, хочу сказать о строе нашего города, о тех наших установлениях, которые и привели его к нынешнему величию. Полагаю, что и сегодня уместно вспомнить это, и всем собравшимся здесь гражданам и чужеземцам будет уместно об этом услышать.
Для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являем пример другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо. И так как у нас городом управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством.
В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почетные государственные должности выдвигают каждого по достоинству. Бедность и темное происхождение или низкое общественное положение не мешают человеку занять почетную должность, если он способен оказать услугу государству. В нашем государстве мы живем свободно и в повседневной жизни избегаем взаимных подозрений: мы не питаем неприязни к соседу, если он в своем поведении следует личным склонностям, и не высказываем ему хотя и безвредной, но тягостно воспринимаемой досады. Терпимые в своих частных взаимоотношениях, в общественной жизни не нарушаем законов, главным образом из уважения к ним и повинуемся властям и законам, в особенности устанавливаемым в защиту обижаемых, а также законам неписаным, нарушение которых все считают постыдным.
Мы ввели много разнообразных развлечений для отдохновения души от трудов и забот, из года в год у нас повторяются игры и празднества. И со всего света в наш город благодаря его величию и значению стекается на рынок все необходимое, и мы пользуемся иноземными благами не менее свободно, чем произведениями нашей страны.
В военных попечениях мы руководствуемся иными правилами, нежели наши противники. Так, например, мы всем разрешаем посещать наш город и никогда не препятствуем знакомиться и осматривать его, не высылаем чужестранцев из страха, что противник может проникнуть в наши тайны и извлечь для себя пользу. Ведь мы полагаемся главным образом не столько на военные приготовления и хитрости, как на наше личное мужество. Между тем как наши противники при их способе воспитания стремятся с раннего детства жестокой дисциплиной закалить отвагу юношей, мы живем свободно, без такой суровости, и тем не менее ведем отважную борьбу с равным нам противником. Этим, как и многим другим, наш город и вызывает удивление.
Мы развиваем нашу склонность к прекрасному без расточительности и предаемся наукам не в ущерб силе духа. Богатство мы ценим лишь потому, что употребляем его с пользой, а не ради пустой похвальбы. Признание в бедности у нас ни для кого не является позором, но больший позор мы видим в том, что человек сам не стремится избавиться от нее трудом. Одни и те же люди у нас одновременно бывают заняты делами и частными, и общественными. Однако и остальные граждане, несмотря на то что каждый занят своим ремеслом, также хорошо разбираются в политике. Ведь только мы одни признаем человека, не занимающегося общественной деятельностью, не благонамеренным гражданином, а бесполезным обывателем.
Одним словом, я утверждаю, что город наш — школа всей Эллады, и полагаю, что каждый из нас сам по себе может с легкостью и изяществом проявить свою личность в самых различных жизненных условиях. И то, что мое утверждение — не пустая похвальба в сегодняшней обстановке, а подлинная правда, доказывается самим могуществом нашего города, достигнутым благодаря нашему жизненному укладу… Все моря и земли открыла перед нами наша отвага и повсюду воздвигла вечные памятники наших бедствий и побед. И вот за подобный город отдали доблестно свою жизнь эти воины, считая для себя невозможным лишиться родины, и среди оставшихся в живых каждый, несомненно, с радостью пострадает за него»[61].
Перикл не жалел слов утешения для семей погибших, хотя в таких ситуациях даже самые лучшие и искренние слова сочувствия звучат пусто и надуманно. Может быть, для многих самым важным в речи вождя стало его торжественное обещание, данное над могилой павших: осиротевшие дети будут вплоть до их совершеннолетия воспитываться за счет государства.
Никто из собравшихся тогда у Дипилонских ворот не мог и предвидеть, что пожар, разгоревшийся не без помощи Перикла, будет длиться еще двадцать семь лет. Никто не знал, что молох войны поглотит десятки, а может быть, и сотни тысяч людских жизней — и только для того, чтобы навсегда погубить величие их государства. Никто не догадывался, как часто траурные процессии будут отныне отправляться за Дипилонские ворота и какие прекрасные, все более и более, возвышенные речи будут раздаваться над братскими могилами молодых мужчин на государственном кладбище для заслуженных людей.
Царь Эдип
На следующее лето спартанцы снова вторглись в Аттику. Как и в прошлый раз, ими командовал царь Архидам. И снова население укрылось за городскими стенами, а враг опустошал поля и деревни. Казалось, все произойдет так же, как в прошлом году: через несколько недель враги уйдут и Аттика будет свободной. Но случилось то, что полностью перевернуло жизнь города и имело роковые последствия для всей дальнейшей борьбы афинян: не прошло и нескольких дней с момента начала осады, как в Афинах вспыхнула страшная эпидемия.
Первые больные были обнаружены среди беженцев, скопившихся в Пирее. Сначала все подумали, что это неприятель отравил колодцы. Но когда число больных, в том числе и в самих Афинах, начало прибывать с каждым днем, стало ясно: зараза попала в порт из заморских земель. И действительно, раньше, хотя и не с таким размахом, она свирепствовала на острове Лемнос, а еще раньше — в Египте и соседних с ним странах. Однако нигде не отмечалось такой высокой смертности, как в Аттике. Врачи были бессильны, не помогали молитвы богам и советы прорицателей. Оставалось только смириться с несчастьем и спокойно ожидать прихода болезни, обычно заканчивавшейся смертью.
Среди немногих выживших был и Фукидид, сын Олора. Он подробно описал симптомы страшного недуга, чтобы, как он сам говорил, облегчить распознание эпидемии, если в будущем она еще где-нибудь вспыхнет. Сначала — сильный жар, покраснение и воспаление глаз. Глотка и язык становятся кроваво-красными, а дыхание — нерегулярным и зловонным. Затем — насморк и хрипота, а после того как болезнь переходит на легкие, — сильный кашель. Когда все начинало полыхать в желудке, человека сотрясала рвота желчью, сопровождаемая сильными болями. Большинство страдало от икоты и судорог, которые у одних проходили быстро, а у других длились мучительно долго. На ощупь тело больного было не очень горячее, но какое-то синевато-красное и покрыто волдырями и нарывами. Внутри же несчастного полыхал такой сильный огонь, что он не мог вынести даже самого легкого покрывала и лежал совсем раздетый, а охотнее всего бросился бы в холодную воду. Больных мучили неутолимая жажда, кошмары и бессонница. Умирали они на седьмой или девятый день. А кто переживал этот срок, позднее умирал от истощения, когда болезнь распространялась на брюшную полость. И даже у выживших следы страшной болезни оставались на всю жизнь: они лишались пальцев рук и ног, половых органов, а иногда и зрения. Многие теряли память.
Скопление в городе большого числа людей привело к тому, что смерть собрала богатый урожай. Трупы лежали кучами, а больные ползали, по улицам и вокруг колодцев. Храмы также были заполнены мертвецами. Правила человеческого общежития перестали действовать, люди забыли про погребальные обряды. Кто не имел возможности сжечь своих мертвых, подбрасывал их па чужой погребальный костер. Распространилась жажда наслаждений, ибо над каждым нависла неумолимая смерть. Никто уже не боялся ни людской, ни божьей кары, ничего не стоили и деньги.
Но самое удивительное другое: несмотря на постигшую их катастрофу, у афинян хватило духовных и физических сил, чтобы вести военные действия согласно с намеченным планом. Пелопоннесская армия опустошала Аттический полуостров от края до края в течение сорока дней. Враги отступили, вероятно, из страха перед болезнью. Они видели поднимавшиеся над городом густые клубы дыма от погребальных костров. Но пелопоннесцы еще не покинули пределов Аттики, когда из Пирея вышли сто триер и несколько десятков транспортных кораблей. Этот флот, усиленный подкреплениями с Хиоса и Лесбоса, доставил на Пелопоннесское побережье, около Эпидавра, четыре тысячи гоплитов и триста всадников под командованием самого Перикла. Союзники безуспешно пытались захватить г. Эпидавр, зато им удалось опустошить земли на восточном побережье полуострова. И здесь болезнь следовала за воинами.
Сразу по возвращении в Пирей тот же самый флот, но уже под командованием стратегов Гагнона и Клеопомпа отплыл в другом направлении. Конечной целью похода были Халкидика и все еще оборонявшаяся Потидея. И на этот раз, несмотря на применение осадных машин, не удалось преодолеть сопротивление потидеян. Через сорок дней стратеги отступили, поскольку и их отряды понесли тяжелые потери от болезни, «привезенной» из Афин: из четырех тысяч гоплитов умерли тысяча пятьсот. Под Потидеей остался только старый осадный корпус.
* * *
Вот в эти-то мрачные дни войны и эпидемии Софокл работал над своей драмой «Царь Эдип».
Фивы поразила страшная эпидемия. Над городом поднимается дым от сжигаемых благовоний, отовсюду слышны погребальные песни и жалобные стоны. Умирают люди, гибнут звери, осыпается в полях и садах неубранный урожай. На опустевших улицах вповалку лежат непогребенные трупы. Женщины рыдают, припав к подножиям алтарей.
Царь Фив Эдип много лет назад освободил город от ужасного чудовища, Сфинкса. И теперь он тоже жаждет помочь своему народу. В храм Аполлона в Дельфы отправлено посольство, чтобы сам бог указал пути избавления от смертельной болезни. Ответ бога таков: надо найти и покарать преступника, который убил Лая, предыдущего царя города, только после этого болезнь исчезнет. Хотя со времени убийства прошло уже много лет, Эдип немедленно приступает к поискам, он должен узнать правду и наказать виновного. Но постепенно в ходе усиленных поисков преступника перед ним и народом открывается страшная тайна: это он сам убил Лая во время случайной ссоры на дороге, даже не зная, что имеет дело с царем Фив. Только потом Эдип расправился со Сфинксом и получил в награду пустующий трон и руку царицы-вдовы Иокасты. И это еще не все. Эдип узнает, что хотя он и воспитывался в Коринфе, но в действительности он родом из Фив и его отец — Лай, а мать — Иокаста. Значит, он не просто убийца, а отцеубийца и муж собственной матери. И подумать только, все эти несчастья обрушились на человека удивительной честности и отваги без всякой его вины, лишь по безжалостному приговору судьбы и богов! Поэтому в заключительных словах драмы хор стенает: «Сколько людей когда-то завидовало счастью и всемогуществу Эдипа! Теперь он сброшен безжалостной судьбой в пропасть отчаяния. Нет, никого нельзя называть счастливым, пока не закроются в последний раз его глаза».
И простой человек, и могущественный владыка, даже если он действует из лучших побуждений, бессильны перед всесокрушающей мощью рока. Самые добрые намерения, способные спасти человечество, обращает он ему во вред, на горе и погибель.
Не думайте, что Софокл в своей трагедии осуждает Перикла. Совсем наоборот, он его защищает. Вовсе не вождь навлек несчастье на город, хотя он и стремился к войне и распорядился собрать народ за городскими стенами. Он действовал из лучших побуждений, хотел победы Афин и предотвращения тяжелых потерь, однако стал игрушкой в руках богов, причиной огромных несчастий, в том числе и для собственной семьи.
Смерть не обошла стороной и дом Перикла. Умерла его сестра, затем оба сына от первого брака. Сначала жертвой смертельной заразу пал вечно ссорившийся с отцом старший сын Ксантипп, а через восемь дней младший — Парад. Когда Перикл стоял у его изголовья, он не мог сдержать стонов и слез. Со времени процесса Аспазии люди впервые видели плачущего Перикла.
Живым остался только сын Перикла и Аспазии, носивший имя отца. Но он незаконнорожденный и даже не имеет афинского гражданства, ибо двадцать лет назад по инициативе самого Перикла приняли закон, по которому полноправным гражданином считался только тот, у кого и мать, и отец были афинянами. Потребовался специальный указ, давший сыну Перикла афинское гражданство и право на наследование имущества отца.
Великий политик утратил не только семейное счастье. К закату клонилась его политическая звезда. Народ гневался, он считал стратегию Перикла ошибочной, винил во всех несчастьях. Люди говорили: «Если бы не страшная скученность, эпидемия не привела бы к таким жертвам. Из страха перед потерями мы уклоняемся от битвы. Но даже в самом кровавом сражении не погибло бы столько народу, сколько мы ежедневно теряем от проклятой заразы».
Как ни просил Перикл, было принято решение послать в Спарту посольство с предложением мира. Оно вернулось ни с чем. Вскоре после этого Перикла лишают поста, ему предъявляют обвинение в финансовых нарушениях, якобы имевших место во время его многолетнего пребывания в должности стратега. Суд приговаривает бывшего кумира народных масс к выплате весьма значительной суммы. Несколько месяцев спустя, когда волна возмущения спала, Перикла снова избирают в коллегию стратегов, однако былого авторитета он уже не приобрел: был скорее пассивным наблюдателем того, что происходило на театре военных действий.
Потидея сдалась зимой 430/429 г. до н. э. Она могла бы обороняться и дольше, если бы не страшный голод: в городе отмечались даже случаи людоедства. Условия капитуляции были суровыми: все жители должны покинуть родину. Мужчины могли взять только по одному комплекту одежды, женщины — по два платья. Было также определено, сколько денег они могут унести с собой. Изгнанники рассеялись по окрестным поселениям, а город заняли афинские колонисты. Осада Потидеи стоила Афинам многих тысяч людских жизней и двух тысяч талантов. Поэтому народ считал, что к потидейцам отнеслись слишком мягко: их всех следовало бы продать в рабство.
Лето 429 г. прошло для Аттики спокойно. Спартанцы, видимо, опасались все еще вспыхивавшей там время от времени эпидемии. Царь Архидам довел свои войска только до Платей. В то время здесь находилось всего четыреста граждан, восемьдесят афинских воинов да сто женщин, готовивших им еду. Зато город был хорошо укреплен. Почти три месяца многотысячная пелопонесская армия, получившая к тому же подкрепление от фиванцев, пыталась взять его. Не помогли огромный земляной вал, осадные машины и даже устроенный в городе сильный пожар. В сентябре большая часть пелопоннесцев ушла, оставив лишь отряд, необходимый для изоляции Платей от внешнего мира.
Последние слова Перикла
В эту осень Перикл заболел. Он стал одной из последних жертв уже угасавшей эпидемии. Организм пожилого человека не мог справиться с болезнью, протекавшей относительно легко. Аспазия не отказывалась ни от одного из средств, которое могло бы принести спасение: на шею больного она повесила амулет. С беспомощной улыбкой Перикл показал его посетителям. Очевидно, наступили последние минуты жизни вождя, который лежал совершенно обессиленный, временами как бы теряя сознание. Поэтому собравшиеся у его изголовья разговаривали тихо, но не стесняясь, в полной уверенности, что он ничего не слышит. Их речи соответствовали важности момента: «Какой великий человек нас покидает! Дела его пребудут в веках. Он сделал Афины первой державой Эллады, укрепил народовластие, украсил город прекрасными зданиями, одержал множество побед на суше и на море».
Они говорили очень долго, все возвышеннее и жалобней. Казалось, то был первый акт церемонии, которая через несколько дней пройдет на кладбище за Дипилонкими воротами.
А он? Он слушал и взвешивал каждое слово, которое будет сказано над его могилой. Подсчитывались одержанные победы и построенные здания, но сам он, прекрасный оратор, многих проводивший от имени государства в последний путь, все больше понимал, что подобные речи никого не взволнуют — они напыщенны и пусты. Ах, если бы найти хоть одно слово, которое поразит слушателей прямо в сердце!
Жизнь уходила, все медленнее текла река воспоминаний, а мгла смерти пугала страшным холодом и постепенно заволакивала сознание. Сможет ли Перикл, до того, как наступит вечная ночь, найти ту мысль, которую он так упорно ищет, для придания блеска погребальной речи на его собственных похоронах, мысль одновременно простую и поэтичную? В какое-то мгновение веки больного приоткрылись, губы начали беззвучно шевелиться.
Головы собравшихся немедленно склонились над ложем больного, чтобы услышать его последние слова. А он с трудом прошептал: «Вы забыли о самом главном. Никто из афинян не надел по моей вине траурной одежды.»
Надеть траурную одежду мог не только тот, кто потерял кого-нибудь из близких, но и каждый, считавший себя обиженным. Таким образом, слова Перикла надо было понимать так: «Хотя я и много лет находился у власти, но никого и никогда не обидел».
Да, это было правдой. Непосредственно Перикл вроде бы никого не обидел. Он никогда не злоупотреблял своим влиянием, не увеличивал с помощью политических махинаций своего состояния, не лгал, не лицемерил и не оскорблял людей. Был честным человеком с чистыми руками — явление чрезвычайно редкое среди тогдашних политиков.
Но правдой было и то, что на кладбище за Дипилонскими воротами все чаще и чаще отправлялись люди в траурных одеждах. Они сопровождали на место вечного успокоения своих близких, павших на войне, на той войне, за разжигание которой Перикл нес ответственность. Он сам заплатил за это смертью двух сыновей. Война была безжалостна и к сыну Аспазии.
Сразу после смерти Перикла Аспазия связала свою судьбу с человеком, которого считали будущим вождем демократов. Звали его Лисикл. Не надо удивляться такой спешке: Аспазия осталась одна в городе, где в условиях войны жить становилось все труднее. К тому же она была иностранкой, к которой многие испытывали жгучую ненависть. Однако главной причиной такого решения явилась, очевидно, необходимость обеспечить будущее молодого Перикла. В момент смерти отца ему не было еще и восемнадцати, он нуждался в мужской поддержке и покровительстве. Но Лисикл погиб осенью 428 г., и молодой Перикл волей-неволей вступил в самостоятельную жизнь. Он никогда не играл заметной роли в политике и все же в 406 г. вошел в коллегию стратегов. Он занял тот пост, который много лет находился в руках его отца. В том же году Перикл вместе с другими полководцами одержал блестящую победу над флотом Спарты. Но в Афинах победителей ждала не награда, а судебный процесс. Их обвинили в том, что они не позаботились об извлечении из волн разбушевавшегося моря тел погибших воинов. Конечно, это был только предлог. В действительности стратеги пали жертвой политических махинаций в борьбе за власть. Народ приговорил Перикла и его товарищей к смерти, приговор привели в исполнение.
Так жало войны поразило в самое сердце тот государственный строй, в превосходство которого над всеми иными формами правления глубоко верил великий Перикл. Поэтому-то он желал любой ценой, даже силой, обеспечить своему государству и демократии господство над всей Элладой. Насилие, однако, оказалось обоюдоострым оружием: оно подорвало те государственные принципы, во имя торжества которых его применяли. Остались лишь красивое название и пустые, ничего не значащие фразы о власти народа, власти, которая в действительности выродилась в террор кучки циников по отношению к оболваненным, наивным массам.
Послесловие
Уважаемый читатель! Прочтенная Вами книга представляет собою необычное литературное произведение. Автор его создал яркий художественный рассказ об исторических событиях в Афинах в тот период, когда в первой половине V в. до н. э. все силы полиса были направлены на отражение агрессии Персии, а со второй его половины — на то, чтобы, укрепив свой внутренний строй, возглавить демократические полисы и консолидировать значительную часть Эллады. Живое и увлекательное повествование А. Кравчука позволит современному читателю узнать много интересного о тогдашних событиях и людях. Лишенная научной сухости и антикварного тона книга привлекает особенностью построения: автор создал свой рассказ на основе подробного изложения сведений древних писателей о том значительном, что происходило в Афинах в «век Перикла». Большим достоинством книги является весьма умелое сочетание рассказов античных авторов различных направлений и текстов подлинных официальных документов, дошедших до нас из каменных архивов Эллады. А. Кравчук редко прибегает к выдумкам, зато широко пользуется своим правом писателя выбрать из массы источников лишь те, которые ему самому интересны и полезны. Это потребовало ознакомления с многими трудами античных авторов — историков, поэтов, трагиков, философов, биографов. Должно отметить, что привлеченные материалы необычно сопоставлены и поданы в книге подробно и весьма своеобразно: писатель заставляет читателя чувствовать себя почти участником описываемых событий. Вполне естественно, что автор настоящей повести не мог не испытать прямого воздействия тех ярких представителей античной культуры, сочинения которых он излагал. Можно сказать, даже, что А. Кравчук в значительной мере следует Плутарху, создавшему биографии Кимона и Перикла спустя более чем 500 лет после их смерти[62]. Как и античный биограф, наш писатель не стремится к исчерпывающему изложению истории и привлекает лишь те факты, которые нужны ему для характеристики упоминаемого конкретного деятеля древней Эллады. Биографический жанр позволил А. Кравчуку включить в свое произведение не только точные сведения о действительно происходивших событиях, но и многие анекдоты, сохраненные античной литературой. Это придало изложению книги особенную живость.
Признавая права автора на свободное изложение темы художественного произведения, все же позволю себе, историку-профессионалу, высказать некоторые замечания, дополнения и даже возражения уважаемому писателю.
А. Кравчук сразу вводит читателя в гущу сложной борьбы политических групп в Аттике в VI–V вв. до н. э., не упомянув хотя бы кратко о предшествующей, восходящей еще к середине III тысячелетия до н. э. истории всей Эллады. В таком длительном процессе развития греков история Аттики особо выделялась тем, что население ее не испытало завоеваний — факт, который подчеркнул Фукидид (460–396 гг. до н. э.), одареннейший историк древности[63]. Фукидид ставил своей целью излагать только достоверные факты, и многие древние документы подтверждают его добросовестность. Поэтому особенно важно то, что в труде аттического историка, отличающемся тщательностью отбора источников и глубиной проникновения в суть исторических событий, наряду с описанием активности лидеров полиса постоянное внимание уделено деятельности простых афинских граждан. Для Фукидида весомая роль демоса, т. е. всего населения Аттики в событиях VI–V вв. до н. э., совершенно закономерна. Правда, только недавно историки смогли по-настоящему оценить такой подход автора.
Я пишу «недавно» потому, что лишь с начала 1900-х годов благодаря археологическим раскопкам исследователи глубоко изучили материальные свидетельства высокого подъема жизни греков в эпоху бронзы (III–II тысячелетия до н. э.). Развитие хозяйства и общественной структуры привело к образованию в XVII–XIII вв. до н. э. ранних монархических государств в ряде областей Греции. И уже тогда в небольших ахейских царствах народ имел не только обязанности, но и определенные права, причем и в такой сфере, как землевладение. Это стало известно науке в 1953 г., когда было сделано эпохальное открытие: английские ученые М. Вентрис и Дж. Чэдуик прочли греческие тексты XIV–XIII вв. до н. э., написанные слоговым письмом[64]. Ахейские документы не только у древни ли письменность античной Греции[65]. Они позволили лучше понять ранние предания греков, сохранившиеся в устной и литературной традиции VII–V вв. до н. э., в особенности известия о смене монархического строя в Аттике республиканским. События XII–XI вв. ярко свидетельствуют о силе аттического демоса и делают вполне естественным дальнейший рост республиканской системы. Последнее определяло отношение Фукидида к демосу и его глубокое суждение о политике Перикла: «Народоправство оставалось по имени, а на деле власть принадлежала первому гражданину» (II, 65, 9). Перед этими словами Фукидид кратко, но глубоко рисует сложную гамму отношений Перикла с народом, показывающую социальную весомость свободного гражданства Аттики. К сожалению, эта грань исторической действительности не привлекла должного внимания А. Кравчука.
Трудно согласиться с заключением автора о том, что демократия в Афинах после Перикла выродилась. Развернувшаяся в последующие десятилетия политическая борьба между демократами и олигархами завершилась в 403/402 г. до н. э. восстановлением демократической системы управления[66]. В дальнейшем создаются эффективные органы демократического строя, хотя это была демократия лишь части населения Аттики — ее свободных граждан.
Решусь отметить несогласие со слишком прямолинейным использованием ряда текстов. Конечно, Аристофан (около 450–385 гг.) писал остро и хлестко, но нельзя ограничиваться лишь самыми грубыми шутками. Политические комедии Аристофана содержат и более ценные сведения о борьбе демократии и олигархии в его время.
Трудно согласиться с упрощенным освещением союза. Перикла и Аспазии, которое выражено даже в излишне вульгарных эпитетах. Не касаюсь первоначальной профессии Аспазии, но ее появление в доме Перикла после его развода с первой женой имело законный характер: она была жена-инополитянка. Брак с нею Перикла относился к разряду обычных в полисной практике союзов граждан разных полисов. Некоторые греческие государства даже заключали специальные соглашения с дружественными полисами о полноправности браков своих граждан. Афины не имели такого договора с Милетом. В реальной жизни браки афинян со свободными инополитянками считались действительными, и дети от таких союзов получили даже особое название — «метроксены». В доперикловы времена многие метроксены были полноправными гражданами Аттики.
Повторю еще раз: автор художественного произведения имеет право высказывать свои взгляды. Но оценка фигуры Перикла не должна исходить лишь из позиций его политических противников, таких, как Кратин (около 484–419 гг. до н. э.) или Аристофан.
Следует заметить, что А. Кравчук не смог преодолеть старые представления о слабом культурном развитии Афин в середине V в. до н. э. Энергично восстанавливающийся после персидского опустошения полис развивал ряд отраслей знания. Естественно, военное и гражданское строительство, возрождение земледелия, ремесленное производство и другие виды неотложной деятельности народа занимали большинство умов. Но в духовной жизни Афин уже возникла такая важная философская проблема, как идея судьбы и возмездия, — недаром трагедии Эсхила (525–456 гг. до н. э.) так волновали афинян. Именно интенсивная работа мысли в Афинах того времени могла привлечь сюда многих инополитов, в числе которых был и Анаксагор[67].
Позволю себе указать на некоторые досадные неточности и сделать необходимые дополнения: преувеличена роль Пирея, тогда как сила Афин была в их крестьянах и ремесленниках; автору следовало бы указать источник сведений о поездке Еврипида в Эфес, так как вопрос неясен; к сожалению, искажены данные о черноморском походе Перикла; утверждение автора о том, что в Афинах «деньги ценили превыше всего», не согласуется с сугубым вниманием полиса к праву владения землей.
Неточно указаны основания смертного вердикта стратегам, вернувшимся после победы у Аргинусских островов в 406 г. до н. э. Их вина, состояла не столько в том, что они оставили погибших непогребенными, сколько в том, что не оказали помощь морякам, уцелевшим на разбитых кораблях[68].
Изложенные замечания и возражения имеют целью исправление только некоторых спорных мест в книге А. Кравчука. Но в целом она оставляет благоприятное впечатление, так как красочно и динамично рисует многообразие и сложность истории Афин в завершающий период сложения институтов античной демократии, являвшейся демократией лишь для строго ограниченной законами части свободного населения полиса.
Доктор исторических наук
Т. В. Блаватская
Примечания
1
Аристофан. Всадники / Пер. с древнегреч. А. Пиотровского. // Аристофан. Комедии. М., 1983. T. 1. С. 131.
(обратно)2
Аристофан. Женщины на празднике Фосморфорий / Пер. с древнегреч. Н. Корнилова. Под ред. К. Полонской // Там же. Т. 2. С. 205–206.
(обратно)3
Аттика — историческая область средней Греции с центром в Афинах. (Примеч. пер.)
(обратно)4
Гостеприимное море (Понт Евксинский) — так называлось Черное море у древних греков. (Примеч. пер.).
(обратно)5
Талант — античная мера веса. Серебряный талант был равен 33,655 кг, аттический — 26,196 г. (Примеч. пер.).
(обратно)6
Геллеспонт — древнее название пролива Дарданеллы. (Примеч. пер.).
(обратно)7
Агора — площадь в древних Афинах, место проведения народных собраний. (Примеч. пер.).
(обратно)8
Мина — античная мера веса, равная 341,20 г. (Примеч. пер.).
(обратно)9
Tod М. N. Greek Historical Inscriptions. Oxford, 1951. Vol. I. N. 12.
(обратно)10
Геродот. История. Л., 1972. V. 78.
(обратно)11
Бделикион ошибается: в течение этих 50 лет обвинения в попытках установить тиранию повторялись почти ежегодно.
(обратно)12
Аристофан. Осы / Пер. с древнегреч. Н. Корнилова. Под ред. В. Ярхо. // Аристофан. Комедии. М., 1983. T. 1. С. 262.
(обратно)13
Пиндар. Пифийские песни // Пиндар, Вакхилид. Оды. Фрагменты. М., 1980. С. 97.
(обратно)14
Обол — мелкая медная или серебряная монета. (Примеч. пер.).
(обратно)15
Триера — военное судно в Древней Греции. Имело до 200 гребцов, располагавшихся тремя ярусами. (Примеч. пер.).
(обратно)16
Хитонов стены — поэтическое выражение, вероятно, из какогонибудь прорицания оракула. (Примеч. советского переводчика «Истории» Геродота Г. А. Стратановскогю). (Примеч. пер.).
(обратно)17
Лакедемоняне — жители Лакедемона, т. е. Спарты. (Примеч. пер.).
(обратно)18
Геродот. История. Л., 1972. VII. 139.
(обратно)19
Эфеб — в Афинах восемнадцатилетний юноша, внесенный в списки граждан и проходящий двухлетнее военное обучение. (Примеч. пер.).
(обратно)20
Аристофан. Облака / Пер. с древнегреч. А. Пиотровского // Аристофан. Комедии. T. 1. С. 205–207.
(обратно)21
Перевод элегий Солона, приведенных далее, сделан с польского текста.
(обратно)22
Спартанских воинов было 300 человек.
(обратно)23
Анакреонт. Оды. Фрагмент XXXVII / Пер. с древнегреч. В. Крестовского // Анакреонт. Первое полное собрание его сочинений в переводах русских писателей. СПб., 1896. С. 69.
(обратно)24
Элафеболион — афинский месяц, соответствующий марту.
(обратно)25
Аноним. Устройство Афин. I. 10–11. (Пер. авт.).
(обратно)26
Лакония — область на Пелопоннесе, где проживали спартанцы. (Примеч, пер.).
(обратно)27
Eupolis Fr g. 208 // The Fragments of Attik Comedy. Leiden, 1957.
(обратно)28
Платон. Государство / Пер. с древнегреч. А. Н. Евгунова // Платон. Соч. М., 1971. Т. 3, ч. 1. С. 212.
(обратно)29
Аристофан. Осы / Пер. с древнегреч. Н. Корнилова. Под. ред. В. Ярхо // Аристофан. Комедии. М., 1983. T. 1. С. 266, 269–270.
(обратно)30
Метопы — прямоугольные плиты, элемент фриза дорического ордера. (Примеч. пер.).
(обратно)31
Peek W. Griechische Vers-Inschriften, В., 1955. Vol. I. N. 14.
(обратно)32
Лисий. Речи. I. 5–27. (Пер. авт.).
(обратно)33
Tod М. N. Greek Historical Inscriptions. Oxford, 1951. Vol. I. N. 44.
(обратно)34
Peek W. Griechische Vers-Inschriften. B., 1955. Vol. I. N. 17.
(обратно)35
Tod M. N. Op. cit. N. 41.
(обратно)36
Ibid. N. 42.
(обратно)37
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. T. I. (Пер, авт.).
(обратно)38
Аноним. Афинское устройство. И. 18. (Пер. авт.).
(обратно)39
The Fragments of Attic Comedy. Leiden, 1957. Frg. 241.
(обратно)40
Аристотель. Политика / Пер. с древнегреч. С. А. Жебелева // Аристотель. Соч. М., 1984. Т. 4. С. 423–424..
(обратно)41
Там же. С. 426–427.
(обратно)42
Автор пересказывает диалог Платона «Протагор». См.: Платон. Соч. М., 1968. T. I. С. 187–253.
(обратно)43
См.: Геродот, История Л., 1972. VII. 101–104.
(обратно)44
Ион Хиосский. Фрагменты греческой истории. II. 46. Фраг. 1. (Пер. авт.).
(обратно)45
Там же. Фраг. 2.
(обратно)46
Мelissos. Frg. 1, 2 // Diels H. Die Fragmente der Vorsokratiker, B., 1922.
(обратно)47
Parmenides. Frg. 8 // Ibidem.
(обратно)48
Аnaksagoras. Frg. 1 // Ibidem.
(обратно)49
Herakleitos. Frg. 1 et al. // Ibidem.
(обратно)50
1Solon. Elegie. 16 // Antologia liryki greckiej. Wroclaw, 1955.
(обратно)51
Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I. 2, 40 и след. (Пер, авт.).
(обратно)52
Платон. Хармид. (Пер. авт.).
(обратно)53
4Реек W. Griechische Vers-Inschriften. В., 1955. Vol. I. N. 20.
(обратно)54
См.: Аристофан. Ахарняне // Аристофан. Комедии. М., 1983. Т. I. С. 43–49.
(обратно)55
Платон. Пир / Пер. с древнегреч. С. К. Апта // Платон. Соч. М., 1970. Т. 2. С. 152Кравчук А.153.
(обратно)56
Афиней. Пирующие софисты. V. 219 с-е. (Пер. авт.).
(обратно)57
Аристофан. Ахарняне / Пер. с древнегреч. С. К. Апта // Аристофан. Комедии. М., 1983. T. 1. С. 33–34.
(обратно)58
Фукидид. История. Л., 1981. I. 127.
(обратно)59
Там же. II. 65.
(обратно)60
Там же. II. 8.
(обратно)61
Фукидид, История. Л., 1981. II. 36–41.
(обратно)62
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. М., 1961–1964. T. I–III. Для удобства читателя я привожу здесь и далее русские переводы авторов — эти издания могут быть найдены во многих библиотеках.
(обратно)63
Фукидид. История / Пер. Ф. Мищенко. М., 1915. T. I–II.
(обратно)64
Об истории дешифровки можно прочесть в работах: Чэдуик Дж. Дешифровка линейного письма В. // Тайны древних письмен. М., 1976. С. 105–251;
Молчанов А. А., Нерознак В. П., Шарыпкин С. Я. Памятники древнейшей греческой письменности. М., 1988.
(обратно)65
Речь идет о системе так называемого линейного письма В. Заметим, что два более ранних вида письменности греков не расшифрованы до сих пор.
(обратно)66
Очерк этого сложного периода истории Афин и библиографию можно найти в кн.: История Европы. T. I: Древняя Европа. М., 1988.
(обратно)67
Его творчеству посвящено исследование И. Д. Рожанского «Анаксагор» (М., 1972). Яркий очерк интеллектуальной жизни Афин в эпоху Сократа (469–399 гг. до н. э.) содержит книга Ф. X. Кессиди «Сократ» (Мм 1976),
(обратно)68
Ксенофонт. Греческая история. Л., 1935. I. 6–7.
(обратно)

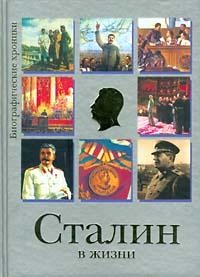


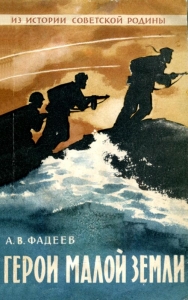
Комментарии к книге «Перикл и Аспазия», Александр Кравчук
Всего 0 комментариев