История тела Том 3
Перемена взгляда: XX Век
Под редакцией Алена Корбена, Жан Жака Куртина, Жоржа Вигарелло
Редактор тома Жан Жак Куртин
Введение
Жан–Жак Куртин
По окончании предпринятого в этом трехтомнике широкого исторического исследования перед нами встает некоторый вопрос и напрашивается некоторое заключение.
Вопрос этот носит эпистемологический характер и затрагивает основы всего проекта: каким образом тело стало в наши дни предметом исторического исследования? Такая постановка вопроса тем более правомерна, что в философской традиции из–за сильного влияния картезианства по меньшей мере до конца XIX века все способствовало тому, чтобы телу была отведена роль второго плана. В конце же века отношения между субъектом и его телом начинают меняться: «Наше столетие стерло границу между „телом” и „духом” и признало, что человеческая жизнь, будучи от начала и до конца и духовной, и телесной, всегда опирается на тело. <…> Для многих мыслителей конца XIX века человеческое тело было куском особого вещества — материи, соединением отдельных механизмов. XX век восстановил и углубил понятие плоти, то есть одушевленного тела»[1].
XX век создал теорию тела. Это произошло прежде всего благодаря психоанализу, с того момента, когда Фрейд, наблюдая за телами, демонстрируемыми Шарко в клинике Сальпетриер[2], разгадал природу конверсионной истерии и дал основу для будущих исследований: через тело говорит бессознательное. Этот первый шаг имел решающее значение, был поднят вопрос о соматизации, и открыта дорога к пониманию образа тела в воспитании субъекта, того, что получит определение «я-кожа»[3]. Вторым шагом можно считать идею о том, что тело, как определил его Эдмунд Гуссерль, является «первоначальной колыбелью» любого значения. Во Франции его идеи упали на добрую почву и, через феноменологию и экзистенциализм, переросли в концепцию, разработанную Морисом Мерло–Понти, о теле как «воплощении сознания», его раскрытии во времени и пространстве в качестве «оси мира»[4].
Третий этап этого открытия тела связан с областью антропологии, с тем изумлением, которое испытал Марсель Мосс, увидев во время I Мировой войны, что британская пехота марширует иначе, чем французская, и роет окопы особенным образом. Невозможно представить себе в полной мере, насколько понятие «техника тела» — «традиционные способы, посредством которых люди в различных обществах пользуются своим телом»[5], как сформулировал это Мосс, проанализировав свое удивление, — станет пищей для всех исторических и антропологических рефлексий того времени на этот счет.
Таким образом, тело вновь оказалось связанным с бессознательным, привязано к субъекту и включено в социальные культурные формы. Ему оставалось преодолеть лишь одно препятствие: наваждение лингвистического структурализма, которое в период после II Мировой войны и до 1960‑х годов практически предало забвению вопрос о теле, наравне с проблемой субъекта и его «иллюзий». Ситуация начала меняться к концу 1960‑х: возможно, это было связано не столько, как принято думать, с инициативами мыслителей того времени, сколько с тем фактом, что тело начало играть главенствующую роль в индивидуалистских и эгалитарных движениях протеста против засилья культурной, политической и социальной иерархий, наследуемых из прошлого.
«Наше тело принадлежит нам!» Вот возглас женщин, которые в начале 1970‑х годов протестовали против законов, запрещающих аборты, незадолго до того, как тот же лозунг будет подхвачен движением гомосексуалов. Господствующая система понятий была связана с властью, в то время как тело было отнесено к категориям притесняемым, оно занимало в обществе маргинальное положение: расовые и классовые меньшинства полагали, что не обладают ничем, кроме тела, что позволило бы им противостоять дискурсу власти, языку, принуждающему тела к молчанию. «Пусть даже считается, что Женское движение было начато интеллектуалами, — заявила однажды Антуанетт Фук, одна из основательниц Движения за освобождение женщин во Франции, — прежде всего был возглас, и вместе с этим возгласом появилось тело: тело, которое столь сурово притеснялось обществом в 1960‑е годы, которое столь резко отвергали современники, мэтры современной мысли»[6]. С этого момента тело помещается в контекст борьбы за права меньшинств, развернувшейся в 1970‑х годах: главной сферы репрессий, важнейшего инструмента либерализации, обещания революции. «Я уже говорила, что революция, которую собиралось совершить Движение за освобождение женщин, должна была заключаться в том, чтобы отменить цензуру тела, как Фрейд… отменил цензуру бессознательного»[7].
Мечты ушли. Осталась лишь политическая борьба. Индивидуальные чаяния поместили тело в центр культурных дискуссий, глубоко трансформировали представление о нем как об объекте мысли: отныне оно несет следы рода, класса и происхождения, которые не могут быть стерты. Наконец, в теоретическом плане должно было произойти ницшеанское переосмысление связи между телом и субъектом, которое получило самую радикальную трактовку в «Анти–Эдипе» и нашло признание в работах Мишеля Фуко, чье присутствие, явное или тайное, в качестве объекта критики или же, наоборот, точки отсчета, ощущается во многих исследованиях этой серии. Можно соглашаться или не соглашаться с его концепцией сил, оказывающих влияние на плоть, но невозможно не признать заслугу Фуко в том, что он прочно и надолго вписал это понятие в исторический горизонт. Возможно, что отклик его работ можно найти и во внезапном появлении тела в качестве объекта истории менталитета, и в повторном открытии значения процесса цивилизации, проделанном до этого Норбертом Элиасом, и в смещении акцентов в современных исторических исследованиях на жесты, манеры, чувственность и интимность.
Итак, вопрос поставлен, осталось сделать заключение. Речь идет о перевороте: никогда еще человеческое тело не знало преобразований, которые по своему масштабу и глубине могли бы сравниться с тем, что происходило с ним на протяжении XX века. Наш третий том, будучи продолжением двух предыдущих, занимает в этом отношении особое место. Преемственность его состоит в том, что при прежнем внимании к вымыслам, образам и дискурсу, превращающим тело в культурный объект, страницы, которые вы собираетесь прочесть, полностью сохраняют общий замысел — выявить материальное тело: тело органическое, из плоти и крови, тело как действующий субъект и инструмент социальных практик, тело субъективное, наконец, концепт «я-кожа» как материальную оболочку осознанных действий и неосознанных стремлений. Здесь вновь поднимаются многие проблемы, затрагивавшиеся уже во втором томе, те, которые касаются периода с конца века до начала I Мировой войны. Но, кроме этого, здесь рассматриваются и те вопросы, которые ранее были лишь намечены, как, например, тело монстра, или которые только ждали своего часа, такие как тело солдата или преступника. Периодически это требует от третьего тома более глубокого погружения в исследование второй половины
XIX века. И наконец, в этом томе сделана попытка воспроизвести уникальность существования тела в XX веке за счет акцента на изменениях во взгляде, который на него направлен, так как многие из них не имели прецедента: никогда еще организм не был настолько подвластен технологиям медицинской визуализации, никогда еще интимная, половая сторона тела не получала столь пристального внимания, никогда еще наша визуальная культура не знала эквивалентов образам насилия, которому подвергалось тело на войне или в концентрационных лагерях, никогда еще зрелища, объектом которых оно являлось, не производили такого переворота, как современные живопись, фотография и кино.
Именно в такой перспективе данный труд последовательно рассматривает формирование медицинского знания об организме (включая представления о генетике), напряжение между желаниями тела, наделенного половыми признаками, и нормами социального контроля, трансформацию восприятия анормального тела и необходимость идентификации опасных индивидов, неисчислимые страдания, порожденные кровавыми трагедиями и жестокостью XX века, и, наконец, наслаждения, которые предлагает зрителю искусство, кино, театр, трибуны, демонстрирующие современные метаморфозы тела. Настоящий том стремится изложить эти аспекты как детально, так и в целом, максимально охватывая пространство западного мира: история тела пренебрегает границами, независимо от того, имеют они национальную или дисциплинарную природу.
Каждый этап этого исследования раскрывает отдельную сторону сложного процесса исторических изменений, в ходе которых формируется отношение современного субъекта к своему телу: переосмысление различий между телом больным и здоровым, телом нормальным и анормальным, переосмысление соотношения жизни и смерти в обществе, полностью охваченном медицинским обслуживанием; ослабление наследуемых из прошлого условностей и строгих порядков, создание законов, в основе которых лежит наслаждение, одновременно с возникновением новых норм и новых возможностей как биологического, так и политического характера; здоровье, которое стало правом, и тревога перед лицом опасности, стремление к личному благосостоянию и чрезмерная массовая жестокость, кожный контакт в интимной жизни и тиражирование в публичном пространстве бесчувственных сексуальных иллюзий. Вот лишь некоторые парадоксы и контрасты, из которых складывается история тела в XX веке.
Однако, по всей видимости, здесь можно усмотреть и иной смысл: не очевидно ли, что исследование тела в этом счастливом и трагическом веке представляет собой способ поставить вопрос антропологического характера о человеческой природе? «Мое тело больше не было моим», — в такой простой формулировке Примо Леви напоминает о том, что еще недавно казалось бесчеловечным[8]. В эпоху, когда быстрое распространение получают виртуальные тела, когда все глубже становятся визуальные исследования живых организмов, когда обмениваются кровью и органами, когда программируется воспроизведение жизни, когда обилие имплантантов стирает границу между механикой и органикой, когда генетика все ближе подходит к возможности репликации индивидуума, становится необходимее, чем когда–либо, изучить и испытать границы человека: «Мое тело — это все еще мое тело?» История тела только начинается.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗНАНИЯ ОБ ОРГАНИЗМЕ
ГЛАВА I Тело с точки зрения медицины
Анн Мари Мулен
В XIX веке государство всеобщего благоденствия гарантировало человеку право на болезнь. В XX веке признали право человека на здоровье, точнее, на «наивысший достижимый уровень здоровья»[9], что на практике, в первую очередь, означает право на получение медицинской помощи.
История тела в XX веке — это история его беспрецедентной медикализации. Так называемая западная медицина, взяв на себя ответственность устанавливать режим дня и сопровождать повседневные действия человека, вышла далеко за рамки всех своих прежних ролей и превратилась не только в главный источник помощи в случае болезни, но и в руководство для жизни, соперничающее с теми путями, которые были выработаны традиционной культурой. Медицина устанавливает правила поведения, ограничивает удовольствия, сводит повседневность к набору рекомендаций. Ее правота подтверждается все новыми знаниями о функционировании организма, а также невиданной доселе победой над болезнями, о чем, в свою очередь, свидетельствует постоянный рост продолжительности жизни.
Влияние медицины закончилось там, где началось сопротивление со стороны населения, не готового пожертвовать своей автономией. Количественное и качественное увеличение медицинских вмешательств, среди которых и те, что затрагивают целостность человеческого тела, его репродуктивное здоровье и способы ухода из жизни, вызвало беспокойство в самом сообществе медиков, занявшем в результате нишу между гражданским обществом и политико–религиозными силами. История тела в XX веке — это история его потери и повторного обретения человеком. Возможно, это приведет к тому, что каждый станет сам себе врачом, обладающим достаточной компетенцией, чтобы руководить собственным лечением.
На эту мечту вдохновляет идея о прозрачности тела — тела, недра которого полностью исследованы и открыты человеческому взору, а также напрямую доступны самому его обладателю.
I. Тело в XX веке: ни больное, ни здоровое
Наш XX век вменяет себе в заслугу победу над болезнью. На самом же деле он скорее размыл представление о ней и изменил способ ее переживания, чем уничтожил болезнь как таковую.
«Мы больше не знаем, что значит болеть», — так недавно высказался в своей работе философ Жан–Клод Бон. Раньше болезнь протекала в реальном времени, а тело играло роль сцены, где развертывалась величественная драма. На продолжительный период времени в семье воцарялся режим, когда все ее члены выказывали обеспокоенность болезнью, уповая при этом на исцеление больного[10]. Главным эпизодом этой драмы был «кризис», излюбленная тема медицинской литературы, ключевой момент, когда определялся исход болезни. В благополучном варианте кризис разрешался за счет обильного выделения пота и мочи, после чего следовало стремительное ослабление лихорадки. «Больной чувствует себя лучше и, утомленный, засыпает», — так писали в учебниках.
Ближе к концу XX века описания смерти и болезни, сопровождающиеся чувством обновления, а также благодарности природе и в некоторых случаях врачу, становятся все более редкими и отстраненными, равно как и описания счастливого периода выздоровления больного.
В наши дни систематически применяемое лечение антибиотиками, необходимое для быстрого выхода на работу, сокращает время выздоровления. Антибиотики истощают организм — таково современное расхожее мнение, люди не хотят больше считать, что болезнь сама по себе подрывает силы организма. Врачи, с одной стороны, крайне озабочены стрессом, который они наблюдают в обществе, но тем не менее это не мешает им предлагать все более и более сильнодействующие средства лечения, позволяющие больным как можно быстрее вернуться на свой трудовой фронт — в школу, на завод или в офис[11].
Современные дети стали болеть реже, они не знают, что такое корь, коклюш или свинка — эти болезни предотвращает обязательная плановая вакцинация. Матери проводят гораздо меньше времени у их кроваток. Таким образом, опыт болезни как личной истории откладывается и переносится на конец жизни, превращаясь в смутную тревогу по поводу грядущих проблем со здоровьем.
Понятие болезни размылось и с точки зрения ее локализации в пространстве. Городские больницы постепенно перестали быть потенциальными очагами инфекции. Количество койко–мест, предназначенных для госпитализации больных, снижается. Больница, которая некогда пряталась от внешнего мира за высокими стенами, открывает теперь свои двери для жителей города, становясь частью торговой улицы, на которой пациенты мирно соседствуют с врачами. Попытки организовать дневной стационар, а также помощь на дому две сотни лет спустя после революционного требования упразднить больницы укрепили идею братского сосуществования и даже равенства больных и здоровых.
Здоровье и болезнь отныне не являются двумя противоположностями, но сосуществуют в разных пропорциях в теле конкретной личности, где болезнь становится не чем иным, как ипостасью здорового состояния, одной из его составляющих. Жорж Кангилем, основатель современной эпистемологии, в финале своей диссертации 1943 года о «Норме и патологии» и незадолго до своей смерти[12] подчеркивал, что болезнь, по сути, является неизбежным испытанием, цель которого — проверить и укрепить защитные силы организма. Болезнь не делает больного человека изгоем общества, напротив, она определенным образом его характеризует.
Наряду с этим забота о здоровье становится постепенно и заботой о болезни. Если главным словом XVIII века было «счастье», а XIX века — «свобода», то главное слово XX века — это «здоровье». Утвердив в 1949 году право на здоровье и признав его предметом заботы всех государств, Всемирная организация здравоохранения в XX веке подарила миру новое право человека. В настоящее время оно упомянуто практически во всех национальных конституциях. Стало хрестоматийным определение здоровья, данное ВОЗ, в котором говорится о достижении наивысшего уровня здоровья, как физического, так и умственного и социального. Выдвинув на первый план положительное определение здоровья в отличие от представления о здоровье как об отсутствии болезни или каких–либо известных медицине ограничений, эта организация предложила новый, однако трудно достижимый идеал[13]. Увеличение числа факторов, включенных в определение здоровья и подразумевающих полный охват биологической и социальной сфер человеческой жизни, делает это счастливое состояние недостижимым объектом обладания и неуловимой привилегией: речь теперь идет не просто о здоровье как смиренном молчании органов, как определял его хирург и психолог Рене Лериш, но о здоровье чрезмерном, «великом здоровье», о котором красноречиво писал Ницше. Здоровье стало истинным состоянием и одновременно утопией тела, целью, к которой стремится социальное и международное устройство, более справедливым и более правильным всеобщим миропорядком.
Новое определение имело своей целью поместить здоровье в область, выходящую за рамки медицины. Но де–факто право на здоровье было монополизировано сообществом врачей, обладавшим четкими представлениями о том, что имеется в виду под этим правом. Медикализация началась в середине XIX века[14] и поддерживалась государственной властью. Это сделало врачей непременными посредниками в системе контроля над человеческим телом, которому предписывался ряд обязательств в соответствии с основными этапами его социализации: поступление в школу, военная служба, путешествия, выбор профессии. В 1902 году во Франции был принят закон, который ознаменовал собой начало XX века. Этот закон обязывал население проходить противооспенную вакцинацию и сообщать о ряде заразных болезней. В целях охраны общественного здоровья государство создало организацию, которая отменяет соблюдение некоторых частных свобод (например, права отказа от вакцинации). Мы настолько к этому привыкли, что не сразу понимаем, что в случае принудительной вакцинации тело подвергается насилию, в то время как все прочие виды его порабощения нас возмущают как постыдное наследие прошлого.
Но не влечет ли за собой медикализация феномен, комично описанный Жюлем Роменом в пьесе «Доктор Нок»[15]? Если врач теперь наделен полномочием быть экспертом во всех общественных и частных делах, то любой здоровый человек — это больной, который не знает о своих недугах[16]. Раньше больной должен был обратить внимание специалиста на беспокоившие его расстройства, поскольку ощущал на себе их последствия, не имея представления об причинах. Теперь же медицинская наука выходит за пределы работы с симптомами, вовлекая в свою сферу «молчащие» органы и их функции. Отныне неуместно говорить о нормальном состоянии и тем более о средних показателях и зоне доверия, а с помощью цифр можно описать скорее степень риска заболевания, нежели саму патологию. Мы становимся носителями нового первородного греха, различных видов риска, изначально заданных нашими генами и сформированными природной и социальной средой, в которой мы живем, а также нашим образом жизни. Отныне в коридорах перед врачебными кабинетами ждут своей очереди 5 миллиардов человек[17].
Именно здесь черпает свой исток парадоксальная история тела в XX веке. Выставлять напоказ свою болезнь перестало быть модным, былой эксгибиционизм сведен к рамкам приличия. Теперь мы должны прилагать усилия к тому, чтобы наше тело выглядело здоровым. В то же время все искусство медицины, и в особенности медицины превентивной, заключено отныне в том, чтобы нарушить это видимое спокойствие тела и выявить у всех и каждого скрытые расстройства здоровья. Медицина ищет тревожные симптомы, придумывает способы выявления заболеваний и регулярные медицинские осмотры, частота которых возрастает в случае возможных наследственных заболеваний.
Развитие превентивной медицины сводит на нет переживание болезни. Эту тенденцию в еще большей степени усиливает медицина прогностическая, новейшее направление превентивной медицины, которое занимается исследованием генов. В наши дни врач старается не только дать прогноз на ближайшие дни, но и предсказать будущее. Нужно ли ограничить использование антибиотиков, согласиться ли на введение в пищевой рацион генетически модифицированных организмов, повысить ли оборот биологических веществ, тканей и органов, понизить ли еще минимальный вес недоношенных, которых можно спасти, допустить ли выращивание эмбрионов на запасные органы (терапевтическое клонирование), запретить ли алкоголь и табак? Множество вариантов решения этих проблем предполагает принятие одновременно срочного и неопределенного направления для политики, которая позволила бы сразу перейти от профилактики болезни к ее предсказанию и принятию мер предосторожности, а если еще точнее, то привела бы, сопрягая все временные рамки, к тому, что граница между состоянием здоровья и болезни размылась бы.
Эпидемиология XX века сделала многое, чтобы нивелировать это различие. Болезнь принимает вид абстрактных измерений вероятности ее возникновения в «когортах»: этот технический термин, заимствованный у римских легионов, описывает группы, которые отслеживают эпидемиологи. В течение более десяти лет пациенты следовали вредным рекомендациям тысяч безвестных врачей, пока в 1954 году английский врач Ричард Долл не пришел к выводу, что курение табака является причиной возникновения рака легких. Табак, некогда считавшийся панацеей и среди прочего использовавшийся для реанимации после потери сознания, был занесен в список главных канцерогенов. Конечно, среди злостных курильщиков были и долгожители. Но математическая модель позволила подсчитать относительный риск возникновения рака, пропорциональный количеству выкуриваемых сигарет, продолжительности интоксикации и способу вдыхания дыма. Исследование связи табака с раком легких стало той моделью, по которой стали пересматриваться все представления о патологии[18]. Введение понятия риска, угрожающего каким–либо группам или народам, пусть даже он и распределяется среди их представителей неравномерно, поспособствовало размыванию представления о патологиях. Опираясь на опыт англичан, врачи отныне исследуют не причины болезней, а факторы риска, которые сочетают в себе генетическую предрасположенность пациента с естественной, социокультурной и профессиональной средой его обитания.
Современным культурным людям предлагают рассчитать возможные риски заболеваний, их призывают отдавать себе отчет о своем теле, подобно тому, как раньше призывали отдавать отчет о своих душевных переживаниях. Поскольку западное государство установило порядок, при котором оно учитывает ресурсы и определяет сферу обязанностей человеческого тела, оно стремится также оптимизировать его функционирование. Вмешательство власти в область здравоохранения свидетельствует о «государственном управлении частной жизнью», о котором говорил Мишель Фуко[19], но также и вдохновляет людей на заботу о себе. Не должен ли хороший гражданин руководствоваться в своем поведении тем, что диктует ему наука?
В XX веке болезнь растворяется в безграничном пространстве тела. Наряду с этим современная эпоха характеризуется одиночеством индивидов, сталкивающихся с тем, что они не могут более ни точно определить, ни назвать болезнь и таящееся в ней могущество смерти. Это зафиксировали антропологи, отнеся болезнь к разряду «несчастий»[20] и тем самым подготовив почву для будущих сравнительных исследований различных культур с точки зрения этого расширившегося раздела.
Триумфальная победа XX века над болезнями, которую все наперебой праздновали, в определенном смысле была пирровой победой.
II. Контроль над телом
Убеждение в одержанной победе, о которой говорилось в предыдущем разделе, основывается на том, что эпидемии прошлого отступили. Историк Уильям Макнил, автор знаменитой монографии «Эпидемии и народы» («Plagues and Peoples»), заключал: «Один из параметров, по которому мы отличаемся от наших предков и который делает современную жизнь совершенно отличной от жизни в другие эпохи, — это исчезновение эпидемий, представляющих серьезную угрозу жизни человека»[21]. Так Макнил выразил всеобщую веру в то, что по крайней мере в промышленно развитых странах эпидемии больше невозможны. До 1983 года в XX веке только пандемия испанки, которая в 1918 году унесла больше жизней, чем I Мировая война, приобрела размах, по своей бедственности сопоставимый с прошлыми эпидемиями чумы. Впрочем, как ни странно, эта пандемия не оставила глубокого следа в коллективной памяти — возможно, потому что на фоне жестокого кровопролития она уже не так поражала воображение.
С 1895 года смертность в результате эпидемий в Европе начала постепенно снижаться. Причину этого спада часто видят в том, что во франкоговорящих странах называют «революцией Пастера». Но по большому счету два самых главных открытия Пастера, вакцина против бешенства (1885) и лечение дифтерии сывороткой (1894), не сыграли большой роли в снижении смертности. Падение смертности объясняется, скорее, тем, что во время проведения хирургических вмешательств стали соблюдать стерильность и использовать обеззараживающие средства, но, главное, тем, что усилили, при поддержке, если не по инициативе Пастера, принятые во время Второй империи общие меры, а именно распределение питьевой воды, улучшение путей сообщения и канализационных систем.
Затем в XX веке в Европе, как и во всем остальном мире, произошел демографический скачок. Этот скачок был ощутим по трем главным показателям, которые наложились друг на друга: общая смертность, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и коэффициент детской смертности[22].
Общая смертность с начала века неуклонно снижалась, трагические паузы случались только в период мировых конфликтов. В общей сложности частотность смертей сократилась вдвое. Кривая общей смертности постепенно принимала одни и те же очертания по всей Европе, в настоящее время ее самый нижний показатель составляет 10% (за исключением восточноевропейских стран).
Ожидаемая продолжительность жизни аналогичным образом повысилась с 46 до 70 лет для мужчин и с 49 до 77 лет для женщин. Этот показатель изменился за счет уменьшения детской смертности и снижения риска инфекционных болезней. В этом случае северные страны опять оказались лидерами, юг Европы развивался аналогичным образом, но отставая на поколение.
Снижение детской смертности наблюдалось также и среди детей старше одного года. Оно произошло благодаря уменьшению вероятности заболевания вирусными инфекциями («все, что с высыпаниями»), диареями и болезнями дыхательных путей. У неонатальной смертности есть целый комплекс причин, в первую очередь это причины, связанные с генетикой и родовспоможением, — те, на которые развитие медицины оказало наименьшее влияние.
Причины сокращения заболеваемости инфекциями необходимо разбирать конкретно для каждой болезни. В некоторых случаях кривые графиков красноречиво свидетельствуют о решающем значении вакцинации[23]. Так произошло с полиомиелитом: количество заболевших падает после внедрения в 1956 году соответствующей вакцины, очень скоро ставшей обязательной. То же самое было и с гриппом, который свирепствовал каждый год среди всех слоев населения и смертность от которого постоянно сохраняла высокие показатели на графике с 1918 по 1975 год, то есть до тех пор, пока введение прививки не положило этому конец. Иной и более спорной была ситуация с корью. Смертность от этой болезни снижается начиная с 1930‑х годов, возможно, благодаря тому, что становится меньше случаев недоедания и истощения, но также, вероятно, и из–за того, что инфекция стала передаваться менее интенсивно по причине изменения условий жизни и падения коэффициента общей плодовитости.
Снижение заболеваемости диареей произошло благодаря улучшению гигиены питания и отмиранию практики использования «смертоносной бутылочки» — бутылочки, снабженной пробкой с трубкой, которую матери, вынужденные работать вне дома, оставляли в колыбели в пределах досягаемости ребенка и которая была очевидным источником быстро размножающихся микробов. Улучшение методов искусственного вскармливания было в данном случае решающим. В северных странах, где климат в меньшей степени благоприятствует размножению микробов, эту задачу было выполнить легче, но и остальные страны последовали за ними.
Что касается туберкулеза, одного из главных убийц XIX века, то смертность от этого недуга снижается с начала XX века, скорее всего под воздействием мер по изоляции больных и некоторых терапевтических процедур (искусственный пневмоторакс, препятствующий проникновению инфекции в легкое, работу которого специально останавливают). Вакцина БЦЖ Кальметта — Герена, впервые испытанная в Париже в 1921 году на грудных детях, подверженных заражению, не оказала значительного влияния на эволюцию туберкулеза. В период между двумя мировыми войнами применение этой вакцины постепенно распространилось по всей Европе, где ее испытывали в основном в колониях. Главным событием на ниве борьбы с туберкулезом стало изобретение в 1943 году американским врачом Зельманом Ваксманом стрептомицина. Возможно, однако, что эффект от лечения антибиотиками совпал тогда с отложенным воздействием вакцины БЦЖ (ее делали при рождении) на смертность среди молодых людей, бывших основной мишенью этого недуга.
В настоящее время мы совершили переход от демографического строя, при котором вероятность умереть была примерно одинаковой для всех возрастных групп, к такому строю, при котором эта вероятность приходится в основном на конец жизни: в 80% случаев смерть теперь наступает после семидесяти лет. Таким образом, вытеснение смерти из нашей культуры — это не только реализация нашего бессознательного желания, но и результат сдвига, объективно произошедшего в нашем сознании. Смерть ребенка или подростка, чаще всего наступающая в результате несчастного случая, вызывает волну возмущения, воспринимается как неприемлемое событие, которое в первую очередь вызывает у его близких протест[24]. В XX веке появилось такое понятие, как «синдром внезапной детской смерти»[25], которое означает внезапную смерть ребенка из–за остановки дыхания, без каких–либо предполагаемых причин в области патологии или причин, которые показало бы вскрытие. Эта «пустая» категория смертей шокирует сознание современного человека, во всем ищущего объяснений, и постоянно становится объектом расследований и спекуляций.
В современном французском обществе коэффициент детской смертности не превышает 8‰. Ожидаемая продолжительность жизни составляет восемьдесят лет для женщин и семьдесят два года для мужчин. Представляется возможным отодвинуть смерть еще дальше, в особенности совершенствуя лечение сердечно–сосудистых и раковых заболеваний. Однако теперь остро встает проблема качества жизни. В улучшении состояния людей со старческим слабоумием или с болезнью Альцгеймера, болезнями, затрагивающими каждого четвертого пожилого человека, никакого подлинного прогресса не достигнуто. Не грозит ли нашим старикам постигнуть жалкую участь бессмертных людей, которые описаны в одном из путешествий Гулливера у Свифта, — этих несчастных, которые уже ничего не слышат и не видят, однако не способны умереть?
Смертность в результате насилия и несчастных случаев (если не принимать в расчет войны), напротив, повысилась и качественно изменилась. В начале века она главным образом приходилась на утопления и несчастные случаи на производстве. Потом она в основном была связана с дорожно–транспортными происшествиями и увеличением скорости передвижения. В начале 1960‑х годов стал культовым фильм «Бунтарь без причины» с Джеймсом Дином, который разбился за рулем автомобиля. Количество несчастных случаев на дорогах, в прошлом главная причина ухода из жизни молодых людей, в настоящее время сократилось, поскольку за превышение скорости и вождение в нетрезвом виде стали наказывать, но к ним прибавились несчастные случаи, произошедшие в результате катания на роликовых коньках и досках, а также занятий другими экстремальными видами спорта, когда человек сознательно подвергает себя риску вопреки декларируемой в обществе потребности в безопасности. Самоубийства также являются не последней причиной смертности среди молодых людей: попытки суицида свидетельствуют о склонности подростков к депрессии, которая приобрела в наше время небывалый размах.
В XIX веке путешествия были сопряжены с высокой смертностью. В XX веке произошел резкий рост туризма. В развитых странах каждый десятый путешественник занимается туризмом. Туристы всех возрастов рассеялись по разным уголкам планеты. Вместе с тем рост числа специализированных страховых компаний и новых профессионалов в этой области свидетельствует о том, что, мечтая об экзотике, современный человек заботится и о безопасности. Немногим путешественникам ныне выпадает та доля страдания, которую пришлось вынести Рене Кайе (и многим другим): тот, возвратившись из Тимбукту в Париж, дошел практически до состояния скелета[26]. И хотя опасность заболеть лихорадкой до сих пор заботит путешественников, воспитанных на литературе, ведущей свою традицию от Андре Жида[27] и незабываемой «Королевской дороги» Андре Мальро, инфекционные болезни составляют лишь одну десятую причин смерти в путешествии[28], причем половина из них вызвана малярией. Основная патология, которой страдают путешественники, — это травмы, включая травмы в результате дорожно–транспортных происшествий. Другими причинами срочного возвращения на родину, о которых редко помышляют великие путешественники, часто служат нарушение кровообращения и обострение психиатрических заболеваний.
Может ли эта вековая эволюция считаться триумфом медицины? Это утверждение стало объектом резких опровержений со стороны экспертов в области здравоохранения, например англичанина Томаса Маккоуна и философа Ивана Иллича. Они выдвинули свои контраргументы в ходе полемики, отголоски которой слышны до сих пор[29]. Спор остается открытым, вовлекая в свою сферу одну за другой темы образа жизни, гигиены питания, влияния новых методов лечения, клинического осмотра и мониторинга состояния окружающей среды. В качестве примера ответа на поставленный вопрос можно привести инфаркт миокарда, который часто называют болезнью века, вызванной сидячим образом жизни и стрессом. В последние годы заболеваемость инфарктом упала благодаря развитию превентивного лечения гипертонии, а также за счет снижения потребления табака и распространения более правильного образа жизни (оздоровительного бега и диетического питания). Число летальных исходов также уменьшилось вследствие применения эффективных лекарственных средств и осведомленности о них как среди больных, так и среди специалистов, а также благодаря совершенствованию методов хирургического вмешательства, например аортокоронарного шунтирования, которое предлагается сегодня при первых же тревожных симптомах.
Однако, несмотря на этот положительный итог, восприятие тела в XX веке продолжает быть тесно связанным с волнующим общество феноменом двух видов неравенства — неравенства полов и социального неравенства.
Первый вид неравенства, состояние которого изменилось в пользу женщин, был применим ко всем без исключения женщинам, по крайней мере в Европе. Из поколения в поколение женщины клали свои жизни на то, чтобы продолжать род человеческий. В XX веке они получили преимущество благодаря тому, что облегчился процесс беременности, был достигнут прогресс в области акушерства, улучшилось питание и период обучения для девочек был продлен. В настоящее время увеличение доли пожилых женщин среди населения делает возможным будущее наступление матриархата.
Другой вид неравенства вызывает удивление, поскольку в большинстве стран Европы установились политические режимы с социальной защитой и больницы доступны для всех слоев населения. В Париже показатель детской смертности может удваиваться в зависимости от исследуемой профессиональной группы или даже при переходе от одного округа к другому. В Англии, после двадцати лет действия социальной медицины, бесплатной и доступной для всех слоев общества, выводы правительственного доклада «Доклад Блэка» («Black report»; он носит название по имени автора, а не из–за «черноты» выводов!) повергли всех в шок. Выяснилось, что работа государственного здравоохранения по–прежнему почти не охватывает так называемые низшие социальные классы, его услугами пользуются в первую очередь привилегированные слои общества. Признание этого факта вызвало споры относительно того, как действовать далее: проводить политику, конкретно нацеленную на так называемые «уязвимые группы населения», или же политику для всех, делая ставку на интеграцию маргинальных слоев в общество. Во Франции, в связи с увеличением числа больных, потерявших право на медицинскую страховку или никогда ее не имевших, были организованы «временные консультации», носившие имена поэтов–нонконформистов, таких как Бодлер или Ришпен, автор «Песни гезов». Но многие активисты государственного здравоохранения считают, что ряд специальных мер лишь воссоздаст классовые барьеры XIX века, и предпочитают делать более доступной уже существующую систему медицинского обслуживания.
К началу 2000‑х годов к беспокоящим общество двум сохраняющимся видам неравенства добавляется еще один. Это еще сильнее охлаждает оптимизм современного человека.
III. Возвращение инфекционных болезней?
В 1970‑х годах многие благонамеренные умы объявили, что завершился исторический цикл, в котором был положен конец не только эпидемиям, но и инфекционным болезням, по крайней мере в промышленно развитых странах. О чуме теперь только вспоминают, оспа, царившая на планете, находится на грани исчезновения. Достаточно было лишь заплатить определенную цену, хотя, бесспорно, цена эта неимоверно возросла к тому времени, когда начали отслеживать последние случаи заболеваний. ВОЗ активно занималась лечением оспы и, наконец, в 1979 году объявила о ее искоренении.
Победа над оспой, ставшая, на самом деле, результатом почти тысячелетней борьбы с этим заболеванием и двухсот лет оспопрививания, в то время считалась прообразом победы над инфекционными болезнями, произошедшей благодаря «революции Пастера». Тогда казалось возможным одержать эту победу снова, по своему желанию, при условии что в распоряжении будет теоретическое оружие, знание «причин» возникновения заболеваний, и оружие профилактическое — вакцина. Слово «искоренение» было вписано в планы ВОЗ курсивом, тем более что экономический подъем сделал эти планы осуществимыми с финансовой точки зрения.
После этого первые попытки, предпринятые для искоренения малярии[30], которое было намечено к 2000 году, бросили тень на общую благополучную картину. Надежды, которые возлагались на применение беспощадных инсектицидов, сначала оправдали себя: от малярии были избавлены Корсика (1944), Алжир (1960), Индия, Венесуэла. Но вскоре это обернулось тем, что москиты выработали устойчивость к ядовитым средствам, а люди стали осознавать опасность их применения для окружающей среды. В то же время паразиты приобрели устойчивость к обычным средствам обработки. Тем не менее специалисты в области здравоохранения, казалось бы, уже могли сосредоточить свои усилия на лечении наследственных, раковых и дегенеративных заболеваний, но ситуация резко изменилась: появился СПИД, который зачастую выявляли там, где сдала позиции оспа.
Появление СПИДа и «пробуждение» новых вирусов[31] заставили нас пересмотреть нашу уверенность в полной или практически полной победе над инфекционными болезнями. СПИД ознаменовал их возвращение, если не в буквальном, то в фигуральном смысле: в промышленно развитых странах смертность от инфекционных болезней, колебавшаяся в районе 8%, по официальным данным, повысилась всего лишь на 1%. Но из–за многих факторов ситуация со СПИДом оказалась драматической: стремительный и массовый охват болезнью пяти континентов, ее отказ поддаваться лечению антибиотиками, само течение болезни, когда после фазы прогностической непредсказуемости наступает сразу летальный исход, — все это испугало людей. В 1980‑е годы наплыв документальных историй и романов[32], посвященных СПИДу, свидетельствовал о необходимости больных рассказать о своем личном исключительном опыте и описать тот скандал, который вызвало возобновление эпидемической ситуации, сопровождающееся бессилием в излечении болезни. Искусство во всех его формах испытывало необходимость художественно осмыслить эту эпидемию, начиная фильмом «Дикие ночи» Сирила Коллара и заканчивая комиксами, которые раздавали в целях предупреждения болезни, и рисунками Мацуситы.
СПИД, болезнь, передающаяся половым путем, шла вразрез с процессом освобождения нравов 1960‑х годов. Некоторые, по аналогии с эпидемиями прошлого, трактовали ее как Божью кару, и это возродило в обществе атмосферу нетерпимости: начались поиски козлов отпущения. Эпидемиологи говорили, что вирус размножается в «задних комнатах» гомосексуалистов или среди свингеров, которые вывели из латентного состояния опасность, дремавшую в глубине лесов. Гипотеза об африканском происхождении СПИДа[33] вызвала гнев обитателей этого континента. Они переложили ответственность на страны первого мира, обвинив западных ученых в секретных разработках, ведущихся в военных лабораториях, а также в расистском отношении к африканцам, которых те, исходя из псевдонаучных теорий, поставили в один ряд с обезьянами и которым приписали в связи с этим сексуальную ненасытность. Концепция Африки как зловещего пандемониума не претерпела значительных изменений со времен выхода знаменитого романа Джозефа Конрада «Сердце тьмы», действие которого происходит как раз на реке Конго, в одном из очагов эпидемии.
Именно в Африке возник вирус Эбола[34], который вызывает геморрагическую лихорадку, быстро приводящую к смертельному исходу, что влечет за собой массовую гибель людей. Распространение вируса по Европе представляется маловероятным, поскольку он неустойчив к смене среды обитания[35]. Но катастрофические сценарии, написанные в связи с появлением этого вируса, пришли в кино с фильмом «Апокалипсис» и внесли свой вклад в то общее ощущение уязвимости, которое человек XX века испытывает перед лицом мира, где бушует вирус. Книга Стивена Морса «Возникновение вирусов» («Emerging Viruses»), вышедшая в 1993 году, а также одноименный журнал широко распространили идею угрозы латентных вирусов, которые пробуждаются из–за экологических проблем. По всей Европе были сооружены секретные лаборатории, оснащенные драконовскими мерами безопасности, так называемого уровня «Р4»[36], куда были заключены вирусы. Эти лаборатории призваны защищать европейцев от микробов, не знающих границ. Если самих эпидемиологов в то время считали виновниками всех бед, которые заявляют о проблеме, но не предлагают путей ее решения, то институты, учрежденные ими по образцу Центра по контролю заболеваний в Атланте, были возведены в ранг современных санитарных бастионов, новых оплотов тела. Когда в 2000 году в Индии неожиданно произошла вспышка чумы[37], процветающие страны забыли о хороших гуманитарных манерах и отреагировали в духе прошлых карантинов: эмбарго на ввоз товаров, бесцеремонный досмотр индийских путешественников[38]. И это несмотря на то что чуму можно вылечить обычными антибиотиками…
В атмосферу разочарования внес свой вклад еще один «призрак». Туберкулез — городская болезнь, распространяющаяся в районах с плохими условиями жизни, где не соблюдают гигиену, — казалось бы, сдал свои позиции под натиском комплекса мер, включавших БЦЖ, рентгеновскую диагностику и туберкулиновую пробу. «Романтическая» чахотка исчезла со страниц книг и с киноэкранов. Как и в случае с сифилисом, многие французы даже сомневались, что туберкулез еще существует в нашем климате. Туберкулез принял вид тропической болезни, которая продолжала свое существование в параллельной реальности, в отсталых странах, или же настигала неудачливого мигранта в наших краях. На самом деле, скандального возвращения туберкулеза не произошло, но отступление болезни, которое в Европе казалось очевидным, в какой–то момент прекратилось. В 1992 году во Франции показатели заболеваемости, достигнув своего минимума, постепенно поползли вверх (те же изменения стали происходить с 1986 года в США).
Считавшийся в прошлом социальной болезнью и теперь ставший собирательным образом опасности для неблагополучных слоев населения, туберкулез воскресил общественный страх, иррациональный оттого, что больного туберкулезом нельзя просто так определить в общественном месте или транспорте. Мнения по поводу происхождения болезни у иммигрантов расходятся: одни считают, что инфекцией заражаются в принимающей стране, другие — что болезнь разгорается, уже будучи «подпольно» завезенной. Это свидетельствует об общественной тревоге по поводу той разрушительной силы, которую несет океан бедности для границ Европы.
Несоблюдение режима лечения способствует не только рецидиву болезни, но и возникновению лекарственно устойчивых форм туберкулеза, которые плохо поддаются терапии. Власти США в связи с увеличением числа случаев устойчивого к антибиотикам туберкулеза у маргинальных слоев населения, без колебаний ввели в Нью–Йорке принудительное лечение больных.
Что касается БЦЖ — то это прививка, которую одни хвалят, а другие ругают. Она всегда была обязательной во Франции при вхождении в коллектив и, как правило, делается при рождении, но в некоторых странах ее просто не существует. БЦЖ остается самой спорной из вакцин. Благодаря ей был побежден туберкулезный менингит у детей, но она не смогла справиться с обычным туберкулезом у взрослых. В промышленно развитых странах об этой вакцине можно было бы забыть, если бы не экономический кризис, который возобновил условия жизни той эпохи, которую уже считали завершенной. Споры об обязательной вакцинации свидетельствуют о недостаточном знании того, как естественным образом протекает болезнь. Как организм вырабатывает против болезни специфические антитела? К чему приводят индивидуальные различия организмов? Дилемма врожденного и приобретенного иммунитета, сформулированная в новейших популярных научных концепциях и современных методиках, постоянно приводит к необходимости описывать разнообразие биологических судеб и трудности в выработке общей для всех политики в области здравоохранения.
Итак, пишутся две истории XX века, одна — о непрерывном прогрессе, выраженном в демографических показателях, согласно которым увеличивается ожидаемая продолжительность жизни и постепенно сходят на нет инфекционные болезни, другая — о человеке, который, будучи одолеваем участившимися случаями рака и возвратившимися инфекционными болезнями, далек от того, чтобы быть похожим на торжествующего мага. Он находится в оборонительной позиции по отношению к неустойчивому миру, наполненному микробами, о сложности устройства которых он даже не подозревал.
IV. СПИД
СПИД занимает особое место в истории тела XX века, несмотря на то что этой болезнью были отмечены лишь последние два его десятилетия. Подобно сифилису, появление которого было связано с открытием Нового Света, и холере, возникшей из–за развития транспорта и колониальной экспансии, СПИД нанес оскорбительный удар веку, который уже претендовал на победу над инфекционными болезнями. Это заболевание бросило тень на сексуальную свободу, полностью изменило нравы и обычаи как ученых, так и простых людей и продемонстрировало, насколько велики и в то же время ограничены возможности науки.
Особое место СПИД занимает и в истории тела вообще. СПИД закрепил и без того растущую медикализацию общества, в то же время ознаменовав собой переломный момент в ее развитии. Когда–то предполагалось, что будут созданы телевизионные каналы, доступные только медикам–профессионалам. Наиболее узкие научные дискуссии в то время велись открыто. Смятение, вызванное смертью молодых людей, разрушило установленные барьеры: общественные объединения требовали от медиков высказываний и действий по любому поводу, задавали им вопросы и настаивали на ответах. И если диагноз Мишеля Фуко, ушедшего в начале эпидемии — в 1984 году, — какое–то время скрывался от общественности, то уже несколько лет спустя телевидение полнилось наблюдениями за болезнью и смертью знаменитых людей в реальном времени. Телевизионные репортажи об уходе звезд способствовали размыванию границ личной жизни; к теме борьбы со СПИДом привлекали артистов и знаменитых спортсменов, например баскетбольного игрока Мэджика Джонсона.
Открытие СПИДа, поставившего под сомнение безошибочность медицинской науки, является тем не менее ее заслугой. «И» в названии этой болезни появилось благодаря одной из биологических наук, иммунологии, зародившейся в XX веке (поначалу «иммунитет» означал защиту организма против микробов). Первые случаи неизвестного заболевания были выявлены не в результате наблюдений, а на основании выводов, сделанных из эпидемиологической статистики. В конце 1970‑х годов Центры по контролю заболеваний в Атланте (США) были обеспокоены стремительным ростом расходов на лечение недоношенных младенцев, плохо сопротивляющихся микробам, и людей, подвергшихся воздействию агрессивных видов химиотерапии. Для этой группы пациентов, у которых без видимых причин был подавлен иммунитет, врачи наспех придумали гипотезу о подавлении иммунитета «неясного происхождения»: следствием подавления были такие симптомы, как лихорадка, истощение и диарея. Это болезненное состояние назвали «Синдром приобретенного иммунодефицита» или «СПИД»: аббревиатура распространилась по всему миру вместе с болезнью.
Концепция иммунной системы как гаранта целостности организма была абстракцией, которой пользовались только специалисты в этой области. И вот новая болезнь стала конкретной иллюстрацией этой абстрактной идеи. Поражения, которые СПИД вызывает в теле, проиллюстрировали то, что означает истощение иммунной системы. В социальной рекламе по предотвращению заболевания исхудавший силуэт на фотографиях стал синонимом диагноза СПИДа. Со времен лепры и сифилиса, которые, как известно, обезображивают внешность, еще ни один недуг не разрушал тело настолько публичным образом. СПИД — это, в первую очередь, болезнь кожи. В картине «Дикие ночи», где лицо актера от начала и до конца фильма остается нетронутым заболеванием, телесным знаком СПИДа выступает лиловая отметина на предплечье героя. Показать кожу героя — это способ навести зрителя на мысль о том, что внутри тела работа иммунной системы дает сбой.
Крупнейшие лаборатории мира исследуют микроорганизм, получивший свое название от вызываемой им болезни, — ВИЧ (вирус иммунодефицита человека). В местах заражения СПИДом болезнь вызывает страх эпидемии, совмещенный с боязнью заразиться половым путем. Боязнь заразиться толкает медицинских работников на отказ от ухода за своими подопечными, а семьи — от заботы о своих родных. Шприц, наполненный зараженной кровью, становится орудием шантажа или самоубийства[39]. В атмосфере паники 1980‑х годов борцы с болезнью стремятся выработать новые способы управления телом, находящимся под воздействием эпидемии[40]. «Нет» карантинам или изоляционным центрам для больных вирусом. «Нет» поискам козлов отпущения. «Да» внедрению разумных методов профилактики, в которых участвуют все члены общества.
СПИД привел к небывалой мобилизации общества, которая была вызвана бессилием и косностью медицинских структур. Теперь новые общественные деятели и ассоциации принимают участие в подписании официальных соглашений и работе научных объединений, обращаются к средствам массовой информации. В крупнейших столицах мира конгрессы по теме СПИДа собирают тысячи участников. В ходе этих конференций на огромные экраны проецируются сцены сексуальной жизни и во всех подробностях обсуждается безопасный секс. Подлинные изображения больного тела вторгаются в научный дискурс с невиданной доселе детализацией. Опыт самоорганизации людей, больных СПИДом, перенимается и носителями других болезней, которые как никогда раньше объединяют усилия, ставя под вопрос свою зависимость от медицинских структур[41].
В течение последних лет новые антивирусные средства, появившиеся после азотимидина, превратили СПИД в болезнь серьезную, хроническую, но не летальную. И если в странах третьего мира СПИД по–прежнему становится причиной драматических событий, опустошая и приводя в панику целые регионы, то в промышленно развитых странах все идет к тому, что этот вирус перейдет в разряд обыкновенных инфекционных болезней. Тело больше не выступает в роли «города без крепостных стен»: с помощью новых антиретровирусных способов лечения оно если не выздоравливает, то по крайней мере может взять на себя инициативу в борьбе с болезнью и поддерживать такой уровень вируса в крови, который не выявляется лабораторно. В своем романе «Чума» Альбер Камю писал: «Мы все в той или иной степени — носители чумы, мы все заражены чумой, но нужно обладать большой силой воли, чтобы не передать чуму другим, чума начинается тогда, когда мы устаем бороться». От очередной встречи со смертельной эпидемией медицина переходит к изучению хронических заболеваний, и пациент выходит на первый план.
V. Изобретение хронических болезней
Эта новая категория болезней оказалась в центре внимания исследователей и государства как результат сокращения числа инфекционных заболеваний. Эпидемиология в значительной степени перестает заниматься инфекционными болезнями, благодаря которым она и получила свое название после II Мировой войны, чтобы переключиться на изучение болезней хронических: сердечно–сосудистых (гипертония, артрит, аритмия), ревматических, эндокринных и раковых. Хронические болезни, безусловно, были известны и в предыдущие столетия: известно, что Фонтенель, Вольтер и многие другие знаменитые личности становились источником доходов для врачей по причине своих частых недомоганий. Но роль медицинского знания была в том, что оно широко популяризировало представление о хронических заболеваниях. Даже эклектичная классификация недугов на витринах продавцов лекарственных трав и в аптеках так называемой альтернативной медицины отныне обращается к таким понятиям, как инфекция мочевыводящих путей, диабет или гипертония, наряду с обычными «усталостью», «головной болью» или… «ревматизмом» (название последней болезни имеет научное происхождение, но оно уже давно стало общеупотребимым).
Хроническая болезнь характеризуется длительным сосуществованием пациента с каким–либо органическим поражением[42]. Выявление целого ряда отклонений в здоровье на грани с нормой, постоянно становящейся все более зыбкой, как никогда раньше сблизило врача и пациента. Идет ли речь о болезни, диагностируемой иногда еще до рождения, например гемофилии[43], в раннем детстве (муковисцидоз и различные миопатии) или же позднее (гипертония и диабет), ее обнаружение ведет к перестройке повседневной жизни больного, постоянному приему лекарств или по меньшей мере к регулярному наблюдению у врача. Пациент учится исходить из особенностей своего здоровья при построении жизненных планов и создании своего имиджа.
Образ жизни, при котором носитель смертельного заболевания прибегает к специальным процедурам и лекарствам, позволяет ему выжить. Вот два примера: терминальная стадия хронической почечной недостаточности и гемофилия. Гемофилия — это аномалия, вызывающая расстройство в механизме свертывания крови, что осложняет повседневную жизнь и серьезно сокращает ее продолжительность. До XX века больные гемофилией редко доживали до взрослого возраста. Единственным выходом для них было избегать даже незначительных бытовых травм и вести свою жизнь в замедленном темпе. Практика переливания факторов свертывания крови изменила их повседневное существование, которое раньше могло оборваться из–за трагического непредвиденного обстоятельства — заражения крови.
Терминальная стадия хронической почечной недостаточности, для которой характерно полное разрушение почек, иллюстрирует другой пример зависимости человека от медицины. Быстрое следствие злокачественной артериальной гипертензии, результат острой интоксикации или врожденного порока развития почек, эта болезнь была смертельным приговором до 1940 года, когда был изобретен аппарат гемодиализа, придуманный Виллемом Колфом в Нидерландах. Диализ получает развитие с 1958 года в США и в других странах.
У этих двух столь разных заболеваний есть общая черта — зависимость от процедур, поддерживающих жизнь больного. Пациент становится партнером специалиста и дополняет книжные знания о своем недуге персонально приобретенными навыками: больной гемофилией знает, как определить кровоизлияние в суставы раньше клинициста, страдающий почечной недостаточностью учится между процедурами гемодиализа поддерживать режим питания, предполагающий малое содержание калия. Трудность состоит в том, что больной узнает об ограничениях своего тела: подвергающийся гемодиализу может жить с пятью граммами гемоглобина ценою одышки, тогда как нормой является четырнадцать–пятнадцать граммов гемоглобина на литр крови. Осознание своей исключительности сопровождается желанием быть таким же, как все. Получение доступа к спортивным соревнованиям, отражающим эстетику
XX века, завершает социальную интеграцию больных. Паралимпийские игры, в которых безногие инвалиды соревнуются подобно обычным людям, марафоны людей с пересаженным сердцем, участие страдающих гемофилией в занятиях водными лыжами или прыжками с парашютом — видами спорта, которые раньше были для них недоступны, свидетельствуют о желании больных стать «нормальными», совершая подвиги.
Тело становится объектом нескончаемого процесса пересмотра норм, которые были установлены медицинскими структурами. Некоторые больные, постоянно подвергающиеся диализу почек, чтобы почувствовать себя автономными и независимыми, впадают в сон на период всего сеанса и передают задачу наблюдения за процедурой медицинской команде. Другие практикуют диаметрально противоположное поведение: они следят за действиями медсестры и готовы вмешаться в случае ошибки, узнают результаты своих анализов и т. п. Они из тех, кто готов сам «уколоться» катетером, чтобы подключиться к аппарату для экстракорпорального очищения крови.
Домашняя госпитализация, организованная в большинстве развитых стран, также свидетельствует о стремлении больных к автономии. Диализ почек на дому, появившийся в 1960‑х годах, означал, что обыкновенные горожане научились обращаться со сложным оборудованием и проделывать манипуляции с кровью, вопреки своим страхам и опасениям. Все больше пациентов при содействии властей, желающих сократить расходы, начинают сами осуществлять дома необходимое для них лечение. Так, например, больные муковисцидозом[44] делают капельные вливания антибиотиков, невзирая на технические трудности этой процедуры.
VI. Тело и машина
Человеческое тело тесно ассоциируется с машиной, с автоматом, на который оно походит. В XVII веке Декарт утверждал: «Я предполагаю, что Тело есть не что иное, как некая статуя или машина, сделанная из земли, что Бог формирует все намеренно…»[45] В XX веке произошел беспрецедентный скачок в использовании аппаратов, которые устраняют функциональную недостаточность отдельных органов тела, идет ли речь о преодолении кризисных состояний — почечной или острой дыхательной недостаточности, ком различного происхождения — или же о настоящем сосуществовании с «машиной». В XX веке появилась новая профессия: инженер, который изобретает или совершенствует машины и изучает их «патологии», поскольку машины имеют обыкновение ломаться, давать сбои в работе и изнашиваться.
Принципы реанимации были сформулированы в середине XX века. Безусловно, основные признаки живого организма были к тому времени уже давно известны, тогда как знанию об их количественных параметрах, например о концентрации в крови кислорода или углекислого газа, а также законов, по которым происходит формирование «внутренней среды организма», мы обязаны Клоду Бернару. Физиологи научились искусственно поддерживать дыхание и кровообращение у животных, но до последнего сомневались, стоит ли рассматривать человеческое тело как машину. Да и зачем им вмешиваться в работу организма, если причины дыхательной, сердечной или почечной недостаточности либо неизвестны, либо лежат вне их досягаемости? Механизация человеческого тела была оправдана с моральной и научной точек зрения сначала применительно к обратимым случаям, например дыхательной недостаточности, вызванной атрофией мышц (которая обратима), или при заболевании полиомиелитом.
Несмотря на эти сложности, термин «реанимация» предпочли термину «воскрешение», нагруженному множеством религиозных смыслов. Что конкретно мы понимаем под этим словом: закрепление духа (animus) за телом или вызывание покинувшей тело души (anima)? Реанимация подразумевает все методы помощи больному телу, что приводит его к зависимости от машин и от медикаментов, которые поддерживают артериальное давление, обеспечивают питание посредством венозного катетера и т. д. Реанимация зиждется на открытии: инфекции, травмы и опухоли — это различные причины болезни тела, которые приводят к одному и тому же результату — временному или длительному прекращению основных жизненных функций. В реанимации больше не существует болезни в смысле попытки организма самому справиться с проблемой или преодолеть опасность: у тела принимает эстафету машина, которая сама приводит в движение пассивное тело.
Вопреки благим намерениям врачей, реанимационная кровать напоминает распятие, на котором тело подвергается последним истязаниям. Оно освещено беспощадным светом и полностью открыто взорам, обнажено, сковано по рукам и ногам, рот заткнут интубационной трубкой, тело терзают всевозможные иглы и дренажи. Именно эта потеря смысла и свободы человеческой жизни заставила различные ассоциации бороться против видов лечения, которые посягают на человеческое достоинство. Тем не менее, по словам лауреата Нобелевской премии Питера Медавара, реанимированного после тяжелого одностороннего паралича, внезапно случившегося с ним во время конференции, он, не будучи способен разговаривать и как–либо общаться с окружающими[46], с благодарностью воспринял ту суматоху, которая была поднята боровшимися за его жизнь людьми.
Поначалу напоминавшие искусственные органы (например, «железные легкие» в 1960‑х годах[47]), машины становятся все более изощренными и все чаще представляют собой разновидность ЭВМ вкупе с разработанными для них программами. В связи со стремительным развитием искусственного интеллекта, который разрабатывается по аналогии с работой мозга и компьютера, технические характеристики машин совершенствуются. Парализованные люди, возможно, в скором времени смогут ходить благодаря микросхемам, имплантированным в нервную систему. Рост применения медицинской техники означает расширение врачебной экспериментальной лаборатории до размеров целого общества.
VII. Человеческое тело как объект эксперимента [48] , или общество–лаборатория
Эксперименты над людьми, которые часто преподносят как потребность, возникшую у врачей совсем недавно, на самом деле являются частью медицинской традиции. В XVI веке Амбруаз Паре, скрестив шпагу с приверженцами «древних», ратовал за новые методы лечения пациентов, объясняя это также потребностью изучать и лечить еще неизвестные болезни. В своем манифесте 1847 года Клод Бернар сделал эксперимент синонимом медицинского прогресса. Безусловно, ученые имели в своем распоряжении лабораторию при зоопарке, где содержались виды животных, близкие к человеку, например обезьяны. Однако в сознании исследователей должно было произойти качественное изменение, чтобы они перешли к экспериментам над человеком.
В начале XX века программа экспериментов над людьми (это выражение вызывает сегодня бурю негодования) была заявлена врачами как символ их власти, а не как символ злоупотребления этой властью. Доходило до того, что врачи не считали нужным получать согласие пациента на вмешательство. Врачи устраивали встречу с телом своего пациента–собеседника тет–а–тет, за закрытыми дверями, не боясь ни политической, ни судебной власти, считая, что она посягает на свободу ученых и не способна постичь смысл и гуманистическое значение их действий. Эксперименты, однако, шли полным ходом. Их объектом чаще всего становились бедные слои населения, меньшинства[49], колонизированные народы, военные, женщины и дети — короче говоря, люди наиболее уязвимые. В ходе следствия по делу о трагедии в Любеке 1929 года (когда сто детей умерли после прививки БЦЖ) было установлено, что врачи, участвовавшие в кампании по вакцинации, видя настороженность буржуазии в отношении прививок, начали с бедных семей, которые, обладая небольшим достатком, не проявляли такого любопытства по поводу вводимой вакцины[50].
Поселившаяся в кабинете обычного врача–практиканта, экспериментальная лихорадка распространяется и на больницы — привилегированные места изучения болезней, которые принимают в качестве пациентов все больше пенсионеров, а между двумя мировыми войнами окончательно открывают свои двери для обеспеченных слоев населения. Врачи прибегают также и к экспериментам над самими собой. Паразитологи проглатывают изучаемых ими паразитов или дают насекомым укусить себя. Последователи Пастера подают пример другим, поглощая «коктейль» из микробов и проходя через различные рискованные процедуры. Эти подвиги, несомненно, способствуют тому, что пациентов тоже охватывает экспериментаторский дух. И по сей день некоторые биологи делают себе инъекции собственного приготовления.
Тем не менее литература свидетельствует о том, что общество периодически сопротивлялось экспериментальным предприятиям медиков. Страхи и фантазмы публики подпитывали откровения бывших студентов–медиков, как, например, в случае с Леоном Доде, который в «Помощниках смерти» (1894) описывает случаи смертоносного для пациентов помешательства в стане врачей. Вплоть до начала II Мировой войны тема сумасшедшего ученого приносит большой успех спектаклям театра «Гран–Гиньоль», славящегося своими кошмарными инсценировками, в которых проливаются реки крови. В пьесе «Лекция в Сальпетриере» Андре де Лорда (1908) студент–медик применяет гипноз для того, чтобы стимулировать работу мозга молодой женщины, у которой из–за аварии обнажился фрагмент черепной коробки. Очнувшись и обнаружив себя парализованной, она мстит врачу, облив его серной кислотой. Альфред Бине, создатель так называемого теста Бине–Симона, измеряющего IQ (коэффициент умственного развития), выводит на сцену театра «Гран–Гиньоль» невролога, который мечтает воскрешать мертвых при помощи электричества. Когда его дочь умирает, он пытается подсоединить к ее сердцу электроды и погибает сам, будучи задушен ее руками, сведенными рефлекторным мышечным спазмом[51].
На противозаконные способы вмешательства врачей в «тела» членов общества реагируют юристы: они призывают следовать закону, противопоставляя его эзотеризму научного знания. Гражданский кодекс, в котором нет глав, посвященных врачебным экспериментам, тем не менее содержит информацию об ответственности для всех обычных и необычных профессий, в том числе и для медицины.
Парадоксально, однако, что именно в XX веке, в связи с теми надеждами, которые породили терапевтические новшества — вакцины и сыворотки около 1900 года, извлечение органов, инсулин и гормоны после 1920‑х годов, противоинфекционные препараты, от сальварсана (против сифилиса) до сульфамидов (1930) и антибиотиков (пенициллин, 1942; стрептомицин, 1947), — врачам удалось официально и законодательно зафиксировать доктрину о том, что в сферу их ответственности входит оказание помощи, но не ее результат. Таким образом они подчеркнули, что их знания не безграничны и что врачебный опыт не поддается стандартизации из–за особенностей реакций организма, разных для каждого пациента.
Начиная с 1830 года, когда Пьер Луи[52] предпринял попытку ввести численный анализ в медицинскую науку, врачи–практики постоянно пытаются противопоставить единичный положительный опыт сбору бесчисленных данных. Во второй половине XIX века культ «хорошего больного», или привилегированного случая уступил место расчетам, которые осуществлялись в отношении населения, поделенного на «когорты», а также науке эпидемиологии, которая оперировала моделями и математическими выкладками. В настоящее время врачи полностью положили конец эмпирическому кошмару, что ознаменовало наступление эпохи доказательной (evidence–based) медицины.
Эксперимент над человеком, необходимый как никогда прежде, разворачивается отныне в рамках клинических испытаний, выступающих в качестве высшей точки долгого процесса объективации тела[53]. Эти опыты характеризуются случайным распределением (в ходе жеребьевки) пациентов по выборкам, которые проходят разные виды лечения. Для них также характерна так называемая «двойная слепая позиция» пациента и врача, иначе говоря, «дважды слепое испытание препарата», когда и пациенту, и врачу непосредственно назначают медикамент, о дозировке и составе которого они не осведомлены (в контрольной выборке обычно используется плацебо). Таким образом, врач наблюдает за тем, как во имя объективности рвется единственная связь между ним и пациентом, бывшая центром его практики и основывающаяся на его интуиции и харизме.
Чтобы продемонстрировать результат, статистические данные должны соответствовать определенным требованиям, поэтому клинические испытания охватывают огромное количество людей и простирают свое влияние все дальше и дальше. В обществе–лаборатории существуют комитеты, контролирующие соблюдение уважительного отношения к участникам исследований, служа противовесом врачебной власти. Этот противовес был придуман законодательной властью. Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство имеет целью установить симметрию и взаимность в отношениях «врач — пациент». Эти отношения Луи Порт, президент совета коллегии врачей, определял в 1947 году как доверие, которое вверяется знанию (пациент при этом характеризуется как подчиненный врачу, пассивный и больной). Потом доверие уступает место контракту: пациент и врач делят знание между собой, сферы ответственности разграничиваются более четко. В 1996 году во Франции постановление кассационного суда перевернуло исконную ситуацию, при которой доказательство вины врача лежало целиком на пациенте: отныне врач обязан представить доказательство того, что он снабдил пациента всей необходимой информацией! Это постановление положило конец врачебной безнаказанности. Однако это может привести к тому, что врач спрячется за ворохом бланков, а пациент окажется один на один с возможностями современной науки.
Добровольное согласие на вмешательство означает не только частичную передачу пациенту медицинского знания, которым врач более не владеет единолично, но и признание пациента субъектом, который имеет дело с субъектом–врачом. Поскольку в современной медицине процесс объективации растет, а процесс диагностики и лечения становится все более автоматизированным благодаря использованию графических схем принятия решений, пространство тела в современном значении еще будет сконструировано. Речь идет не о том, чтобы восстановить прошлые асимметричные взаимоотношения тела с медициной, которые устарели по причине распространения информации и устранения безграмотности у основной части населения, а о том, чтобы придумать для человека, участвующего в экспериментах, термины, которые употреблялись бы в новом виде заключаемого им контракта. «Врач… лечит, а именно экспериментирует», — заявляет Кангилем.
VIII. Одинокое тело. Индивид и боль
Очень интересный пример этого непростого диалога, ведущегося в поисках равновесия между помощью, которую врач оказывает пациенту, и информацией, которой он с ним делится, — история обезболивания.
Она развивалась далеко не поступательно. Античная медицина не пренебрегала болеутоляющими свойствами некоторых растений: белена, белладонна, мандрагора. В арабской медицине широко использовались препараты, содержащие опий. При взгляде на эти примеры поражает относительное равнодушие к проблеме обезболивания в недавнем прошлом. Хирургия, причем не только военная, развивалась и требовала от оперируемых настоящего стоицизма, это можно было сказать даже о начале XX века: «Я чувствовал себя подобно бедному слуге на этом пиршестве страдания!»[54] — восклицает Жорж Дюамель на исходе I Мировой войны[55].
Боль настолько тесно ассоциировалась с телом, что полное лишение пациента сознания долгое время представлялось самым простым способом положить ей конец. Анестезия эфиром появилась в середине XIX века. Появление одного за другим новых летучих анестетиков (хлороформ, закись азота, этилхлорид, а также лучше знакомый нам циклопропан и различные производные препараты группы йода) вызвало продлившуюся до середины XX века дискуссию о преимуществах, показаниях и опасностях, связанных с теми или иными препаратами. Анестезия эфиром вызывала неприятное ощущение удушья, пациентов рвало после пробуждения. У хлороформа был приемлемый запах, но поддерживать ровный сон было сложно и пространство для маневрирования врача между ужасным пробуждением и настоящей комой пациента было очень узким!
Потребность в приспособлениях, позволяющих легко вводить анестетик, привела к появлению на рынке различных видов аппаратов, которые входили в употребление ненадолго, а имя их изобретателя быстро забывалось. Исключением оказалась «маска Омбреданна», названная так по имени хирурга, который ее придумал и сконструировал в 1905 году. Она устанавливалась перед ртом и носом и действовала исключительно за счет атмосферного воздуха, с помощью которого подавался анестетик (обычно эфир). Маска была проста в использовании, а риск при этом был небольшой, даже если ею пользовался непрофессионал.
Применение анестезии вкупе с обеззараживанием дало толчок впечатляюще быстрому развитию хирургии в начале XX века. Хирурги были ослеплены своими успехами и готовы поверить в сверхчеловека. «Царящая в операционных повышенная температура, отравление анестезирующими парами, которые наполняют ее воздух, и другие причины делают утро операции изнуряющим. Хирург обладает очевидным превосходством над остальными, и его физическая стойкость позволяет ему долгое время без видимой усталости выполнять работу, которая других бы убила наповал»[56]. Анестезия понималась как техника упрощения действий хирурга и ничего более. О тревогах пациента относительно его усыпления, о его снах в этом состоянии и о возможности преждевременного или слишком позднего пробуждения мы знаем очень мало, и архивы по обезболиванию, спрятанные в отчетах об операциях, немногословны.
Наряду с общей анестезией, осуществляемой через дыхательные пути и считавшейся «натуральной», в начале XX века появились другие способы введения обезболивающих, например внутривенное, используемое главным образом в Германии, с применением барбитуратов фирмы Bayer. Производимое ректальным путем обезболивание бромидами (ректанолом) снискало кратковременную популярность; этот способ был забыт, вероятно, еще до того, как был полностью разработан: жест врача совсем не содействовал мирному засыпанию пациента под влиянием анестетика. Выбор техники и медикамента, таким образом, происходил с учетом не столько научных, сколько культурных соображений. Местное обезболивание при помощи кокаина, практиковавшееся с 1884 года, когда его начал применять офтальмолог Карл Коллер, стали делать при помощи его производного, ксилокаина (1948), по сей день широко использующегося в стоматологии, а также при кратковременных вмешательствах.
Революция в области обезболивания, произошедшая после I Мировой войны, проистекает из коренного изменения самой концепции анестезии. Раньше одновременная потеря сознания и чувствительности (аналгезия), а также расслабление мышц, необходимые при большинстве вмешательств, обеспечивались одним и тем же действующим веществом. Отныне эти функции переходят к разным медикаментам: морфин и его производные успокаивают боль, барбитураты (пентотал был изобретен в 1934 году) обеспечивают гипнотическое состояние; хорошо известный яд кураре, натуральный или синтезированный, приводит к мышечному расслаблению. И все эти три группы препаратов были известны еще с начала века или даже гораздо раньше! Анестезиолог выбирает соотношение медикаментов в зависимости от ситуации: смена болезненной повязки требует одного протокола, вмешательство в пищеварительный тракт — другого.
К этому анестетическому триптиху добавились нейролептики (лаграктил был изобретен в 1939 году), которые стали применять для того, чтобы обеспечить стабильность пульса и артериального давления. Забота об избавлении организма от последствий операционного шока привела к тому, что больным стали предлагать искусственную гибернацию: «замораживание» на какое–то время снискало популярность, и это говорит о том, что тело становится частью медицины будущего. Благодаря использованию медикаментов, умело смешанных в необходимых пропорциях, появляется возможность достичь состояний промежуточных между сном и бодрствованием, что предваряет идею анестезии без обезболивающего, то есть поддержания сознания без болевых ощущений в теле.
Между двумя войнами хирурги без колебаний прибегали к анестезии в случае, если больной отказывался от вмешательства, которое, по их оценкам, не требовало отлагательств, и усыпляли пациента против его воли. Даже принимаемая добровольно потеря сознания была травмирующей, и больной, будучи связанным по рукам и ногам, ощущал себя беззащитным, полностью отданным во власть хирургу. Некоторые оперируемые боялись, что из–за воздействия лекарства они могут выдать свои секреты: один пациент, некогда обвинявшийся в убийстве своей жены, уже засыпая, бросил анестезиологу: «Ну что, доктор, это сыворотка правды, да?»
Аномальный сон, сон без сновидений — так характеризуется анестезия в редких психологических исследованиях. Тем не менее одна из первых усыпленных эфиром больная жаловалась, что ее разбудили и она вновь оказалась среди людей, тогда как во сне она полагала, что пребывает вместе с Богом и ангелами, которых она видела вокруг[57]. Люди, перенесшие операцию, иногда видят галлюцинации в момент пробуждения, что, возможно, является лишь результатом усиленной спутанности сознания, которое наблюдается при обычном пробуждении. Так, раненый, которому вымыли лицо сильной струей воды, чтобы удалить следы гудрона, проснулся с криком, что его хотят утопить. Чаще всего сон представляется возможностью посетить другой мир, а потому проснувшийся пациент принимает анестезиолога за святого Петра.
В XX веке опыт переживания анестезии стал частью повседневности. Анестезия все чаще используется в «малых» операциях и в амбулаторных видах вмешательства. Осведомленность об анестезии подкрепляет желание пациентов отказаться от боли, испытываемой во время операций. В связи с этим забывается все–таки существующий риск летального исхода: один случай на 8000 вмешательств. Долгое время хирурги недооценивали или даже вовсе игнорировали боль, испытываемую их пациентами. Страдания рожениц тем более считались нормой, если не библейским проклятием. В 1847 году Мажанди писал: «Боль всегда приносит пользу. Будет ли женщина трудоспособна, если вы уберете боль, необходимую для того, чтобы состоялись роды?»[58] Несмотря на то что королеве Виктории при родах сделали анестезию и этот факт стал широко известен, акушерская практика менялась мало вплоть до середины XX века, когда так называемый метод естественных безболезненных родов ознаменовал разделение боли и материнства. Он возник на базе психолого–педагогической подготовки женщины, подводящей ее к тому, чтобы осмыслить страдание и справиться с ним без помощи медикаментов. Запущенная в Советском Союзе, эта практика основывалась на работах Ивана Павлова о развитии условного рефлекса и распространялась в качестве орудия политической и идеологической пропаганды: мы страдаем больше или меньше в зависимости от того, за кого голосуем — за правых или за левых. Активисты из феминистского лагеря воодушевились этой идеей, остальные же сохраняли скепсис по поводу возможности избежать родовых болей. Но начало движению было положено.
В течение двадцати последних лет для того, чтобы снизить боль, вызываемую изгнанием плода, применяется эпидуральная анестезия, известная еще со времен I Мировой войны. Суть метода в том, что обезболивающее вводится в спинномозговую жидкость между двумя позвонками, и это приводит к частичной потере чувствительности нижней части тела. Этот вид анестезии стал предметом оживленных споров относительно обоснованности вмешательства, нацеленного исключительно на обезболивание. В наше время этот метод настолько широко распространен, что составляет неотъемлемую часть «современных» родов, хотя некоторые роженицы и объявляют о своей приверженности героическому традиционному способу.
В наш век так же неохотно обращали внимание на боль, если недуг сводился только к ней, как, например, в случае с мигренью и некоторыми видами невралгий, и неохотно исследовались методы, позволяющие эту боль смягчить[59]. В течение последних двадцати лет снижение боли стало объектом более пристального изучения на медицинских факультетах. Центры, специализирующиеся на лечении строптивых болей, предлагают различные виды обезболивания, отражая тем самым разные теоретические подходы к этой проблеме. Для одних боль отступает прежде всего в результате употребления коктейля из медикаментов, нужно лишь найти нужные их сочетания и дозировку. Для других лечение должно учитывать общее состояние души и тела больного в их неразрывном соединении и производиться при активном участии пациента, который сам контролирует свои страдания.
Управление болью сделалось набором услуг предоставляемой населению медицинской помощи, за счет чего власть и знания специалистов–врачей теперь проникли в сокровенную область переживания боли. В 1950 году Католическая церковь причислила к лику святых и провозгласила Учителем Церкви Терезу Мартен, умершую в 1897 году от туберкулеза в обители Лизье. Она выдвинула идею «малого пути» — накопления благих деяний за счет ежедневного принятия боли. Однако четыре года спустя папа Пий XII, обращаясь непосредственно к анестезиологам во время конгресса в Риме, признал легитимность употребления болеутоляющих средств, пусть даже с целью избавиться от обычной головной боли. Таким образом Пий XII положил конец страдальческой участи, которую изначально выбрало для себя христианство, и открыл путь для сотрудничества со специалистами в области боли. Однако распространение харизматических сект наряду с увеличением разнообразия терапевтических способов лечения дает повод полагать, что население продолжает обращаться за облегчением своих страданий в самые разные инстанции, где всегда присутствует религиозная составляющая.
Боли, вызываемые предсмертной агонией, которые до недавнего времени служили объектом скорее литературы и живописи, чем медицинских трактатов, так же как и боли, вызванные недугом, были открыты заново. Появление центров паллиативной помощи, полностью предназначенных для больных в так называемом терминальном состоянии, произошло одновременно с признанием того, что в последние дни жизни пациент тоже нуждается в медицинском уходе и лечении. Требование права «достойно умереть» знаменует поворотный момент в процессе обретения заново индивидом своего тела. Профессионалы соглашаются на отказ пациента от реанимации и концентрируются на облегчении и обогащении последних моментов его жизни и, возможно, на раскрытии их потенциала. Диалог между пациентом и врачом, бывший до настоящего времени тайной, находясь на пороге непознаваемого, постепенно открывается.
IX. Научное признание уникальности тела
Способность самому управлять проявлениями боли иллюстрирует «законную странность» индивида (Рене Шар). Судьба каждого человека неповторима и не походит на судьбу другого. Тело участвует в этом жизненном приключении. Речь идет не только о «принципе индивидуализации»[60], как называл это социолог Эмиль Дюркгейм вслед за Аристотелем. Оно представляет собой уникальный способ самовыражения, воплощая действие и эмоцию, обольщение и отвержение, являясь фундаментальным вектором нашего бытия–в–мире. Наша душа не управляет телом, подобно капитану, управляющему своим судном, как некогда полагал Декарт, она вступает с телом в тесные отношения, навсегда разделяя «свое тело» и тело Другого. В 1935 году Гуссерль[61], свидетель кризиса европейской мысли, взывал к рациональности, которая способна воспринять единство тела и мысли и которая исследует это единство в конкретных действиях. Современные феноменологи разработали понятие «собственное тело», чтобы противопоставить его научному представлению о теле, объективированном и анонимном. Этнолог Морис Леенхардт в своей работе «До Камо» рассказывает, что, расспрашивая старика–канака о том, какое влияние оказали западные ценности на его общество, он получил загадочный ответ: «Тело — вот что вы привнесли»[62]. Идея выделять тело как отдельную категорию, не принадлежит ли она логике западной культуры?
Одна из характеристик тела, данная западной культурой, — цвет кожи — привлекла внимание ее адептов настолько, что, при очевидном противоречии всякой логике, было признано существование человеческих рас, которые, на самом деле смешаны между собой. Эта характеристика, в сущности, является лишь одним из второстепенных признаков неистощимого разнообразия тел. Союз биологии и медицины, воспетый Клодом Бернаром, имел одно последствие: биология XX века, долгое время ориентированная зоологией на рассмотрение видов (и рас), предоставила медицине материальную основу для известного еще со времен Гиппократа и Авиценны представления об уникальности каждого больного.
В 1900 году австрийский медик Карл Ландштейнер смешал в пробирках красные кровяные тельца, взятые у одних людей, с плазмой крови (кровь без эритроцитов), взятой у других. Явление агглютинации, аналогичное тому, что наблюдается при смешивании плазмы и микробов, помогло выявить разные виды эритроцитов, и это позволило разделить на группы кровь людей, которые не имеют между собой ничего общего ни в плане цвета кожи, ни с точки зрения географического происхождения. Впоследствии было обнаружено, что переливание крови одного человека другому возможно только внутри одной группы. Описание групп А, В и О[63] было лишь первым пунктом в перечне проявлений того невероятного разнообразия, которое в 1954 году нобелевский лауреат Питер Медавар назовет «уникальностью индивидуума».
Отпечатки пальцев были известны с конца XIX века, когда полиция использовала их в своей обычной практике. В человеческом теле, его крови, ткани и мембранах содержится невероятное количество молекул, которые различаются между собой, подобно отпечаткам пальцев. Двух одинаковых людей не существует. Исключение составляют лишь однояйцовые близнецы, появление которых всегда привлекало внимание в большинстве культур, где на их долю выпадали попеременно то слава, то позор. Отсюда проистекает и двойственное отношение к репродуктивному клонированию[64], понимаемое (впрочем, ошибочно) как точное воспроизведение индивидуума.
Если генетика доказывает уникальность индивидуума, то иммунология исследует формирование этой уникальности, описывая «я», возникающее из «не-я» в период его внутриутробного развития. После прохождения этой стадии становится невозможной пересадка органов одного индивидуума другому, даже если они принадлежат к одному и тому же биологическому виду. Отторжение лоскутов кожи, которые пытались пересаживать во время II Мировой войны людям с обширными ожогами, послужило весомым тому доказательством.
В XX веке уникальное тело вошло как в научные исследования, так и в правовое поле. До этого времени к понятию тела как такового обращался только уголовный кодекс. Гражданский кодекс его игнорировал и знал только абстрактное «лицо». Теперь индивидуальность «лица» связана с целостностью тела — понятием, которое право заинтересовано определить, регламентировать и защищать. Объявленное неимущественным, не отчуждаемым даже самим владельцем, тело признается субъектом прав и обязанностей в связи с появлением практик, которые позволяют по–новому его использовать.
К этим новым способам манипуляций с телом добавляется возможность подчеркнуть и даже изменить свою внешность. Благодаря открытию относительной пластичности тела, а также за счет стремительного развития эстетической медицины произошел переход от идеи улучшения своих «очертаний» к идеям моделирования своего лица или даже изменения пола, вызванным стремлением привести в еще большее соответствие внешний образ человеческого тела и личность его обладателя. Большинство западных судов, ранее бывших охранителями незыблемого порядка и державшихся за генетический пол, в конце концов приняли во внимание право человека «перекраивать» тело по собственному усмотрению.
В XX веке, привлекшем столько внимания к уникальности человеческого существа и углубившем представление о его автономии и горделивом одиночестве, это одиночество разносторонне изучалось; более того, были предприняты попытки восстановить социальные связи между биологическими телами — за счет оборота органов между живыми и мертвыми, и даже между живыми людьми.
X. Тело в социальном пространстве
В эпоху Возрождения на первый план был выдвинут индивид, который, используя в противовес традициям свой критический разум, уничтожил внутреннюю сплоченность общин и цехов. В эпоху Просвещения это выдвижение индивида было подкреплено уравнительными требованиями. XX век снабдил автономного индивида уникальным телом. Расплатой за эту эволюцию был рост одиночества как болезни века; одиночество больных, оперируемых, умирающих[65] и тех, кому отныне выпала участь вершить судьбу тела, не похожего ни на одно другое. Все способствует тому, чтобы ощущение одиночества увеличивалось. Во имя прогресса больницы упразднили общие залы. Вместо медсестры с покровительственным взглядом мониторинг стал производиться машинами.
Во времена «славного тридцатилетия»[66] экономического роста государство проделало огромную работу по созданию альтернативы прежнему единству общин: тело индивидуума — переводной вексель, выписанный на государство, которое обязано обеспечить человека доступными ему средствами для улучшения качества его жизни и увеличения продолжительности жизни (мы говорим о «праве требования»). Медицинские новшества, в числе прочих способов воссоздания существовавших ранее взаимосвязей, служат посредниками в отношениях между телами в социальном пространстве, пуская в ход определение «себя как другого» (Поль Рикер).
Хорошим примером служит история переливания крови, практически полностью вписывающаяся в рамки XX века, за исключением некоторых более ранних эпизодов. Основанное на открытии различных групп крови, переливание прославлялось различными странами как привилегированный способ напомнить о взаимосвязи людей и их тел. Прославление дошло до того, что социолог Ричард Титмусс в своем знаменитом эссе «Взаимное дарение»[67] 1971 года увидел в переливании крови тест на наличие в обществе признаков демократии и прогресса[68].
Случаи заражения крови подорвали доверие граждан к этой альтруистической медицинской процедуре и побудили к поиску новых решений проблемы переливания крови, например использование индивидуального запаса крови, хранящегося в «банке» на случай необходимости. Поскольку это предложение имело случаи практического применения, государство поддержало разрушенную систему переливания крови как символ общественной солидарности, выступая гарантом стабильной безопасности, который возместит ущерб даже в том случае, если вина обслуживающего учреждения не доказана.
Трансплантация органов — еще одно рискованное предприятие и ключевой эпизод в истории тела XX века — также запустила процесс материального и символического обмена между телами. Каковы основные этапы этого процесса? В начале века множество хирургов пыталось в сюрреалистической манере осуществить пересадку почки, которую помещали на уровне шеи или бедра пациента, при этом мочеточник крепился к его коже. С механической точки зрения пересадка органов представлялась возможной, но после пересадки органы функционировали недолго. По словам хирурга Алексиса Карреля, он столкнулся с непреодолимым препятствием — биологической индивидуальностью: иммунная система человека с помощью антител начинала разрушать клетки чужеродного органа, внедренного с помощью медицинского искусства.
Пересадка почки, увенчавшаяся продолжительным успехом, впервые произошла в Бостоне в 1954 году, как логично было бы предположить, от одного однояйцового близнеца к другому. Большинству же людей, не имеющих в распоряжении такого близнеца, было предложено два способа избежать отторжения пересаженного органа: замедлить отторжение с помощью радио– и химиотерапии или же на основании системы генов тканевой совместимости человека (как и в случае с переливанием крови) подобрать как можно более близкую пару «донор–реципиент».
Во Франции изучение этих групп ткани стало толчком для проведения коллективного эксперимента, что служит хорошей иллюстрацией одной из предыдущих глав об «обществе–лаборатории», где говорилось об увеличении количества опытов, проводимых в социальном пространстве. В 1955 году биолог Жан Доссе предложил добровольным донорам крови, собравшимся в Казино де Роян, предоставить свое тело для научных исследований, чтобы понять, насколько одни индивиды биологически близки к другим. Отторжение трансплантата может развиваться с различной скоростью, и это натолкнуло ученых на мысль, что биологическая совместимость не подчинена закону «все или ничего»: отсюда возникла идея подбора донора с целью приблизиться к недостижимому идеалу его полной биологической совместимости с реципиентом. Пересадка кусочков кожи размером с почтовую марку, производимая от одного пациента другому, позволяет на живом организме проследить различные сценарии отторжения. Основную часть экспериментальной группы, задействованной в истории с переливанием крови, составили железнодорожники. Жертвование своей кровью и кожей, о котором свидетельствуют маленькие рубцы на предплечье каждого участника, создает образ ритуала евхаристии, сплачивающего всех членов общества. «Анонимный донор» Жана Доссе вошел в историю благодаря тому, что ученый привез его с собой в Стокгольм, где на вручении биологу Нобелевской премии он стал почетным гостем[69].
Найти биологически близких донора и реципиента оказалось возможным. Но где искать органы для трансплантации? Первые пересаженные почки принадлежали родственникам больного, которые могли продолжать жить с одной почкой. Но даже если не касаться возможных трудностей, связанных с эксплуатацией живых доноров, очевидно, что применение таких органов ограничено. Хранилище потенциальных органов появилось вместе с возможностью поддерживать пациента в состоянии «необратимой комы». Этот термин[70], придуманный в 1958 году двумя французскими неврологами[71], описывает искусственное продление жизни тела, лишенного сознания и не способного к самопроизвольной регуляции, без надежды на восстановление. Речь идет о «сошествии во ад», откуда современный Орфей не возвращается[72]. Эти тела, с социальной точки зрения умершие, но с биологической продолжающие жить, показались медикам пригодными для трансплантации.
Для близких человека, впавшего в необратимую кому, его тело сохраняет видимые признаки жизни: бьется сердце, благодаря искусственной вентиляции легких вздымается грудь, как будто человек скоро проснется. В это промежуточное время закон предписывает прерывание жизни, определяя данное состояние как юридическую смерть, однако обязательно уступает место медицине для ее констатации. После II Мировой войны смерть определяли как потерю организмом способности удовлетворительно самопроизвольно дышать и обеспечивать кровообращение; говорили и об исчезновении сознания. Состояние необратимой комы заставило углубить изучение этого вопроса. В 1968 году медицинский факультет Гарварда (США) прибегнул к критерию смерти мозга, о которой свидетельствуют прямые линии электроэнцефалограммы, и признал законным их преимущество по отношению к телу с бьющимся сердцем, так называемому «живому трупу»[73]. Франция приняла это определение в том же году, а три дня спустя хирург Кристиан Каброль осуществил первую в своей стране пересадку сердца отцу Булоню, доминиканцу.
К первым выбранным критериям позже добавились новые, такие как прекращение деятельности мозгового ствола, подтвержденное отсутствием реакции моргания на поглаживание роговицы глаза, сужения зрачка в ответ на световой раздражитель, гримасы или иные реакции на щипание и т. д.
Со временем упрощение процедуры взятия трансплантатов породило в обществе беспокойство. За медиками, начиная с эпохи Возрождения, тянется долгая история, в ходе которой их воспринимали как получающих выгоду от публичных экзекуций. Они выставлялись разорителями могил, любителями казней, осквернителями трупов, которые они покупали и даже распространяли по всей Европе как обыкновенные объекты коллекционирования[74]. Чтобы избежать двусмысленности, право стало разделять врачей, ответственных за изъятие трансплантатов, и врачей, осуществляющих саму трансплантацию. Реакция той группы, которая занималась изъятием трансплантатов, оказалось неожиданной: им было обидно оказаться непричастными к основной операции и быть отброшенными в сторону смерти и «грязной» работы[75]. Научное определение критериев ухода из жизни больше не удовлетворяет публику, она боится, что смерть будет назначаться по чьему–то указу. Она верит, что тени и призраки наведываются ночью в зал изъятия органов, и в ее воображении воскресают мотивы сумасшедшего ученого и живого мертвеца. Несмотря на меры страхования, предусмотренные законом, в общество прокрадывается подозрение к врачам как к тем, кто проделывает над телом какие–то манипуляции.
Изъятие органов из трупов ассоциируется также с их расчленением. Как раз в 1960‑х годах школа живописи венского «акционизма» тяготеет в своих работах к изображению грубых телесных процессов (связывание веревкой, испражнения, пачканье). На картины Фрэнсиса Бэкона повлияли антропологические последствия медицинской революции. «И конечно, мы сделаны из мяса, мы будущие скелеты. Когда я иду в лавку к мяснику, меня всегда удивляет, что на месте животных нет меня»[76]. Развитие трансплантации, поначалу встреченной как смелое предприятие, завершилось тем, что общество обнаружило свое почитание тела и веру в загробную жизнь, и мы пришли к тому, что, как говорил историк Филипп Арьес, смерть была вытеснена из XX века[77].
В настоящее время в Европе сосуществуют два способа получить разрешение на взятие органов у трупа: один ориентирует на имплицитное, а другой на эксплицитное согласие донора. В Швеции парламентарии сразу же пришли к индивидуальному и эксплицитному согласию[78]. Во Франции в 1976 году закон Кайаве разрешил взятие органов в том случае, если донор при жизни не возражал против этого. В данной ситуации закон отклонился от принципа римского права, основанного на соглашении, и сделал акцент на правах всего общества. Как и предсказывали юристы[79], увеличилось число случаев отказов со стороны членов семьи потенциальных доноров. Когда разворачивалась трагедия с зараженной кровью, выяснилось, что добровольно пожертвованная кровь стала частью индустрии и коммерческого товарооборота. Это было шоком для публики, в третьем поколении воспитанной на идеологии обмена кровью как символа демократии и общественной солидарности, и отразилось на ее отношении к трансплантации.
Тем не менее в 1980‑х годах потребность в пересадке органов увеличилась за счет расширения числа показаний, включающих теперь ряд неизлечимых заболеваний, которые затрагивали все большее количество людей в мире. Возрастных ограничений для пересадки больше не было. От пересадки почки медики перешли к трансплантации печени, легкого, поджелудочной железы, кишечника или даже «блоков», состоящих, например, из сердца и легкого. Технический прогресс сделал трансплантацию отраслью, без устали поглощающей человеческие органы. Единственным органом, не подлежащим трансплантации, был признан мозг.
В связи с этим возникла нехватка органов, подобно тому, как не хватает редких благ в обществе потребления; это уподобление может показаться почти оскорбительным, как и радость одной семьи при появлении «донора», означающем горе для другой семьи. Причина нехватки органов была в сокращении числа дорожно–транспортных происшествий и в увеличении числа отказов, равно как и запросов.
Слабым звеном трансплантации, основанной на системе генов тканевой совместимости, оказалась культурная совместимость. Пересадка органов нарушила молчание цивилизованного мира, претендующего на мобилизацию своих сил против смерти и в то же время избегающего всякого упоминания о ней. Она также иллюстрирует такую черту современной медицины, как стремление немедленно воплотить в жизнь любую операцию в отношении тела, применение которой оказывается возможным, не задумываясь о последствиях. Опыт пересадки органов также показал не только желание человеческого индивида продлить свое существование насколько возможно, но и трудности в удовлетворении этого желания в рамках социума. Ассоциации, ратующие за донорство, вдохновляют людей на то, что они без метафорических преувеличений считают перераспределением жизненной энергии внутри организма социума. Но как далеко можно зайти в лишении мертвого тела тканей и органов и их повторном использовании, когда они становятся своего рода всеобщим достоянием, которым распоряжается государство[80]?
Дефицит органов послужил толчком для активных поисков их новых источников, например анэнцефалов[81] от рождения (тысяча в год в США), которых Американская медицинская ассоциация разрешила использовать в 1995 году. Но не является ли тем не менее анэнцефал существом с человеческим телом, не возникает ли огромный риск искать все новые и новые категории доноров по мере возникновения потребностей в них? Сомнения на этот счет в западных обществах, не говоря уже о других, где этот феномен еще более очевиден, отчасти объясняют «возвращение к живому донору», чему было положено начало в настоящее время[82].
Поскольку прогресс, достигнутый в области реанимации, позволил совершать трансплантацию со взятием органов у трупа, в большинстве стран отказались от увечащей практики использования живых доноров. Обслуживающий персонал испытал облегчение от того, что ему больше не придется улаживать отношения между родственниками в момент принятия решения и после осуществления пересадки органа. Однако в Норвегии, маленькой стране, где семейная солидарность играет очень большую роль, трансплантация продолжила функционировать, прибегая в основном к живым донорам (для пересадки почки). По противоположным причинам (несовершенство системы оплаты расходов, принятие риска, связанного с величиной затрат) американское общество также никогда больше не отказывалось от возможности использовать живого донора. В 1986 году оно с энтузиазмом встретило изобретение нового препарата циклоспорина, который, активно действуя в ситуации отторжения пересаживаемого органа, значительно нивелировал роль генетической близости донора и реципиента. Кроме того, пересадка почки стоит значительно дешевле, нежели диализ, а также позволяет больному гораздо быстрее пройти реабилитацию и вернуться к активной жизни: так наука прибегает к помощи экономики, чтобы привести доводы в пользу живого донора.
Судьба тела, таким образом, оказывается зависимой одновременно от доводов социальных, экономических и научных. Одной из последних таких перипетий стало открытие, что печень, как и в древнегреческом мифе о Прометее, способна к регенерации. Так, теперь здоровый может «поделиться печенью» с больным и даже отдать ему правую, самую крупную, долю этого органа, хотя эта процедура и не лишена риска. Одновременно с этим биологи пересмотрели кривые выживания и во всеуслышание заявили, что «живые» органы, пересаженные очень быстро, обладают лучшим качеством по сравнению с органами, бывшими на хранении. А если необходимость в тканевой совместимости больше не столь однозначна, почему бы теперь не прибегнуть к органам человека близкого не генетически, а духовно — супруга, сожителя, друга? Законы более или менее ограничили практику использования живых доноров в случае близкого родства с целью избежать возможной завуалированной торговли органами. Как научный прогресс, так и эволюция нравов требуют большей гибкости в подходе к этому вопросу. Но эти перемены тревожат юристов, в особенности когда речь идет о злоупотреблениях, которые они могут повлечь в странах третьего мира, где незаконная торговля органами среди бедных слоев населения и беженцев уже приняла форму современного рабства.
Пересадка органа, взятого у трупа, — опыт отнюдь не безобидный. Реципиент, подвергнувшийся этому опыту, может оказаться не способен с ним жить, вплоть до того, что покончит жизнь самоубийством. Главному герою романа «Руки Орлака»[83], гениальному пианисту, пересаживают пару рук убийцы. Он перестает играть на своем инструменте и обретает мир в душе только тогда, когда обнаруживает, что убийца был обвинен несправедливо и что его руки безвинны. Пересадка живого органа — возможно, еще более волнующее событие по причине сильной эмоциональной нагрузки этого акта. На Западе, как правило родители выступают донорами для детей, отражая тем самым идею преемственности поколений, тогда как в Китае, наоборот, считается более естественной ситуация, когда дети возвращают своим предкам предоставленный ими когда–то дар. Японцы, для которых понятие «дар», или giri, является в культуре фундаментальным, обеспокоены этим новым видом дара, который преподносится иногда без взаимного желания, и считают его предосудительным в том случае, если он создает непосильное психологическое бремя и нарушает общественный порядок.
Пересадка органов стала венцом футуристических медицинских ожиданий, которые, как предполагалось, должны были воплотиться к 2000 году. Врачи–трансплантологи вдохнули в своих сограждан надежду на вероятность прожить вторую или третью жизнь. Бессмертие еще на найдено, но дорога к нему теперь уже кажется открытой. К обращениям врачей–трансплантологов в адрес государства примешиваются голоса ассоциаций больных и пациентов, перенесших пересадку органов. Они изобличают эгоизм и ходатайствуют о том, чтобы государство стимулировало процесс оборота органов в обществе. Призыв соблюдать «право на жизнь», которое часто рискованно относят ко второму разряду прав человека, обсуждается в данном случае в контексте того, в какой мере выбранная дорогостоящая терапия осуществляется за счет других отраслей здравоохранения. Понимание этого, возможно, помогло бы сохранить больше человеческих жизней.
Ошеломленных научным прогрессом людей привлекает не только трансплантация органов, но и возможность пересадки стволовых клеток, которая тоже дает надежду на дальнейшую способность по собственной воле восстанавливать «неисправности» своего тела. Эти вечно молодые стволовые клетки, взятые у эмбриона или из пупочного канатика, в будущем смогут по запросу реконструировать необходимые ткани.
Итак, несмотря на то что реальность не всегда так безупречна, как этого бы хотелось, и полнится слухами о похищении органов, свидетельствующими о «кризисе цивилизации», и вполне реальными скандалами вокруг ситуации с органами в бедных странах, XX век закончился в мечтах о бессмертии, не достигнув при этом никаких значительных успехов в понимании неизбежных процессов старения тела и в предотвращении этих процессов.
Поэтому период старения человека как неизбежное следствие стремительного роста продолжительности жизни становится основным предметом беспокойства в промышленно развитых странах. Люди, дожившие до глубокой старости, составлявшие раньше исключение и почитаемые по этой причине, возможно, составят переполненное социальное пространство ветеранов, которые не обладают никакой конкретной функцией и чей уровень жизни понижается. Лишь страховые агенты приняли на себя последствия подобного положения дел: они предлагают помещать пожилых людей в дома престарелых, где они могут в спокойной обстановке продолжить свою жизнь, находясь под всесторонним наблюдением. Эти заведения финансируются с помощью непомерных страховых платежей.
Фантазм бессмертия идет рука об руку с другим фантазмом — представлением о прозрачности тела, которое сможет раскрыть все свои секреты. Развитие медицинских изображений, в настоящее время ставшее частью массовой культуры, внесло свой вклад в подпитку мифа о всемогуществе медицинской техники, способной просвечивать человеческое тело.
XI. Видеть сквозь тело. История медицинских изображений
История анатомии занимает значительное место в истории изучения тела. Анатомия — это не только вводный курс медицинского университета, но также и модель всякого знания: анатомировать означает описывать. На протяжении предшествующих веков учебное вскрытие трупа означало не только изучение внутренностей тела, но и освобождение врачей от табу. Хирург Ричард Зельцер в своих мемуарах пишет: «Я понимаю тебя, Везалий: после стольких путешествий внутрь человеческого тела сегодня я снова испытываю то же чувство нарушения запретного, когда созерцаю внутренности, тот же иррациональный страх совершить неверное действие, за которое я буду наказан»[84].
В холле медицинского факультета Сорбонны посетителей встречает статуя женщины с обнаженной грудью. Студенты, проходящие мимо нее, как правило, не осознают, что речь идет об аллегории: природу принуждают к тому, чтобы она раскрылась медикам. Но эта же скульптура отсылает и к больному, который обнажается во время врачебного осмотра, — раньше это было непременным условием диагностики[85]. Осмотр раздетого больного позволял определить его худощавое или атлетическое телосложение, немедленно увидеть цвет кожи, повреждения, рубцы и послеоперационные шрамы. Все это врач регистрировал, интерпретировал, а великие мастера своего дела были способны и очень быстро поставить диагноз.
Потом наступило время аускультации — прослушивания анормальных дыхательных или сердечных шумов, описанных древними авторами в образных формулах, которые призваны возникнуть в памяти в неотложных случаях. Звук потрескивающего в тазике жира описывает звук вдыхаемого воздуха, благодаря которому расправляются воспаленные легочные альвеолы. Нарастание влажных хрипов описывает «затопление легких» под действием сердечной недостаточности: на этот раз влага проникла сквозь стенки сосудов.
Но что нынче значат эти описания дыхания, произведенные на основании едва уловимых перемещений приложенного к груди стетоскопа, который реагирует на первый или второй шум сердца, в сравнении с фонокардиограммой, которая, будучи совершеннее человеческого слуха, прекрасно расшифровывает звуковые сообщения! Новейшие техники медицинских обследований постепенно отодвинули на второй план клинический осмотр тела, наблюдение, сочетающее в себе восприятие пяти органов чувств, основанное на физической близости, происходящее лицом к лицу, на расстоянии вытянутой руки, так, что слышно дыхание пациента. «Он ко мне даже не прикоснулся», — с сожалением сказал больной ребенок, выходя из кабинета известного специалиста[86]. Знания и навыки клинициста, с его особыми сенсорными умениями, скоро можно будет сделать частью музея традиций, подобно другим ремесленным знаниям и навыкам — рабочим приемам башмачника или жестянщика. Больной, а вернее его тело, переходит от машины к машине, обслуживающейся немыми лаборантами, взгляд которых сосредоточен на аппарате. «Тишина! Идут съемки!» Означает ли это смерть «клиники», «рождение» которой праздновал Фуко[87]?
Благодаря этим техническим новшествам на первый план выходит визуальное исследование организма, в котором реализуются последние достижения современной физики и химии. Сопоставимое с полетами в космос или погружениями в морские глубины, оно изменило медицинскую практику и позволило каждому получить собственное изображение. Оно также положило начало виртуальной эры в области управления телом. Медицинские изображения легко получить благодаря новой технике, к которой люди настолько привыкают, что с удовольствием сами идут на обследование. Анатомическое знание, которое в прошлом добывалось у трупа, осталось окруженным зловещей аурой. Медицинская работа с изображением тела в XX веке — это в первую очередь, изображения живого организма, способ заглянуть внутрь человеческого тела без применения насилия.
XII. Тело в театре теней
В начале XX века рентгенография послужила первым способом получения изображения, основанного на физико–химических методах, разработанных фундаментальными науками. Используя открытие «лучей X», сделанное в 1895 году Вильгельмом Рентгеном, медицинская рентгенография, которая поначалу называлась то рентографией, то скиаграфией, то пикноскопией, развивается очень быстро, привлекая как медиков, так и широкую публику.
Первым рентгеновским снимком была кисть руки Берты Рентген, ее можно было опознать по огромному кольцу: романтики увидели в этой руке символ той страсти, которую разделяли супруги по отношению к науке. Хирургия очень быстро взяла на вооружение новый метод, чтобы выявлять инородные тела, пули, предметы, которые вдохнули или проглотили дети, часто металлические, а значит, непроницаемые для «лучей X». Оказалось, что линии перелома просвечиваются также очень легко, а кости на рентгеновском снимке увидеть проще, чем внутренние органы[88]. Во время II Мировой войны мадам Кюри без труда убедила военно–санитарную службу оборудовать грузовики рентгеновскими лучами X для диагностики травм. Благодаря рентгеновскому снимку можно обнаружить боевые снаряды, попавшие в тело и в голову, как в случае с солдатом, страдающим амнезией, в пьесе Ануя «Путешественник без багажа».
В XX веке появилось кино. Если соединить флуоресцентный экран и рентгеновский аппарат, то можно сколько угодно наблюдать, как движется грудная клетка, как светлеют легкие при вдохе и при кашле — одним словом, следить за тем, как работают органы внутри тела.
Однако источником знания, на которое ориентируются, по–прежнему служит труп. Хотел ли художник Шикото отобразить в своих работах 1900 года медицинский прогресс? Молодая женщина позирует как для портрета, а между ее головой и остальным полнокровным телом изображена рама наподобие картинной, в которую помещен рентгеновский снимок. Тема скелета дошла до нас и благодаря юмористическим картинкам начала века, на которых представлена «идиллия на пляже в Рентгене» в виде пляски смерти, происходящей во время морского купания. Игра со смертью придавала «очарование» изображениям «театра теней», что заметил уже сам Рентген[89]. Рентгеновский снимок стал новым портретным жанром. В «Волшебной горе» Томаса Манна он стал объектом любовного фетишизма: молодой Ганс Касторп погружается в созерцание снимка легких, который ему оставила его подруга, милая Клавдия.
Поначалу стиль описания рентгеновских снимков был бальзаковским: «Средние и ногтевые фаланги [кисти больного акромегалией[90]] представляют наибольший интерес для тщательного изучения. Конечности приняли неправильную и причудливую форму в виде костяных капелек или сталактитов, выступающих подобно воску „оплывающей свечи”[91]». Приверженцы использования рентгеновских лучей должны были расшифровать проделанную ими работу: «Рентгеновские лучи никогда не ошибаются. Это мы ошибаемся, когда неправильно трактуем их язык или требуем от них больше, чем они могут нам дать»[92]. В то время нужно было многое определить: оптимальную дистанцию между источником излучения и объектом, угол съемки, а главное — оценить правильную дозу излучения, так как в это время врачи еще не располагали способами его измерения.
В настоящее время рентгенология представляется прототипом обследования no touch: оборудование управляется со столика, расположенного на некотором отдалении от пациента. Исполнитель, чаще всего невидимый и мало коммуникабельный, находится под защитой своего экрана. В начале века рентгенолог держал экран в руках, в нескольких сантиметрах от больного; он сам регулировал его положение на стуле или на кровати, увеличивая тем самым время воздействия лучей и разделяя риск невидимого облучения.
Метод расшифровки рентгеновских снимков развивался в несколько этапов. На первом этапе расшифровка состояла в том, чтобы сравнить снимки, полученные от живых и от мертвых, у которых в результате вскрытия был установлен или подтвержден одинаковый диагноз. На следующем этапе данные снимков сопоставлялись с клиническим осмотром. В конце концов чтение снимков сделалось автономным, и по мере того, как вырисовывалась специфическая терминология, описывающая «просветы» и «затемнения», локализованные или рассеянные, нормальные или патологические, снимки стали сравнивать только с другими снимками. Предложенный поначалу термин «скиаграфия» (от греческого skia — «тень») уступил место более однозначной терминологии. Представление о мире теней постепенно сменяет идея достойного изображения тела, знаменуя возрастающее превалирование зрения над остальными органами чувств.
Легочный туберкулез был первым визуально зафиксированным диагнозом. С 1900‑х годов Антуан Беклер предлагал всем госпитализированным больным систематически делать рентген[93], надеясь, что аномалии в подвижности диафрагмы могут быть заблаговременным сигналом тревоги. Но его надежды были обмануты, и рентгенографию стали применять только для выявления симптомов туберкулеза. Рентгенография стала средством объективации симптомов заболевания, на нее можно было сослаться в случае отрицания больным симптомов. В романе Томаса Манна благодаря этому появляется история вне сюжета. «Влажный очажок», случайно обнаруженный у Ганса Касторпа во время визита к своему больному туберкулезом кузену, стал «эпизодом обвинения», приковав Ганса к Волшебной горе.
В 1914 году санаторий в Давосе был учреждением класса люкс[94]. В США рентген был популяризирован страховыми компаниями, которые требовали рентгеновские снимки от своих клиентов. Во Франции рентгенодиагностика была систематизирована в рамках борьбы с туберкулезом, с помощью постановлений октября 1945 года. Это стало прототипом массовой диагностики. Обязательному рентгеноскопическому обследованию подлежали беременные женщины, будущие супруги, школьники и все работники по найму в момент приема на работу. Эти постановления по борьбе с туберкулезом с небольшим отрывом предвосхитили появление эффективного средства лечения болезни, антибиотика стрептомицина, анонсировавшегося с 1942 года, но использованного применительно к туберкулезу только после войны.
В отсутствие эффективного средства лечения часть общества оспаривала принцип всеобщей диагностики. Появление противотуберкулезных препаратов обеспечило общество мерой, которая в течение полувека воспринималась как надежная модель борьбы против социального бедствия национального масштаба. Однако ниспровергатели общественных устоев обращали внимание на то, что лаконичный комментарий «ITN» (снимок грудной клетки в норме), рутинно прилагаемый к миллиону снимков, вовсе не является абсолютной гарантией того, что человек не инфицирован туберкулезом[95]. Было ясно, что рентгенография для всех, как и всеобщая обязательная вакцинация, выполняла не только медицинские функции, но и символически сплачивала тела и умы общества перед лицом опасности заразиться недугом, которому подвластны все возрасты и социальные слои. Наличие универсальной процедуры для всех противопоставлялось специализированным мерам, которые могли стать фактором стигматизации части общества.
XIII. Тело в лучах радиации
В этом разделе, также посвященном истории получения медицинских изображений, речь пойдет о других видах излучения[96]. Клод Бернар говорил, что мы сможем проникнуть в секреты функционирования тела тогда, «когда сможем проследить за молекулой углерода или азота, записать ее историю и рассказать о ее путешествии от начала и до конца»[97]. В 1935 году, получая Нобелевскую премию, Фредерик Жолио–Кюри предложил ввести в живой организм радиоактивные элементы для осуществления этого удивительного путешествия и исследовать органы, изображения которых раньше сложно было получить, такие как печень или поджелудочная железа.
Изотопы, полученные при бомбардировке цели нейтронами, представляют собой ответ атомов, из которых состоит тело, но выделяющихся благодаря излучению, которое появляется в результате распада нестабильных ядер. Это позволяет проследить по свежим следам их движение в недрах организма. Чтобы быть пригодным для использования в медицине, это излучение должно быть как легко обнаруживаемым, так и безобидным, как в случае с йодом‑128.
Щитовидная железа — поверхностный орган, расположенный на уровне шеи, — на рентгеновском снимке не видна. Она служит для того, чтобы накапливать йод, необходимый для синтеза гормонов, участвующих в росте организма. Требуется по крайней мере полчаса работы с йодом‑128, период полураспада которого составляет 25 минут, чтобы зарегистрировать излучение частиц. С помощью счетчика, который сам обследуемый держит напротив своей шеи, врачи отслеживают накопление йода в щитовидной железе. И все–таки кривой графика, получаемой в результате этого обследования, недостаточно, чтобы составить целостное представление. В 1940 году первый циклотрон, сконструированный для медицинских нужд, позволил получить более долговечные изотопы йода. В 1949 году вошел в употребление счетчик, состоящий из кристалла, который светился благодаря исходящему от тела излучению, отсюда название исследования — «сцинтиграфия»[98]. Вручную перемещая аппарат, снабженный коллиматором, на уровне щитовидной железы, оператор постепенно конструировал ее изображение. Не менее двух часов требовалось для того, чтобы «нарисовать» на основании таблицы из четырехсот данных «бабочку» щитовидной железы: две доли, разделенные перешейком.
Эту процедуру стали применять и к другим органам, используя другие изотопы, но качество изображения долгое время оставалось посредственным. Начиная с 1954 года использование гамма–камеры позволило быстро перемещаться по всей поверхности поля или, по требованию, останавливаться на нужном участке. Как и в кино, стало возможным наблюдать, как меняется изображение с течением времени, и, следовательно, помогать органу функционировать. В отличие от рентгена или, впоследствии, компьютерной томографии, сцинтиграфия не применима к трупу, поскольку она предполагает наличие живых клеток, способных фиксировать радиоактивный след. Сцинтиграфическое изображение по–настоящему живое, несмотря на то что получается с помощью молекул, потенциально способствующих разрушению.
Появились более четкие изображения печени, мозга, почек, легких. Аппарат позволял обнаруживать абсцессы или опухоли, расположенные в глубине организма, недоступные для физического обследования. Врач обводил аппарат вокруг пациента, что способствовало увеличению количества плоскостей разреза и возможности воспроизведения изображения органов в трех измерениях.
В случае чудесного выздоровления традиционные подношения святым представляли собой таблички с изображением руки, ноги, реже груди или глаза. Людям уже давно были известны сердце и печень, которые любили изображать в виде четырехлистного клевера, лишь отдаленно напоминающего анатомические доли органов. Зато другие органы, такие как щитовидная железа, были практически неизвестны широкой публике. Современные святые XX века получают подношения, отражающие новые знания. Статуя врача в посвященной ему церкви в Неаполе возвышается среди подаренных по обету серебряных табличек с выгравированными картинами, очевидно, навеянными медицинскими изображениями, среди которых легко распознается щитовидная железа.
По причине демонизации всего, что имеет отношение к атомной энергии, ядерная медицина, которая носит название этой отрасли, вызывает у людей беспокойство. Пациентов, которых лечат с помощью радиоактивных веществ, заключают в «одиночные камеры» запломбированных комнат, со специальными канализациями, через которые удаляются продукты жизнедеятельности организма, подверженного радиационному облучению, исходящему из их органов. Эти пациенты при выписке из больницы спрашивают, нет ли опасности заразиться для их близких. В случае беременности, наступившей после сцинтиграфического обследования, пациентки нередко просят об аборте. В обществе сцинтиграфия костей стала синонимом обнаружения рака[99]. Образы канцерогенной атомной энергии и диагностированного рака накладываются друг на друга, усиливая семантику смерти, хотя в настоящее время облучение, связанное со сцинтиграфическим обследованием, сопоставимо с природной радиоактивностью, присутствующей в окружающей среде (порядка 5 миллизивертов).
При сцинтиграфии костей используется чужеродная для организма искусственная молекула (технеций). В ответ на беспокойство общественности по этому поводу было предложено использовать излучение позитронов, соответствующих веществам, присутствующим в теле, таким как кислород и глюкоза. Их короткая жизнь отвечает к тому же потребности наблюдать за динамическими явлениями, например кровообращением.
Интерес ядерной медицины состоит не только в физиологическом обследовании труднодоступных органов: она также исследует очертания внутренностей тела. Путешествие молекулы, которую отслеживают благодаря ее излучению и которая останавливается на определенных рецепторах, позволяет выявить такие участки тела, которые ничего общего не имеют с анатомией Везалия. Таким образом, вырисовывается столько картин тела, сколько выбранных маркеров, которые отражают всю сложность взаимосвязей между различными частями тела и существование «языка общения» между ними, обусловленного медиаторами и рецепторами.
Представление о химическом языке тела открывает двери для масштабной программы изучения мозга и нервной системы. Кровоснабжение мозга мы можем считать косвенным признаком активности нервных клеток. Меченая радиоактивным изотопом глюкоза, которая делает видимыми зоны мозговой активности в различных цветах (сцинтиграфия вышла за пределы черно–белой тональности), позволяет если не понять, как мы думаем, то по крайней мере «увидеть» деятельность мозга, не только когда человек совершает какое–либо действие, но и когда он представляет себе это действие: в зависимости от содержания мысли светятся различные участки мозга, следуя за тем, как человек представляет движение головы или ноги, например. Таким образом, сцинтиграфия в несколько утрированной манере позволяет увидеть то, что всегда было загадкой, — связь между телом и мыслью. Выражение «мозг думает» становится завораживающим сокращением, «семантически недопустимым, но на практике приемлемым»[100]. Науки о нервной системе планируют совершенствовать изображения этих игр света и сравнить происходящие от разных эмоций образы у людей и у различных животных. Врачи располагают богатым коктейлем из медикаментов, транквилизаторов и галлюциногенов, которые помогают в осуществлении этого предприятия. Опыты, на протяжении веков осуществлявшиеся художниками и поэтами, курильщиками опиума и потребителями гашиша и пейота, теперь смогут быть переведены на язык изображений. Однако очевидно, что если все это дает возможность увидеть какие–то движения тела, то мы по–прежнему далеки от расшифровки наших размышлений, любовных чувств, проявлений воли и других душевных треволнений.
Тем не менее позитронная камера[101] стала излюбленным инструментом ученых, занимающихся когнитивными науками и очарованных открытием цветовой ментальной картографии, новой ипостасью теории мозговой локализации моторных и интеллектуальных функций. Терминология, относящаяся к изображениям, подспудно способствовала реформированию словаря, описывающего мысленные образы, которые ранее ассоциировались с психофизическим параллелизмом, обесславленным феноменологами.
Получение медицинских изображений свидетельствует о двойственности феномена картинки, которая представляет, с одной стороны, копию реальности, а с другой — иллюзию, являясь посредником информации и проводником двусмысленности, которая возникает между реальным и сконструированным объектом. Забывая о том, что изображение сконструировано, по–прометеевски зачарованные объектом медицины врачи и пациенты, вместо того чтобы взглянуть на эти сведения в контексте других областей знания, воспринимают их как неопровержимые данные: некоторые нейрофизиологи видят в новой технике настоящий детектор лжи. Наконец–то тело, столь гибкое в своей способности порождать, переносить и преобразовывать боль, будет подчинено методикам, которые не требуют никакого герменевтического подхода! И вдобавок еще это представление о том, что наблюдатель может открыть в голове у другого окошко, чтобы увидеть его мозг, возникающие в нем мысли или даже бессознательные движения…
XIV. Тело в тумане
Эхография кардинально отличается от ядерной медицины, несмотря на то что она развивалась в той же среде рентгенологов. В начале 1950‑х годов эхография использовала в медицинских целях свойства ультразвуковых колебаний (сначала они применялись в военное время): они ведут себя, как радары, и с разной скоростью отражаются от встреченных объектов, в зависимости от их плотности, создавая таким образом что–то вроде изображения тела. Нужно ли напоминать, что «идти на автопилоте» в просторечии означает перемещаться, как в тумане, в сонном состоянии, больше под влиянием испытанного шока, нежели подлинного восприятия действительности.
«Препятствия», которые обнаруживаются с помощью новой технологии, конечно же, называются опухоль, киста или абсцесс. Первые изображения не были ни на что похожи[102]: зоны перехода от одного типа ткани к другому отражали звуковые помехи, которые размывали контуры. Нужно было заново изобретать язык признаков болезни на основании изображений, которые не совпадают с классической анатомией. По этой причине эхография приобрела репутацию сложного занятия, которое поручают опытным техникам; те же с трудом могут передать свои знания и рационально обосновать впечатления, которые они получили от исследования неясного процесса, происходящего в глубинах тела.
И тем не менее эхография очень быстро приобрела популярность, поскольку была хорошо применима в диагностике и ведении беременности. Раньше диагностика внематочной беременности (когда оплодотворенное яйцо не проходит по маточной трубе) часто осуществлялась слишком поздно, на этапе разрыва матки и кровотечения. Сейчас же можно провести хирургическое вмешательство еще до появления каких бы то ни было симптомов, располагая изображением затемнения, расположенного вне матки, что позволяет свести к минимуму хирургическое вмешательство по удалению аномального яйца.
Однако основным назначением эхографии, если не де–юре, то де–факто, была встреча матери с плодом, который раньше она ощущала только изнутри, знакомство со своим ребенком до родов, возможность посмотреть на него как на другого, находящегося в ней. Эта встреча была наполнена эмоциями, а само изображение очень быстро стали подшивать в семейный фотоальбом — потом дети будут ему умиляться, пытаясь вспомнить свою внутриутробную жизнь. Безвредность и простота метода — все способствовало тому, что эта техника обследования стала излюбленной и постоянно применяемой. И если медицинское сопровождение в случае зачатия в пробирке и «долгожданного ребенка» предполагало до одного УЗИ-обследования каждые два дня, то Фонд социального страхования во Франции ограничил стандартный осмотр до трех УЗИ за всю беременность. Всеобщее увлечение этим видом диагностики свидетельствует о том, что женщины с энтузиазмом участвуют в научном предприятии, более доступном, чем космические полеты, а также об их мечте об идеальном ребенке, который виден на картинке.
УЗИ сообщает будущей матери не только о благополучном ходе беременности, но также и пол плода. Непредвиденным следствием возможности узнать это стало то, что родители стали сами выбирать пол ребенка. В Китае, где по закону пара имеет право заводить только одного ребенка, ультразвуковая диагностика получила очень бурное развитие, поскольку благодаря ей женщины получили возможность делать аборт до тех пор, пока не будут уверены в том, что родится ребенок столь желанного мужского пола[103].
В течение очень долгого времени о продолжительности беременности имели смутное представление, период преждевременных родов разграничивался лишь приблизительно, и срок, на котором произошел выкидыш, не определяли. Моменту, когда женщина начинала чувствовать шевеление плода, предшествовало время его таинственного созревания. В XIX веке знания из области физиологии и медицины, пролившие свет на формирование эмбриона, использовались как аргументы для установления более жесткого, чем ранее, морального и религиозного контроля над обществом, а также для борьбы с абортами и контрацепцией. Именно тогда термин «зародыш»[104], до этого времени применявшийся для именования как завязи у растений, так и утробных плодов животных, стал обозначать исключительно человеческий эмбрион. Изображения, полученные с помощью УЗИ, также коренным образом изменили отношение к беременности. Феминистки трактовали это событие как начало общественной жизни для того, кто раньше был погружен во тьму и тишину матки. Некоторые увидели в этой шокирующей публичности новый вид экспроприации тела: он приводит к тому, что эмбрион определяют как «новую жизнь», которая как таковая подпадает под юрисдикцию церкви и государства. Право на жизнь может, на самом деле, утверждаться и для зиготы (клетки, которая образовалась в результате оплодотворения) и выглядит тем более неоспоримым, когда эта зигота материализована с помощью представленных изображений, полученных напрямую[105]. В то время, когда право на аборт было закреплено большинством законодательств, эхография привлекла внимание общественности к индивидуальной судьбе эмбриона, которая раньше была предоставлена безмолвной лотерее. И наконец, появление «лишних» эмбрионов, «побочных продуктов» экстракорпорального оплодотворения, вызвало вопрос о статусе этих живых существ, которые еще не стали людьми, но могут рассматриваться как объекты права в качестве «потенциальных людей» — эта категория была придумана юристами. Большинство европейских законодательств предпочитает избегать точных определений и границ, чтобы избежать непреодолимых противоречий между правом на аборт и защитой права на жизнь.
Медицинские изображения позволили увидеть внутреннюю жизнь тела, вследствие чего эмбрион стал в большей степени восприниматься как индивид. Именно за это конкретное существо общество и родители–опекуны могли бы отвечать перед законом. Американское право начинало принимать на рассмотрение дела, возбужденные детьми–инвалидами против своих матерей, которые отказались от терапевтического аборта. Дети требовали возмещения ущерба, апеллируя к их праву не существовать вообще[106], присваивая себе свое потенциальное прошлое, доступ к которому они получили благодаря медицинским изображениям. В 2000 году приговор по делу Перрюша[107], который ориентировался на американские прецеденты, вызвал среди судей большие волнения и изменил взгляд на понятие «нанесения ущерба жизни», подлежащее возмещению.
XV. Социум в эпоху изображений
Наряду с рентгеном и сцинтиграфией возникли и другие виды цифровых снимков, которые стало возможным получить благодаря развитию информационно–вычислительной техники. Томоденситометрия, которую часто называют компьютерной томографией, возникла в 1970‑е годы на основе изучения ядерного магнитного резонанса. Несмотря на то что при обследовании пациент подвергается облучению, чем сложно пренебречь, томография была принята обществом крайне благосклонно по двум причинам: во–первых, она не предполагает никаких инъекций, во–вторых, будучи более четкой, чем сцинтиграфия, она воспринимается как суперфотография, особенно точная и тем самым еще более убедительная. Сканирование тела целиком удовлетворяло потребности быть полностью уверенным в здоровье своего тела, полностью представленного на снимке, и это подпитывало идею о «всевидении» и управлении органами, которые теперь без какого–то бы ни было исключения откроют свои секреты.
Ввиду престижа науки и силы изображения этот новый вид снимков отныне занимает свое место в коллективном бессознательном и становится частью культуры разоблачения и дознания, формирующейся вокруг тела. Более того, он переустраивает отношение между природной данностью и ее восприятием и переживанием, представляя последнее как более подлинное. Государство различными способами вмешивается в жизнь общества, находящегося во власти изображения: либо поощряет его использование, например с целью предотвратить некоторые виды раковых заболевания (маммография), либо же, наоборот, опасается негативных последствий широкого распространения томографии, как и в случае с УЗИ. Разное отношение можно встретить и в обществе. Обеспокоенные своим здоровьем люди охотно идут на любое профилактическое обследование, упорствуя в своем требовании регулярно проходить «томографию всего тела» или еще более модную магнитно–резонансную томографию, чтобы удостовериться в невредимости своего собственного тела, подобно тому как ежедневно они проверяют его в зеркале. Но если одна часть населения ратует за обследование тела при помощи снимков (и его безопасность!), то другая часть остается невосприимчивой к этому навязанному виду разоблачения тела. Это показывают, к примеру, опросы среди женщин об их отношении к маммографии. К страху, что обследование выявит какую–нибудь скрытую болезнь, добавляется боязнь обследования тела: такое обследование воспринимается как опасное вмешательство. Женщины доходчиво объясняют, что тело без признаков болезни не нужно «трогать» (из страха искушать судьбу и запустить тем самым неконтролируемую цепочку событий)[108].
На самом деле, прозрачность тела может оказаться обманчивой. Видимый реализм изображения не избавляет от необходимости его интерпретировать. Чем больше становится способов получать изображения, чем бездумнее назначают подобные исследования, тем больший масштаб приобретает проблема ложных тревог: из–за умножения видов исследований и регулярных осмотров появляются снимки, выявляющие аномалии, которые невозможно трактовать однозначно. Иногда речь идет о варианте нормы анатомии тела, свидетельствующем об их разнообразии, или об атавизмах, напоминающих об эволюции вида. Иногда медицинское заключение так и остается в «подвешенном» состоянии ввиду сложности снимка, а пациент при этом чувствует себя как под Дамокловым мечом.
XVI. Тело во всемирной паутине
Как бы ни были загадочны инструменты и физико–химические законы, благодаря которым получаются медицинские изображения, они открыли тайны тела на обозрение публики и способствовали распространению идеи о всемогуществе медицины. Теперь она обрела дополнительное измерение — власть изображения. Вместе с совершенствованием оптических приборов (суперэластичное стекловолокно), в котором более всего преуспела японская промышленность, в спелеологии внутренней жизни органов появляются новые виды вмешательств. Хирургические операции стали осуществляться в процессе обследований с помощью эндоскопов, специально приспособленных к полым органам (мочевой пузырь, желудок). Они проводятся без противопоказаний и безопасным способом, поскольку не предполагают разрывов, вмешательство производится через природные отверстия в теле. Хирургия, воспетая в афоризме Валери: «Вы нарушаете, господа, наше состояние фундаментального незнания самого себя»[109], — сужается до масштаба линзы очков. В случае оперирования очень большого числа заболеваний больше не производят раскрытия живота. Хирург иссекает простату, производя вмешательство через уретру, удаляет кисту из яичника в ходе эндоскопии брюшной полости, с помощью небольшого линейного разреза, как правило, в области пупка. Иногда операция выполняется даже не хирургом, а обычным врачом, который привычен к продвижению своего инструмента сквозь просвет кишечника, — он мимоходом удаляет опухоль или кисту. Удаление матки теперь производится вагинальным путем, и это действие больше не обозначается уродливым шрамом. Только в случае экстренной необходимости на сцене вновь появляется классический хирург и, производя серединный разрез, на сей раз пренебрегает эстетическими предосторожностями.
Повсеместность изображений также внесла свой вклад в нивелирование реальности телесных страданий. Современная медицина больше не изображается в виде кровавых сцен в операционной, полюбившихся литературе и кино, а отражается в цифровых и лишенных плоти схемах, которые можно пересылать по электронной почте. Отныне хирурги могут оперировать под контролем робота или даже с его помощью, совместно с международными командами врачей, благодаря интернет–связи[110]. Тело, погруженное в виртуальный мир, становится базой для научных достижений.
Чтобы заменить устаревшее и непривлекательное обучение анатомии на трупе, американские программисты сконструировали модель, предлагающую цифровые изображения, эквивалентные человеческому телу: саггитальные и фронтальные плоскости, составляющие интерактивное единство. Эта модель доступна неспециалистам и снабжена нумерацией и подписями, так что сотни студентов могут анализировать и препарировать тело по своему усмотрению, не вставая с кресла. Единственное, что нужно для этого иметь в своем распоряжении, — это компьютер[111].
Однако нельзя сказать, что программа под названием The Visible Man («Человек видимый») не имеет под собой реальной «плотской» основы. У этого человека, который вскоре пойдет по рукам, своя история, в которой передовые технологии оказались связаны с древней традицией страха и смерти, с тюрьмой. Цифровая модель была создана не абстрактно, а на основании данных настоящего человека: он был одним из приговоренных к казни американцев, годами живущих на пороге смерти до тех пор, пока их не отправят на тот свет с помощью инъекции цианида. Этот заключенный, мужчина тридцати пяти лет, все это время верил в то, что его приговор будет обжалован. И хотя он заранее согласился завещать свое тело науке, находясь в тюрьме, он каждый день посещал тюремный спортзал. Поэтому анатомам XXI века досталось идеальное тело, состоящее из мускулов без грамма жира.
Речь идет о мужчине — неужели мужской пол снова в приоритете? Пусть феминистки не беспокоятся! The Visible Woman скоро также появится на экранах компьютеров. Но ее история совсем другая: речь идет о больной, ушедшей из жизни по причине сердечной недостаточности, и ее тело не обладает такими же эстетическими характеристиками, как тело ее коллеги.
Заключение. На пороге XXI века: «познай самого себя»
История тела в XX веке характеризуется возрастающим вмешательством медицины в жизнь человека. Теперь медицина охватывает и повседневность, продлевая временные границы различных событий человеческой жизни и улучшая ее качество. В первые две трети века медицина, преуспевшая в исследовании тела и увеличении продолжительности жизни, казалось бы, практически завоевала монополию в сфере контроля над телом и раскрытия его секретов. Господство медицины укрепилось за счет того, что она стала вмешиваться в области, не связанные как таковые с болезнями. Отныне мы можем сказать, что не существует мужского бесплодия, женщина может забеременеть после наступления менопаузы, отслужившие свое органы можно заменить, а гены, кажется, теперь находятся в нашем распоряжении. Медицинское знание проникло в общественное мышление, пример тому — авторитет медицинских изображений, в которых воплотились новые полномочия медицины. Само тело было основательно перекроено медициной. Инвалиды смогли пользоваться новыми видами протезов, часто совсем незаметными. В скором будущем мы, вероятно, сможем заменять мелкие сосуды трансплантатами так, чтобы кровь внутри них не свертывалась, заполнить органы животных или искусственные органы синтетической кровью, успешно завершить проект по созданию механического сердца, начатый Алексисом Каррелем. В будущем чип–карты позволят страдающим квадриплегией двигать руками и ногами.
Богатство собранной информации, серьезность принимаемых решений, роль личного поведения в принятии риска, вместе с признанием значимости генетических склонностей, а также потребность в прозрачном гражданском обществе и нетерпимость граждан к медицинской опеке[112] — все это привело к тому, что некоторые люди стали сами заботиться о судьбе своего тела, находящейся отныне в их руках. Увеличение медицинского знания–власти вызвало беспокойство как в организациях, так и в обществе, стимулируя стремление к тому, чтобы индивид в большей степени участвовал в принятии решений, касающихся его тела. Таким образом сформировался идеал двойной прозрачности: тела самого по себе и решений, которые принимаются относительно него в обществе.
До этого времени изучение внутреннего пространства своего тела было сопряжено с некоторой неловкостью — оно воспринималось как что–то иное в отношении того, что находится снаружи под взглядами окружающих, «своей кожи»[113], бывшей единственной настоящей носительницей индивидуальности. Призыв Сократа к внутреннему путешествию («Познай самого себя!»), оставивший глубокий след в западной философии, устранил тело даже не как досадное обстоятельство, а как препятствие для мыслительной работы. На рубеже XX века исследование Фрейдом бессознательного представляло собой попытку вернуть человеку его тело. Теперь оно со всеми своими проявлениями стало более доступным человеческому «я»[114] и связано с его самовыражением.
Если многочисленные техники получения медицинских изображений остаются монополией экспертов, некоторые из них вышли из пугающей тени больниц, чтобы расположиться в маленьких аналогичных структурах, связанных с потребительским рынком: что–то среднее между аптекой или фотоателье. Мы можем представить себе в будущем уединенные комнаты вроде секс–шопов, где без свидетелей каждый сможет сделать самому себе операцию в случае «неполадок» в собственном теле. Таким образом, начинается восстановление взаимодействия между научными и профанными знаниями, а также переговоры о перераспределении ролей между медиками и их потенциальными пациентами, то есть между представителями всего человеческого рода в совокупности.
Успехи в области медицины послужили началом авантюры, возможно, менее впечатляющей, чем межпланетные путешествия, но точно так же поставившей нас перед вопросами о будущем, его защите и прогнозировании. В идеальной перспективе точное знание индивидом своих генетических возможностей позволит ему изменить свой образ жизни и перестроить свою судьбу. Вследствие этого ответственность индивида перед своим телом увеличивается. На последнем, совершенно постмодернистском, этапе, индивид, принимая в расчет все сокровенные знания о своем теле, сможет полностью управлять им, осуществив тем самым утопический проект, сформулированный Декартом: быть самому себе лекарем[115].
ГЛАВА II Изобретение и осмысление генетического тела
Фредерик Кек и Пол Рабинов
В 1997 году по предложению Международного комитета по биоэтике Генеральная ассамблея ЮНЕСКО приняла Универсальную декларацию о человеческом геноме и правах человека, главный тезис которой заключался в следующем: «Человеческий геном представляет собой основание фундаментального единства всех членов человеческого рода, а также отражение его неотъемлемого достоинства и разнообразия. В символическом смысле это наследие человечества»[116]. Эта гуманистическая декларация, появившаяся через девять лет после запуска проекта «Геном человека» и через три года после объявления о полной его расшифровке, ярко показывает двусмысленность основных составляющих нового представления о теле, которое было создано рядом групп — врачами, ассоциациями людей, страдающих определенными заболеваниями, юристами, комитетами по этике, государствами и частными компаниями — и которое стало составляющей новой науки о генетике[117]. Можно ли сказать, что геном представляет собой невидимую совокупность признаков, которые можно назвать общими чертами «человеческого рода»? Если новое научное знание дает нам новое представление о теле, насколько оно позволяет нам понять, что же объединяет все человеческие тела? Скажем проще: если недавние научные открытия дают нам описание «нашего генома», то что такое «мы» и «наш геном»? Другими словами, в какой мере мы должны заботиться о том, что генетика по–новому формулирует идентичность «нашего тела»? Еще более провокационно это можно сформулировать так: что мы собой представляем в глазах генетики?
В последнее десятилетие на этот вопрос давались разные ответы, которые и составят содержание этой главы. С точки зрения ученых и большей части общественности, которая имеет доступ к результатам исследований через сообщения в СМИ, цель генетики — создание карты той структуры, которая определяет развитие нашего тела. По классическому синекдохальному отношению, где часть буквально объясняет целое на своем уровне, карта ДНК позволяет нам увидеть в сжатой форме то, что мы представляем собой на самом глубинном уровне[118]. Разнообразие человеческих тел оказывается описано в уникальной книге, где содержатся наши уникальные геномы[119]. С другой стороны, для членов ассоциаций больных, которые внимательно следят за анализом генов, являющихся причиной их заболевания, генетика — это источник надежды и частого разочарования, объясняющий человеческую судьбу через один выявленный ген. Тела становятся коллективным предметом исследования в интимном аспекте заболевания и в публичном аспекте генеалогии. Наконец, для тех, кто подготавливает или, напротив, оспаривает юридические и коммерческие результаты исследования человеческого генома, генетика — это набор предрасположенностей и вероятностей, которые позволяют предвидеть будущее поведение на первый взгляд абсолютно психически здоровых людей. Генетическое тело — это разграфленное тело человечества, тело, расчерченное нормами и закономерностями, средоточие контроля и место, где происходит формирование личности. Как минимум в этих трех аспектах генетика изменила, или по крайней мере помогла изменить, наряду с другими факторами, наше отношение к телу — описанному цифрами и запрограммированному телу обобщенного человека, страдающему, но все же активному телу больного, разграфленному и нормированному телу целой популяции. Все эти тела должны получить генетическое выражение, чтобы стать видимыми и дать возможность понять, какие в них заложены движущие силы. Геном оказывается своего рода сценой, на которой разнообразные актеры, порой антагонистически настроенные по отношению друг к другу, играют то комедии, то трагедии под пристальным и озабоченным взором гуманистического хора.
Эта перспектива, однако, была поставлена под вопрос недавними открытиями в области генетики. Вместо того чтобы раскрыть то, что определяет человека в целом, расшифровка генома человека показала его близость к другим живым организмам: человеческие гены все чаще находят у мух и мышей. С другой стороны, ученые, разработавшие тесты, которые позволяют с высокой вероятностью зафиксировать наличие у человека наследственных заболеваний, теперь пытаются выявить источники всех видов болезней и возможных недугов. Наконец, популяционная генетика после дешифровки человеческого генома приобрела совершенно другой облик, нежели в 1950‑х годах, начав уделять больше внимания индивидуальным различиям. Область генетики представляет собой постоянно меняющееся пространство, где появляются новые актеры и где их роли все время меняются, это Living Theater[120].
Что же мы видим, когда рассматриваем двойную спираль молекулы ДНК, полученную в результате генетического теста или взятую из части карты нашего генома? Можно ли сказать, что это двойник нашего тела, благодаря которому мы можем понять, что мы на самом деле собой представляем, — как если бы мы взглянули на свою тень или увидели отражение в зеркале? Или же это призрак, который преследует нас; смесь рациональных и мистических представлений, естественно–научных репрезентаций и фантазмов, проистекающих из глубины времен? Вполне возможно, что в ходе странной игры двойников, в тот момент, когда мы смогли разглядеть гены благодаря научным изысканиям над глубинным составом клеток нашего тела, гены, в свою очередь, посмотрели на нас, проецируя на человека его собственный образ и обязывая тем самым взять на себя ответственность за существование своего тела.
I. От генетики к расшифровке человеческого генома
Открытие закона наследования фенотипических признаков живыми организмами было сделано Менделем в 1865 году, но в течение полувека полностью игнорировалось. Слово «генетический» было предложено Уильямом Бейтсоном только в 1903 году, а слово «ген» — в 1909‑м Вильгельмом Иогансеном. Оно обозначает в биологии то же, что атом обозначает в химии, — одну из мельчайших составляющих жизни, комбинации которых объясняют все биологические явления[121]. Первое выделение гена в лабораторных условиях было осуществлено в 1910 году Томасом Морганом. Использование рентгеновских лучей Германом Мюллером позволило осуществить первые генетические изменения и установить тесную связь между генами и белками. Когда Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик описали в 1953 году двойную спираль молекулы ДНК, стало понятно, каким образом ДНК может играть роль матрицы для своей собственной копии и реализовывать механизм наследования. Фундаментальные открытия в области устройства генетического кода были совершены в 1960‑х и 1970‑х годах; в 1959 году Франсуа Жакоб и Жак Моно открыли регуляторные гены, а в 1968‑м был открыт первый ген, не связанный с половым размножением. В конце 1970‑х годов обнаружили много способов манипулировать ДНК: стволовые клетки; энзимы, ограничивающие воспроизведение ДНК и поддерживающие ее в рабочем состоянии; транскрипция ДНК через РНК; использование бактерий и вирусных векторов для интродуцирования фрагментов ДНК в клетки. В 1980‑е годы молекулярные биологи наладили серийное производство ДНК: синтез и секвенирование ДНК, электрофорезный гель, использование искусственных хромосом (Yeast Artificial Chromosomes, YAC), полимеразная цепная реакция (Polymerase Chain Reaction, PCR). Техника, получившая название «нокаут» (knock–out), позволила наконец определить функции генов посредством замены нормальной копии аномальной in vitro.
Образ гена, который сформировался благодаря этим научным и технологическим открытиям, сильно отличается от стройной картины, нарисованной Менделем и его первыми последователями. Вместо «гена», чья суть становится все более и более размытой, биологи теперь обычно говорят о «геноме», под которым понимают молекулярный материал, содержащийся в парах хромосом какого–то организма и передающийся от поколения к поколению. Преимущество этого подхода в том, что он позволяет учитывать молекулярный материал, чьи функции еще не ясны. Человеческий геном состоит из трех миллиардов пар оснований, но биологи считают, что функции 98% генома пока не выявлены. Эта дополнительная ДНК (ее называют «мусорной ДНК») может сохраняться для будущего употребления, или играть структурную роль, или быть результатом случайностей в развитии, или быть просто избыточной. Геном, таким образом, не просто совокупность генов — это организованное единство генов, влияющее на действие своих отдельных частей. Гены — это те 2% ДНК, о которых мы понимаем, какие белки они кодируют. Длина гена варьируется от двух тысяч до двух миллионов пар оснований, и часто сложно понять, где ген начинается и заканчивается. Ген не представляет собой непрерывного пространственного единства: это последовательности кодирующих или регулирующих элементов (экзонов), разделенных бессмысленными фрагментами (интронами).
В эпоху эйфории от молекулярной биологии казалось, что ген даст доступ к невидимой структуре человеческого тела[122]. Однако сегодня понятие самой этой структуры представляется довольно размытым[123]. Чтобы ввести эту смутную идею в область экспериментальной науки, в 1989 году был запущен научно–технический проект беспрецедентного масштаба «Геном человека» (Human Genome Initiative). Биологи руководствовались следующим соображением: если функции каждого отдельного гена определяются с большим трудом, лучше описать весь человеческий геном, чтобы затем отслеживать экспрессию генов в рамках этой глобальной структуры. Эта идея родилась в Соединенных Штатах в середине 1980‑х годов, и после долгих дискуссий о необходимых затратах и осуществимости этого проекта, о его научной значимости и социальных рисках программа была принята Конгрессом США. На первый год были выделены сто миллионов долларов, разделенных между Национальным институтом здоровья и Департаментом энергетики. Было решено учредить несколько научных центров, которые занимались бы расшифровкой различных хромосом, следуя Принципам научной конкуренции. Частные предприятия — самым известным из них стало Celera Genomics — начали принимать участие в этих исследованиях в 1990‑е годы. Масштабный приток финансирования сочетался с богатством генетического материала, полученного при помощи новых технологий секвенирования. В 2001 году американское правительство, британский фонд Wellcome Trust и биотехническая компания Celera Genomics объявили о первой полной расшифровке человеческого генома.
Появление этой карты перевернуло научные представления о различиях между человеком и животными. Было обнаружено, что человеческий геном содержит столько же пар оснований, сколько геном мухи, и что у кукурузы и саламандры их в тридцать раз больше. Оказалось, что устройство «генетического кода» в ходе эволюции не менялось и что многие гены представлены у человека и у самых простых организмов практически в идентичном виде. Поскольку по этическим и научным соображениям простые организмы изучать гораздо проще, немалая часть наших знаний о человеческом геноме была получена в результате экспериментов над мухами (дрозофилой Т. Моргана, выбранной из–за того, что у нее очень быстрый репродуктивный цикл), червями (нематодой С. Elegans, использованной С. Бреннером для изучения принципов устройства нервной системы), дрожжами или мышами (гены последних более схожи с человеческими, чем гены любых других организмов). Ген гомеобокс, который, как сегодня считается, играет принципиальную роль в развитии эмбриона, изначально исследовался на примере мухи[124]. Внешний вид человеческого тела оказывается таким образом связан со структурой, мельчайшие модификации в которой производят на свет радикально различные тела — аналогичным генотипам соответствуют разные фенотипы. Больше нет ни чудовищ, ни законов: одинаковая структура объясняет норму и то, что кажется девиацией, открывая таким образом дорогу для анализа причин этих девиаций[125]. Стало возможным переносить ген сложного организма в более простой организм, чтобы изучать его функционирование или производить необходимый молекулярный материал[126]. Может быть, животные смогут дать ключ к избавлению от человеческих болезней.
II. Генетические заболевания и ассоциации больных
Расшифровка человеческого генома была предпринята отчасти ради того, чтобы выявить гены, ответственные за заболевания, про которые было известно, что они передаются по наследству, и которые считались неизлечимыми. Доказательство наследственного характера некоторых болезней привело к перевороту в медицинской мысли, поскольку оказалось, что источник «зла» может таиться в самом человеческом теле и что его возможно удалить. То, что раньше казалось роком, передающимся из поколение в поколение, оказалось потенциальной точкой приложения человеческих усилий. Это привело к мобилизации самых разных действующих лиц, заинтересованных в тех или иных болезнях: трагедия превратилась в драму, Пафос уступил место новому Логосу, выраженному в конкретных действиях.
Открытия в области молекулярной биологии позволили лучше понять, как передаются наследственные заболевания. Если в XIX веке считали (следуя идее первородного греха), что зловредная субстанция передается от тела к телу в процессе зачатия, то теперь генетика показывает, что наследственное заболевание — это результат случайной мутации части ДНК, которая происходит в процессе редупликации; мутации, которая затем неизбежно передается, если она доминантная, или, если она рецессивная, передается в том случае, если встречает аналогичную мутацию. Так, мусковисцидоз, самое распространенное моногенетическое заболевание в Европе, является результатом мутации гена, который из–за нее производит слишком густую слизь, блокирующую дыхательные каналы и каналы поджелудочной железы[127]. Исследование гена, ответственного за то или иное заболевание, обычно заключается в том, чтобы установить связь между этим геном и другими известными генами при помощи технологии сцепления, чтобы уточнить его положение в геноме и, если это возможно, локализовать его при помощи экспериментов.
Диагностика наследственного заболевания предполагает новое отношение к телу, поскольку пациент может быть носителем заболевания, которое еще не проявилось. Самый драматический случай — это болезнь Хантингтона, которая обычно проявляется после сорока лет и заключается в нарушениях в работе двигательной системы, эпилептических припадках, депрессии, деменции, а через несколько лет — смерти. Это наследственное заболевание является доминантным, поскольку для него хватает мутации в одной из двух копий гена. Мутировавшая копия начинает производить белок, разрушающий нервную систему. Следовательно, она передается по наследству с вероятностью 50%. Эту болезнь можно диагностировать с большой точностью у исследуемого взрослого и здорового человека: в результате исследования он узнает, что страдает от заболевания, которое неизбежно проявится двадцать лет спустя. Генетический тест оказывается своего рода черным или белым камнем: он отвечает «да» или «нет» на вопрос о человеческой идентичности, раскрывая наличие или отсутствие болезни. Когда тридцатипятилетняя женщина, чьи мать и тетя умерли от болезни Хантингтона, узнала, что у нее этого заболевания нет, она сказала: «Болезнь — это почти что мой двойник. С моим результатом я перехожу от переживания болезни к ее отсутствию. Но кто я после этого?»[128] Жизнь с болезнью приобретает иной смысл, когда она проецируется на геном: выявление болезни и определение судьбы целой семьи создает двойника человеческого тела, который в результате генетического теста проявляет свою истинную или призрачную природу.
Генетическая диагностика устанавливает тесную связь между врачом и больным, поскольку последний может посвятить достаточно много времени участию в исследованиях, которые, возможно, помогут исцелить его недуг. Тело больного становится той точкой, куда проецируются будущие болезни и где действует современная наука; больной оказывается с обеих сторон микроскопа: и как объект, и как субъект. Так, в США Нэнси Уэкслер и ее отец Милтон Уэкслер сыграли важную роль в запуске и поддержании генетических исследований болезни Хантингтона, которые привели к открытию связанного с ней гена в 1993 году, после того как они узнали, что жена Милтона и мать Нэнси поражена этим недугом[129]. Сталкиваясь с неизбежностью запрограммированного заболевания, ассоциации больных людей мотивируют ученых идти вперед, напоминая им о необходимости срочно обнаружить способ исцеления в сформированной и как будто бы неизменной структуре генома. Так, ученые, исследовавшие болезнь Хантингтона, сочетали наблюдение над ходом болезни с лабораторными исследованиями соответствующего гена, и эти исследования позволили внести вклад в другие области генетики, непосредственно не связанные с этим недугом.
Выявление наследственных заболеваний стало мощным стимулом для исследований генома — примером тому является сотрудничество Центра исследования человеческого полиморфизма (ЦИЧП) и Французской ассоциации по борьбе с миопатиями (ФАБМ). ЦИЧП был основан в 1984 году Жаном Доссе, профессором Коллеж де Франс и лауреатом Нобелевской премии по медицине, которую он получил за исследование роли человеческого лейкоцитарного антигена в иммунитете, чтобы создать полную расшифровку человеческого генома на материале мормонских семей Юты и людей, страдающих от болезни Хантингтона[130]. У Доссе были данные о сорока семьях, подробную генеалогию которых он смог изучить, — это была своего рода естественная лаборатория. Важный поворот произошел, когда в его лабораторию пришел Бернар Барато, основатель ФАБМ. После того как его сын умер от миопатии Дюшена, также известной как мускулаторная дистрофия, Барато начал бороться с заносчивостью и недальновидностью врачей, с которыми ему довелось столкнуться, и с неугасимой энергией поддерживать новые генетические исследования. Его рассказ о том моменте, когда он узнал, что болезнь его сына была наследственной, производит сильнейшее впечатление: «Это поразительное, совершенно неожиданное известие мне было объявлено в чрезвычайно грубой форме. „Всем членам ФАБМ собраться в амфитеатре через три минуты“. В амфитеатре был молодой двадцатишестилетний американец по имени Энтони Монако. Неожиданно полная тишина стала волшебной. Всем вне зависимости от того, понимали они английский или нет, было очевидно, что на стене, на синеватых слайдах американец представляет результат открытия: хромосома X, мускулаторная дистрофия Дюшена, ген находится в участке ХР21. Ген. Причина болезни Алена оказалась передо мной. В первый раз эта тварь обрела видимую форму»[131]. Так генетические исследования визуализируют недуги, скрывающиеся в глубинах тела, но при этом не заставляют нас трагически взирать на них, а подталкивают нас к поиску средства вмешаться в работу тела.
ФАБМ сыграла важнейшую роль в освоении широкой общественностью результатов генетических исследований; этому помогала организация под названием Téléthon[132]. По модели, созданной Джерри Льюисом в Соединенных Штатах, Барато запустил необыкновенно масштабное движение солидарности с людьми, страдающими от так называемых «орфанных» заболеваний, которые носят такое имя, поскольку затрагивают только очень небольшую часть населения[133][134]. Показ по телевидению тел, страдающих от болезней и составляющих контраст с энергичными телами людей, которые объединяются, чтобы помочь им, был невероятным эпизодом в истории медиасочувствия[135]. У этого движения были и прямые научные плоды, такие как создание Généthon, центра продвинутых исследований, учрежденного рядом с лабораториями ЦИЧП в «Генополе» в Эври. Généthon был представлен одним из его основателей, Даниэлем Коэном, как «большая фабрика для поиска генов, связанных с наследственными заболеваниями, которая будет работать на благо всего научного сообщества»[136]. На 70% центр финансировался АБМ. Там были заняты около сотни исследователей, а также дети и молодые люди, страдающие от миопатии: они отвечали на звонки или работали в кафетерии. Généthon был техническим аналогом медийной деятельности Téléthon: с одной стороны, там были страдающие тела, с другой — сверхсовременные машины для секвенирования ДНК. Могучая энергия Барато произвела на свет сложный гибрид тела и техники, призванный преодолеть бессилие врачей. Это было не техническое тело, а новое объединение тела и техники, созданное ради исцеления. Барато написал: «Я не выбирал свое поле деятельности. Оно было мне навязано случаем, одной из весьма многочисленных ошибок природы. Все нас покинули, и у нас не было другого выхода, кроме как броситься в атаку самим. Благодаря этому мы создали Téléthon. Но наше желание справиться с проблемой миопатии было бы совершенно бесполезно, если бы генетика не сделала шаг вперед. Благодаря этому мы создали лабораторию Généthon»[137]. В 1993 году ЦИЧП выпустил первую физическую карту человеческого генома, опередив американский проект «Геном человека».
Барато и АБМ хотели использовать средства Téléthon для поиска способов лечения генетических заболеваний, но эта цель не была по–настоящему достигнута. Если картографирование генома происходит постепенно, путем аккумулирования данных, то в области генетической терапии все гораздо сложнее. В 2000 году Ален Фишер, сотрудник госпиталя Некер, проводя исследования, отчасти поддержанные АБМ, смог поместить в клетку кодирующий ген, помогающий справиться с проблемой врожденной нехватки иммунитета, которая возникает из–за мутировавшего гена. Эта методика помогла спасти детей от неминуемой смерти, но привела к появлению у них лейкемии. Поскольку интродуцирование нового гена привело к нежелательным результатам, оказалось необходимо переосмыслить всю систему отношений между геном и организмом и отказаться от модели, где ген отвечает за что–то одно.
Если генетическая терапия еще не может быть использована на людях, она успешно применялась к более простым организмам. Генетическая терапия второго поколения базируется на том, что на ген оказывается воздействие еще на этапе воспроизводства, путем прямого проникновения в клеточное ядро. В 2002 году Рудольф Джениш, работавший в Кембридже, штат Массачусетс, сумел излечить мышь от иммунодефицита благодаря сочетанию трех методик: выращивания стволовых клеток, гомологической рекомбинации генов и создания клонов путем помещения ядра в овоцит[138]. Эта техника не применялась к людям: создание клонов в терапевтических целях все еще запрещено в большинстве стран вследствие бурной реакции на клонирование овцы Долли в 1997 году Иэном Уилмутом[139]. Пугающая мысль о двух одинаковых телах (в большой степени неверная, поскольку в овоцит перемещается только ядро, тогда как генетическая информация содержится также в митохондриях) отодвинула в тень, возможно, еще слишком фантастический, но в то же время и более позитивный образ тела, исцеленного благодаря генетической терапии.
Если оставить в стороне эти образы, необходимо отметить, что прорыв АБМ в создании первой карты человеческого генома является важной вехой: локализация генетических заболеваний стала импульсом для картографирования всего генома. Таким образом, патология стала путем к обретению нормальности: мобилизация людей, знающих, что их тела поражены, помогла развитию знания о генетической структуре человеческого тела. Подобно тому как это произошло с другими «большими» болезнями XXI века, СПИДом и раком, благодаря специфической форме биосоциальности, объединяющей людей с особой биологической идентичностью, медицинское знание стало общественной проблемой[140]. Проблематизация генетического тела возникла в рамках движения, где участники начинали заново искать способы справиться со своей болезнью. Историческая реальность этой биосоциальности, новое объединение тела и генетических технологий ради обретения «лучшей жизни», может быть противопоставлена идеологическому дискурсу социобиологии, согласно которому человеческое тело — это всего лишь способ, которым гены пользуются для оптимального воспроизводства[141]. По сути, социобиология воскрешает схему, предложенную евгеникой в XIX веке, согласно которой генетика — эта метафора политического тела, ставшая ясным выражением рационального мироустройства. Новые знания, полученные генетикой в XX веке, противоречат этому идеалу, поскольку высвечивают особые фрагменты генома, которые могут стать основанием для идентичности особых групп. Если призрак евгеники и может вернуться, то только благодаря другому образу генетического тела — генетического тела всей популяции.
III. Популяционная генетика и управление рисками
Заболевания, ставшие стимулом для исследователей в первое десятилетие секвенирования генома, были моногенетическими. После секвенирования в центре внимания оказались скорее полигенетические заболевания, то есть те, в которых задействовано несколько генов. Если моногенетическое заболевание может быть доказано при помощи тестов, то полигенетические недуги диагностируются только с некоторой долей вероятности, за счет статистических корреляций между несколькими генами. В этой перспективе любое заболевание может потенциально иметь генетическую причину: установление наследственного характера болезни побуждает ученых локализовать соответствующий ген, но роль этого гена не становится сразу очевидной. Подобная ситуация наблюдается с болезнью Альцгеймера, сердечно–сосудистыми заболеваниями и некоторыми типами рака. Знание соответствующих генов позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям и изменить свое поведение в соответствии со знанием об этой предрасположенности: изменить пищевые привычки, если выявлена предрасположенность к сердечно–сосудистым заболеваниям, перестать курить, если выявлена предрасположенность к раку легких, сделать аборт, если велика вероятность развития серьезного заболевания у плода. Можно даже представить себе — и некоторые ученые активно работают над тем, чтобы претворить эту идею в реальность, — что станет возможным открывать предрасположенность к особо сильным мышцам или музыкальному слуху, что будет подталкивать людей «развивать свой дар». Теперь область генетических исследований включает не только заболевания, но и стимулирование: генетика создает не только тело, освобожденное от болезней, но также более сильное, более красивое и более умное.
Тело, которое формируется таким образом, — больше не тело индивидуальной личности, которая борется с диагностированной болезнью. Это коллективное тело, расчерченное общественными нормами и статистическими закономерностями — тело популяции. По сути, мы присутствуем при сращении молекулярной генетики — последним и самым ярким достижением которой является полная расшифровка генома — и популяционной генетики, дисциплины, возникшей в 1930‑е годы в рамках неодарвинизма без всякой оглядки на молекулярную модель. Работы Ф. Добржанского о дрозофиле, схожие с работами Моргана и опубликованные под заголовком «Генетика природных популяций» (1938–1976), показывают многообразие форм одного и того же гена (его «аллелей»), зависящее от экологических условий. Эти работы ставят под сомнение тезис о роли естественного отбора в появлении отдельных генов и подчеркивают роль случайности в формировании индивидуального генома, объясняя таким образом появление большого количества «молчаливых» генетических мутаций, чьи функции невозможно четко определить. Популяционная генетика показывает, что болезнь зависит от экологических условий, в которых она проявляется. Самый известный пример — дрепаноцитоз, также называемый сиклемией (от англ. sickle cell) или серповидноклеточной анемией. Она заключается в недостаточном количестве красных кровяных телец и их серповидной форме и вызывается мутацией гена, который кодирует гемоглобин. Унаследованная от обоих родителей, сиклемия часто становится фатальной, но если она унаследована только от одного родителя, она защищает носителя от малярии. В 1958 году Ф. Б. Ливингстон оттолкнулся от этого факта, чтобы доказать связь между геном дрепаноцитоза, заболеваемостью от малярии и появлением сельского хозяйства в Западной Африке: генетическая резистентность к малярии была связана с появлением богатых москитами болот, вызванным распахиванием целины. Таким образом, генетическое заболевание могло появиться как защитная реакция на определенные экологические условия и может служить указанием на предыдущие миграции населения.
У популяционной генетики весьма сложный объект исследования, и при этом она активно привлекает математические методы: популяционные исследования позволяют свести многообразие человеческих фенотипов к небольшому количеству генетических структур, которые может анализировать компьютер. В этой перспективе есть риск счесть генетические мутации ошибкой, отклонением от нормы, что противоречит идее разнообразия, послужившей отправной точкой для исследований. Тело популяции — это мобильное тело, которое наука должна при помощи измерений свести к небольшому количеству переменных. Таким образом в биологическое разнообразие тел вмешивается общественный контроль. Это видение общества было реализовано в фильме «Добро пожаловать в Гаттаку», где обыгрывается сюжет романа Хаксли «О дивный новый мир», перенесенный в генетический контекст. Герой фильма, приговоренный из–за своей генетики к низкому положению в иерархии распределения труда, находит способ при помощи своей внешности обманывать генетические тесты, дающие допуск к местам работы «высших людей». Общественный контроль, который отправляет слабых людей на нижние этажи иерархии, обязывает к постоянному контролю за самим собой, что дает герою возможность достигнуть своей цели. Пессимистическое видение общества, базирующегося на евгенике, таким образом компенсируется оптимистическим взглядом на роль личности.
Такой контроль за популяциями, в художественных произведениях нередко описанный как совсем фантастический, начинает играть важную роль в развитии западных обществ. Робер Кастель назвал это «управлением рисками»[142]. Этот метод заменяет прямой подход к болезням в рамках отношений «врач — больной» (для которых психоанализ нашел пример среди ментальных заболеваний) глобальным подходом в категориях популяционного управления и контроля за субъектами, который вызывает к жизни пластичных, готовых к адаптации индивидов. Непосредственное лечение заболевания заменяется изучением глобального контекста, статистической оценкой рисков заболеть. Этот риск представляет собой не непосредственную опасность, которую можно выявить путем постоянного наблюдения за телом, но скорее вероятность, оцениваемую за счет ненормальных и девиантных признаков. Тела людей становятся всего лишь носителями этих статистических тенденций, которые выходят за их пределы и которым они должны соответствовать путем адаптированного поведения. Они возникают на пересечении локусов опасности, выявляемых при помощи компьютера статистических корреляций и биологических моделей.
Кастель называет подобный объективный подход к заболеваниям, который вытесняет их субъективную сторону, «технократическим управлением различиями». Так, исследования гена шизофрении, начавшиеся в 1970‑е годы, поставили под сомнение психоаналитическую теорию этого психического заболевания, распределив симптомы, считавшиеся релевантными для шизофрении, по генетическими факторам. Вместо того чтобы открыть «ген шизофрении», последние исследования показывают локализованные предрасположенности к симптомам, которые прежде объединялись вместе под ярлыком «шизофрении». Были установлены связи с нейротрансмиттерами, которые им соответствуют, белками, которые являются их причиной, и генами, которые кодируют эти белки. Таким образом, генетика осуществляет перенастройку связей между видимым и невидимым: то, что прежде считалось очевидной болезнью и связывалось с набором субъективных идентификаторов, теперь должно восприниматься как отражение невидимой структуры генома, которая таким образом создает новые способы самоидентификации.
Это «управление рисками» создало почву для разговора о создании превентивной медицины, роль которой не в том, чтобы лечить, а в том, чтобы предотвращать наступление заболеваний. Врачи будут оценивать степень угрозы для пациента, учитывая его предрасположенности. Способности к субъективной адаптации и к планированию своих действий во время болезни теперь зависят от сложных социальных компетенций[143]. Проводились дебаты о последствиях, которые вызывает доступ к таким знаниям со стороны страховых и рекрутинговых агентств, даже если потенциальная опасность, грозящая человеку, еще не реализовалась. В любом случае очевидно, что знания о генетике распределены в обществе неравномерно в зависимости от класса, пола или возраста и что это неравенство провоцирует и будет провоцировать случаи социального насилия.
Сходные дебаты начались на международном уровне после анонсирования «Проекта генетического разнообразия человечества», который был запущен биологами и антропологами в 1991 году и целью которого было изучение генов от 10 до 100 тысяч человек, отобранных из самых разнообразных человеческих популяций на планете. Идеологи проекта надеялись внести вклад одновременно в исследования происхождения человека и в понимание генетических причин наследственных заболеваний и их проявлений в разных регионах. Если считать, что целью проекта была борьба с расизмом, с которым генетика изначально была связана, то все равно некоторые его заключения вызывают вопросы: с одной стороны, выявление генетических причин заболеваний не является приоритетом для многих популяций, которым для начала надо справиться с более опасными и хорошо известными недугами, с другой стороны, использование генетического материала этих популяций представляет собой апроприацию индигенных тел Западом, в первую очередь за счет системы патентов, и воспроизводит империалистические паттерны колониальной антропологии, которые основывались на той идее, что надо изучать и поддерживать «чистые» этнические образцы, пока они не исчезли[144].
Такого рода дебаты вызвали новую проблематизацию политического тела. В Исландии, стране с населением в 300 тысяч человек, самом однородном в этническом плане государстве в мире, где сохранились максимально подробные генеалогические сведения, в 1998 году парламент одобрил запрос биотехнологической компании Decode Genetics на получение эксклюзивных прав на генеалогические данные на двенадцатилетний срок, чтобы использовать их для участия в картографировании человеческого генома с использованием результатов международных исследований[145]. Демократическая традиция Исландии предложила новый ответ на вопрос, который ставит популяционная генетика: как генетическая объективация тела может быть субъективно апроприирована теми, кого она затрагивает? К тому времени этот вопрос уже стал предметом юридического обсуждения и этических дебатов в следующей формулировке: кто обладает правом на генетическую информацию о человеческом теле?
IV. Юридические и этические дебаты, связанные с собственностью на геном
Дебаты вокруг проекта «Геном человека» схожи с теми, что велись из–за других аспектов прав собственности на человеческое тело: клонирования человека, суррогатного материнства, пересадки органов, абортов…[146] В случае с геномом это дебаты еще более ожесточенные, поскольку необходимо уточнить, распространяется ли право собственности на человеческое тело и на мельчайшие части организма, такие как генетический материал. Эта проблема встала в полный рост, после того как биотехнологические компании стали подавать патентные заявки на фрагменты секвенированного генома. Патенты были созданы в конце XVIII века, чтобы защитить механические изобретения, но начиная со времени Пастера и расцвета микробиологии они стали прилагаться к живым организмам. В 1970‑е и 1980‑е годы выдавались патенты на технологии молекулярной биологии, такие как полимеразная цепная реакция или использование флуоресцентных маркеров для секвенирования ДНК. Затем они начали применяться к организмам, полученным благодаря использованию этих технологий, например к генномодифицированным мышам, запатентованным в 1988 и 1992 годах[147]. Таким образом, когда тело становится частью технического и коммерческого процесса, оно выходит из собственности личности — и начинает присутствовать в сфере экономики и права.
Парадигматический случай для такого рода юридических дебатов — это решение, вынесенное Верховным судом Соединенных Штатов Америки в 1990 году по делу Джона Мура против Университета Калифорнии. Джон Мур обвинял Университет Калифорнии в том, что в 1984 году тот запатентовал бессмертные клетки, полученные на основе клеточного материала, который был извлечен из его тела в ходе лечения от рака. Верховный суд постановил, что у Джона Мура не было права собственности на запатентованные клетки, но счел, что он имеет право на компенсацию ущерба, возникшего из–за нарушения отношений между врачом и пациентом. Верховный суд следовал в этом прецеденту, установленному им же во время слушания дела Чакрабарти в 1980 году: генетическое изменение клетки создает существо, которое, возможно, и не улучшает природу, но если оно полезное и новое, то оно целиком и полностью принадлежит тому, кто его изобрел. Это решение, если посмотреть на него в контексте эпохи Рейгана, обозначило вступление биотехнологий на путь коммерциализации, и в результате осознанное согласие стало единственным юридическим условием для проведения процедур, связанных с телом: собственность на тело теперь управлялась системой, основанной на честном распределении прибыли. Консервативные судьи использовали противоречивые аргументы, пытаясь одновременно защитить научные исследования, в том числе их возможное коммерческое применение, и сохранить достоинство человеческого тела, считающегося неприкосновенным и священным. Один из судей сделал следующее заявление: «Истец попросил у нас признать и сделать законом правило, разрешающее право на продажу клеточного материала с целью получения прибыли. Он просит нас рассматривать человеческое тело — наиболее почитаемый и защищаемый объект в любом цивилизованном обществе — эквивалентом самого примитивного товара. Он призывает нас смешать священное и профанное». В то время как коммерциализация тела участвует в его фрагментации для возможности частичного обмена между телами, традиционная картина мира определяет тело как нечто неделимое, как что–то, что возникает, подобно фениксу, из этих фрагментов. Поразительно в этом аспекте, что клетки, извлеченные из тела Джона Мура, стали бессмертными, так что целый человеческий организм может быть воссоздан на основе его ДНК[148]. Противоречие между этими двумя подходами к телу в рамках одного судебного постановления — это признак того, что проблема была плохо сформулирована.
Во Франции передача частей тела долго считалась чем–то естественным. Декрет от 7 июля 1949 года разрешил донорство органов, в том конкретном случае глаз. Большой полемики это не породило. Закон от 21 июля 1952 года разрешил донорство крови как бесплатный и не направленный на получение выгоды акт солидарности. Закон от 22 декабря 1976 года разрешил извлечение органов из трупов за исключением тех случаев, когда человек прямо запретил это до своей смерти. Однако развитие биотехнологической индустрии, отчасти поддерживаемое государством в рамках Генеральной делегации по научным исследованиям и технике, стало вызывать все большее беспокойство. Это беспокойство выразилось в создании Национального консультационного комитета по этике в науках о жизни и здоровье, который был учрежден Франсуа Миттераном в 1983 году. Роль Комитета — формулировать этические основания для научного изучения живых организмов. По мнению Жан–Пьера Бо, который исследовал истоки юридической доктрины Комитета, она «заключается в простоте исходной посылки и в амбициозности миссии: тело — это человек, и один из современных аспектов вечной цивилизаторской миссии Франции заключается в том, чтобы этот тезис восторжествовал над меркантилизмом индустриального общества»[149]. Доминик Мемми, изучавший научные, политические и религиозные сообщества, представленные в Комитете, заметил: «Понятые как искусственное и насильственное вторжение (так как они совершаются людьми), генетические и даже просто медицинские исследования парадоксальным образом воспринимаются как более существенные угрозы, чем опасные проявления природы (например, новообразования или болезни), влияющие на человеческое тело»[150].
Третье решение было предложено на международном уровне: геном человека можно сделать общим наследием человечества, предоставив его расшифровку в общее пользование[151]. В 1995 году Организация «Геном человека» выпустила пресс–релиз, где предлагала исключить из области действия патентов уже полученные секвенированные фрагменты человеческого генома и координировать дальнейшие исследования в этой области. В рамках этой программы действий Международный комитет по биоэтике ЮНЕСКО составил Универсальную декларацию о человеческом геноме и правах человека, которую мы уже обсуждали и которую мы теперь лучше понимаем — в контексте генетически модифицированных тел и патентной политики, которая управляет их созданием. Суть идеи общего достояния заключается в том, чтобы размыть грань между вещами и людьми: общее достояние обозначает вещь, передача которой является частью личности. Идея всечеловеческого наследия, уже сформулированная в рамках международного морского, космического и культурного права, выходит за рамки индивидуального или семейного наследия — определенного в частном праве, — чтобы служить общим интересам человечества[152]. Однако даже если теоретически будет выбран такой путь, остается нерешенным вопрос о том, кто будет реальным владельцем и распорядителем этого наследия: будет ли это какое–то государство или международная организация?
Независимо от того, делаем ли мы акцент на подтверждении автономии личности или человеческом достоинстве, или даже на признании важности общечеловеческого достояния, эти юридические и этические концепции не решают проблемы связи между телами и их общей частью, которая может быть от них отделена, — геномом. Возможно, эту проблему стоит поставить по–другому, в историческом и антропологическом плане, попытавшись понять, как тело по–новому проявляет себя в социуме в контексте нашего знания о геноме, а не пытаться очертить границы неприкосновенной личности. Такого рода исследование может вернуть нас к определению личности, предложенному Моссом[153], — идее личности как маски, которую общество надевает само на себя и очертания которой зависят от совокупности репрезентаций, которые оно совмещает. Геном может стать сценой, на которой тела становятся видны как маски, которые превращают их в личности. Скорее всего, однако, стоит отказаться от попыток решить вопрос, является ли геном вещью или личностью. Возможно, стоит поставить вопрос так: можно ли сказать, что геном, личность он или не личность, — это некая анонимная структура, на основании которой настоящие личности могут себя конструировать? Готовы ли мы начать так к себе относиться? Если сегодня ответ окажется отрицательным, останется дождаться того, что действующие лица на генетической сцене предложат какие–то новые способы относиться к себе. Мизансцена еще не прописана — осталось сыграть еще несколько актов.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЖЕЛАНИЕ И НОРМЫ
ГЛАВА I Тело как сексуальный объект
Анн–Мари Зон
Никогда еще тело как сексуальный объект не было предметом столь пристального внимания, как в XX веке. Выставляемое всеми напоказ, присутствующее повсюду в визуальном пространстве, оно играет все более важную роль и в научных источниках, и в средствах массовой информации. Оно даже приобретает статус медицинского и коммерческого предмета. Так, центральное положение тела как сексуального объекта в последней четверти XX века даже приводит к тому, что забывается вся подпольная история освобождения полового желания, длившаяся вплоть до 1968 года, когда сексуальные практики и сексуальность впервые стали обсуждать публично, в результате чего личная жизнь вторглась в политическую сферу. Однако потребовалось еще много времени, чтобы было отвоевано всеобщее право на удовольствие, равно как и его неизбежное следствие — отказ от сексуальных действий по принуждению. Отныне повседневная жизнь тела как сексуального объекта, с одной стороны, протекает под девизом свободы, а с другой — подчиняется требованиям открытого предоставления информации об этой области жизни.
I. Показывать тело
В настоящее время обнаженное тело составляет часть нашей повседневной жизни. Это произошло благодаря постепенной утрате стыдливости, долгое время представлявшейся как добродетель, к которой приучали с детских лет (особенно девушек–подростков). Но упразднение целомудрия является также следствием возросшей потребности в обольщении, возникшей благодаря появлению брака по любви. В самом деле, поскольку мужчины и женщины теперь должны сами искать себе партнера, которого раньше помогали найти семья или знакомые, смысл поисков стал сводиться к тому, чтобы выбрать спутника жизни наиболее привлекательного в плане личных качеств, к которым, в первую очередь, относится внешний вид.
1. Исчезновение понятия частной стыдливости
Избавление от стыдливости, связанной с выставлением своего тела напоказ, начавшееся в «прекрасную эпоху» и набравшее обороты в период между двумя войнами, пошло полным ходом в период «славного тридцатилетия». Для этого людям потребовалось выйти за рамки сложившихся вековых традиций: запрета женщинам показывать свои икры и даже щиколотки, запрета мужчинам, в том числе и маленьким мальчикам, на мочеиспускание в общественных местах, сокрытия тела роженицы во время родовых схваток и изгнания плода, отказа раздеваться даже с целью умыться, чтобы никоим образом не вызвать греховных, с точки зрения религиозной морали, мыслей. Вспомним также о том, что в конце XIX века любовью занимались «полностью обнаженными, в одной сорочке» и что в алькове не было освещения. Эти запреты отсылали к христианской концепции сексуальности, которая была ограничена брачным союзом и предназначалась только для продолжение рода, похоть же была ее отрицательным и греховным проявлением.
Тем не менее, испытывая параллельное влияние моды и курортного туризма, тело постепенно разоблачается. Этапы этого пути можно проследить на примере одной только эволюции купальника. Во времена Второй империи мужчины и женщины следовали к песчаному берегу по отдельности, в пеньюарах, и окунались в холодную воду для бодрящего купания в костюмах, обволакивающих тело со всех сторон, с длинными панталонами и рукавами, а поверх — юбкой, скрывающей женские округлости и позволяющей сделать пребывание на пляже благопристойным. В 1900 году пришла мода на спортивное удобство и трикотаж, поначалу темных цветов, чтобы не подчеркивать формы, потом светлый в полоску — обязательные синие или красные полоски тоже были призваны скрывать тело. Но вместе с тем купальник становился более открытым: обнажаются голени, а затем и колени, на груди появляется вырез, рукава становятся короткими. После I Мировой войны у мужчин одерживают победу плавки, а у женщин — слитный купальник. На Лазурном берегу прорыв был еще более впечатляющим — там появились раздельные купальники и короткие плавки. Превратившись в 1930 году в место для отдыха и «фар ньенте»[154], пляж теперь приглашает выставить свое обнаженное тело напоказ и представить на всеобщее обозрение великолепный загар, который отныне стал символом успешно проведенного отпуска[155].
Между тем женщины безо всякого злого умысла укоротили свои платья и открыли голени. Кроме того, они поменяли корсет на бюстгальтер. Благодаря этому предмету туалета, предназначенному для естественной поддержки, за которую модельер Поль Пуаре ратовал задолго до 1914 года, набор женского белья сократился до минимума. Конечно, самые пожилые и чопорные дамы были возмущены подобным порядком дел и отказывались принимать новую моду, которую они объявляли ими аморальной и противной женской скромности. Но все эти сражения происходили в арьергарде. Начиная с 1930‑х годов велосипедистки осваивают юбку–брюки, походницы — длинные шорты, а обольстительницы — короткие. Публичное обнажение женского тела мгновенно повлияло на личную жизнь. Этот невинный спектакль, молчаливо принятый общественным мнением, вернул телу сексуальное измерение. С тех пор нагота естественным образом стала культивироваться в интимных отношениях. Целомудренные жены испытывают неприязнь к чересчур изощренным любовным утехам, с одной стороны, по причине остатков скромности, с другой — из–за боязни оказаться недостаточно пластичными. И в тот момент, когда мужчины и женщины теряют возможность скрывать недостатки своего тела, каноны внешней привлекательности начинают претерпевать сильные и даже жестокие изменения. Начиная с «прекрасной эпохи» преобладает идеал худых и стройных мужчин и женщин. Летом стало принято выставлять напоказ свое поджарое тело. Упразднение стыдливости привело к тому, что возникли новые виды работы над телом — упражнения для развития мускулатуры и диетология, которая тогда только начала зарождаться. Однако всеобщее беспокойство режимом питания началось лишь в 1960‑е годы, учитывая, что, по оценкам Люка Болтански, три четверти состоятельных французов, а также 40% рабочих страдали от избыточного веса[156]. Худощавые молодые люди тоже недовольны своей комплекцией и все свои упования возлагают на усиленную тренировку мышц, в то время как девушек со скромными формами обольщают заманчивые обещания об увеличении груди с помощью крема «Уфири».
Зародившаяся в 1930 году эстетическая хирургия постепенно утверждает свои позиции среди женской публики в период «славного тридцатилетия», но только в конце XX века к ней начинают прибегать мужчины, главным образом для того, чтобы исправлять такой эстетический недостаток, как облысение.
Наряду с этим вторая половина XX века остается эпохой всевозможных дерзких акций. В 1946 году, шесть дней спустя после взрыва атомной бомбы, на коралловом острове Бикини Луи Реар представил миниатюрный комплект–двойку, который помещался в спичечный коробок, — «бикини». Этот вид одежды был сочтен настолько скандальным, что в бассейне Делиньи его демонстрировала одна из танцовщиц парижского казино — манекенщицы не были к этому готовы. Меньше чем двадцать лет спустя, в 1964 году, купальщицы пляжа Пампелон в Сен–Тропе «сняли верх». В результате разразился скандал, но их пример оказался заразительным и воспроизводился во имя телесной свободы и борьбы с «мерзкими белыми полосками» от купальника, которые портят загар. Смешение «текстиля» и «обнаженной груди» поставило не только проблему взаимодействия в обществе людей различных возрастов и полов, но и сосуществования двух разных норм стыдливости. Благодаря этой ситуации сформировались новые правила поведения в обществе: выбор пляжа, где принято себя показать, сдержанные жесты и грациозные позы у женщин, скромные взгляды со стороны мужчин, которые не хотят быть принятыми за вуайеристов[157]. И правда, что может быть более естественным и непосредственным, чем обнажение груди на пляже? Появление бразильского купальника сломило последнее сопротивление. Теперь на пляже можно увидеть все что угодно, за исключением полной наготы, для которой в период между двумя войнами были отведены специальные уединенные места. Таким образом, с этого времени процветают различные виды представления обнаженного тела, все более и более смелые.
2. Упразднение правил общественного приличия
Официально стыдливость подчиняется жестким правилам вплоть до 1950‑х годов. На ее страже стоит закон, и поэтому самоцензура процветает. Ею, однако, никого не обмануть не удается, поскольку многие прибегают к закодированному, но для всех понятному языку.
Раньше всех других сфер от стыдливости избавилась реклама. Начиная с 1900‑х годов она не боится показать совершающих свой туалет женщин в соблазнительных корсетах. Эти изображения внесли свой вклад в десакрализацию женского тела. Образовавшуюся таким образом нишу заполнили почтовые открытки, одно из основных направлений массовой культуры вплоть до 1940 года. Сначала они прибегают к манере шаловливого намека, обыгрывая риторику крепости, захваченной доблестным солдатом, которого рисуют либо «до» — сдержанно влюбленным, либо «после» — томным, лежащим на смятой постели. В военное время подобные намеки стали использоваться в кино, существенным образом влияющем на выработку стандартов любовных отношений и поведения. А начиная с 1930‑х годов сексуальность появляется не только в виде аллюзии, но и инсценируется, о чем свидетельствуют фильмы и афиши того времени: обольстительницы в комбинациях и подвязках, млеющие любовницы, раскинувшиеся на кровати, страстные поцелуи, красноречиво говорящие о желании и удовольствии.
В 1956 году лицемерие выходит из моды. Фильм «И Бог создал женщину» Роже Вадима стал переломным, и вовсе не потому, что в нем изображены любовные увлечения молодой свободной женщины — в 1953 году Бергман уже делал подобное в картине «Лето с Моникой», не вызвав полемики, — а в связи с тем, что его героиня, сыгранная Брижит Бардо, предстает обнаженной (хотя на самом деле ее тело облачено в облегающее трико телесного цвета). Что касается сцены принятия ванны после адюльтера, показанной Луи Малем в фильме «Любовники» 1958 года, то она вызвала дискуссии из–за поднятой в ней темы физической любви. Начиная с 1960‑х годов право на сексуальность все более утверждается на экране: примеры — фильмы «Коллекционерша» (1967) Эрика Ромера, где показаны параллельные любовные связи обычной молодой девушки, и «Семейный очаг» (1970) Франсуа Трюффо, в котором измена перестает быть поводом для драмы. Потом наступает время, когда в любовных сценах начинают показывать переплетение тел, что все больше подтачивает нормы приличия; оральный секс, которым в фильме Беллоккьо «Дьявол во плоти» (1986) занимается Марушка Детмерс; случайные гомосексуальные связи, без обиняков изображенные Стивеном Фрирзом в фильме «Навострите ваши уши» в 1987 году.
Различие между эротическими фильмами и фильмами «категории X», таким образом, нивелируется. Последующий успешный прорыв порнографии в киноиндустрию говорит о более широком процессе коммерциализации тела, превратившегося в сексуальный объект[158].
3. Порнография и коммерциализация тела
В первой половине XX века главным носителем порнографии остается роман, который по–прежнему ограничен к распространению и скрыт в «преисподней» Национальной библиотеки, однако уже начинают появляться песни, памфлеты и парамедицинская литература на эту тему[159]. Цензоры того времени ревниво блюдут чистоту нравов. Роман «Холостячка», где последовательно описаны любовные приключения молодой эмансипированной женщины, в том числе и гомосексуальные (впрочем, без ухода в интимные подробности), стоил его автору, Виктору Маргериту, Ордена почетного легиона, которого его лишили в 1922 году. Некоторые известные авторы, написавшие помимо своих главных шедевров эротические или порнографические тексты, скрывали свои непристойные произведения. Так, Гийом Аполлинер тайно опубликовал «Одиннадцать тысяч палок», а Луи Арагон распространял свои эротические тексты под псевдонимом. Роман Д. Г. Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» подвергся общественному осуждению.
Но порог толерантности стремительно повышался в течение 1950‑х годов. Опубликованную в 1954 году «Историю О», в которой описаны садомазохистские сцены, расценили как порнографический роман, несмотря на то что она написана «высоким» стилем, тогда как «Эммануэль»[160], где повествуется об эротическом дебюте в Бангкоке, избежала подобного приговора. Впрочем, начиная с этого времени порнография в литературе становится умирающим жанром. Протестная сила недовольства существующим порядком вещей, которая подпитывала этот жанр с XVIII века, начинает постепенно сходить на нет в «прекрасную эпоху», несмотря на короткий период возобновления в 1960‑е годы, когда авторы–бунтари хотят разрушить ценности буржуазного общества, вынося на обсуждение проблемы, связанные с сексуальностью. В результате основным носителем порнографии становится изображение.
Первые порнографические фильмы были сняты в 1900‑х годах. В то время их показывали в домах свиданий, пассажах или кафе. Доказательством успеха подобной кинопродукции было то, что в 1920 году американское правительство попросило Уилла Хейса[161] установить нормы приличия, которым должны были соответствовать все фильмы. Режиссеры, однако, смогли извлечь для себя пользу из такого положения дел: искусно прибегая к языку намеков, они сделали подвергнутую цензуре сексуальность еще более привлекательной для зрителя. В 1950‑х годах табу было преодолено благодаря появлению эротических журналов и в особенности журнала Playboy, который уже в 1959 году выпускался тиражом 400 000 экземпляров. Начиная с 1960‑х эротическое кино продолжает развиваться в рамках общей «либерализации нравов», за счет производства «легкого порно» наподобие «докладов о школьницах»[162]. В 1970‑х свой вклад в развитие жанра внесли режиссеры, протестующие против установленного порядка и стремившиеся нарушить существующие сексуальные табу, но они очень быстро переориентировались на массовое производство.
1975 год стал в истории порнографии переломным, поскольку эротические фильмы составили четвертую долю всех посещаемых фильмов, а первый французский документальный порнографический фильм «Выставка», где впервые был показан несимулированный половой акт, собрал 600 000 зрителей и вошел в десятку самых посещаемых. Что касается фильма «Эммануэль»[163], то с июня 1975 года по июль 1976‑го его посмотрели два миллиона человек. Закон 1975 года попытался ограничить распространение жанра, находившегося на подъеме. Кинокартины, которые, согласно решению комиссии по классификации фильмов, относились к категории «X», стали показывать в специальных залах, запретили рекламировать и обложили крупными налогами. Тем не менее развитие жанра эти меры не остановили. Изгнанные из кинозалов, порнографические фильмы заняли место на новых видах носителей информации — видеокассетах. С появлением видеокассет эротические зрелища проникают в дома и делаются обыденностью. В 1992 году опрос по сексуальному поведению у французов выявил, что 52% мужчин и 29% женщин в возрасте от 25 до 49 лет смотрели порнографические фильмы.
Порнографическое кино демонстрирует глубокую пропасть между изображением сексуальности и тела как такового. Поначалу в нем воспроизводятся несимулируемые действия сексуального характера, которые осуществляются профессиональными актерами по стереотипным шаблонам, в отсутствие какой–либо личной привязанности или эмоционального отношения. Разрыв с действительностью происходит в момент, когда внимание сосредотачивается на половых органах и сексуальной физиологии[164]. Перейдя из эпохи протеста в коммерческую эпоху, порнофильм превратился в продукт массового потребления. Предложение на рынке становится все более разнообразным и раздвигает границы приемлемого в обществе. Оральный секс, показывать который раньше было невозможно, теперь входит в обязательную программу. Анальный секс и экзотические позы, некогда нарушавшие нормы, стали элементами стандарта. В конце концов порнографическое кино превратилось в «черную порнуху», вобрав в себя все самое непристойное, отвратительное, животное. Тем самым оно признало за собой роль отдельного «мира», согласно формулировке Патрика Бодри, со своими наградами, фестивалями, «порнозвездами». Примечательно, что статус последних кардинально изменился от проституток до артистов. Это было еще одним шагом на пути легитимизации фильмов категории «X», о чем также свидетельствовало то, что в 1993 году журнал Les Cahiers du cinéma включил фильм «Кожаные мечты» (1992) в «Сто фильмов для видеотеки». Эта эволюция затронула и другие виды информационных носителей. Журналы Louis и Playboy, для которых изображение обнаженного женского тела стало делом заурядным, но изображения полового акта и половых органов были под запретом, вынуждены были поддаться давлению общественного спроса и опуститься до порнографии[165]. Наиболее смелый из журналов, Penthouse, для которого еще в 1980‑е годы анальный и оральный секс были запретными, в 1993 году дошел до того, что стал продаваться запечатанным. Женская пресса также стала равняться на заголовки и статьи в духе времени. Что касается рекламы, то с конца 1990‑х годов в ней преобладает диоровский и уэстоновский «порношик». Порнография больше не нарушает запреты и не утаивается. Она обнаруживает себя и устанавливает стандарты. Кроме того, ее начинают продавать, причем через самые обыкновенные торговые каналы. Порнографические материалы размещаются теперь не только в секс–шопах, которые возникли в конце 1960‑х годов по всей Европе. В наши дни каталоги 3Suisses и Neckermann предлагают вибромассажеры и кассеты с порнофильмами. С 1985 года французский телеканал Canal+ предлагает ежемесячный пакет «порно», на который в 2002 году подписались четверть его абонентов.
Историки и социологи пока с трудом могут оценить изобилие перемен, которое пришлось на последнюю четверть XX века. В большинстве своем они пренебрегают тем влиянием, которое оказали на общество фильмы категории «X», где речь идет о «сексе», а не о сексуальности, где на первый план выведены молодые, идеальные тела, ничем не ограниченные в своих желаниях. Редкие опросы показывают, что зрители смотрят эти фильмы с различными целями: самые молодые — в качестве замены секса, а люди старше сорока лет — для его стимуляции с помощью фантазий.
Споры по поводу места, отведенного в порнографии женщине, с одной стороны, подчиненной мужским желаниям, с другой — заказчице удовольствий, не заканчиваются. Феминистки 1970‑х годов боролись против порнографии, считая ее сексистской в своей основе. Вместе с тем некоторые женщины присвоили себе этот жанр, вследствие чего возникла полемика вокруг «Сексуальной жизни Катрин М.», опубликованной в 2001 году, а фильм Виржини Депант «Трахни меня» по ее одноименному роману в 2000 году подвергся цензуре. С другой стороны, остается открытым и тревожащим общество вопрос о привнесении в сексуальную жизнь порнографических образов и в особенности их влиянии на воображение детей, о чем свидетельствует отчет, поданный Бландин Кригель в 2002 году[166].
На каждом этапе постепенного исчезновения стыдливости и визуальных запретов в области сексуальности возникает вопрос о будущем общества и его морали. Научные обсуждения вокруг тела, стремясь быть менее категоричными, в равной степени приходят к пересмотру как терминологии, так и типов поведения.
II. Тело как сексуальный объект: научные исследования и виды вмешательства
XX век примечателен всплеском дискуссий о сексуальных проблемах, взаимоотношениях полов и сексуальности, равно как и возрастающим медицинским воздействием на тело как сексуальный объект: это стало возможным во второй половине XX века благодаря научному прогрессу.
1. Расцвет научных дискуссий: протосексология и «сексуальная наука»
Буржуазия XIX века, с ее «тягой к знанию» и контролем над телом, установила биополитику в области секса, которая поставила своей целью стандартизировать поведение частных лиц с помощью контроля над женщинами, детьми и нерепродуктивной сексуальностью[167]. Этот проект позволил сделать из сексуальности объект изучения. Проводимые научные исследования тем не менее носили морализаторский оттенок, ученых интересовало, в первую очередь, то, что угрожало обыкновенной сексуальности: онанизм, венерические заболевания, сексуальные извращения[168]… Эта «протосексология» предостерегала против крайностей, которые истощают организм, и рекомендовала разумный контроль над расходованием спермы, но у нее не было терапевтических целей. Первая «сексуальная наука» зародилась в Германии и Англии в конце XIX века в кругах медицины и психиатрии, с выходом «Половой психопатии» Рихарда фон Крафт–Эбинга (1886), «Опытов сексуальной психологии» Хэвлока Эллиса и работ Магнуса Хиршфельда[169]. Основанная на изучении частных случаев, эта наука пытается составить научную типологию видов поведения и извращений, которая теперь за основу берет не понятие «греха», а критерии нормы и отклонения от нормы. Содомиты, бичуемые в Библии, превращались, таким образом, в больных. Отклонение от классической миссионерской позиции во время полового акта интерпретируется теперь не как нарушение религиозных наставлений, а как проявление садизма или лесбиянства у женщин и мазохизма у мужчин. Каждому полу приписывается определенная роль и облик, наделенные сексуальностью, но при разговоре о женщинах научные исследования в большей степени сосредотачиваются на их материнской функции.
Теория Фрейда, в том виде, в каком она была изложена впервые в 1905 году в «Трех очерках по истории сексуальности», сделала движущей силой сексуальности удовольствие и обозначила значительный разрыв с предыдущими воззрениями в науке, совершив переход от репродуктивной сексуальности к гедонистической. Теория Фрейда произвела переворот в категориях, используемых для анализа, и предложила новое определение извращений. Это стало мощным толчком для перехода от идеи гармоничного психического развития к понятию нормальной сексуальности, иначе говоря, гетеросексуальности и генитальному сексу. Последствия теории Фрейда тем не менее проявились в науке не сразу.
Еще до войны 1914 года феминисты и социалисты Стелла Браун и Джордж Ив, при поддержке таких интеллектуалов, как Бернард Шоу и Бертран Рассел, основали Британское общество изучения психологии сексуальных отношений. Параллельно с ними в Англии Мария Стопс опубликовала снискавшую успех книгу «Любовь в браке», тираж которой к 1950‑м годам насчитывал более миллиона экземпляров. В этой книге автор отстаивала право замужней женщины на удовольствие от секса. Благодаря обширной переписке, которую она вела с читателями своей книги, Стопс стала считаться первым современным консультантом по супружеской жизни как у женщин, так и у мужчин[170]. Осознав, как много беспокойства вызывала в то время у женщин нежелательная беременность, Мария Стопс открыла в 1921 году первую европейскую клинику по контролю за рождаемостью (birth control).
В свою очередь, Магнус Хиршфельд, одним из первых ратовавший за отмену уголовного наказания за гомосексуализм в Германии, создал в 1919 году Институт сексуальных наук (Institut fur Sexualwissenschaft), а позже, в 1921 году, совместно с Хэвлоком Эллисом и Огюстом Форелем, Всемирную лигу сексуальных реформ, которая ставила своей целью развитие полового воспитания и осознанного родительства, предотвращение проституции и венерических заболеваний, борьбу против ущемления прав сексуальных меньшинств и продвижение идеи равенства полов. Зарождающаяся французская сексология, с ее организациями и журналами, вписывается в этот курс Лиги: Ассоциация по исследованию сексуальности, созданная в 1931 году психиатром Эдуаром Тулузом, Сексологическое общество, председателем которого был профессор Ашар. Итальянцы в 1932 году опубликовывают «Сексологический словарь» (Dizzionario di sessuologia)[171]. Именно в период между двумя мировыми войнами сексология развивается как наука, и это слово закрепляется в разговорном языке того времени[172].
Эти первопроходцы тем не менее по–прежнему работают с проблематикой, верной «модели двух полов», разработанной в предыдущем столетии[173]. Автор, независимо от темы, за которую берется, рассуждает сквозь призму «женское/ мужское» и использует подразумевающиеся в соответствии с этой дихотомией характеристики: «пассивная/активный», «ведомая/ведущий», «покоренная/покоряющий». Женская сексуальность была главной жертвой подобной искаженной интерпретации полового поведения. Роль клитора, который считался «мужской» аномалией, согласно этому подходу, совершенно обесценивалась, в особенности у адептов психоанализа. И действительно, Фрейд определял либидо как принадлежность мужского и делал вывод, что сексуальность строится вокруг пениса как, у юношей, так и у девушек. В отсутствие пениса молодая девушка следует той же модели поведения, что и юноша, предаваясь клиторальной мастурбации. Однако во взрослом возрасте женщина должна отказаться от этого инфантильного удовольствия, которое некоторые даже расценивают как признак фригидности. Женщине следует предпочесть вагинальный половой акт, подчиниться мужчине, ступив на путь жертвенности и мазохизма, и, наконец, сублимировать желание иметь пенис в желание обрести ребенка.
Психоанализ приходит к новому обоснованию той роли, которую общество предписало женщинам. Безусловно, в 1930‑е годы внутри фрейдистского общества велись также и дебаты. Английская школа, представителями которой были Мелани Кляйн, Эрнст Джонс и Карен Хорни, рассматривала вагинальное удовольствие и желание иметь пенис как неоднозначную концепцию и продвигала идею женского либидо. Но во Франции Мари Бонапарт и Хелен Дойч оставались верны традиционным закостенелым позициям. Лишь Вильгельм Райх нарушил заданную психоанализом схему. Он был первым, кто уделил большое внимание «оргастической потенции»[174]. И хотя он провел свое оригинальное исследование между 1927 и 1935 годами, оно осталось неизвестным, в том числе и во Франции, где в 1934 году вышла в переводе лишь одна из этих работ — «Сексуальный кризис».
О влиянии первых сексологических исследований на жизнь общества известно мало. Однако неоспоримо то, что в том числе благодаря им сексуальность вышла из зоны молчания и стыда. Наряду с этим удовольствие постепенно было узаконено. Таким образом была подготовлена почва для научной сексологии второй половины XX века, для которой основополагающим фундаментом стали научные отчеты Кинси[175].
2. Современная сексология и вмешательства в область тела
Альфред Кинси, зоолог по образованию, и его команда из Института сексуальных исследований университета Индианы, в отличие от своих предшественников, построили изучение сексуального поведения на новых принципах. Они не ставили своей целью классифицировать различные виды поведения как нормальные или отклоняющиеся от нормы. Они ограничились тем, что составили таблицу сексуальных практик своих современников, основанную на опросе, который был проведен среди широкой группы лиц (10 000 человек). Первая работа ученых, вышедшая в 1948 году, была посвящена мужской сексуальности. Вторая, о женской сексуальности, была опубликована в 1953 году и рассчитана на более широкую публику[176]. Американцы немедленно уловили радикальную новизну этого исследования и его подрывную для общественной жизни роль. Обходя вниманием как брачные узы, так и проблемы репродукции, авторы этого опросника интересуются только удовольствием, получением оргазма и способами его достижения: эротическими мечтами, внебрачными и гомосексуальными связями, сношениями с животными и т. д. Сквозь научную закостенелость просвечивает сексуальная свобода, вступающая в противоречие с репрессивным арсеналом законов, все еще действовавшим в то время в Соединенных Штатах[177]. Оказалось, что к мастурбации прибегают практически все подростки в возрасте одиннадцатидвенадцати лет, и Кинси подчеркивает, что она не наносит никакого ущерба здоровью. Добрачные связи также представляют собой обыкновенное явление. Что касается состоящих в браке, то их сексуальность полиморфна и проявляется в отношениях с супругом, онанизме, проституции и супружеских изменах[178].
Таким образом, Кинси разрушает моральные нормы, предполагающие стыдливость и гетеросексуальность в браке. По сути, он предложил кардинально новый взгляд на гомосексуальность, которая оказалась опытом достаточно распространенным и тем не менее разным по интенсивности переживания, которое Кинси классифицировал по шкале от 0 до 6. Он обращает внимание на то, что 37% мужчин имели по крайней мере единичный случай гомосексуальных отношений, а 4% имели сексуальные отношения только с людьми своего пола[179]. Большинство людей, таким образом, лавирует между гетеросексуальностью и гомосексуальностью, а это перечеркивает предыдущие объяснения с помощью патологии или отклонения от нормы.
Кроме того, Кинси делает вывод об одинаковом сексуальном поведении мужчин и женщин, отвергая концепцию Фрейда о женской сексуальности. Он первым оспорил идею подчиненности женского оргазма мужскому. Реабилитировав удовольствие, получаемое с помощью клитора, он приходит к заключению, что очень немногие женщины никогда не испытывали оргазма. Согласно Кинси, женская сексуальность очень сходна с мужской. Физиологические фазы — возбуждение, кульминация и расслабление — аналогичны у обоих полов. Соответственно, он выступает за равноправие полов в получении удовольствия, и его работы перекликаются, на свой манер, со «Вторым полом».
Научные отчеты Кинси стали началом эпохи анкетных исследований. Первый доклад о сексуальности французов был опубликован доктором Симоном только в 1972 году[180]. В 1977 году в труде сексолога Шир Хайт, основанном на опросе, проведенном среди 3000 женщин, фрейдовская теория была пересмотрена. Согласно исследовательнице, женщины редко достигают оргазма только с помощью коитуса и нуждаются в стимуляции клитора. Так клитор был реабилитирован, а подчиненность женщины вагинальной и репродуктивной сексуальности оспорена.
С 1960‑х годов сексология стремится играть также и терапевтическую роль. Два американца, врач Уильям Мастерс и психолог Вирджиния Джонсон, предложили в те годы проект лечения, основывающийся на лабораторных наблюдениях над сексуальными реакциями[181]. Их описание фаз оргазма — возбуждение, плато, оргазм и завершение — было представлено как классическое и позволило им лечить пациентов, легко выявляя половые нарушения. И хотя Мастерс и Джонсон разделяли сексуальность и репродуктивность, они работали с целью сделать брачные союзы успешными, восстанавливая в них эротическую составляющую, которая, по их мнению, и является основой успеха. В своей клинике в Сент–Луисе, штат Миссури, они предлагали парам достаточно авторитарные виды поведенческой терапии. Курс лечения длительностью в две недели, подчинявшийся авторитету двух терапевтов, мужчины и женщины, состоял из четырех фаз: сбор информации, разработка схемы лечения, восстановление чувственной функции путем изучения своего тела, за которым следовало еще более углубленное восстановление, которое должно было привести к коитусу. Преждевременное стремление достичь оргазма, однако, воспрещалось. Основанные на идее получения удовольствия и ориентированные на брачную гетеросексуальность, эти виды терапии подкупали своей мудростью и обещаниями сделать половую жизнь насыщенной.
Разработка этих терапевтических методов также повлекла за собой возникновение группы специалистов–сексологов. В 1974 году было основано Французское общество клинической сексологии. В 1975 году врачи Жаклин Кан–Натан и Альбер Неттер организовали первый мировой конгресс по сексологии, который в 1978 году вылился в создание Всемирной ассоциации сексуального здоровья. Первопроходцы в этой области, в основном врачи, по примеру Жильбера Торджмана, были также наиболее рьяными сторонниками полового воспитания. В наши дни во Франции они представляют собой однородную и организованную группу, 90% которой получили фундаментальное сексологическое образование, начавшее распространяться в университетах с 1980‑х годов. Кроме того, 68% из них имеют диплом врача, а 12% — психолога. Сексологи лечат не аномалии, а нарушение функции получения оргазма, предлагая разнообразные виды терапий, основанных на подавлении условных рефлексов и восстановлении пациента при помощи психотерапии, а также психофизиологических подходов, в особенности расслабления и софрологии, поведенческой терапии и лечения сексуальных нарушений по методу Мастерса — Джонсон[182]. Значительный успех этих методов лечения объясняется тем, что обещанное исцеление наступает быстро. Это также привело к относительному охлаждению пациентов к психоанализу: продолжительность лечения от пяти до семи лет и отсутствие ощутимых результатов подорвали доверие большого числа клиентов.
Сам факт, что пациенты стали обращаться за помощью к сексологу, врачевателю удовольствия, был обусловлен постоянно растущим спросом на подобные услуги, повышением уровня образования, а также популяризацией научных исследований. Женские глянцевые журналы наподобие Elle и радиопередачи немало этому способствовали. Роль первооткрывателя здесь сыграла Мени Грегуар, выступавшая на радио RTL. С 1967 по 1981 годы она принимала звонки и письма радиослушателей и прежде всего радиослушательниц, которые делились с ней своими «проблемами». Она проводила для них консультации и предлагала каждому решение его проблемы или совет. Случаи, с которыми она сталкивалась, относились в основном к темам интимной или семейной жизни. Так сексуальность вторглась в прямой эфир, где теперь обсуждались нежелательная беременность, супружеская измена и фригидность, впервые ставшие предметом для общественных дискуссий. Эти темы были настолько востребованы, что в 1973 году Мени Грегуар запустила другую радиопередачу под названием «Сексуальная ответственность». В ней она выполняла свою просветительскую миссию вместе с «экспертами», священниками, психоаналитиками и сексологами. Врач Мишель Меньян, игравший в этой передаче ключевую роль, поспособствовал тому, что аналитический метод терапии, к которому тяготела Мени Грегуар, изменился в сторону лечения сексуальных нарушений на американский манер[183]. С тех пор разговоры о разногласиях в области секса стали приняты в обществе. Но помимо этого, обществу была предложена новая цель: оргазм — непременное условие здоровья и душевного равновесия — становится обязательным. Многочисленные телевизионные и радиопередачи принялись разрабатывать эту золотую жилу, но начало им положила именно «эпоха 1968 года» на радио RTL. Эти передачи новым способом стандартизировали половое поведение, вменяя в качестве обязательного успех на сексуальной ниве[184].
3. Медицина и контроль над телом как сексуальным объектом
Медикализация сексуальной сферы жизни, вписывающаяся в рамки возрастающей медикализации всего общества, принимает различные формы[185]. Она затрагивает как «сексуальные сценарии», полуреальные, полувымышленные сексуальные мизансцены, так и область репродукции и контроль за фертильностью. К этому процессу подключаются различные специалисты, которые проводят множество обследований и терапий. Для мужчин и женщин они осуществляются по–разному.
Поскольку медицина уделяет повышенное внимание материнству, женщины очень скоро оказываются опутанными сетью медицинских предписаний. Например, у гинеколога нет аналога среди «мужских» врачей. Для медиков женское тело — это, в первую очередь, тело беременное, нуждающееся во врачебном сопровождении вплоть до безопасных родов, после которых мать направляют к педиатру для наблюдения за новорожденным. В первой половине XX века врачебная помощь была нацелена на защиту матери и ребенка. В этом контексте врачи должны были бороться с абортами и пропагандировать грудное вскармливание, более предпочтительное, чем искусственное. Они также предпринимали первые попытки лечить бесплодие. Что касается ученых, то их исследования тесно связаны с родовспомогательными процедурами, благодаря которым они получают необходимые им для работы образцы плацентарной ткани. Таким образом, они углубляли знание женской гормональной системы, игнорируя мужскую. Логично, что в таких условиях химическая контрацепция была нацелена только на женскую аудиторию[186].
С момента легализации оральных контрацептивов в 1957 году в США, а затем в 1967 году и во Франции с законом Ньювирта, женщины стали подвергаться гораздо более строгому медицинскому наблюдению[187]. Благодаря изобретению гормональной контрацепции контроль за рождаемостью перешел от мужчин в руки второго пола. Примечательно, что процесс изобретения пилюль был тесно связан именно с идеей контроля над рождаемостью (birth control). В 1930‑х годах Грегори Пинкус начал разрабатывать синтетические гормоны и обнаружил, что овуляцию можно блокировать при помощи медикаментов. Однако это не навело его на мысль о возможности использовать открытие в целях контрацепции. Первой, кто осознал революционное значение этих работ, была американка Маргарет Сэнгер, под влиянием идей Эммы Гольдман изучавшая контроль рождаемости. Она добилась того, что эти исследования стала финансировать Кэтрин Маккормик, состоятельная дама и убежденная феминистка. В 1951 году Пинкус обнаружил, что прогестерон блокирует овуляцию. После экспериментов в Пуэрто–Рико, начиная с 1960‑х годов пилюли были запущены в продажу.
Эти пилюли перевернули жизнь женщин. Благодаря их использованию врачебное наблюдение за женщинами усилилось. Первый визит к гинекологу и выписка контрацептивов зачастую знаменовали для молодой девушки начало половой жизни. Разовую акушерскую помощь заменил постоянный медицинский контроль на протяжении всей жизни, от выбора контрацепции до аборта, не говоря об УЗИ беременных, которое изменило отношение к беременному телу, а также различных видах заместительной гормональной терапии[188]. Они снискали успех в последние двадцать лет и показали, ко всему прочему, что женщины не хотят терять ни качество жизни, ни свою женственность. Желание победить бесплодие привело к тому, что женское тело стало полем для научных экспериментов. И если оплодотворение с помощью доноров развивается с 1970 года, когда возникли Центры по изучению и сохранению спермы и яйцеклеток (CECOS), то оплодотворение в пробирке, которому в 1978 году положило начало рождение Луизы Браун в Манчестере, стало началом серьезных вмешательств: стимуляции яичников, взятия яйцеклетки, имплантации нескольких эмбрионов, которая может привести к многоплодным и патологическим беременностям. Эти смелые техники манипуляций с телом поставили перед обществом неожиданные этические проблемы: посмертное оплодотворение, право холостяков и гомосексуалов на потомство, полученное с медицинской помощью, суррогатное материнство, а также разведение понятий кровного и юридического родства. Возможность клонирования открывает перспективу рождения без родителей, но при участии половых клеток и женской матки. В обществе это ассоциируется с созданием двойника человека и порабощением женского тела.
Однако еще задолго до этих открытий врачи начали без колебаний менять сексуальную идентичность своих пациентов. Конечно, в начале XX века кандидатов на смену пола было немного, но они добивались того, что им проводили грубые и необратимые хирургические вмешательства, которые закон долгое время приравнивал к увечьям. Этот исторический поворот стал результатом сложного процесса, объединившим усилия психиатров, эндокринологов и генетиков. Немецкие и английские психиатры начали интересоваться трансвестизмом (само слово было придумано Магнусом Хиршфельдом в 1910 году) и транссексуализмом в «прекрасную эпоху»[189]. Крафт–Эбинг определял транссексуализм как «параноидальное сексуальное превращение», тогда как Хэвлок Эллис считал вариантом сексуальной инверсии у гетеросексуала.
В период между двумя мировыми войнами произошли важные события в биологии, которые психиатры не могли игнорировать: благодаря открытию хромосом и половых гормонов они смогли лучше понять основы сексуации (выбора пола) и ее нарушений. Вместе с тем в этот же период некоторые врачи, столкнувшись со страданиями своих пациентов и желая их облегчить, прибегают к помощи хирургии для того, чтобы привести в соответствие телесную оболочку и психологическое половое самоощущение человека. В 1912 году впервые была сделана мастэктомия: молодая девушка добилась этого, грозясь покончить с собой. В 1921 году Рудольф стал Дорой благодаря операции по смене пола, которую осуществил Феликс Абрахам, ученик Хиршфельда. У первого мужчины, который стал транссексуалом хирургическим путем, удалили половой член, а затем создали ему искусственную вагину. Однако первое публичное обсуждение того, что раньше было достоянием узкого круга специалистов, вызвала биография Эйнара Вегенера, которому берлинский врач Эрвин Горбандт удалил тестикулы и имплантировал яичники. Переведенная в 1933 году на английский и изданная под псевдонимом Нильс Хойер, книга «Из мужчины в женщину: подлинная история изменения пола» стала культовой среди транссексуалов. В 1946‑м за ней последовал манифест Лоры, которая стала Майклом Диллоном, под названием «О себе: исследование по этике и эндокринологии». Лора, которой британский хирург сделал мастэктомию, а затем фаллопластику, в провокационной манере выступает за свободный выбор пола и хирургическое исправление «ошибки природы»[190]. Одновременно с этим прогресс в области эндокринологии и синтеза гормонов, в особенности эстрадиола, полученного в 1936 году, позволил транссексуалам–мужчинам самим назначать себе женские гормоны вплоть до 1950‑х годов, когда они стали отпускаться по рецептам[191].
С этого же времени множатся виды предлагаемого лечения, как хирургические, так и фармацевтические, они перестают быть уголовно наказуемыми: кастрация легализована с 1935 года в Дании, в 1967 году — в Великобритании, а в 1969 году — в ФРГ. С 1972 года Фонд социального страхования Нидерландов даже возмещает расходы на операции, в этом же году Американская медицинская ассоциация стала рекомендовать хирургическое вмешательство для лечения транссексуализма. Во Франции тем не менее первая операция по смене пола была проведена только в 1970 году, а узаконили такие операции в 1979‑м. При этом ранее, когда певец и стриптизер кабаре «Артур» Жак Дюкенуа, превратившийся после операции в Касабланке в Коксинель[192], в 1962 году поменял свой французский паспорт, а затем вышел замуж, в медицинской среде разразился скандал. Однако уже в начале 1980‑х годов в США насчитывается двадцать Клиник гендерной идентичности (Gender Identity Clinic), где прошли лечение от 3000 до 6000 транссексуалов, а количество потенциальных пациентов насчитывает десятки тысяч. Последним ничего не оставалось, как выиграть битву за право социальной половой идентификации и смены паспорта. В Европе это произошло в 1991 году, после того как Европейский суд по правам человека осудил Францию за противоправный отказ в смене графы половой принадлежности в паспорте. Транссексуализм, считавшийся в «прекрасную эпоху» болезнью и страданием, превратился в законное требование и расширил пространство дискуссий о смене пола, включив в него проблемы биологии, интериоризации социальных норм и радикальной трансформации тела как сексуального объекта.
Наконец, спустя некоторое время медицина переключила свое внимание на мужские половые функции. Выпуск в продажу виагры в 1997 году стал следствием новой стратегии фармацевтической промышленности, которая была невозможна без нового представления об импотенции[193]. Будучи постоянным предметом беспокойства мужчин до такой степени, что ее объясняли знахарской порчей, импотенция теперь определяется лишь как нарушение эректильной функции. Психопатологический подход был заменен исключительно физиологическим объяснением, которое очень быстро распространилось через средства массовой информации. Фармацевтической индустрии осталось только представить виагру как единственно возможное лекарство против этого недуга, выбрав оральный способ его введения в организм, чтобы охватить всю область общей терапии и расширить потенциальную базу клиентов. Спрос на продукт расширил перечень расстройств, при которых могло применяться лекарство. Спад сексуальной активности в связи с возрастом становится все менее допустимым, так как является фактором нарушения телесного комфорта. В конце концов использование виагры привело к новому восприятию тела. Сексуальную активность стали рассматривать как механическую, не связанную с партнером. Времена семейной терапии прошли, уступив место личной пользе и удовольствию.
С открытием в 1981 году СПИДа, смертельного заболевания, сексуальность снова становится проблемой здравоохранения, подталкивая медиков к попыткам изменить половое поведение в обществе. Конечно, борьба с венерическими болезнями, которая, хотелось бы подчеркнуть, никогда не касалась народных масс ни в XIX, ни в XX веке, всегда включала в себя профилактику, отслеживание «источников» заражения и лечения. Однако искоренение сифилиса с помощью антибиотиков привело буржуазию одновременно и к избавлению от вековой проблемы, и к ослаблению бдительности на ее счет. При появлении СПИДа передовым фронтом на этот раз оказались эпидемиологи. Анкеты, содержащие огромное число вопросов, которые тогда были составлены и задавались с целью выявить виды поведения, приводящие к риску заражения болезнью, изменили характер мышления и отношения к сексуальности — из гедонистического он превратился в медицинский.
Столкнувшись с новым бедствием, каждое общество отреагировало на него по–своему и выработало свой способ предотвращения в зависимости от исповедуемых ценностей. Во Франции первые кампании, пропагандирующие использование презервативов, были запущены во второй половине 1980‑х годов. Поскольку они были нацелены на наиболее уязвимые группы населения — молодых людей, наркоманов и гомосексуалистов, — то не могли ратовать за воздержание, бывшее, к примеру, единственной рекомендацией Ватикана. В 1990‑е годы эти кампании отчасти принесли свои плоды: использование презервативов распространяется среди молодых людей, полигамных гетеросексуалов и гомосексуалов, практикующих случайные связи. Однако сексуальные отношения в паре, будь то гомосексуальной или гетеросексуальной, по–прежнему основываются на доверии и не становятся «защищенными», как на то надеялись медики. С появлением в 1996 году терапии из трех противовирусных препаратов, благодаря которой СПИД стал похож на хроническое заболевание, бдительность в отношении заболеваний идет на спад. В демократических обществах вторжение медицинских предписаний в интимную сферу жизни посягает на свободу индивида.
За время, прошедшее между изобретением противозачаточных таблеток и появлением СПИДа, мир обрел право на удовольствие от секса, связанное со свободой выбора в вопросе размножения. Это «славное тридцатилетие» сексуальности стало плодом долгого процесса освобождения тела, начатого еще в конце XIX века и достигнутого в полной мере лишь после 1968 года.
III. Освобождение тела и сексуальных желаний
«Свобода нравов», как говорили в первой половине XX века, принесла с собой освобождение речи и жестов, разрушение традиционной брачной морали и, наконец, отмену табу. Право на удовольствие имело, однако, и обратную сторону: отказ от сексуального насилия и сексуального поведения по принуждению.
1. Освобождение речи и жестов
Долгое время сексуальность искоренялась из языка или вытеснялась в область обсценного и греховного. В первой трети XX века становятся допустимыми мало оригинальные, но понятные выражения, такие как «отношения», «интимные», а затем и «сексуальные» «части тела». Наряду с этим в период между двумя мировыми войнами развился язык анатомии. Он был принят обществом по причине его точности, наукообразности и асексуальности. Наиболее часто употребляемыми словами стали «половой член», «пенис» и «влагалище», «вагина». Термины более специфические, такие как «эрекция», «эякуляция», «матка», еще далеко не так хорошо освоены. Некоторые протоколы полиции и жандармерии межвоенного периода изобилуют среди прочего пикантными опечатками наподобие «вазина» или «пенисс». Успех физиологического словаря многим обязан медикализации общества и росту числа абортов. Достижение языка анатомии, высоко оцененного женщинами за его нейтральность, состояло в том, что он позволял в отстраненной манере называть органы и действия, связанные с половой жизнью. Так лингвистика вывела сексуальность из подполья и благоприятствовала развитию более смелых экспериментов в алькове.
Этому немало поспособствовали и браки по любви. В действительности под любовью подразумевается любовь физическая. С распространением браков по любви стыдливость начинает уходить из спальни, не без сопротивления и непонимания, как об этом на рубеже веков свидетельствует реплика одной замужней женщины, смущенной вопросами своего исповедника: «Низкие вещи, о которых вы мне говорили, никогда не происходят между женатыми людьми, а совершаются, как я знаю, во время постыдных оргий. Мне же известны только естественные удовольствия»[194]. Прогресс в этой области происходит постепенно, и сложно оценить его скорость в отсутствие статистических данных, появившихся только в 1970 году. Как уже говорилось в предыдущем разделе, тело начинают обнажать в период между двумя мировыми войнами, но заниматься любовью при свете еще по–прежнему не принято. Но при этом установленные церковью и медиками запреты упраздняются очень быстро. Это касается, к примеру, секса во время беременности или правил, которые отныне подчиняются только соображениям здоровья и гигиены. Большинство пар, конечно, по–прежнему практикуют миссионерскую позицию, но супруги и любовники теперь все менее и менее предосудительно относятся к экспериментам с новыми позами.
Параллельно с этим становятся более разнообразными и виды проявления ласки, а некоторые из них, долгое время закрепленные за искушенными женщинами и проститутками, становятся повседневными. В качестве примера можно привести поцелуй в губы, который сам по себе еще в 1881 году считался составом преступления против общественной нравственности. В 1920‑х годах он стал неотъемлемым способом выражения любовной страсти, который был популяризован при помощи почтовых открыток и кино. Флирт, ставший в 1950‑х годах частью молодежной культуры, благоприятствовал росту количества ранних первых сексуальных опытов[195]. Мастурбация, к которой народные массы, несмотря на угрозы доктора Тиссо[196], прибегали без угрызений совести, воспринималась как способ получить удовольствие, а не повод для беспокойства, и перестала считаться постыдной в научном сообществе с 1917 года, благодаря Магнусу Хиршфельду и Вильгельму Штекелю, ученику Фрейда. Несмотря на то что преодоление табу на мастурбацию происходило беспорядочно, то и дело наталкиваясь на ожесточенное сопротивление, сожаления и возражения, эволюция этого процесса за три десятилетия все равно выглядит показательно: из опасного порока мастурбация превратилась в подростковую привычку, «не представляющую серьезного повода для беспокойства», к которой нужно относиться как к норме повседневности, чтобы не вызывать у ребенка чувство вины и стыда[197]. Как норма для всех мастурбация стала восприниматься лишь во второй половине XX века. Начиная с 1970‑х годов у сексологов она даже играет роль обязательного этапа в половом развитии, который впоследствии позволяет достигать оргазма[198].
Оральные ласки также становятся более распространенными начиная с межвоенного периода. По крайней мере с этого времени благонравные женщины и девушки позволяют это делать, но еще не проявляют инициативы сами. Шлейф скандальности перестает тянуться за оральным сексом после 1950 года, поскольку 75% женщин, родившихся между 1922 и 1936 годами, а также 90% женщин, родившихся между 1958 и 1967 годами, пробовали им заниматься. В то же время к «содомизации», как ее называли еще до 1940‑х годов, женщины на протяжении долгого времени относятся с большой осторожностью, тем более что для некоторых мужей она является частью грубого акта доминирования, который может дойти до насилия. Позже анальный секс становится допустимым, но им по–прежнему занимаются меньшинство респондентов: в 1992 году 30% мужчин и 19% женщин пробовали его только один раз и всего 3% занимаются им постоянно[199]. Но отношение к сексу меняется. Мораль более не является причиной для запрета жестов, долгое время считавшихся крайней степенью непристойности. Теперь их перестали воспринимать в контексте физических страданий и отвращения, они оцениваются как высшая степень наслаждения.
2. Разделение сексуальности и деторождения
В XX веке также произошел небывалый в истории сексуальности сдвиг: окончательное разделение сексуальной и репродуктивной функций. Демографическая революция случилась в Европе в межвоенный период, когда начала сильно снижаться рождаемость. Подобные изменения имели место во Франции еще раньше[200]. Уже начиная с XVIII века все большее число крестьян стремилось ограничить количество детей в семье. В XX веке желание человека сократить количество своих потомков стало неоспоримым фактом, к великому сожалению популяционистов всех мастей. Более того, это желание поддерживали оба пола, а пропаганда неомальтузианцев[201] только усилила всеобщее глубокое убеждение в этой необходимости[202]. В 1930‑е годы во Франции каждая шестая пара была бездетной. Не требуя от своих супруг вынашивать нежелательную беременность, что можно расценить как отказ от мужского доминирования в этом вопросе, мужья порою выступают более рьяными сторонниками мальтузианства, нежели их жены. Супружеские пары договариваются о желаемом количестве детей — как правило, это «пара», ставшая частью семейной модели, — но некоторые семьи, как, например, на юго–западе страны, начиная с «прекрасной эпохи», довольствуются одним ребенком, не считая нужным давать жизнь второму ребенку, даже если первый — дочь. Желание семей с маленьким достатком дать хорошее образование не очень большому количеству детей, отказ женщин жить от родов к родам — вот причины, которые, накладываясь одна на другую, объясняют широко распространившийся тип поведения. К тому же начиная с 1900 года общественное мнение не слишком почитает плодовитые пары; в межвоенный период многодетные семьи вызывают отторжение. Лишь небольшая прослойка французов — убежденные католики или выходцы из простонародья — сохраняет высокую рождаемость[203].
Конечно, способы контрацепции в то время еще достаточно безыскусны, но их эффективность неоспорима. На протяжении XIX века главным методом предохранения был прерванный половой акт. Он настолько укоренился в деревенской жизни, что вошел в сельский образный язык. Прерванное сношение описывалось выражениями, буквально означающими «поступить как мельник» («faire le coup du meunier») или же «молотить зерно на гумне, а веять за дверью» («battre en grange et vanner devant la porte»)[204]. В начале XX века прерванный акт заменяет контрацепцию в двух случаях из трех, презерватив же, сильно отставая, занимает второе место по популярности: пользоваться им предпочитают лишь 10% пар[205]. Та же картина наблюдается в 1930‑е годы и в Англии. На протяжении первой половины XX века контрацепция остается мужским делом. Более разнообразными средства предохранения становятся уже после I Мировой войны, именно тогда женщины предпринимают все большие усилия по контролю своей плодовитости. Во Франции начинают использовать спринцевания, внутриматочные губки, реже — противозачаточные колпачки, рекомендованные неомальтузианцами. Диафрагму больше всего оценили в Англии, где ее продвигала Мария Стопе, а также в США, где это средство стало крайне популярно в 1930‑е годы. В этих странах не меньшим успехом пользуются спермицидные гели и кремы, хотя качество этой коммерческой продукции оставляло желать лучшего[206]. Метод Огино — Кнауса, открытый в 1929 году, основанный на воздержании в фертильный период менструального цикла у женщины, хотя и был принят Католической церковью, использовался не столь широко по причине его ненадежности.
Однако инициативу по контролю рождаемости женщины взяли в свои руки, главным образом, с приходом в их жизнь абортов. Нельзя сказать, что аборты считались во Франции способом регулирования рождаемости. Напротив, они становились «сеткой безопасности» лишь в том случае, если мужская предусмотрительность давала сбой. Лишь с наступлением «прекрасной эпохи» начинаются обсуждения проблемы уменьшения населения среди врачей, моралистов и политиков, только тогда с ужасом обнаруживших масштаб бедствия. На тот момент уже насчитывается 30 000 абортов в год, и их число удвоилось между 1900 и 1914 годами. Оно удвоится еще раз и в межвоенный период, но не превзойдет 200 000, тогдашнюю нижнюю границу прогноза медиков и приблизительную оценку среднего числа добровольных прерываний беременности начиная с их легализации в 1975 году[207]. Иными словами, аборт стал повседневной мерой уже в то время, когда за него полагалось жесткое наказание. Неудача «преступных» законов показала в том числе и то, что аборт стал общественным явлением. Оно затрагивает женщин всех слоев населения: горожанок и крестьянок, в первую очередь незамужних, но и состоящих в браке (более чем в трети случаев), а также вдов, разведенных и живущих в фактическом браке[208]. Конечно, идут на аборт наиболее просвещенные, а неосведомленность — главное препятствие на пути к совершению такого поступка, но многие узнают о подобной возможности в рамках повседневного общения: у членов семьи, у друзей и коллег, по «сарафанному радио» и из любезных предложений «мастериц делать ангелочков».
В первой половине XX века наблюдается распространение абортов по рациональным соображениям. По мере того как женщины прельщаются современной им фармакопией, в особенности эмменагогами[209], очень популярными в 1900‑е годы, их все меньше привлекает народная медицина с ее отварами из полыни или влажными компрессами из льняной муки. Они прибегают также и к внутриматочным вмешательствам, которые оказываются крайне эффективными: 26% делают аборт с помощью перфорации стенки матки, а треть — путем инъекций, этот способ все больше распространяется после 1914 года. Тем не менее все эти виды вмешательств в 80% случаев требуют сплоченного участия посторонних лиц — медиков–профессионалов, «мастериц делать ангелочков»[210]. При поддержке этого набора специалистов женщины вступают в эпоху безопасных абортов: операция делается на все более ранних сроках и очень редко после третьего месяца, щипцы уступают место тонкому зонду, английская полая игла облегчает инъекции, а инструменты все чаще дезинфицируют, чтобы избежать смертельных инфекций. Хотя аборт — дело женское, мужчин о нем все чаще ставят в известность, но они предоставляют полную свободу своим подругам в том, чтобы пройти через это тяжелое испытание, которое может оказаться смертельным. Нежелание иметь ребенка, однако, оказывается сильнее страха перед страданиями или болезнью. Даже если не усматривать в абортах повседневный феминизм, как это делает Ангус Макларен, можно сделать вывод, что женщины, совершающие аборт, утвердились в отказе от опеки над своим телом — как со стороны супругов, так и со стороны медицины и религии[211]. В отличие от Франции, где наказания за аборты все ужесточались (начиная с закона от 23 марта 1923 года до Семейного кодекса 1939 года, а позднее, при режиме Виши, по закону от 15 февраля 1942 года, классифицировавшего аборт как преступление против государственной безопасности, карающееся смертной казнью), в Англии, понимая необратимое распространение этой процедуры, предпочли быть более терпимыми, и в 1938 году разрешили аборты в случае бедственного физического и психического состояния женщины.
Хотя уже в межвоенное время понятия сексуальности и деторождения разнесены, угроза беременности продолжает нависать над личной жизнью. Женщины живут в состоянии, переходящем от беспокойства к облегчению, в ритме календаря менструаций. Мужчины, которым сообщают о возможности их отцовства, громко выражают свое недовольство. Спонтанные порывы сдерживаются. Что до внебрачных отношений, то они еще больше страдают от «детородного» риска. Изобретение противозачаточных пилюль не отменило древнее желание контролировать свою фертильность, но устранило проблему в случае невольной ошибки, которую к тому же теперь можно исправить легально при помощи добровольного прерывания беременности[212]. Оральные контрацептивы были на руку прежде всего женщинам, которые смогли без страха и полноценно жить сексуальной жизнью. «Ребенок — когда я захочу и если захочу», — так расшифровывается перемена позиции женщины относительно деторождения. И хотя мужчины никогда не злоупотребляли своей властью в отношении женской фертильности, в настоящее время они эту власть потеряли. В то же время они освободились от необходимости контролировать свое тело. Несмотря на то что часть феминистов видит в химической контрацепции угрозу для женщин, которые отныне предоставлены мужским прихотям, поскольку постоянно доступны, остается несомненным, что этот вид контрацепции — значительное прогрессивное достижение для обоих полов.
3. Сексуальность для всех и право на удовольствие
В XX веке сексуальность перестали загонять в узкие рамки брака. Это изменение долгое время не было очевидным. В период, когда в продолжение событий 1968 года гомосексуальные активисты, близкие к Гомосексуальному фронту революционного действия, призывали: «Давайте получать удовольствие без преград!», это требование лишь показывало разрыв между стремлениями и реальным положением дел. На самом деле те свободы, которые французы не отваживались обсуждать публично, были завоеваны молча. Ведь на протяжении шестидесяти лет в официальных обсуждениях и письменных трудах единодушно восхвалялась женская девственность и разумно налаженная супружеская половая жизнь. Понадобилось переступить через нормы религиозной морали, медицинские предписания и малодушие политиков, которые очень заботились о том, чтобы ни в коем случае не шокировать своих избирателей раньше, чем своих представителей.
От подобных ниспровержений устоев выиграли, в первую очередь, неверные жены, ведь ветреные мужья, в силу двойной морали, уже давно пользовались общественным снисхождением[213]. С этого времени Уголовный кодекс откровенно не соблюдался, поскольку он предполагал гораздо более суровое наказание за женскую измену[214]. Правосудие становится все более благожелательным к женщинам, и после 1890 года нет больше судебного лица, уполномоченного заключать их в тюрьму. Переставая быть уголовно наказуемым деянием, адюльтер приводил чаще всего к символическому штрафу, который истец использовал для того, чтобы затеять дело о разводе. Вдобавок к этому закон 1884 года уравнял оба пола в гражданских правах, поскольку измена превратилась в серьезную ошибку для обоих супругов. Параллельно с этим меняется и общественное мнение. Эпитеты, обозначающие подобные отношения, бывшие в ходу до 1900 года, — «преступные» или «незаконные» — имели силу морального приговора. Во Франции в сельской местности и маленьких городах этот проступок изобличался, передаваясь от жителя к жителю со слухами, письмами–доносами и иногда, хотя и редко, через общественное порицание, выражаемое всеобщим гвалтом.
Хотя злые языки никогда не переводились, общественный контроль приостановил свою деятельность в начале века. Общественное мнение стало снисходительно относиться к «несчастным» женщинам, которые, терпя жестокое обращение или обман, находят утешение вне семейного очага. Да и сами мужья, узнавая о супружеской неверности, перестали прибегать к насилию, как это было в XIX веке, когда Уголовный кодекс в таких случаях их оправдывал[215]. Если в 1840–1860 годах каждое пятое убийство было связано с изменой, то с 1880 года количество аналогичных преступлений стабильно держится на уровне 5%. Ко всему прочему, в своем поведении мужчины и женщины руководствуются все более сходными мотивами. Чтобы объяснить разрыв совместной жизни, они ссылаются на серьезные претензии к супругу, такие как алкоголизм или жестокое обращение (в случае женщин). Общей причиной становятся «супружеские разногласия», которые занимают все более высокие места среди таких пунктов, как «ссоры», «охлаждение чувств» и «усталость друг от друга». Однако среди оправдательных мотивов проступает также и гедонистический аспект адюльтера. 64% неверных супругов вступают в связь с партнером моложе, чем их муж или жена, 39% выбирают партнера моложе их самих! Кроме того, в 80% случаев любовница мужа моложе, чем его жена. Таким образом, хотя до 1960‑х годов современники не могли себе в этом признаться, удовольствие всегда играло огромную роль во внебрачных связях.
Вслед за старшим поколением молодые люди отвоевали себе право на половую жизнь вне брака[216]. Ослабление родительского контроля и победа брака по любви способствовали развитию подобного образа жизни начиная с «прекрасной эпохи». Чтобы переход от нежных слов к сексуальным отношениям стал неизбежным, будущего мужа или жену нужно было соблазнить. В период с начала века до 1914 года от 15 до 20% пар больше не дожидались свадьбы, чтобы перейти к кульминации отношений. В межвоенный период в таком положении была каждая третья пара, поскольку 20% молодых женщин выходили замуж беременными, а у 12% уже были дети. В 1959 году 30% женщин допускали добрачные отношения, а 12% отказались отвечать! Начиная с 1960‑х годов любовь оправдывает все что угодно, и отныне — в том числе отношения вне каких–либо матримониальных планов. В 1972 году 90% молодых девушек в свои восемнадцать лет уже не были девственницами[217]. С этого времени полностью меняются условия, в которых происходит обучение сексуальным навыкам. Молодые люди приобщаются к сексу вместе. В 1970 году 25% молодых людей были оба девственниками на момент их первой связи, тогда как 43% молодых людей и 51% девушек начали половую жизнь с более опытными партнерами своего возраста.
Быстрыми темпами сходит на нет и проституция, долгое время подпитывавшая мужскую социальную жизнь и фантазии. В 1970 году лишь 9% молодых людей лишились невинности с помощью профессионалок, в отличие от 25% в предыдущем поколении. В 1992 году этот показатель упал до 5%[218]. Таким образом, освобождение нравов, позволившее человеку вести богатую сексуальную жизнь, сузило пространство оплачиваемой любви. В то же время люди, наконец, позволили себе сделать выбор в пользу секса вне брака для обоих полов. Долгое время рассуждения на эту тему и реальное положение дел расходились. Еще в 1961 году 66% людей в возрасте от 16 до 24 лет полагали, что иметь добрачные отношения «нормально» и даже «полезно» для молодых людей, но 83% считали их «опасными» и «предосудительными» для девушек[219]. Но уже в 1970 году 80% мужчин и 74% женщин моложе 30 лет называют подобные отношения нормальными и для девушек. Англия и Франция развивались в этом вопросе одинаковым образом. Добрачные отношения в этих странах быстро становятся нормой: в добрачные связи вступали 16% женщин 1904 года рождения, а в следующем поколении 1904–1914 года рождения — 36%[220]. В странах, где авторитет религии остается сильным, картина иная. В Нидерландах, где значительную роль играют религиозные партии, влияние которых также усиливается за счет создания правительственных коалиций, этот социальный контекст добродетели тормозит раскрепощение нравов, так что в 1955 году процент незаконнорожденных достигает самого низшего уровня, но с 1965 по 1980 годы страна резко окунается во вседозволенность. В Ирландии, католической стране по определению, процент незаконнорожденных остается в пределах 2%, а в 1962 году даже опускается до самого низкого уровня в 1,6%, и это с учетом того, что контрацепция там по–прежнему запрещена.
Однако в описанных ситуациях речь идет об исключениях. На самом же деле сексуальная жизнь вне брака не просто перестает быть уголовным или моральным преступлением, она несет с собой все меньше и меньше рисков. Да, конечно, постоянное беспокойство по поводу нежелательной беременности не исчезает вместе с пилюлей, но молодые французские холостяки уже давно научились справляться с этой «неожиданностью», применяя как прерванный половой акт, так и аборт в качестве крайнего средства. И первооткрывателями этих способов были простолюдины, некогда поносимые за это благонравной буржуазией. Опрос, проводившийся во времена Третьей Республики, подтверждает, что 35% молодых девушек, имевших любовную связь, были работницами, 29% — прислугой, а 22,7% — поденщицами, занятыми в сельском хозяйстве, или служанками на ферме. Начиная с 1960‑х годов в авангарде сторонников сексуальных свобод встают лицеисты и в особенности студенты, которые первыми среди молодежи начинают осмыслять этот вопрос теоретически. Они не только выступают в защиту сексуальных опытов, укрепляющих брачный союз, но и отвоевывают право без угрызений совести удовлетворять свои сексуальные желания и порывы вне зависимости от какой–либо душевной привязанности[221].
С этих пор сексуальная жизнь и брак все дальше отстоят друг от друга. Начиная с 1970 годов гражданский брак становится обыкновенным способом начала жизни в паре. В 1965 году во Франции 12% будущих супругов уже жили вместе на момент свадьбы, в 1968‑м — 17%, в 1977‑м — 43%, а в 1997‑м — 87%. Совместная жизнь отныне становится форматом добрачных отношений, а брак, в котором больше нет социальной необходимости, зачастую заключается лишь после рождения первого ребенка. Дания и Швеция идут во главе этого процесса, за ними следуют Великобритания и Франция, которая развивается семимильными шагами: в 1991 году здесь вне брака родились 25% детей, в 1997‑м — 37,6%, начиная с 2000 года — половина новорожденных. Подобное развитие общества было закреплено законом, который уравнял в правах детей, рожденных в браке и вне брака, и наделил сожителей правами на социальное обеспечение. Более двух миллионов пар, одна из десяти, живут в настоящее время вне юридических отношений.
Если юношеская сексуальная жизнь получила право на существование, то половые отношения в преклонном возрасте, напротив, долгое время скрывались. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни и прогресс в области здравоохранения тем не менее способствовали зарождению нового подхода к этой стороне вопроса наряду с постепенным устранением ограничений сексуальной активности, предписываемых обществом. Во времена «Лилии долины» Бальзака женщины выходили из любовной жизни на пенсию уже в тридцать лет. В «прекрасную эпоху» эта возрастная граница отодвинулась к сорока годам. В межвоенный период компания L’Oréal открыла женщинам секрет, что и в сорок лет они могут быть соблазнительными, если покрасят волосы! Мужчинам после пятидесяти тоже предлагалось оценить свои силы в любовном деле. Запрет на половые отношения у пожилых людей долгое время был силен, в особенности у «второго пола», поскольку в 1970 году только 28% женщин в возрасте старше пятидесяти лет сообщили о том, что имели сексуальную связь в последние двенадцать месяцев (в отличие от 55% мужчин). Однако в 1992 году уже 50% женщин вели активную сексуальную жизнь после пятидесяти лет, а те, что жили в паре, составили 80%, тогда как подобных мужчин было 89%[222]. Статистический разрыв между двумя полами уменьшился. Однако наблюдается тенденция к тому, что вдовы не вступают больше в новые отношения и прекращают свою сексуальную жизнь. Мужчину, напротив, ничто не может заставить вести аскетический образ жизни, и свидетельство тому — большой успех виагры, благодаря которой способность к любовным подвигам может сохраняться до очень преклонного возраста.
В последней четверти XX века были преодолены последние запреты — вуайеризм и обмен половыми партнерами. Конечно, «любовь вчетвером» не предполагала наличия телефонных номеров в желтых справочниках и рекламных объявлений в газетах, ею занимался ограниченный круг эмансипированных лиц. Наряду с этим построение любовных отношений больше не является мотивом их действий. Занятия этой «коммерческой полисексуальностью», как называет ее Даниэль Вельцер–Ланг, происходят отныне на виду у всех, в общественных и получающих прибыль местах — клубах, ресторанах, саунах. Она стала следствием, с одной стороны, возродившегося в новом качестве спроса на проституцию, а с другой стороны — запросов мужчин, которые любят называть себя «свободомыслящими». В эту индустрию вовлекаются и пары. В данном случае имеет смысл поставить вопрос о практиках, которые всегда являются следствием мужских запросов, встречая сопротивление у женщин, хотя те и стараются раздвигать границы дозволенного, и которые имеют своей главной целью предоставить мужчинам доступ к новым партнершам взамен своих подруг. Под маской сексуальной свободы, таким образом, здесь скрывается новая форма мужского доминирования[223].
4. От «сексуальности для всех» ко всевозможным видам сексуальности?
Гомосексуалы выиграли как от освобождения нравов, так и от снижения давления гетеросексуальных норм, навязываемых браком. История гомосексуального движения тем не менее не поступательна, в ней чередуются успехи и неудачи, не говоря о том, что на протяжении всего XX века репрессии в отношении гомосексуалистов были в порядке вещей. Немецкое и английское законодательство, к примеру, преследовало совершеннолетних мужчин, вступающих в гомосексуальную связь по взаимному согласию, в том числе в своих частных владениях. Поэтому отмена статьи 175 в Германии стала первым требованием гомосексуального движения в Веймарской республике. В США в 1930‑е — 1940‑е годы в отношении гомосексуалистов также принимались карательные меры, вплоть до заключения в тюрьму и увольнения с государственной службы. Франция в это время, наоборот, слыла райской страной. Гомосексуальность как таковая никак не подавлялась, и борьба с сексуальной преступностью привела к уравниванию гомосексуалов с гетеросексуалами, если не считать отклонения от этого курса при режиме Виши. Женский гомосексуализм, напротив, повсеместно оставался безнаказанным. Общество игнорировало лесбиянок, и в начале XX века гомосексуалисты часто объединялись с ними, если не считать Германию, где их отвергали из женоненавистничества. Репрессии в отношении лесбиянок означали бы в конечном итоге признание того факта, что женщины способны обладать собственной сексуальностью. Кроме того, детородная функция женщин сохранялась, и считалось, что их можно «перевоспитать».
С 1920‑х годов начинается первый «золотой век» гомосексуализма, в период которого нетрадиционная ориентация приобретает публичный характер, доселе ей неведомый. Свой вклад в этот процесс вносит и литература: речь идет о посмертной публикации двух томов «Содома и Гоморры» Марселя Пруста, признаниях Андре Жида в «Коридоне», а в Англии — о сентиментальном лесбийском романе воспитания Редклифф Холл «Колодец одиночества». Наряду с этим гомосексуалы объединяются, и гомосексуальные группы теперь представлены в Лондоне, Париже, Нью–Йорке и в особенности в Берлине, где благодаря большому числу собственных баров, клубов, ассоциаций, прессы гомосексуалы могли жить открыто, встречаться и развлекаться[224]. В каждой стране, однако, существует своя гомосексуальная культура: в Англии — элитарная, во Франции — индивидуалистическая, в Германии — общественная и активистская. Эта страна первой дала миру движение в защиту гомосексуалов — «Научно–гуманитарный комитет» (WhK), основанный в 1897 году Хиршфельдом.
В Англии в 1920‑е годы гомосексуализм был даже в моде. Конечно, эта мода распространялась на узкий круг людей, обеспеченную и образованную элиту, где преобладали художники и интеллектуалы, но в этом однородном кругу тип гомосексуального поведения считался естественным. Источником моды на гомосексуализм были два образовательных института, в которых обучались исключительно лица мужского пола: частная школа–интернат (public school) и университет. После реорганизации Рагби и увеличения числа интернатов в 1840‑е годы школы подобного типа стали обязательным этапом в образовании мальчиков, учащихся старших классов в возрасте от десяти до восемнадцати лет. В изолированном мужском мире, где старшие помыкают младшими (существует официальная должность «старшего ученика»), в порядке вещей оказывается не только притеснение новичков и грубое обращение, но и «романтическая дружба», а также гомосексуальные практики. К гомосексуальности, хотя она и подвергается периодически репрессиям со стороны ответственных лиц, относятся терпимо, ведь самая главная функция школ–интернатов — обучить правящую элиту, которая была бы сплочена общими ценностями и верной дружбой, имеющей сильную гомосексуальную коннотацию. Таким образом, этот вид практики стал повседневным и считался юношеским увлечением, не влияющим на будущую сексуальную ориентацию. Большинство учеников действительно потом женились, но в случае, если их гомосексуальность подтверждалась, реализация подавленных желаний не вызывала у них чувства вины. В университетах лишь закреплялись нравы и обычаи школ–интернатов. В период между двумя войнами Кембридж, а затем Оксфорд стали местом средоточия гомосексуализма среди студенчества и профессуры. С этой точки зрения Блумсберийский кружок[225], с его внутренними дружескими и семейными отношениями, а также университетским прошлым, представляет собой показательный пример подобного сообщества.
В Германии и в особенности во Франции, где начиная с XIX века развиваются экстернаты, не существовало аналогов английских школ–интернатов. Этим можно объяснить такие особенности французского гомосексуализма, как неорганизованность и атомизированность. Наряду с этим возникновение международной общественной «площадки» способствовало первому утверждению гомосексуальной идентичности. Примечательно, что Кристофер Ишервуд, будучи одной из главных фигур английского гомосексуализма в межвоенный период, в 1970‑е был активистом американского гей–движения, обеспечивая передачу эстафетной палочки от одной страны к другой.
Начиная с 1920‑х годов наблюдается рост терпимости в отношении гомосексуальности. Она даже становится символом современности. Художники Отто Дикс и Георг Гросс, будучи по ориентации гетеросексуалами, также попадают под очарование Берлина и его «девиц с моноклями». Безусловно, в данном случае речь идет об интеллектуалах, общественном меньшинстве, но пресса единодушно благоволит этим портретным работам художников. Сейчас уже сложно, по причине отсутствия опросов, в цифрах оценить отношение к ним общества. По всей видимости, гомофобные настроения в это время все еще сильны в среде малой и средней буржуазии, а также в простонародье. Однако следует задаться вопросом о судьбе рабочих, составлявших в то время основную часть преследуемых законом гомосексуалистов, наряду с проститутками, число которых увеличилось из–за экономического кризиса. Для многих англичан любовник–рабочий стал идеалом, который соединял в себе привлекательность смелого мужчины и защитника угнетенных. Однако, несмотря на то что в это время о гомосексуалах в обществе отзываются более благосклонно, чем до 1914 года, не стоит преувеличивать прогресс, достигнутый в сфере общественного мнения, о чем свидетельствует история Германии. В действительности, приобретенные права были крайне зыбки, что подтверждают репрессии, обрушившиеся на немецких гомосексуалов начиная с 1933 года. Идеология национал–социалистов, видевших в гомосексуалистах «врагов народа», стала определяющей в их судьбе, а общественное мнение к их участи было равнодушно. Диктатура, таким образом, смогла прибегнуть к их кастрации, затем без суда и следствия заключала их в концентрационные лагеря и, наконец, после «ночи длинных ножей» стала уничтожать физически. Примечательно, что травля гомосексуалов заинтересовала историков очень поздно.
После II Мировой войны под дискриминацию гомосексуалов была подведена научная база. Согласно классификации ВОЗ, официально принятой Францией в 1948 году, гомосексуализм считался болезнью, которую психиатры пытались лечить самыми что ни на есть зверскими способами — электрошоком и даже лоботомией. В 1954 году 36% гомосексуалов, ставшие жертвами подобных представлений, были объявлены больными. В подобных условиях гомосексуалы уходят в подполье и, когда в 1954 году французский журнал «Аркадия» выступил за повышение коллективного роста осведомленности в этом вопросе, его инициатива ограничилась узким дружественным кругом. Общество целиком гомосексуальный вопрос затронул в 1969 году, когда произошел ряд сопротивлений полиции, устроившей рейды в нью–йоркском баре «Стоунволл–инн», посещаемом гомосексуалами. С этого момента гомосексуальное движение все стремительнее одерживает новые победы. В 1974 году Американская психиатрическая ассоциация исключила гомосексуализм из списка психических заболеваний. Параллельно с этим у гомосексуалов зародилось мощное социальное движение — сначала в США, а затем в Европе и, наконец, во Франции, где появились, к примеру, такие ассоциации, как Гомосексуальный фронт революционного действия, созданный в 1971 году на волне протестных настроений мая 1968‑го. Репрессивное законодательство также стало сходить на нет. Во Франции в законе 1985 года о запрете дискриминации выбор сексуальной ориентации был вписан рядом с религией, полом и национальностью. Участились случаи «каминг–аутов»: если в 1979 году первый «гей–прайд» собрал в Париже лишь 800 участников, то в 1999 году их вышло 250 000, причем к геям и лесбиянкам отныне присоединяются и гетеросексуалы. Степень толерантности к гомосексуалам в обществе также быстро растет — во Франции даже стремительнее, чем в Соединенных Штатах. В 1975 году 42% французов видели в гомосексуализме болезнь, а 22% — извращение. В 1996 году 67% опрошенных считали, что это «другой способ вести сексуальную жизнь»[226]. Эпидемия СПИДа, которая нанесла тяжелый удар сообществу гомосексуалов, отнюдь не повлекла за собой их нового остракизма, а была побеждена благодаря сплоченной мобилизации гей–ассоциаций. Законодательная власть наделила гомосексуалов новыми правами, о чем во Франции свидетельствует закон от 15 ноября 1999 года, позволивший им заключать «гражданский договор солидарности». Теперь гомосексуалы добились того, что стали неотличимы от основной массы общества и частично отказались в своем поведении от изоляционистской стратегии сепаратизма и отстаивания своих прав на американский манер[227]. Более того, в настоящее время они сами влияют на общество целиком. С этой точки зрения показательно распространение мужской проституции, занятие которой происходит при переодевании в женскую одежду. В Лионе постепенное исчезновение проституции в последней четверти века сопровождается ее восстановлением в силу того, что на пятнадцать травести 1975 года приходится сотня сегодняшних, а это треть всех работников данной отрасли. Подобный сдвиг говорит о появлении новых запросов у клиентов, которые называют себя гетеросексуалами, но ищут такой вид сексуальности, которого женщины им дать не могут[228]. Благодаря банализации гомосексуализма и общему раскрепощению нравов появились новые виды «нонкомформистских» понятий и типов поведения. К примеру, облик мужского тела все больше и больше попадает под влияние образа, предложенного геями. Типаж мужественного, спортивного и мускулистого гомосексуала, импортированный в 1990‑е из Калифорнии, наводняет моду и рекламу. В целях провокации позволяя себе играть «геев из музыкального кабаре», высмеивая стигматизацию женоподобных гомосексуалов, а также переодеваясь в женщин–трансвеститов, чтобы поиграть с образом лесбиянки–буч, геи равным образом освободили как женскую составляющую мужественности, так и мужскую составляющую женственности, полностью перевернув традиционное разделение на два пола[229].
5. Право на удовольствие, добровольное согласие и отказ от насилия
Вместе с сексуальной свободой рука об руку приходит представление об осознанном согласии. Происходит отказ от различных видов сексуального насилия, отчего выигрывают, в первую очередь, дети. Этот процесс занял очень много времени. Развратные действия в отношении малолетних без применения насилия не подвергались наказанию до 1832 года, тогда как развратные действия с применением насилия преследовались лишь в том случае, если ребенку было меньше одиннадцати лет. Благодаря закону, принятому в 1832 году, были внесены два важных изменения: развратные действия в отношении малолетних младше одиннадцати лет без применения насилия также классифицируются как правонарушение, а возрастная планка детей, подвергающихся развратным действиям с насилием, была поднята до тринадцати лет. Реформа 1863 года также повысила возраст в законе о несовершеннолетних, к которым применяются развратные действия без насилия, до тринадцати лет. Сразу же после этого начала обсуждаться возможность увеличения возраста до пятнадцати лет, но подобный закон был принят только в 1945 году. Понижение общественного порога толерантности в этом вопросе начинается с 1870‑х годов, и вскоре пресса тоже приступает к освоению этой темы. Правосудие, долгое время занимавшее примиренческую позицию, выходит на один уровень с общественным мнением и прессой на рубеже веков. Вслед за войной 1914 года СМИ несколько охладели к теме совращения малолетних, и новая вспышка интереса возникла уже в 1970‑е годы, но под другим углом. На волне выступлений 1968 года некоторые писатели, например Габриэль Мацнев и Тони Дювер, сочувственно описывали в своих произведениях отношения с несовершеннолетними, реабилитируя тем самым педофилию. Пресса отозвалась на эти произведения хвалебными рецензиями. «Libération» открыто критикует «буржуазную тиранию, которая сделала из влюбленных в детей легендарных чудовищ». Газета даже дает слово Жаку Дюге, обвиняемому в развратных действиях в отношении малолетних. Он пользуется этим, чтобы изобличить законы, подавляющие детскую сексуальность, и превознести семью с вольными нравами, где отчим спит с падчерицами и пасынками, и «с одиннадцатилетними тоже», «не тайком, а в супружеской постели»[230]. Этот одобрительный тон прессы тем не менее никак не повлиял на общественное мнение, которое оставалось крайне враждебным и рассматривало педофилию как преступление.
Проблема выходит на первый план вместе с обсуждением темы борьбы с изнасилованиями. На протяжении всего XX века судьи проявляли больше понимания в отношении насильников, нежели их жертв. И действительно, долгое время насилию находили оправдание, его объясняли как обыкновенное проявление мужественности, считалось, что жертвы согласны с подобным ходом вещей или сами ответственны за вызванные ими желания[231]. Процесс в Экс–ан–Провансе 1978 года, входе которого происходили разбирательства между бельгийскими туристками и тремя корсиканцами–агрессорами, стал в этом отношении переломным, поскольку на нем насилие было представлено как недопустимое посягательство на право женщин распоряжаться собственным телом. Соответствующий этим взглядам закон от 24 декабря 1980 года предложил широкое и не сексистски окрашенное определение изнасилования: проникновение, производимое в какой бы то ни было форме по принуждению, обманным путем или с применением силы. Закон отныне наказывает не за оскорбление целомудрия или чести, а за нарушение целостности тела, границ «я». В 1992 году эта статья была дополнена пунктом о сексуальном домогательстве. И лишь в 1996 году в суд подали жалобу двое заключенных, приподняв завесу над мужскими изнасилованиями и сексуальными притеснениями, происходящими за решеткой[232].
В подобной обстановке снисходительное отношение к педофилам не могло быть приемлемым в обществе, особое внимание которого теперь направлено на инцест. Это злодеяние ненавистно для всех, так как совершается в домашней интимной обстановке и допускает всевозможные бесчинства, лишая ребенка, который полностью подчинен родительской и сексуальной власти, права голоса. Преступление чудовищно еще и потому, что влечет за собой необратимые травмы и «психологическую смерть» потерпевшего. Закон 1989 года продлил срок давности подачи жалобы об инцесте на десять лет после достижения совершеннолетия. После этого любые виды сексуального насилия в отношении детей стали активно разоблачаться. Дело Дютру[233], которое вызвало общеевропейский резонанс, положило конец какому бы то ни было снисхождению к преступникам. В спальне возможно все, но только между двумя взрослыми, давшими на то свое согласие. Неприкосновенность тела составляет, таким образом, новую преграду для желания. Это изменение говорит о возрастающей роли, которая отводится телу как сексуальному объекту на протяжении XX века в научных обсуждениях, средствах массовой информации, а также о формировании представлений человека о собственном «я».
Заключение. Освобождение нравов и освобождение женщин
Тело — носитель ценностей, которые приобретаются человеком благодаря телесным выражениям и научным обсуждениям, активно ведущимся со времен «прекрасной эпохи». Оно также является объектом власти, в особенности это касается женского тела, которое представляет собой «высокую ставку в вопросе общественного управления и контроля»[234]. Из этой игры женщины вышли победительницами. Впервые за историю они смогли контролировать свою фертильность и получили доступ к удовольствию без примеси скандала или опасности. Несмотря на все возрастающую унификацию полов, линии поведения мужчин и женщин не стали полностью одинаковыми. Женщины отводят больше места душевной привязанности в своих сексуальных отношениях, нежели мужчины. Наряду с этим материнство подталкивает их к снижению половой активности, благодаря чему они более склонны отвечать на инициативу мужчины, нежели проявлять ее сами.
Кроме того, необходимо разделять сексуальное освобождение и освобождение женщин. Так, появление противозачаточных пилюль может интерпретироваться некоторыми мужчинами как готовность женщины неограниченно удовлетворять их желания. Об этом свидетельствует и разочарование девушек из поколения «беби–бума» в поведении некоторых молодых людей, которые, пользуясь их новой сексуальной доступностью, придумали «новую двойную мораль»[235], характеризующуюся быстрым сближением с девушкой со стороны мужчины, что является первым признаком эксплуатации женского тела. Когда молодой человек сталкивается с отказом в сексуальной близости, он не продолжает ухаживания, а пытается найти более уступчивую партнершу. И наконец, даже если отношения оказались длительными, девушки сталкиваются с новой мужской тактикой — шантажом, угрозами разорвать отношения. У них не остается выбора: они уступают из страха быть брошенными. Более того, некоторые мужчины, как только удовлетворяют свои сексуальные потребности, без угрызений совести оставляют своих партнерш. Тридцать лет спустя практика обмена половыми партнерами, которая, очевидно, стала очередным этапом на пути избавления от морали традиционного общества, зачастую таила в себе ту же манипуляцию женщинами. Можно сказать, что мужское доминирование приняло новый облик и получило развитие под маской сексуального освобождения. Что касается достижений репродуктивной медицины, то они рискуют привести к неожиданным последствиям: сделать женское тело подневольным производителем яйцеклеток для терапевтического клонирования и инкубатором для вынашивания пробирочных беременностей. Сексуальная эмансипация и равенство полов еще далеки от совершенства. Стоило бы изучить историю развития тела как сексуального объекта сквозь призму «социальных отношений полов».
ГЛАВА II Обыденное тело
Паскаль Ори
Обыденное состояние человеческого тела по определению, если говорить о границах этого понятия, подвержено влиянию глобального общественного движения. Основной тенденцией, управлявшей им на протяжении XX века, явилось доминирование городского образа жизни по отношению к сельскому, что закончилось полной победой города, если рассматривать этот период в целом. Это соотношение сил проявляется, разумеется, в демографическом плане, но оно еще заметнее при анализе экономической и культурной ситуации: городской образ жизни, уже игравший роль эталона для традиционной элиты, отныне начинает навязывать свои ценности массам. Это происходит либо напрямую, в постоянно развивающихся населенных пунктах, либо косвенно — за счет урбанизации и постепенного превращения в пригороды деревень, расположенных возле городов, или же за счет навязывания, как научной культурой, так и культурой популярной, «городского» стиля поведения сельским сообществам в непрерывном процессе девитализации и деструктурирования. Как и любая доминирующая тенденция, этот процесс допускает исключения, которые не вписываются в данное обобщение. Изначальная пространственно–временная ситуация, где зарождается данная тенденция, сводится почти исключительно к Западу (хотя попутно стоит отметить существование и противоположного движения — ориентализации). Речь идет о Великом Западе, сформировавшемся на основах Западной Европы и Северной Америки, который после I Мировой войны оказывает влияние (за единственным исключением — ваххабиты, способствовавшие созданию Саудовской Аравии) на элиту, стоящую во главе всех других государств: от негуса до персидского шаха, от хашимитов до Гоминьдана.
Впрочем, к этому глубинному социальному движению, которое, как можно догадаться, не могло не оказать влияния одновременно на представления о теле и на телесные практики, объединенные и реорганизованные в соответствии с ними, добавляются столь же массовые и решительные тенденции, затрагивающие экономические, технические и политические условия жизни того же населения. Что касается экономического фактора, то в своем отношении к работе и труду человек XX века будет все менее связан с первичным (производственным) сектором экономики (хотя и связь сохранится в плане образования) и все более — с сектором непроизводственным (сфера обслуживания), что повлечет за собой существенное изменение восприятия пространства и времени. В техническом отношении одно из значительных изменений века коснулось как сельских, так и городских жителей, и оно имело прямое отношение к телу: речь идет о решительном прогрессе в организации водоснабжения и канализационной системы[236]. Но к изменению технической системы можно также добавить усовершенствование медицинского мастерства, что нашло выражение непосредственно в расширении возможностей химического (совокупность лекарственных средств) и механического (хирургия) характера и в конечном счете в существенном увеличении средней продолжительности жизни. Эту важную тенденцию необходимо рассмотреть тем подробнее, что ее будет сопровождать общественная политика, направленная на организацию времени — а следовательно, и пространства, — специально предназначенного для не–работы (ограничение времени работы), для «отпуска» (с точки зрения работодателя), с тех пор как он станет «оплачиваемым», и, наконец, «организации досуга»[237]. Нельзя сказать, что раньше общество не знало понятия otium[238], каникул или воскресного отдыха, однако новизна здесь заключается в освобождении от церковного влияния, в официальном признании и финансовой компенсации этого временного отрезка, что представляет собой необходимые, но не исчерпывающие условия для возникновения если не «цивилизации»[239], то по крайней мере досуговой культуры.
Остановиться на этой стадии было бы, однако, недостаточно или по меньшей мере поверхностно. В самом деле, как дать точное определение? Культуралистское прочтение будет стремиться изменить порядок ключевых моментов и объяснять, например, распространение культуры умывания, душа и ванны не развитием водоснабжения, а если и не возросшей, то по крайней мере новой гигиенической потребностью, находящейся под влиянием пастеровской революции, которая изобрела, во всех смыслах этого слова, микроба как нового врага человеческого рода[240]. Начало активного использования воды, если уж речь зашла о нем, доказывает, что следует принимать во внимание множество факторов, так как, помимо в некотором смысле поверхностных забот о гигиене тела, не стоит забывать ту роль, которую водопровод мог подспудно сыграть в ином отношении, связанном с гигиеной. Мы говорим о борьбе с алкоголизмом ка фоне его чрезвычайного распространения. Такая точка зрения преобладает среди активистов этой борьбы, особенно англичан — инициаторов установки «фонтанов» с питьевой водой в общественных местах.
В любом случае очевидно, что общественная обстановка оказывает влияние, и немалое, на обыденное состояние тела, которое, в функциональном отношении, находится на перекрестке максимального количества определений, от наиболее духовных до наиболее материальных. Но все они при этом более или менее популяризированы средствами массовой информации, печатью, рекламой, фантастической литературой — в общем, средствами распространения представлений, а следовательно, и ценностей. Так, например, в большей степени, чем школа или издания научного характера, а часто и раньше них, женская пресса, литература о моде и о красоте, популярная медицинская печать[241] и, к концу XX века, новая мужская пресса (гетеро– и гомосексуальной направленности) стали, помимо романов, фильмов, скандальных или популярных радио– и телепередач, основными каналами, с помощью которых внедрялась научная вульгата, связанная с физиологией (например, определенная диетическая культура) или психологией (например, некоторые направления психоанализа) и, кроме того, новые концепции вселенной. На первых порах ученые объединили все это под сомнительным и инертным определением «изменение мышления». Мы предложим более четкое описание этого процесса к концу нашего разговора, когда напомним, как последовательно объяснялись на протяжении почти века вышеупомянутые если не ментальные, то телесные изменения: сначала на уровне в каком–то смысле элементарном, но основополагающем, — тела как такового (Поль Валери: «Нет ничего глубже кожи»), затем на уровне игры тел, в их общественном выставлении напоказ, и наконец, в особых обстоятельствах, когда тело подвержено тому или иному испытанию.
I. Создание образца или соответствие ему?
Ограничимся ли мы семьюдесятью пятью годами, которые разделяют, и одновременно соединяют, покушение в Сараево и падение Берлинской стены (ограничение логичное, но обусловленное в основном политическими причинами), или расширим этот срок, начиная, например, со времени открытия (около 1900 года) первых «институтов красоты» и заканчивается снятым через сто лет американским сериалом «Части тела» («Nip/Tuck»), где все действие развивается в беспощадном мире эстетической медицины, — тело человека XX века, и в первую очередь, на протяжении долгого времени, женское тело, будет подвергаться тройному риску: косметическому, диетическому и пластическому. Здесь они перечисляются в порядке увеличения новшеств в сравнении с прежними практиками.
1. Непрерывное обновление косметики
В том, что касается непосредственного ухода за кожей, прежде всего за кожей лица и рук, XX век представляет собой скорее не революцию, а непрерывную модернизацию. Она объединяет некоторые подлинно передовые позиции, как научного характера, касающиеся знаний о дерме и эпидермисе, так и технического, предоставляющие возможность синтеза активных молекул: здесь уже не столь резки стратегические изменения, обусловленные эволюцией критериев «красивого» и «здорового».
В силу этих критериев макияж, осуждаемый за искажение реальности, вынужден отступить перед представлениями о защите, очищении и восстановлении[242]. Здесь, как и в других сферах, возродившаяся начиная с 1980‑х годов мода на соблазн и чувственность воспринимается как возвращение к искусственности, что, однако, не позволяет реабилитировать румяна и крем–пудру, царившие до 1900 года, но ограниченные в использовании в XX веке. Борьба со старением за счет отодвигания границ «пенсионного возраста», напротив, предоставляет полную свободу действиям, нацеленным на то, чтобы устранить, уменьшить или отсрочить появление морщин, пятен и других признаков старости. Пилинг — английский термин, означающий «обновление», — получивший распространение в период между двумя войнами, последующие поколения попытаются заменить более мягким «гоммажем» при помощи продуктов, очищающих поры. Эволюция составов самих средств демонстрирует, несомненно, возросшие возможности синтеза, идет ли речь об использовании (начиная с 1970‑х годов) бычьего коллагена, очищенного и обработанного так, чтобы его могла воспринимать человеческая кожа, или же о производстве исключительно в лабораторных условиях устойчивых полигликолей, не подверженных гниению, не вызывающих аллергию и подходящих в качестве основы для новых восков, кремов и глицериновых мазей. Однако причина недавнего успеха водорослей не столько в том, что их растительный клей оказался пригоден для изготовления гелей, сколько в символическом смысле самого компонента, раскрывшемся в эпоху помешательства на экологии[243].
В сущности, главное формальное изменение всего века, вероятно, носит экономический и, следовательно, социальный характер: основывается сеть предприятий, главной направленностью которых становится уход за внешностью — от производства до коммерциализации соответствующих продуктов. И хотя в последние тридцать лет XX века дальневосточный эталон (сначала японский, затем корейский) пытается завоевать Запад своими лишенными излишеств, часто минималистскими концепциями, до этого в символическом и экономическом смысле на косметическом рынке доминируют Франция и США. Французский синтез двух точек притяжения — и двух основ чувственности — моды и парфюмерии, начиная с Пуаре и Шанель[244], — задает тон всему веку. Но именно в англоязычном мире рождается новый характер предпринимательства, который можно описать как бесконечный процесс популяризации «ухода за внешностью», культивируемый в специально созданных для этого общественных местах — beauty parlors, салонах красоты.
В этом экономическом секторе, как и во всех других, профессионализация порождает специализацию. Так, предсказуемым было появление в 1916 году первого французского трактата о маникюре[245]. С этого времени возникают коммерческие сети международного масштаба, основанные в рамках подлинной косметической индустрии. Элена Рубинштейн сделала состояние на сочетании представлений о новой дерматологической реальности (крем Valaze, первый из большой линии средств), обостренного чувства рекламы (ее спутником в период расцвета был посвятивший себя этому ремеслу журналист Эдуард Титус, после которого она вышла замуж за грузинского князя) и систематического использования салонов красоты. Эта формула с 1902 года испытывалась в Мельбурне, в 1908 году была применена в Лондоне, а в 1912‑м — в Париже, где Элена окончательно обосновалась[246]. Благодаря международной конкуренции — главным образом за счет деятельности американских объединений, запущенных Элизабет Арден и Чарльзом Ревсоном, — косметические средства становились все более и более разнообразными (с 1923 года каталог Рубинштейн предлагал уже восемьдесят различных продуктов). И хотя все предприятия играли сразу на два фронта, предлагая декоративную косметику (в том же каталоге насчитывается сто шестьдесят позиций для макияжа) и средства для ухода за кожей, важно заметить, что именно второе направление предопределило долговечность такой фирмы, как торговый дом Рубинштейн. Этой долговечностью он обязан непрерывной череде инноваций, настоящих и лишь заявленных: если ограничиться только 1950‑ми годами, то можно вспомнить появление в 1950 году первого «глубоко очищающего средства» (deep cleanser), в 1954 году — первого крема, «обогащенного витаминами», в 1956‑м — первой «увлажняющей эмульсии».
В то же время новые предприятия, представлявшие индустрию парикмахерского дела — нового беспрецедентного явления, — также выдвигали требования чистоты и здоровья. В Европе немецкий дом Schwartzkopf (основанный в 1898 году) предлагает новинку, получившую название от слова индийского происхождения — champooing[247]: в 1903 году он появляется в виде растворимого в воде порошка, в 1927‑м — в жидком виде, в 1933‑м — с безщелочным составом, и т. д. Начиная с 1920‑х годов империя L’Oréal объединяет продукты «для красоты» («элитная» краска для волос, созданная в 1907 году французом Эженом Шуэллером) и для здоровья (мыло Monsavon, шампунь Dop и т. д.). В конце века эта империя владеет уже и фирмой Lanvin, и Biotherm и, разумеется, домом Рубинштейн[248].
2. Рождение и триумф современной диетологии
Как система, направленная на поддержание здоровья и лечение болезней за счет соблюдения определенной «диеты», которая этимологически подразумевает определенный образ жизни, связанный с природой, диетология не только является столь же древней, как медицина, но и просто от нее неотделима, особенно в древнегреческий и средневековый периоды. Стоит отметить, что, будучи отодвинутой на задний план утверждением нового медицинского знания, основанного на все более глубоких представлениях о физических и химических свойствах организма, диетология потеряла право на самостоятельное существование. В XX веке, особенно в его второй половине, напротив, диетология возрождается как самостоятельное знание, начиная с упорядочивания нетипичных инициатив «естественной медицины». Эти инициативы, по преимуществу германского происхождения (Германия, Австро–Венгрия, немецкая Швейцария…), способствовали, в противовес господствующей доктрине, реабилитации физиотерапии и приданию вегетарианству научного характера (во Франции — в связи с вездесущим доктором Картоном[249]).
Сама современная диетология возникла в рамках установленной системы, в связи с новым рассуждением о «витаминах» (в Швейцарии — в связи с доктором Бирхер–Бреннером). В межвоенный период это движение уже успело оформиться в англоязычных странах в связи с идеей о рациональном питании. Но многие страны принялись разрабатывать собственные подходы. Так, во Франции в 1937 году был создан Институт питания под руководством Андре Майера, открывшего физиологическую лабораторию, в которой Люси Рандуан запустила новаторскую исследовательскую программу, предполагавшую, с одной стороны, изучение «состава продуктов питания», с другой — реального опыта потребителей. Начиная с периода Освобождения эта специфика получила развитие в активной деятельности врача Жана Тремольера, который, что немаловажно подчеркнуть, как и аббат Годен, был активным участником Католического движения[250].
Выйдя за пределы волюнтаризма, это движение получает еще большее развитие в западных странах, где этому способствует появление новой профессии — диетолога, а точнее — женщины–диетолога, потому что с самого начала и до сих пор это движение оказалось чрезвычайно феминизировано. Во Франции в середине века уже создается самостоятельная, подтверждаемая дипломом специализация. Для следующего поколения будет все более характерно внедрение диетологической компетенции в суть социальных практик, предполагающее две стратегии: появление врачей новой специализации «нутриционист» (специалист по питанию) и первых независимых экспертов — женщин–диетологов.
Новые диетические методы, обещающие быстрый и кардинальный результат, постоянно предлагают люди, либо не связанные с медициной, либо имеющих к ней лишь косвенное отношение. Не углубляясь в анализ умозрительных концепций, порожденных некогда «методом Монтиньяка» или «критской диетой», достаточно отметить повторяющийся успех этих предложений, свидетельствующий о массовом и неослабевающем спросе, который никогда не сможет быть удовлетворен[251]. Это растущее беспокойство, свойственное развитым обществам, превращается у некоторых людей в тревогу и даже в навязчивую идею, нередко сочетающуюся со сложным и трудноизлечимым диагнозом анорексии. Оно подпитывает диетологическую вульгату, получающую большое распространение и становящуюся, в связи с передовыми позициями биологического знания, все более и более наукообразной, о чем свидетельствует переход от темы «целлюлита» к «холестерину», затем к различию между «хорошим» и «плохим» холестерином и т. д.
Подобные диетологические знания, варьируясь от совершенно научного до крайне сомнительного, попадают в среду общества, все более чувствительного к вопросу о полноте, начиная от ее нелицеприятных изображений и заканчивая реально наличной проблемой. Первое отсылает главным образом к культурному изменению, второе же — к изменению экономическому. В обществе, где исчезли голод и неурожай, изящество может демонстрироваться худощавостью, что сначала имеет отношение лишь к высшему и среднему классам. В то же время подобное освобождение от связанной с питанием зависимости ведет к тому, что на заводах и в конторах работники при выполнении работ, все более имеющих «сменный» характер и все менее требующих большой физической силы (что, как мы увидим, не отменяет ни их трудоемкости, ни возможной опасности), начинают употреблять в избытке белки, углеводы и жиры. Даже в таких странах, как Франция, где в течение определенного времени средний вес мужчин и в особенности женщин не только стабилизировался, но и уменьшился, проблема лишнего веса на заре XXI века вновь становится навязчивой идеей наряду с личным «образом себя» и вопросом общественного здоровья. Еще больше этот процесс затрагивает страны, давно столкнувшиеся с проблемой чрезмерного потребления калорий, — такие как США, а также Япония, а затем и Китай, где в рамках одного поколения был пройден путь от умеренности в пище до сверхпотребления калорий[252].
Впрочем, начало популярности этого нового диетологического знания, констатируемого появлением специальных рубрик в женских журналах[253], совпадает с апогеем культа экстремальной худобы, спровоцированным в Европе популярностью куклы Барби — европейской статуэтки для взрослых, которая начиная с 1960‑х годов благодаря стратегии предприятия Mattel превратилась в американскую икону для маленьких девочек[254]; в то же время в Америке все более популярными становятся модели комплекции Твигги[255]. Даже если в дальнейшем ситуация и меняется, критерий худобы продолжает превозноситься, будучи поддержан медицинским дискурсом, располагающим многими средствами для установления связи между тем, что можно назвать «лишним весом», и болезнями, особенно сосудистой системы. В своей крайней форме, при постоянно растущем числе пациентов и пациенток, развитие диетологии ведет к использованию средств физической манипуляции (гальванический ток с ионизацией активного типа, мезотерапия, лазер и т. д.), включая случаи чисто хирургического вмешательства (липосакция), что сближает диетологию этого направления с очень обширной и типичной для XX века сферой пластической медицины.
3. Хирургическая пластика
Речь здесь пойдет не о восстановительной хирургии, оправданной желанием «сократить ущерб», принесенный телу в результате войны или несчастного случая, но о родственной ей эстетической хирургии, которая не отвечает никаким другим запросам, кроме телесных, даже если ее составляет большой диапазон процедур: от простого лифтинга, заключающегося лишь в подтяжке кожи, до переделки ягодиц, груди или лица, иногда с использованием имплантатов, то есть практически протезов. Иными словами, сюда входят все виды операций, которым лекарственная индустрия в конце века оказала большую поддержку за счет внедрения ботокса и DHEA (дегидроэпиандростерона)[256].
Мы будем придерживаться гипотезы, согласно которой одной из основных причин успеха этого вида хирургии, одновременно в техническом и социальном (то есть и в экономическом) плане, стало все большее оголение тела, прежде всего женского, что ограничило возможности и, следовательно, роль косметики и оправдало использование средств более глубокого вмешательства. Это делает обоснованным культуралистский подход, который не довольствуется классическим ответом (согласно последнему, пластическая хирургия стала лишь результатом экспериментов и развития восстановительной хирургии периода I Мировой войны; во Франции, начиная с 1919 года, это было связано с деятельностью врача Раймона Пассо). Действительно, если представления о теле, в частности о женском теле, спровоцировали почти полное его преобразование, остается непонятным, почему хирурги, вернувшиеся с фронта, не могли бы найти применение своим навыкам ни в чем другом, кроме как в некотором гражданском подобии лечения «инвалидов войны с лицевыми ранениями». Зато с точки зрения «здоровых» и крепких пациентов, жаждущих красоты или омоложения, развитие анестезии и появление в конце 1930‑х годов антибиотиков, сокращающих риски, сыграло решающую роль в распространении того, что с 1907 года в США уже именовалось косметической хирургией[257]. На самом деле не случайно, что пластическое моделирование изначально завоевало популярность именно в этой стране: это случилось не потому, что она оказалась как–то особенно затронута войной, а, наоборот, оттого, что она раньше остальных погрузилась в пучину современного благополучия, о котором мы можем судить по уровню жизни и особенно по всепобеждающим индивидуализму и зрелищности (иллюстрированная печать, кино и все виды шоу). К этому добавляется динамичность индустрии пластических материалов, которая, например, вывела в свет жидкий силикон (предприятие Dow Corning), а затем смогла применить его в технике «эстетического» моделирования. В 1926 году француженка Сюзанна Ноэль пыталась пропагандировать этот новый вид хирургии, еще малопонятный и недолюбливаемый, во имя его предполагаемой социальной роли. Спустя полвека, когда с точки зрения рыночного предложения время шарлатанства давно закончилось, западные страны столкнулись с исповедуемой пациентами индивидуалистической концепцией: теперь пациенты знают, как распоряжаться практическими методами, позволяющими удовлетворить две старые как мир мечты: соответствие канонам красоты, особенно в том, что касается половых признаков (губы, грудь, ягодицы и т. д.), и победу над старением, по крайней мере над ее телесными проявлениями.
II Новые правила игры тел
Нужно подчеркнуть, что подобная переформулировка социального запроса определяет телесные правила социальной игры, существенно изменившиеся в течение двух–трех поколений, идет ли речь о «представлении себя» (по определению Ирвинга Гоффмана[258]), о чувственной форме физического облика или же о системе украшений.
1. Представление и изображение себя и окружающих
Очередной этап развития технологии, который является по определению сильным потрясением, основой для создания и опосредования произведений искусства, как писал об этом Вальтер Беньямин еще в 1935 году[259], приобретает всю полноту значения лишь в качестве нового вектора понимания вопроса. Популяризация фотографии находит отражение не только в семейных альбомах, но и во все более активном ее применении официальными органами (фотография для удостоверения личности). Однако этот процесс идет дальше и проявляется в получающей все большее значение семейной самопрезентации, что подтверждает последовательное появление в частном пространстве сначала любительского кино, до сих пор доступного лишь избранной элите, как в техническом, так и в экономическом плане[260], затем видеосъемки и, наконец, цифровой фотографии. Две последние технологии наиболее распространены и в то же время наиболее интерактивны за счет их прямого использования и возможности бесконечной обработки материала.
О том, что техническое развитие оказалось в большей степени следствием и даже скорее катализатором процесса, нежели причиной, свидетельствует увеличение в частном пространстве количества таких заурядных и давно известных предметов, как напольные весы и, в первую очередь, зеркало. Будучи сначала неподвижно закреплено на фасаде зеркального шкафа, оно становилось все более мобильным; наконец, оно утверждает свое присутствие в современном обществе, хотя пуритане продолжали относиться к нему с недоверием: согласно правилам религиозных христианских пансионов в период между двумя войнами, если ребенок слишком долго стоял перед зеркалом, это вызывало строгое осуждение и даже могло повлечь за собой наказание. Суть процесса здесь заключается в легитимации внимания к самому себе, о чем свидетельствует эволюция средств массовой информации, этой легитимацией и порожденная.
Возможно, с подобным изменением моральных ценностей можно связать многочисленные проявления общей тенденции, состоящей в стремлении тела освободиться от пуританской условности, которая предписывает ему определенную модель поведения, в том числе напряженную манеру держаться («держись прямо»), скромность взгляда («опусти глаза»), замедленность передвижения («не беги») и дистанцию с телом другого человека («держись на расстоянии»). В этом отношении вся история XX века представляет собой историю относительно быстрой и более или менее полной инверсии этих ценностей[261].
Выступления модельера класса люкс Поля Пуаре против корсета начиная с 1906 года изначально затрагивали лишь очень узкий социальный круг. Тем не менее они предвещали последующую эволюцию, в ходе которой корсет был заменен эластичным поясом, который позже, во второй половине века, тоже ушел в небытие. В результате аналогичного, но более позднего процесса мужчина из среднего класса, который отличался от крестьянина или рабочего, кроме всего прочего, ношением галстука, в последней трети XX века начал отказываться от этой привычки, что подтверждают индивидуальные и групповые снимки этого времени.
Ценность такого качества, как гибкость, отвергаемого на всех других уровнях общественной жизни, от интеллектуальной терпимости до экономической приспособляемости, одержала верх над выправкой, которая отныне приравнивается к неприятной чопорности. В том же смысле прямой взгляд из дерзкого стал искренним. «Изобретение скорости»[262], в результате которого тела начали все быстрее и быстрее перемещаться в наземных и воздушных механизмах, нашло отражение и в способах пешего перемещения homo sapiens, поставленного в данные особые условия: пространство горожанина, но в еще большей степени его время — его ежедневные дела — породили тело, готовое из просто мобильного стать настоящим метеором. При этом, с другой стороны, расстояния между местами проживания, работы и досуга продолжают увеличиваться. Возможно, именно городская скученность может объяснить возросшую возможность сближения тел, соприкосновения кожи и слизистых? Однако ранее существовала типично сельская скученность, которая могла быть неразрывно связана с моральными представлениями о сдержанности. Как в общественном пространстве, так и в частном, тела любовников открыто демонстрировали, более, чем когда–либо, и различными способами свою близость. До такой степени, что дружеские прикосновения становились относительно редки, так как их все сложнее было отличить от любовных.
И пусть нельзя определить эту тенденцию по сути как простую «распущенность», вызывающую негативные коннотации у приверженцев старой системы ценностей, но это именно то, что пытаются доказать современные изменения законов выразительности[263]. Они больше не придают большого значения «театральности» мимики и жестикуляции: отныне она расценивается как показное поведение, свойственное главным образом праздничному хронотопу. Идет ли речь о процессе эгалитаризации или обезличивания, все говорит об отступлении системы этикета традиционного общества, которая основывалась на различении, иерархии и формализме (мужчины/женщины, молодые/старые, родители/дети, старшие/младшие, высшие/низшие и т. д.). Ее место занимает новая система с демократическими основами, тяготеющая к равенству, даже к обезличиванию.
Здесь, как и в других отношениях, но, возможно, в более явном виде, отступление относительно, поскольку затрагивает сферу таких вопросов, как правила приличий или позы и жесты, которые еще в течение длительного времени будут соотноситься с определенной культурной идентичностью, причем даже там, где принятие западного образа жизни, кажется, зашло очень далеко, например в восточных обществах, где распространены конфуцианство и синтоизм (Китай, Корея, Япония).
2. Новый гигиенизм
Эту двойственность возможной равнозначности между понятиями равенства и обезличивания едва ли не наиболее наглядно иллюстрирует активное развитие концепции решительно гигиенического тела. С межвоенного периода становится очевидным, что основной элемент внешнего облика мужчины находится в шатком положении и готов сдать позиции. Бородатый мужчина уступает место безбородому. Отдельные личности или группы людей, продолжающие носить бороду, делают это в противовес господствующей тенденции и в качестве более или менее радикального протеста, как было в 1960‑е годы у хиппующих анархистов или до сих пор остается у некоторых религиозных фундаменталистов[264].
Но больше всего общество было затронуто трансформацией понимания чистоты, которое оказывается, в свою очередь, трансформацией обонятельного восприятия. Статистические данные по оборудованию домов умывальными и ванными комнатами, по потреблению проточной воды, по реализации дерматологических продуктов, включая шампуни, позволяют говорить о том, что повседневная) жизнь становится все более «чистоплотной»[265]. Но наиболее характерной чертой этого периода можно назвать тенденцию, которая, как подмечает Ален Корбен, венчает эволюцию, начавшуюся с конца XVIII века: это стремящееся к абсолюту дезодорирование тела[266]. До сих пор, если не считать приспособлений на основе ладана, вроде бумаги для благовонных курений, уничтожение запаха, по сути, подразумевало ароматизацию. Теперь же появляется категория специальных средств, снижающих потоотделение (в частности, на основе солей алюминия), и антисептиков, составные элементы и товарный вид которых непрерывно усложняются: на смену порошкам постепенно приходят спреи и шариковые аппликаторы.
Возможно, к этой же гигиенистической волне стоит отнести и наиболее существенную революцию XX века, связанную с телом, для которой во французском языке появился метафорический термин «бронзирование», заимствованный одновременно из лексикона изящных искусств и воспитания[267]. Действительно, до I Мировой войны в словарях можно найти значения этого слова только в отношении скульптуры и гальванопластики: действие, заключающееся в покрытии некоторого предмета слоем, имитирующим бронзу. Спустя век речь по–прежнему идет о покрытии некоторым слоем и об улучшении внешнего вида, однако гипс оказывается заменен на тело. Этот переворот происходит менее чем за век. Специальной литературе, посвященной заботам о красоте, вторит литература романтическая, раскрывающая состояние души: в начале 1930‑х годов все еще господствует бледность, до белизны («алебастровая», «цвета лебединой шеи» и т. д.), или, скорее, отрицание загара. В 1913 году одна из книг о красоте из серии Femina–bibliothèque все еще советует мазь на основе огурца и оксида цинка, расхваливая между делом достоинства бобовой муки и сока из лука–порея «для красивого декольте». В том же году доктор Местадье, «врач–специалист», описывая симптоматику, все еще выступает против «характерного желтого вида», который принимает кожа, случайно подвергшаяся загару. Спустя тридцать лет, сразу же после II Мировой войны, медицина в целом продолжает предостерегать от опасностей, связанных с пребыванием на солнце, но одновременно возникает радикально новое утверждение об «этой новой моде, которой следуют на пляжах наши передовые сверхсовременные граждане», о «мании становиться коричневым», которая заставляет передовых женщин обращаться к «специалистам по созданию смесей, чтобы покрыть кожу загаром, надлежащим образом умастив ее специальным маслом»[268].
Что же произошло между этими двумя датами? Поддаваясь силе культа личности и очарованию любопытных фактов биографии, некоторые выдвигают на передний план Коко Шанель, имя которой оказывается связанным с этим явлением так же, как и с укорачиванием длины волос у женщин. Соответствующие события происходят где–то между ее пребыванием в Довиле в 1913‑м и в Рокебрюне в 1929 году. Географы, проявляющие больший интерес к широким массам, нежели к деятельному меньшинству, соотносят указанную моду с высадкой в 1944 году на берега старой Европы американских солдат, багаж которых был полон «специального масла», о котором шла речь выше. Тщательное изучение трех стратегических корпусов медицинских исследований, книг о красоте и женских журналов не позволяет склониться ни к одной из этих двух версий. Даже если предположить, что мадемуазель была первооткрывателем новой моды, ничто не указывает, ни на одном, ни на другом берегу Атлантического океана, что это явление получило развитие раньше 1930‑х годов. В то же время, если американофилия периода Освобождения и содействовала ускорению перехода к практике купания и загара, само явление зародилось гораздо раньше и при стечении совсем других обстоятельств. Новейшее исследование находит недостающее звено и в то же время важный элемент для понимания развития процесса. Этот элемент появляется в начале осени 1937 года на полосах нового издания французской прессы для женщин, еженедельника Marie–Claire, и свидетельствует о ситуации переходной, но едва ли не шизофренической. С одной стороны, свежий воздух предполагает «этот оттенок загара, кожу без румян, распущенные волосы», с другой — возвращение к городской жизни порождает «некоторое смущение» перед «слишком естественным лицом»; одним словом, «вы должны заранее подумать, прилично ли ходить загорелой». Ответ нового оракула современной женщины: «Решение примет ваш личный вкус». Однако, так как, скорее всего, молчащее большинство — и, возможно, сам автор статьи — все еще отдают предпочтение традиции, в продолжении говорится: «Если вы предпочтете снова стать белой [sic] женщиной, то вам поможет пилинг»[269].
Очевидно, что для того чтобы оценить произошедший переворот, необходимо подключить все возможные уровни интерпретаций. Уровень политики, в соответствии с которым «социальное тело» отправляют на свежий воздух, сначала для занятий физической культурой, а затем для проведения оплачиваемого отпуска. Еще более значимый — уровень экономики, где все более и более урбанизированное и индустриализированное общество вынуждено переосмыслить критерии, связанные с представлением о коже: отныне представители элиты будут противопоставляться не загорелым сельским жителям, а бледным рабочим и служащим. И самое главное — уровень культуры: эпидермическая форма проявления масштабного натуристического движения, которое будет будоражить умы в ближайшее столетие[270]. Тело становится загорелым потому, что оно все более и более обнажается под влиянием активного меньшинства, превозносившего в начале века «Культ наготы» (популярное сочинение Генриха Пудора 1906 года, вслед за которым появились эссе Ричарда Унгевиттера, написанные в том же духе) и объединившего как ультраправых виталистов, начиная с немецкого примера в виде Альянса нудо–нацио 1907 года, так и анархистов — «натуристов», заложивших основы для общинных экспериментов, которые проводились, например, в Монте Верита, на территории Швейцарии, сохранявшей нейтралитет в период I Мировой войны. Он также оказал определенное влияние на педагогов, провозглашавших освобождение тела, например, на специалиста по ритмике Эмиля Жак–Далькроза. Но если не касаться нудизма, пребывание на солнце символизировало здоровье, более или менее ассоциируясь со спортивными упражнениями, и в то же время рассматривалось как просто–напросто лечебный фактор. Выражение «солнечная ванна», популярное еще в 1950‑х годах, напрямую связано с идеей гелиотерапии, появившейся в середине XIX века (Арнольд Рикли), но систематизированной однако лишь полвека спустя в Sunlight League («Лиге солнечного света»), основанной британцем Салиби. Этот солнечный тропизм способствовал открытию в Швеции зимой 1903/04 года первой специализированной клиники. И именно в соответствии с этим же культуралистским принципом глобальная смена тенденции, ставшая ощутимой в конце века, станет одновременно причиной и следствием любого экспертного дискурса (в дерматологии, в онкологии и т. д.), выставляя теперь на передний план опасность продолжительного пребывания на солнце.
3. Новые украшения
В то же время большой интерес общества к вопросу пигментации кожи говорит нам о том, что мы имеем здесь дело с самой примитивной формой украшения тела. И именно под этим углом зрения становится ясно, что тело в этом столетии будет меняться с головы до ног, причем все быстрее и быстрее. Разумеется, мы говорим здесь прежде всего о теле модном. Однако в этой области, как и во многих других, традиционно обнаруживается определенная передовая группа представителей доминирующего класса, если выражаться экономическим языком, связанная с культурным «авангардом», — здесь возникает необходимость пользоваться военной терминологией, как и во многих других сферах в это время, — задающая моду, которая, пройдя многочисленные опосредования, начинает в конце концов оказывать более или менее существенное влияние на широкие слои общества. Этому глубинному проникновению способствует активная популяризация профессий, связанных с украшением тела, вплоть до их эстетического признания. В этом состоит вся терминологическая амбивалентность, которую заключают в себе профессии «специалиста (специалистки) по эстетике» и «стилиста»: эти слова обозначают соответственно специалистов по уходу за телом и по облагораживанию личного пространства человека, начиная с одежды. К этому же процессу можно отнести и постепенное установление в правах профессии «модельера», который соотносится с позицией обычного портного, как «шеф–повар» с простой кухаркой; во второй половине века модельера наградят почетным определением «творец».
Опять же, с наиболее естественным видом украшения тела — украшением кожи — связано самое радикальное изменение: возвращение в конце XX века интереса к татуировкам и пирсингу[271]. То, что эти явления прежде сохранялись и бытовали в особой среде — в среде моряков, где татуировки, заимствованные, возможно, у коренных жителей Океании, имели особый статус (как, например, в престижном Королевском военно–морском флоте Великобритании), — не мешает констатировать нелигитимность этих двух практик в жизни современного западного общества: единственным признанным, почти возведенным в ритуал явлением здесь было прокалывание ушей у женщин. Оба явления получают новое развитие в одной и той же среде (англосаксонское общество) и в одно и то же время (начало 1970‑х). Первый магазин аксессуаров для пирсинга открылся в 1975 году, первый специализированный журнал (Piercing Fans International Quarterly — «Международный ежеквартальный журнал любителей пирсинга») увидел свет спустя пять лет[272], первый съезд любителей татуировок прошел в Хьюстоне в 1976 году, а в 1982 году была открыта первая крупная выставка, посвященная этой теме. Дестигматизация экономически проявлялась в том, что появлялось все больше специализированных салонов, предлагавших клиентам обе услуги. Во Франции число таких мастерских выросло с пятнадцати в 1982 году до более чем четырехсот спустя двадцать лет.
Однако при наличии указанных общих черт, данные явления не имеют точек пересечения. Зародившаяся в США мода на татуировки была, по сути, игрой и в конце концов стала художественной практикой, которая требует высокого мастерства и стремится быть признанной полноправным направлением изобразительного искусства (Эд Харди, Фил Спэрроу, Жак Руди и другие). Зародившийся в Соединенном Королевстве пирсинг, ассоциировавшийся одно время (во второй половине 1970‑х) с эстетикой и этикой панк–культуры, воспринимался — и не случайно — как агрессивный вызов господствующим культуре и морали. Но мода не замедлила установить контроль и над этим феноменом, о чем свидетельствует эволюция таких предприятий, как, например, Дом моды Вивьен Вествуд. По сути, это явление следует связать со все более активными проявлениями культуры эротического фетишизма и, в частности, садомазохизма, который раньше предназначался лишь для интимных практик.
Периодизация этой эпидермической революции подтверждается развитием всех прочих способов украшения тела. Начало демократизации, получившее развитие при помощи индустрии, в конце века приведет к полному перевороту устойчивых представлений — идет ли речь о границе между полами или об общей тенденции (начиная с I Мировой войны) ко все большей «натуральности». Подобную перемену можно обнаружить, в частности, в сфере макияжа, где предложение товаров и услуг становится все разнообразнее и начинает охватывать все слои общества, причем в макияже пропагандируется все большая скромность, пока и здесь не утверждается эстетика «племенного» макияжа, где каждый сам за себя[273]. Перемена еще очевиднее в парикмахерском деле, чьи основы потрясает символичное укорачивание женских волос: как гласит легенда, оно произошло в середине I Мировой войны, и главную роль в нем сыграла не Коко Шанель, а несколько первоклассных парикмахеров, как, например, Антуан, чьи ножницы сделали свою судьбоносную работу весной 1917 года; профессиональная пресса написала о нем уже после возвращения к мирной жизни — 1 мая 1919 года[274]. С этого момента, возможно, следует установить связь между произошедшим переворотом и расцветом парикмахерского искусства, что проявилось в увеличении числа парикмахерских салонов и в постепенном совершенствовании технической стороны вопроса. Только во Франции число парикмахерских выросло с 7 с небольшим тысяч в 1890 году (половина из них находилась в Париже) до 40 000 в 1935‑м. Параллельно начиная с 1890‑х в моду входила ондуляция — завивка волос горячими щипцами, изобретенная французом Марселем Грато. Вслед за эпохой ремесленников, в частности изобретателей перманента (1906), последует эпоха промышленников и их лабораторий, таких как компания L’Oréal, которая на исходе II Мировой войны впервые представит сначала холодную завивку (1945), а затем прямое окрашивание (1952). Единственный столь же важный период в истории парикмахерского искусства будет относиться уже ко второй половине столетия: он связан с возникновением мужской парикмахерской моды, которая зародилась среди молодых американцев, поклонников рок–культуры. После этого происходит настоящий взрыв, где одна мода сменяется другой, а различные стили сосуществуют параллельно (битники, «битлы», афро, панк…)[275].
Подобным же образом, не давая своенравной и эфемерной моде ввести себя в заблуждение, следует рассмотреть и швейное дело — высшую форму украшения тела в XX веке. Подобно тому как появление в продаже в 1957 году первого лака для волос в виде аэрозоля имело большее значение, чем прически, созданные в то же время англичанином Видалом Сассуном; подобно тому как стиль той или иной эпохи предстает перед нами в образах, разработанных и воплощенных модными домами Chanel, Dior или Yves Saint Laurent, — истинный символический переворот кроется в выставлении напоказ женских ног и в утверждении короткой стрижки, а с 1960‑х годов — в популяризации женских брюк. Настоящая социальная перемена заключается в распространении одежды прет–а–порте: это происходит в американском обществе уже в межвоенный период. После эпохи популярности первоклассных модельеров, которые в XIX веке обеспечили успех новым женским магазинам, промышленное производство одежды ускорило распространение моделей, созданных для представителей доминирующих классов и регионов, — что, однако, не стоит рассматривать как униформизацию одежды. К концу этого периода станет очевидна тенденция к «кастомизации» (то есть индивидуализации массового продукта путем добавления дополнительных элементов) одежды и обуви. Таким образом, украшение тела стремится ко все большей оригинальности, даже если мода, как это обычно происходит, влечет за собой конформистское поведение.
Тот факт, что мы имеем здесь дело не просто с производственно–экономическим процессом, следует апостериори из изучения ранее упомянутых революций, будь то укорачивание волос или юбок, мода на брюки у женщин или на обтягивающие брюки у обоих полов, мода на загар, татуировки или пирсинг, то есть мода на ярко выраженную эротизацию украшения тела[276]. Такое понимание вопроса подтверждается и поразительным переворотом, который произошел в конце века в отношении женского белья: к нему с опаской относились представители авангарда 1960‑х, но начиная с 1990‑х годов женское белье активно реабилитируется. «Низ завладевает верхом», — излюбленный лозунг прессы. Здесь, как и в других вопросах, эстетическое прочтение, базируясь на заимствованных у истории искусства методах рассуждения, подчеркивает роль, сыгранную некоторыми «творцами», которые часто оказывались представительницами прекрасного пола (назовем, например, Шанталь Томас). Однако основная движущая сила тенденции превосходит эти индивидуальные инициативы, которые могли бы и не получить широкого освещения, если бы общество не пошло вперед, то есть не последовало бы за развитием этой тенденции. Вдобавок она оказалась усилена и подчеркнута симметричным, но еще менее предсказуемым явлением: интересом к мужскому белью, его демонстрации и, соответственно, к его постепенной софистикации. Нельзя сказать, что подчеркивание половых различий отсутствовало в системе украшения тела в 1900‑х годах, но они лишь подразумевались, демонстрировались оригинально, но не напрямую, между делом; бюст и волосы оставались искусно подняты. Основной вектор движения в этом столетии был направлен на то, чтобы постепенно свести систему украшения тела непосредственно к телу, не скрытому более за материальными объектами. Это требовало мастерства, чтобы к тому же одновременно подчеркнуть эрогенные зоны тела и незаметно, если можно так выразиться, эротизировать все тело. То, что экономика активно включилась в процесс или что появление новых синтетических материалов упростило демократизацию ранее малодоступной эротической роскоши, вовсе не означает, что в этом и состоял изначальный посыл. Экономика и техника лишь сопровождали эту тенденцию, делая ее возможной и усиливая ее, но не являясь первопричиной.
III. Испытание тел
Принимая во внимание развитие гедонистической концепции и телесной независимости, происходившее в западном обществе, не стоит, однако, забывать о том, что сохранялись — и даже в определенных пространственно–временных ситуациях возвращались — телесные отношения, основанные на некотором испытании, что предполагает по меньшей мере наложение на действующее лицо внешних ограничений. Это наложение ограничений можно описать терминами «растрата» или же «насилие».
1. Телесная растрата
Отмеченные ранее причины, вследствие которых выставление тела напоказ приобретет первостепенное значение в современном обществе, порождают и практики «растраты». Некоторые из них оказываются лишь трансформацией, хотя и значительной, прежних форм игрового самонапряжения, так как даже игра, далекая от того, чтобы быть пространством безграничного освобождения, невозможна без существования некоторых правил. Одни из этих форм напрямую связаны с традицией праздников и физических упражнений, преобразованных в «гимнастику», другие лишь отдаленно соотносятся с генеалогией древних игр: они одновременно являются «спортом» в том значении, которое сформировалось в XIX веке, и спортом в относительно новом смысле, типичном для конца XX века.
«Растрата» телесной энергии на праздниках на протяжении всего столетия происходит в особом пространстве, которое непрестанно изменяется, сохраняя, однако, в основе набор базовых элементов, связанных с объединением тел в танце. Такое объединение предполагает наличие музыки в качестве минимального, а иногда и максимального условия, и сопровождается чаще всего, но необязательно, другими видами телесных «растрат», имеющих непосредственную связь со вседозволенностью, эйфоризацией и возбуждением: это голосовая и жестикуляционная экспрессия, употребление психоактивных веществ, различные эротические игры, весь спектр действий от демонстрации до потребления. Само пространство чаще всего бывает закрытым со всех сторон, хотя это необязательно. И если общей тенденцией является своеобразное «заточение» (танцевальные залы, дансинги, дискотеки…), о чем свидетельствуют во французском языке метафора «коробки» (boîte), распространение и популяризация в период между двумя войнами заведений «boîte de nuit» («ночных клубов»), изначально предназначенных лишь для господствующего класса, и обманчиво парадоксальная фигура речи «sortir en boîte» («пойти в клуб», буквально «выйти в коробку»), то рок–концерты и фолк–фестивали напоминают нам, что объединение тел в поисках освобождения иногда происходит и под открытым небом. Промежуточный вариант между противоположностями — музыкальные праздники, обычно, хотя и не всегда, носящие танцевальный характер (отметим, для сравнения, увеличившееся число музыкальных концертов, от поп–концертов 1960‑х до рейв–вечеринок 1990‑х, на которых телесное выражение буквально «взорвало» понятие «танец»). Даже восприятие времени эволюционирует под влиянием правил глобальной социальной игры. Устанавливается и распространяется понятие «выходного», множащего и в то же время ограничивающего возможности подобной «растраты». Теперь понятие «выходного» больше не связано с определенной датой общественного или семейного календаря (религиозные и национальные праздники, свадьбы…). Временной ритм теперь задается «английской неделей», или уикендом, с характерным переносом субботы — единственного свободного вечера и в то же время вечера первой траты недельной зарплаты — на пятницу или даже четверг; периодами оплачиваемых каникул, которые привели к возрождению — то есть изобретению или повторному изобретению — «народных праздников», предназначенных, главным образом, для туристов (для второй половины XX века можно привести пример бретонского праздника «fest–noz»[277]).
Что касается самих танцев, которые, если считать их единственным телесным параметром, находятся в центре праздничного действия, то это столетие экспериментирует с постоянно появляющимися новыми формами, развивающимися, однако, в одном направлении[278]. Исключением из этого правила можно назвать танцы нетрадиционных праздников, где продолжают практиковаться групповые танцы. Правило же заключается в последовательном триумфе сначала парных танцев, вышедших в XIX веке из среды высших классов и города, а затем, начиная с 1960‑х годов, танца индивидуального, происходящего из англосаксонской «молодежной» культуры. Парные танцы царили в западных танцевальных залах в период между двумя войнами. Благодаря наплыву экзотики — который, например, позволил в начале XX века распространиться на Западе аргентинскому танго, а затем и другим танцам латинского и афроамериканского происхождения, от матчиша до босановы, в том числе всем танцам в стиле джаз[279] (джаз изначально воспринимался в основном как танцевальная музыка), — тела сближались, прижимались друг к другу все теснее, под неодобрительными взглядами блюстителей морали.
Казалось бы, стремление к индивидуализации, которое начиная с твиста 1960‑х годов разбивает танцующую пару, опровергает общую тенденцию. Ничего подобного: наоборот, это позволяет уточнить характер данной тенденции. Поскольку ее можно связать с признанием, то есть со все более явным выставлением напоказ чувственности, становится яснее суть танца слоуфокс (замедленный вариант фокстрота); также становится проще интерпретировать танцы конца XX века как одновременно вакхическую «растрату» и выставление напоказ сексуальности. Разумеется, эта важная тенденция вызвала комментарии многочисленных наблюдателей, которые не преминули отметить парадоксальность нарциссической эротизации, дарящей танцору уединенное удовольствие. Но и здесь остается очевидной демонстрация эротического влечения, что проявляется во взгляде того, кто, выставляя себя напоказ, тем не менее не перестает обращать внимание на тех, кто его окружает.
Однако понятие телесной «растраты» может заключаться в более жесткие рамки, если взглянуть на область спорта. Даже если альпинизм, скалолазание и туристические походы восходят к романтической эпохе, а верховая езда вообще уходит корнями в глубину веков, эти практики получают особое развитие в конце XX века. Это имеет смысл связать с общей тенденцией, которую можно было бы назвать «спорт на природе». Общая идея таких практик в том, чтобы тренироваться не в искусственных рамках стадионов, гимнастических и спортивных залов, а в пространственно–временных условиях, интегрированных в «природу». Спорт на ограниченных участках пространства также косвенно оказывается затронут этой тенденцией — особенно те виды спорта, которые имеют смешанное происхождение, как, например, волейбол (пляжный волейбол…). Но «спорт в окружающей среде» развивается, иногда пренебрегая соревновательным духом, в прямом контакте с четырьмя природными стихиями, которые он в определенном смысле прославляет.
Впрочем, большую часть таких практик можно интерпретировать как спортивное, то есть систематизированное и снабженное правилами, преобразование видов деятельности, которые в прошлом или еще совсем недавно носили утилитарный характер. Так, не носящие соревновательного характера практики скалолазания, скандинавской ходьбы на лыжах, верховой езды, велотуризма, прогулочного мореплавания снова отсылают нас к миру прошлого, где царят ходьба, передвижение на лошадях и под парусом: постиндустриальное общество словно преобразует то, что для прошлых эпох было вынужденной ситуацией, в формы удовольствия. Однако самые рискованные формы этих практик, например альпинизм, не лишены и проявления сверхнапряжения, максимальной мобилизации силы, выносливости и смелости. На конец века придется расцвет с одной стороны «вызовов», предполагающих одновременно выносливость, скорость и смелость (кругосветное путешествие под парусом, на веслах…), а с другой — новых видов спорта, в основе которых лежит удовольствие от риска (полеты на самолетах ULM, банджи–джампинг…) и которые антрополог Давид Ле Бретон называет современной формой ордалий[280][281]. Это сочетание освобождения от коллективных ограничений, наследуемых из прошлого столетия, и принятие в индивидуальном порядке новых ограничений, обоснованных здоровьем организма и стремлением выставить напоказ тело, безусловно, здоровое, но и соответствующее современным канонам красоты, нашло проявление в успехе культуризма — локальном, но вполне определенном. Истоки этого выставления мускулов во всей своей красе, сопровождаемого использованием античной лексики («Мистер Олимпия», пеплум…), лежат в практике (и основанной на ней коммерции) упражнений для развития мускулатуры. После II Мировой войны развитию этого движения способствовало появление ряда популярных зрелищ, и прежде всего экзотических и исторических приключенческих фильмов (с Джонни Вайсмюллером, Стивом Ривзом, Арнольдом Шварценеггером…), первые из которых появились в Италии и США — странах, доминировавших в данной сфере. Широкие слои населения, особенно женщины, окажутся вскоре задействованы в более глобальном движении, не столь обособленном, зато более обоснованном, в рамках которого прежняя гимнастика будет преобразована в аэробику, стретчинг (stretching), бег трусцой (jogging): все эти термины свидетельствуют об американских корнях представления о «построении тела» (body–building) и различных способов насыщения кислородом, которые Жан–Жак Куртин определяет как «показное пуританство»[282].
2. Тело в работе
Распоряжение телом, подчиненное в соответствии с социальными нормами добровольному типу занятий, обнаруживает, впрочем, несколько точек пересечения с новой телесностью, происходящей из сферы труда, которую бесконечные трансформации средств производства и обмена модифицируют на протяжении всего века. Здесь безоговорочно доминирует стремление элитарного слоя овладеть телом, которое подвергается систематическому воздействию технических средств. Крайний вариант этого стремления не относится в действительности к национальной экономике, даже если некоторые ее представители оказываются косвенно в нем задействованы, и с «обыденностью» оно связано лишь через игру слов. Речь идет о тюремном заключении. Традиционное заключение по–прежнему преобладает, но теперь заключенный подвержен всем формам электронного наблюдения XXI века, от наручников до «идентификации» путем прямого вживления под кожу чипа, за неимением лучшего способа[283]. Впрочем, этот пример связан с общим вопросом, который веком ранее начал занимать множество экономистов, инженеров, экспертов по организации труда и социологов: вопросом о промышленном труде.
Формула рационализации заслоняет собой целое, сведенное, во имя феноменологической концепции труда, к разделению действий и становящееся в таком виде годным к тонкому программированию. Этот вопрос с самого начала претендует на научность («научная организация труда»). Теоретически разработанный в начале века американским инженером Фредериком У. Тейлором, подхваченный и развитый во многих странах разными деятелями прикладных наук (например, Анри Ле Шателье во Франции), он был воспринят и приспособлен великими предпринимателями, распространителями определенного социального проекта, начиная с Генри Форда, из–за чего тейлоризм часто приравнивается к фордизму, а оба эти явления — к простому нормированию времени[284]. Различные тенденции рабочего движения, так же как и анархистский либерализм некоторых артистов (см. фильмы «Метрополией Фрица Ланга, «Свободу нам!» Рене Клера, «Новые времена» Чарли Чаплина), довольно рано выставили это нововведение в самом негативном свете, как современную форму рабства, иными словами, форму дегуманизации. В реальности этот новый телесный порядок постепенно будет накладывать свои законы на промышленность во всем мире. При этом, если развивающиеся страны XXI века примут их в полном масштабе, в западных странах их будут постепенно смягчать, исправлять или даже вовсе от них отказываться.
Тот факт, что стремление рассчитать телесную энергию выходит за пределы предприятий, подтверждается формированием и развитием особого дискурса вокруг понятия «домоводство». Это движение также зарождается в США (Кристин Фредерик) и затем быстро распространяется на Западе среди передовых женщин среднего класса благодаря специально созданным организациям. Во Франции, например, начиная с 1920‑х годов такими явились Лига организации домашнего хозяйства Полетт Бернеж и Салон домоводства Жюля–Луи Бретона[285]. Статистика продаж бытовой техники показывает, что в целом страны северной Европы вступили в век технологичности домашнего хозяйства намного быстрее, чем страны южной Европы[286]. По «иронии» ли судьбы[287] или по другой причине, это «освобождение» женщины имело первоочередную цель предоставить ей возможность работать, а не только заниматься домом, и совершенно не затрагивало вопрос о распределении ролей внутри семейной пары.
Забота о сокращении энергозатрат при активности тела во время работы, на предприятии или дома обусловливается не только рационализмом, но и более гуманным представлением об ограничении трудоемкости, что отсутствовало в концепции Тейлора. С этой точки зрения, все предшествующее столетие, от английского Фабричного акта 1833 года до изобретения в той же Англии к 1950 году термина «эргономика», представляет собой процесс постепенного осознания необходимости изучать, предупреждать и даже искоренять вред, причиняемый условиями труда. Дискуссия — а для некоторых филантропов и воинственных социалистов даже сражение — началась с вопроса о защите самых слабых, что привело к ограничению или запрету работы на фабричном производстве (сельскохозяйственной сферы этот закон не коснулся) для детей и женщин. Первые пробные тексты 1830‑х и 1840‑х годов (английский закон 1833 года, прусский — 1839 года, французский — 1841‑го, и т. д.) позволяют говорить о возникновении принципа вмешательства общества в вопрос об ограничении продолжительности труда, что постепенно также распространится на «гигиену» и «безопасность» работы. Данный процесс приведет к созданию в 1919 году Международной организации труда, что в свою очередь ускорит распространение этого явления в мире.
В случае Франции, например, такой переход, которому способствовало создание в 1874 году организации инспекторов по труду, произошел в 1890‑е годы (закон от 12 июня 1893 года): в 1905 году в Консерватории искусств и ремесел была основана кафедра «промышленной гигиены». Но лишь следующее поколение, основываясь на опыте, полученном во время I Мировой войны, сделает первые шаги в разработке аксидентологии[288]. Инициатором здесь станет выпускник политехнической школы Пьер Калони, автор вышедшей в 1928 году работы «Статистика несчастных случаев и организация их предотвращения», создатель «превентизма». В тех же обстоятельствах в 1930‑х годах возникло и понятие «медицины труда», которому были посвящены первый специализированный конгресс и первое специализированное периодическое издание. Принцип «комитетов по безопасности труда» в рамках крупных предприятий официально был заявлен только в 1941 году, а на практике начал реализовываться лишь с 1947 года («комитеты по гигиене и безопасности труда»), сразу же после введения обязательных служб по медицине труда (1946). И лишь в конце Славного тридцатилетия были, наконец, созданы Национальное агентство по улучшению условий труда (1973) и Высший совет по предупреждению производственных рисков (1976). Кроме того, в законодательство, помимо «гигиены» и «безопасности», было введено понятие «условия труда»[289].
Эргономика, до того как этот термин был введен в оборот в 1949 году по инициативе английского психолога Мюррелла, была опробована во время II Мировой войны в Военно–воздушных силах США. Она же в эпоху экономического роста, когда одновременно развивалась функционалистская концепция повседневного объекта, стала одним из критериев нового вида деятельности — дизайна[290]. Кроме того, в определенном смысле ее можно связать с еще одной генеалогической линией, которая в рамках педагогических рефлексий рассматривала применительно к школьной системе вопрос о создании благоприятных условиях для тела ученика.
Вектор всех этих тенденций невольно совпадает со все возрастающим вниманием к психологическому измерению Человеческого труда (название французского журнала, основанного в 1933 году). Помимо того что эту прикладную психологию, начиная с появления работ Гуто Мюстерберга, быстро осваивают руководители предприятий (особенно в том, что касается применения «тестов способностей» и «тестов действий»), она порождает обсуждение не столь быстро нашедшего применение понятия «профессиональной ориентации», которое активно навязывается в период между двумя войнами. В течение длительного времени ему не удается играть решающую роль в образовании, на что так надеялись его создатели (во Франции: Жан–Морис Лаи, Анри Ложье...)[291]. И тем не менее совокупность всех этих тенденций способствовала формированию телесных норм (например, в работах Ашера о функциональном сколиозе, противопоставленном структурному сколиозу) и дала возможность в менее физиологическом ключе использовать в рассуждениях термины «телесной схемы»[292].
В конце концов, развитие всех этих концепций не оказало существенного влияния на телесную классификацию, которая соответствует, в общих чертах, разделению на работников ручного труда, занятых в сельском хозяйстве, промышленности или даже торговле (разного рода грузчики), и всех остальных, принадлежащих не только к «сфере обслуживания» или непроизводственному сектору (где существуют рабочие места), но и к миру «офисов» (которые существуют также в рамках первичного и вторичного секторов экономики). Будучи подвержены соответствующим ограничениям и часто предпочитая разные способы проведения досуга, тела, представляющие эти две категории, в среднем совершенно между собой непохожи: ни по размерам, ни по телосложению, ни по поведению. Разумеется, подобная дихотомия актуальна в масштабе всего мира, но бескомпромиссное подчинение экономического тела тяжелым и часто калечащим условиям труда более характерно для стран третьего мира, чем для Запада.
3. Формы телесного насилия
Конечно, существует некоторая двусмысленность в том, чтобы разделить (и таким образом объединить) формы насилия, которым подвергается обыденное тело на протяжении всего столетия; того столетия, которое, с точки зрения «Великой Истории», или же «Истории с большой буквы», если воспользоваться выражением Жоржа Перека[293], можно рассматривать как временной отрезок между либо двумя террористическими актами (28 июня 1914 года, Сараево — 11 сентября 2001 года, Нью–Йорк), либо между двумя карательными экспедициями (подавления восстания ихэтуаней в 1900 году — свержение режима талибов в 2001 году). И где в таких условиях, в самом деле, проходит граница между ординарной телесностью и ее экстраординарной формой? В данном случае можно предложить довольно четкое разграничение, которое, однако, будет проведено на основе иного критерия, а именно — процесса институционализации. Дальнейший анализ будет основываться на том предположении, что формы телесного насилия, отвергнутые легитимной властью, согласно веберовскому определению способствуют формированию монополии легитимного насилия, но вне рамок этой самой легитимности[294]. Можно обнаружить, что эта власть, манипулируя всеми или частью средств массовой информации, то есть vox populi, дозволяет без разбора «насилие беспричинное», «неконтролируемое», «несдерживаемое». Эпитеты весьма показательны.
В рамках такой схемы можно рассматривать физическое принуждение, доходящее порой до агрессии, на котором основываются все виды обучения. Если обратиться к примеру школьного или военного обучения, которые весьма сходны по своей сути, то таким видом физического принуждения выступают ритуальные практики инициации, для которых во Франции существует специальное слово «bizutage» (насмешки, издевательство над новичком). Существование подобных практик признается во многих обществах[295]. Нельзя не сказать, что власти по отношению к этим практикам периодически проявляют снисходительность, граничащую с официальным признанием: так происходит из–за убежденности власти в общем положительном влиянии подобных практик на «корпоративный дух», так как часто они связаны с некоторой «обрядностью», в рамках которой чрезмерная зависимость посвященного члена легитимирует его дальнейшую принадлежность к доминирующему классу. Но очевидно, что общий вектор века направлен на поддержку дискурса осуждения, разворачивающегося вокруг этих практик. И многочисленные проявления этой тенденции (официальные постановления, процессы) свидетельствуют о том, что они постепенно слабеют и сдают позиции, но не исчезают полностью. Впрочем, суровость некоторых подобных явлений, официально включенных в план обучения, например, в военной сфере — суровость, связанная с участившимися происшествиями, привлекшими всеобщее внимание, — говорит о двойственном статусе самих форм обучения такого рода, что напоминает игру на пределе возможностей.
Связь между насилием, которому подвергается тело, и инициацией в мир взрослых людей, существующая с глубокой древности, поддерживается самими социальными группами вне каких–либо социальных институтов. Наравне со свойственным школе или армии типом идентификации, «банда» или «племя» действуют таким же образом. Историки, социологи и антропологи, изучая данные молодежные группировки (их существование мир взрослых обнаружил в эпоху беби–бума, но они существовали и раньше, хоть и в других формах), особый упор делают на месте и роли этих явлений. Но все это уже было и продолжает существовать в криминальной среде, особенно в различных мафиозных группировках, созданных по американскому образцу 1920‑х годов, который, в свою очередь, имеет итальянские корни. В отличие от идентифицирующего значения, обрядовый подтекст постепенно исчезает, ослабляя свое влияние в рамках разрозненного городского социума конца XX века. Этот социум характеризуется международной миграцией, исключением слабых экономических игроков и переопределением коллективной идентичности. Все это происходит на фоне упадка традиционной семейной общности, и не столь важно, имеет ли она древнее (семьи иммигрантов незападного происхождения) или современное происхождение (западные семьи). Общественные наблюдатели, а за ними и эксперты по маркетингу «тенденций», отмечают, что сформировался своеобразный стиль жизни, для которого телесное насилие становится знаком принадлежности к определенной группе (особенно во Франции 2000‑х годов, о чем свидетельствуют дебаты вокруг неспокойной ситуации в пригородах).
Здесь можно обнаружить границу обыденного поведения, где не действует больше то, что, согласно прежнему представлению о «народе», вполне справедливо называлось «народными волнениями», которые периодически охватывали часть или даже все население, превращавшееся в «толпу» во время простого бунта или целенаправленного погрома. Но пример коллективного насилия очередной раз доказывает, что все зависит лишь от того, с какого угла посмотреть: обыденное — это то, что соответствует некоторому порядку, а то, что изменяется, находится в рамках образа действий, установленные доминирующие пространственно–временные ценности которого определяют границы между почитаемым, допустимым и осуждаемым. В этом заключается вся суть произошедшей недавно в западных странах эволюции, изученной Жоржем Вигарелло[296], которая затронула одновременно законодательство по отношению к насилию и его применение. Эта эволюция привела к формированию более сурового отношения к насильникам, что предполагает, например, их выявление и наказание. К той же интеллектуальной логике можно отнести и появление представлений о домогательстве (включенное, к примеру, в 1992 году в Уголовный кодекс Франции) или изменение отношения интеллектуалов, СМИ и судей к тому, что в 1925 году получило название «педофилия».
Заключение. Каковы тенденции?
В силу того, что описываемые явления — не столько свершившийся «факт», сколько данный ему образ, порожденный и усвоенный обществом, при рассмотрении специфических изменений XX века следует отличать то, что относится к практической области, от того, что отражает перемены в общественных представлениях. Но проводя такое разграничение, нужно учитывать, что представление и практическое воплощение предопределяют друг друга и, более того, часто перемешиваются. Так, например, представление об усилении внимания к «правам женщин» или к «правам детей» провоцирует большую бдительность и суровость по отношению к тому, что можно расценить как нарушение этих прав, и т. д.
Однако достаточно сказать, что представления и практики, связанные с телом, на протяжении рассматриваемого столетия меняются, и меняются безостановочно. В итоге за очень короткое время происходит наиболее значительный переворот, какой знало человечество. Это позволяет нам выдвинуть гипотезу о том, что до XX века независимое тело не могло существовать даже потенциально. И эта гипотеза — разумеется, пугающая и спорная, — проистекает из предлагаемого нами изучения тела в повседневной жизни, пусть даже и самого поверхностного.
К экономическому развитию добавляется мощное индивидуалистическое движение, которое помещает в центр вселенной, то есть в центр общества, индивида, находящегося в поисках независимости. В этом заключается цель и причина развития всех экономических явлений, связанных с поддержанием и улучшением красоты человеческого тела. В этом же состоят предмет и повод гедонистического дискурса, входящего иногда в конфликт с представлениями предшествующей эпохи. Оценка этой тенденции как «нарциссической» (такой диагноз ставят ей Кристофер Лаш и многие философы и эссеисты конца века[297]) позволяет отметить важность задействованных зеркально противоположных систем, но также более или менее явственно свидетельствует о важности произошедшего переворота. Конечно, закономерно проводить аналогию между политическим принципом и эволюционным движением, в результате которого на уровне внешней самопрезентации друг с другом сближаются оба пола, а на уровне социальной реальности — многочисленные этносы, в обоих случаях вплоть до слияния. Начиная с женских брюк и заканчивая дредами у западных подростков, признаки идентичности, не исчезая по сути, оказываются основательно перемешаны. И даже если предположить, что экономические требования могут играть определенную роль в ускорении этого явления, недостаточно ограничиваться только таким предположением при оценке этого обоюдного движения смешения, которое также может быть рассмотрено как движение уравнивающее. В таком случае почему бы эту ясную схему политической истории, вызывающую меньше споров, выдвигающую на первый план принятие и приспособление современных демократических ценностей в обществах, до того подчиненных традиционным социальным системам; этот процесс аккультурации, который подразумевает одновременно движение национального и социального освобождения, — не применить также и к истории тела? Есть что–то политическое в освобождении от некоторых традиционных телесных ограничений.
Тем более что, как всегда, тенденция развивает себя сама. Так, все большее пространство, предоставляемое, с одной стороны, женскому полу, а с другой — гомосексуальному миру, способствует «феминизации» телесных практик у мужского пола. Мужчины начинают все больше сближаться с практиками по уходу за телом, которые в буржуазном обществе предыдущего века и в большинстве так называемых традиционных обществ всегда были женской прерогативой. Бесспорно, в различных сферах и в разные эпохи обмен между полами не был равнозначен. Однако присвоение мужчиной (что в широкой антропологической перспективе можно рассматривать как новое обретение) женских аксессуаров, от украшений до духов, не может остаться без внимания.
Несомненно, однако, что продолжительность, масштаб и глубина этого явления не были бы столь значительными, если бы оно не опиралось на культурную почву, для которой характерно уменьшение влияния прежних религиозных систем. Культура, которая постепенно восстанавливается в своей имманентности, оказывается, что логично, культурой зеркальных и зрелищных явлений. Средства массовой информации, включая рекламу, и искусство сыграли здесь свою роль, впрочем, так же как и в представлении тела, испытывающего наслаждение или, наоборот, терпящего истязания, но все меньше и меньше подверженного цензуре, несмотря на эпизодические нападки ретроградов. В том же направлении начиная со II Мировой войны движется эволюция литературы, театра, фотографии и кино, с одной стороны, и рекламы — с другой, а также общее развитие средств массовой информации, искусства и телевидения. С этой точки зрения неизменную эротизацию в украшении тела как образ поведения в западных обществах последних десятилетий века нельзя не связать с общим постепенным исчезновением пуританских ограничений, свойственных всем религиозным системам.
Можно возразить, что в то же самое время возрастает движение гигиенизма, что приводит, например, к критике и цензуре по отношению к употреблению психоактивных веществ, начиная с табака и алкоголя[298]. Но здесь нет никакого противоречия: то же общество стремится отменить уголовную ответственность за использование «легких» наркотиков. Речь здесь идет, с одной стороны, о заботе о теле, прежде всего собственном, а с другой — о том, чтобы иметь возможность проявлять эту заботу в теоретически эгалитарной перспективе. Так, например, предупреждение «Курение убивает» обращено не только к курильщику, но и к окружающим его людям. Все остается в рамках демократическо–либеральной схемы.
Согласно принятому выражению, «будущее покажет», продолжит ли это движение развиваться, стабилизируется или же поменяет свое направление; как, если остановиться на экологическом вопросе, человечество XXI века будет использовать воду. На пороге же этого будущего можно заметить, что оно тяготеет не к ригористскому «движению назад», имеющему традиционалистское или же неотрадиционалистское происхождение (исламисты, североамериканские неоконсерваторы и т. д.), а скорее к географическому и социальному разграничению, в рамках которого все явления, которые расцениваются как «передовые», приписываются миру западному или западно–ориентированному. Помимо экономических причин, по которым, например, в одном и том же городе количество салонов красоты преобладает в престижных районах, а не в рабочих, сохраняется также культурная дистанция. Все эти эволюционные явления идут с Запада, при этом подразумевается, что Восток должен их заимствовать или стремиться к этому. Все они исходят от «высших классов», но теперь, более чем когда–либо, они нуждаются в поддержке «масс», интересам которых эти явления должны соответствовать.
ГЛАВА III Тренировать тело
Жорж Вигарелло
Журнал Véloce–Sport, предлагая в 1885 году «10 заповедей велосипедиста», публикует изображение велогонщика, который крутит педали в своей квартире. Велосипед неподвижен: он поддерживается кронштейнами и закреплен на помосте. Его функция ограничена, колесо приводит в движение лишь вертел в камине. Комментарий показателен: «Ты можешь попытаться заняться тренировкой / привести его в движение у огонька»[299][300]. Это, конечно, ирония, а также подспудный перенос. В 1885 году спортивные тренировки еще могли восприниматься как «странная» культура, отвлекающая от полезных дел, как деятельность слишком эгоистическая на фоне других, более предпочтельных полезных занятий. Отсюда происходит этот вертел, возвращающий к нуждам «реальности».
Однако с наступлением XX века приходит признание тренировок, и требования к их организации значительно повышаются: их «методическое развитие»[301] доводится до такой степени, что они становятся решающим словом в педагогике и физическом воспитании. Кроме того, происходит их постепенная трансформация: интерес к силе воли и ее проявлениям сменяется интересом к менее явным телесным сферам: к выносливости и к скрытому сопротивлению. К примеру, происходит переход от расчета лишь на силу к более глубокой, более сложной цели — безостановочному внутреннему развитию. Из этого рождается идея о возросшем мастерстве, но также и о знании, скрытом в тебе самом. Это же, главным образом, способствует признанию физических тренировок и саморазвития, претерпевающих изменение вместе с образом тела, которое с приходом нового века все более явно становится центральной частью личности.
Наконец, это игра с пределами, которая, как кажется, постепенно вырисовывается в наше время: осознание тела, готового к безграничным, если не сказать рискованным, изменениям.
I. Программы для «атлетических» тел
«Атлетические виды спорта», изобретенные в конце XIX века, поначалу сосуществовали со многими другими физическими практиками: комнатной гимнастикой, танцевальными движениями, «естественными» упражнениями, различными играми. Тем не менее объединяет все эти практики акцент на «современность». Их также отличают две своеобразные черты: все более техническое и механическое восприятие движения, все более строгое и упорядоченное представление о тренировках. Такое их понимание, подкрепленное, вероятно, новыми возможностями проведения досуга и времени «для себя», вскоре по–новому обрисовывает их конечную цель: обещание психологического воздействия, предполагающее сознательное укрепление сил, убежденность в точной победе при должном упорстве. Отсюда признание мускульных инвестиций, знаменательное для 1900–1910 годов и постепенно расширяющее свои горизонты в сфере еще неуверенно проявляющей себя психологии.
1. Изобилие практик
Домашние энциклопедии, книги по домоводству, словари практической жизни с приходом XX века внезапно начинают предлагать бесчисленные варианты физических упражнений. Их методы разнятся как никогда, обещая «более гибкие, более гармоничные, более красивые тела»[302]. Расхождения вырисовываются даже в противопоставлении многочисленных способов для достижения телесного совершенства. Филипп Тисье публикует с 1896 по 1907 год четырнадцать статей в Revue scientifique, чтобы похвалить «шведскую гимнастику», составленную из движений столь же жестких, сколь и строгих[303]. Жорж Эбер, капитан–лейтенант, ответственный за физическую подготовку морских пехотинцев, выступает против, требуя систематизировать лишь «естественные» движения, такие как ходьба, бег, прыжки, броски… чтобы более методично развивать все части тела»[304]. Эдмон Дебонне в то же время останавливает выбор на использовании эспандеров и гантелей, чтобы «создать совершенных атлетов»[305]. Всем этим рекомендациям возражает Пьер де Кубертен, который отдает приоритет спортивным техникам и соревнованиям, чтобы обеспечить полное «телесное совершенство»[306]. В этих дебатах сложно усмотреть явные противоречия, — скорее, в них можно увидеть личностные ссоры, но они обнаруживают окончательный триумф «строящих» упражнений, упорядоченных, механических и точных движений, которые имеют единственной своей целью умножение физических ресурсов: тело здесь должно тренироваться согласно аналитической схеме постепенного движения вперед, мускул за мускулом, часть за частью. Впрочем, именно благодаря победе этого представления смогли проявиться и некоторые проблемы «метода», хотя это и осталось второстепенным по отношению к их первичной среде.
При рассмотрении совокупности этих методов появилась настоятельная необходимость в термине, давно применявшемся к работе со скаковыми лошадьми: «тренировка». Это практика, «заключающаяся в скачках и в последующем уходе, которые имеют своей целью избавить лошадь от лишнего и обучить ее бегу»[307]. Распространение в конце XIX века гимнастических практик, подъем интереса к спортивным результатам и способам их достижения привели к тому, что в итоге это слово стало применяться ко всей совокупности тренировочных методов. В этом состоит единство проекта, несмотря на различия, предполагающего, скорее, эффект синтеза, общего поиска медленного саморазвития: «Совершать каждый день и без особых усилий больше, чем накануне»[308]. Это сила воли, проявляемая во все более частых, увеличивающих трудность, детализированных повторениях, что объединяет одновременно продвижение вперед и результат, дозирование и работу. Это порождает определенную классификацию, включающую даже тех, кто далек от спорта. Жорж Эбер, к примеру, в 1911 году предлагает следующие сводные таблицы: «Низкие результаты», «Средние результаты», «Высокие результаты», «Спортивные результаты», «Результаты на грани человеческих возможностей», «Максимальные и рекордные результаты»[309].
Наоборот, более реальное противопоставление с конца XIX века сталкивает неповоротливые движения, пропагандируемые старыми гимнастическими обществами, с более открытыми практиками спортивных клубов и ассоциаций. Об их перспективах уже было все сказано[310]. К примеру, La Vaillante, гимнастическое общество из Перигё, намеревается «развивать физическую силу, чтобы обеспечить армию призывным контингентом, состоящим из крепких, ловких и подготовленных мужчин»[311]: здесь во главу угла ставятся солдат и война. В то же время перигёрский Атлетический клуб, появившийся несколькими годами позже, задается «целью способствовать развитию интереса ко всем видам спорта в целом»[312], ставя во главу угла уже игровые практики, пусть даже связь с армией здесь еще не забыта. Уже много раз говорилось о важности гимнастических обществ после поражения 1870 года, их привлекательности для массовой подготовки, их ура–патриотической природе, их четко упорядоченных занятиях, связанных с влиянием военной культуры, впрочем, в той же мере, как и с очень медленным становлением массового досуга[313]. Также все уже было сказано о постепенном развитии спортивных обществ с начала XX века, велосипедных и футбольных клубов, клубов по легкой атлетике и гребному спорту, об их играх на открытом воздухе, их пристрастии к рекордам. Год за годом эти спортивные общества занимали место закоснелых гимнастических обществ, хвастаясь стройными рядами атлетов и боевыми названиями: «Знамя», «Марсельеза», «Темляк» или «Стяг». С приходом нового века спорт стал вызывать больше симпатий в обществе, хотя определенное время в гимнастических и спортивных обществах состояло примерно поровну участников (470 000 в первых и 400 000 во вторых в 1910 году[314]). Даже несмотря на то что во многих регионах процент гимнастических обществ в то же время приближался к 70%[315], соотношение явно изменилось в пользу спорта только лишь после I Мировой войны. Спорт больше привлекал также потому, что его «демократическая» организация, основанная на механизме представителей и доверителей, приводилась в движение выборными «руководителями», по образу ассоциаций, образовавшихся во Франции с законом 1901 года: «В своем спортивном обществе юноша проходит школу жизни и школу гражданина. Он учится повиноваться руководителям, выбранным им свободно, и командовать равными»[316]. Первый «Всеобщий иллюстрированный спортивный ежегодник»[317], опубликованный в 1904 году и насчитывающий более 1000 страниц, подтверждает окончательное осознание новой идентичности, увеличение количества практик и названий ассоциаций.
Одно из первых исследований о молодежи, проведенное в 1913 году Альфредом де Тардом и Анри Масси, дает категоричное заключение: «Волна спорта захлестнула всю молодежь, которая страстно читает спортивные газеты»[318]. Это, конечно, преувеличение и даже искажение действительности, но эти слова наводят на мысль об игровом волнении, о чувстве увеличившейся свободы. Тем более что сопровождающий контекст этому способствует: спорт и соревнования не могли укорениться без устранения территориальных границ[319] в самом конце XIX века, без ускорения средств сообщения, без институционального сплочения, унифицирующего соревнования и их правила. Этого также не могло произойти без активного обустройства пространств, как и без активной реализации демократии в клубах и ассоциациях. Все это усиливало чувство соревнования и мобильности. Все это направляло речи отцов–основателей, уверенных в необходимости новой морали для нового времени, к тому, чтобы совместить на рубеже веков отступление религии, власть коллективного и триумф индивидуального: иными словами, смешать «усилие мускулов с усилиями мысли, взаимопомощь и конкуренцию, патриотизм и искусный космополитизм, амбиции чемпиона и самоотверженность члена команды»[320], согласно эклектичной формуле Пьера де Кубертена. Спорт требует создания морали, пропагандирующей соревнования в уважении к другому, самоутверждение в солидарности со всеми. Играть — значит быть морально правым, противостояние должно быть образцовым, спортсмен — предельно почтительным к другому, но столь же энергичным и страстным. В этом состоит необъятная идеология времени, которая доходит до того, что очерчивает этическое, почти педагогическое, видение вопроса, сочетая с воодушевлением физических соревнований их пацифистскую установку и назидательный характер. В этом также видится гигантский проект, который более чем когда–либо утверждает успех под знаком совершенствования.
2. «Тренировка»
Как бы то ни было, тренировки постепенно систематизируются: их все меньше связывают с прежними представлениями о режиме питания и потоотделении лошадей, боксеров и жокеев[321] и все больше — с движениями и их эффективностью. Они прославляют техники и таблицы. Время также дробится: Дебонне в 1901 году собирает в длинные столбцы «многочисленные движения всех видов для исполнения их каждый день в течение месяца»[322], чтобы приобрести силу перед тем, как приступить к следующим уровням, к другим движениям в последующие месяцы. Он также описывает новые снаряды, применяя к ним принцип поступательного движения, как, например, в случае с «гантелями для автоматического утяжеления»[323]. Теперь простое движение можно усложнить с помощью дополнительного веса. За счет этого физическое развитие встраивается в сам механизм работы снаряда, превращая тренировки в материальную культуру: она становится элементом упорядочивания вещей.
Требования повышаются и к самим практикам, их деталям, их неизбежной связи с тренировками. Цель: «позволить телу выдерживать нагрузки, обычно невозможные [sic]»[324]. Требования повышаются также и в клубах, например, в футбольных в начале XX века, где игра больше не мыслится без тренера и без предварительной подготовки. Составляются программы. Они расписываются по минутам и охватывают все неделю, вовлекая иные виды практик. Они также публикуются, распространяются, обсуждаются, как, например, программа, предложенная в 1914 году журналом La Vie au grand air («Жизнь на свежем воздухе»), предусмотренная, на самом деле, для профессионалов:
Вторник:
— Утро (10.30): пять минут дыхательных упражнений, четыре забега по пятьдесят метров, затем один на сто метров. Потом пятнадцать минут общей физкультуры и в конце прием душа.
— День (15.00): два забега по пятьдесят метров и один на двести метров. Затем пятнадцать минут занятий с боксерской грушей и в конце прием ванны или душа.
Среда:
— День: начальная работа с мячом с отработкой пенальти…
Четверг:
— Утро: то же, что и во вторник утром, иногда с ходьбой на семь–девять километров в сельской местности…
— День: то же, что и во вторник…
Пятница:
— Отдых, вес игроков записывается и анализируется…[325]
Интенсивность варьируется, естественно, в зависимости от клуба и преследуемых целей. Но программы становятся обязательным элементом на пути к любому виду подготовки, а сама подготовка — общей формулой для любого вида физической практики. Надо повторить, что методы также смешиваются в этих первичных практиках: «естественный метод» Эбера, например, привлекается в 1913 году для подготовки спортсменов в построенном в Реймсе большом комплексе, задуманном как «коллеж атлетов» со стадионом и крытым гимнастическим залом. L’Illustration дает просто–таки лирическое его описание, сочетающее поэзию, природу и современность: «Эти места, где все пробуждает культ силы, обрамлены тихими полями, плавно простирающимися к горизонту»[326].
3. Обаяние технических средств
Если гимнастические общества постепенно исчезают, гимнастика как способ тренировки и набор элементов не пропадает. Более того, она по–прежнему остается первичной практикой, располагающей определенным арсеналом движений, и при этом сохраняет образ прогрессирующего и продуманного обучения. Особенно сильно ее влияние в школах. Это подтверждают участники Международного конгресса по физическому воспитанию в 1913 году в Париже, предлагающие свои модели уроков, множащих градации и уровни[327]. Это же подтверждают и убеждения Пьера де Кубертена, который предлагает ввести гимнастику в начальной школе для того, чтобы «обтесать, сделать гибким или же укрепить и закалить» тело[328]. Ее господство ощутимо также в частных практиках, в гимнастических залах и в домашнем пространстве: число гимнастических залов в Париже выросло с 18 до 48 между 1870 и 1914 годами, в то время как гимнастика распространялась как средство поддержания себя в форме. Книга по «комнатной гимнастике», которая в 1905 году еще продавалась тиражом в 21 000 экземпляров для французской публики (40 000 для 4‑го издания в 1908‑м), в том же году расходилась в количестве 376 000 экземпляров среди читателей дюжины европейских стран[329].
В начале XX века разнообразие физических «упражнений» увеличилось как никогда. Список, бросающий вызов любой исчерпывающей категоризации, противопоставляет «игры на свежем воздухе», «пеший спорт», «физические упражнения» (в том числе гимнастику), «велосипедный спорт», «автомобильный спорт», «водные виды спорта», «конный спорт», «зимние виды спорта», «туризм и путешествия» (согласно громоздкой классификации «Энциклопедии практической жизни» 1910 года)[330]. «Список длинен и разнообразен», — отмечено в 1903 году в книге об «играх и спорте», адресованной «юным читателям»: «Сделайте свой выбор. Вот по меньшей мере двадцать пять видов спорта, которые взывают к вашим мускулам и вашему разуму»[331].
Еще большая очарованность техническими средствами обнаруживается в перечне инструментария. Прежде всего это страсть к деталям, что подтверждается многочисленными комментариями о велосипеде: это настойчивые разговоры о хроме, о стали, о «зубчатых осях», о «штоке вилки колеса с шайбами», о «цепях с двойными цилиндрами», о «колесах с осциллирующими защелками»[332]. Велосипед ставит с ног на голову мнимые ориентиры, множа «виды движений без ощутимого трения, которые превращают человеческое тело в алгебраическую формулу»[333]. Залог эффективности, мобильности как лучшей механизации, велосипед также становится первым предметом потребления индустриальной Франции: число велосипедов здесь увеличивается с 50 000 штук в 1890 году до более чем миллиона в 1901‑м: «социальное благо»[334], как утверждали журналисты в начале века. Свидетельство о скорости оставляет Колетт в тексте о «Тур де Франс» 1912 года: несколько едва различимых силуэтов гонщиков, существ без лиц, с «пустыми глазами с бледными ресницами», скрытые за маской пота и пыли, «с черными и желтыми спинами с красными цифрами, с выгнутыми дугой позвоночниками. Они исчезли очень быстро, единственные хранящие молчание в общем гаме»[335]. «Тренировать тело» до такой степени больше, чем когда–либо, означало вступать в современность.
Физические практики начала XX века соединились с механизмами этой эпохи, а также с новыми материалами. Так, например, характерен переход от дерева к стали, которую начали использовать в спорте в конце прошлого века: ее начали применять для полых железных труб опор гимнастических снарядов, калибровочную сталь — для упругости перекладин, дюралюминий — для легкости используемых в соревнованиях моторов. Все это трансформировало моторику, нацелив ее на скорость, порыв, быстроту. Это еще больше сблизило физические практики и современность, соединение которых превозносилось в начале XX века Манифестом футуристов, где говорилось о «головокружительном кипении мира», этой «пластической, механической, спортивной»[336] вселенной. Сюда же можно отнести и доводы Анри Дегранжа, создателя велогонки «Тур де Франс», убежденного в необходимости превратить гонщиков в «предвестников будущего», актеров «новой жизни»[337], тех, кто принесет приметы индустриального мира в самые отдаленные сельские уголки.
Повышенное внимание также уделяется самой технике выполнения упражнений: в начале XX века в работах, посвященных спорту, появляется все больше подробных перечней, продуманных систем. Например, в первой энциклопедии «Larousse» 1905 года, посвященной спорту, описание «захватов и ударов» в борьбе включает бесконечное разнообразие «вращательных движений бедрами», «крюков руками», «захватов простых» и «двойных», «переворотов вперед», «назад», «в сторону», «в гибкости», «с обратной стороны»[338]. Фигуры, предназначенные для фигурного катания в первой британской энциклопедии 1898 года, посвященной спорту, включают 28 «групп» лишь для части В первой категории данных движений[339]. В то же время американская «Book of Athletics» («Книга атлетики») начала XX века призывает приравнять к счетной «науке» ловкость, необходимую для игры в бейсбол, например, скорость, необходимую для преодоления барьеров[340]. Это уже отмечал Гастон Бонфон несколькими годами ранее относительно гребли: больше не «бить веслами по воде как попало», но освоить «науку, имеющую свои установленные правила и свой особенный свод законов»[341].
Тело здесь насквозь «технизировано», все более и более пронизано моделями индустриального общества. Отсюда возникает эта новая связь с подвижностью, столь мало изученный парадокс: прежде всего, подчинение максимальным требованиям биомеханической эффективности, согласно софистическим расчетам векторов, сил, временных отрезков, но также и все более пристальное внимание к неудачам и неожиданностям, тому, что не может допустить игровая практика. Всего лишь своеобразное удовольствие для актеров: это совершенно особое возбуждение, возникающее из противостояния между чрезмерными ожиданиями и такой же чрезмерной неожиданностью, вызванной неизбежным риском игры.
4. Изобилие измерений
Нужно подчеркнуть, что такое техничное тело — это тело вымеренное. Его развитие, как и его тренировки, продумано. Эффективность оговорена, возможности просчитаны. В начале XX века увеличивается число приборов, дополняющих совокупность измерительных механизмов, начало которым было положено в конце предыдущего века в работах Маре[342]. К «спирометру», измерявшему с давних пор жизненную емкость легких[343], к «пневмографу», регистрировавшему издавна частоту и амплитуду дыхательных движений, в начале XX века добавились «двойной определитель формы» Демени, отображающий общий профиль искривлений позвоночника и грудной клетки, «рахиграф» того же Демени, регистрирующий искривление позвоночника, «торакограф»[344] Дюфестеля, рисующий амплитуду как симметрию и асимметрию грудной клетки, «эргограф» Моссо, отображающий пределы усталости и внимания[345].
Движки ускоряются. Моторы калибруются. Возможности просчитываются. Упражнения более не рассматриваются вне их влияния на «замеры учеников, посещающих занятия, в сравнении с учениками, лишь наблюдающими за первыми»[346]. Регистрируется все больше измерений, конкретизирующих прогресс и его прогнозирование: например, требуется три месяца занятий, чтобы увеличить объем груди на 10 см, объем шеи, бицепсов и икр на 4,5 см, обхват плеч на 15 см (согласно рекомендациям Школы физической культуры, предложенным в 1903 году[347]). Тема эффективности сквозит в этих данных: легкие оказываются главным объектом расчетов, а энергия — главным предметом отображения. Образцовые замеры для активно тренирующегося спортсмена выглядят так[348]: «Обхват моей груди составляет 99 см на выдохе, 124 см на вдохе, а объем моих легких, измеренный на спирометре, составляет 600 см3». В отношении внешнего физического облика ожидается отчетливое проявление результатов тренировок: грудная клетка увеличивается, плечи распрямляются, при этом верхняя часть корпуса обнажена, чтобы лучше продемонстрировать произошедшие изменения. Методы, несмотря на их разнообразие, объединяет общая идея: «Самая узкая, самая тщедушная грудная клетка становится шире, развивается, можно сказать, на глазах <…>, спина выпрямляется, плечи отводятся назад»[349], — вторят друг другу тексты, представляющие совершенно непохожие между собой теории. Не представляет ли собой грудная клетка «мехи животного очага»[350], или даже «измерительный прибор человеческой машины, для которой она является камерой сгорания»[351]? На этой почве создается иерархия морфологических типов: «торакальному» (грудному) типу Демени в 1902 году отдает предпочтение перед «абдоминальным»[352] (брюшным), а Сиго в 1910 году противопоставляет «респираторный тип» (дыхательный) «дигестивному» (пищеварительному) и «церебральному» (мозговому) типам[353]. В то же время медицинская комиссия делает многочисленные фотографии обнаженных участников Олимпийских игр 1900 года в Париже, чтобы лучше выявить их «морфологические свойства»[354].
Нельзя сказать, что другие модели в начале XX века были неизвестны. В физиологии нервной системы уже давно уделяли особое внимание роли «боевой готовности» органов чувств. Без нее невозможно контролировать походку и движения. Без «отчетливых» сигналов невозможно добиться точности движений. Нервный импульс может быть как восходящим, так и нисходящим. Он одновременно обучает и дает команды, задает цель и сдерживает. Явным образом это демонстрируют болезни: так, например, может произойти дегенерация чувствительного спинномозгового нерва, и именно этим объясняется поведение человека, находящегося в седативном состоянии атараксии, неспособного контролировать перемещение собственного тела[355]. Двигательная функция и восприимчивость органов чувств неразрывно связаны друг с другом. На основе этого утверждения в конце XIX века возникло предложение развивать «мышечную чувствительность» для лучшей разработки мышц–антагонистов[356]: тренироваться, чтобы лучше «чувствовать», лучше ощущать мышцы и движения. Появилось и предложение разработать телесную модель, ориентированную на решение данного комплекса задач. Этим вопросом вплотную занялись в начале XX века, применяя к организму как системе «научные регламентации по организации телеграфных сетей»[357], ставя во главу угла возвратно–поступательные отношения между командой и ее восприятием: на смену двигателю внутреннего сгорания приходит машина для обработки информации, на смену горению — импульс.
Однако образ двигателя внутреннего сгорания все еще сопротивляется, продолжая господствовать в начале XX века. Объем грудной клетки продолжает захватывать всеобщее внимание, что поддерживает в сфере физического воспитания культ перетренированных торсов. Спортсмены на фотографиях из журнала начала XX века La vie au grand air («Жизнь на свежем воздухе») застыли, как на параде: спины прямые, грудь колесом. Реформаторы школьной системы физического воспитания при разработке собственных проектов ориентируются именно на эту часть тела: «День должен быть посвящен легким, утро — мозгу»[358]. Трудовые инженеры, делая свои расчеты, также имеют в виду эту часть тела: изучая «динамический размер человеческой машины»[359] в трудовых условиях, Амар в 1914 году отмечает, что он строго ограничивается объемом обработанного воздуха. Энергетическая машина по–прежнему воспринимается как образец.
5. Преобразование личностной «тренировки»
В начале века добавляется психологическое измерение, связанное со стратегиями замеров и подсчетов. Скрупулезность и желание преобразуют «проявление воли» в работу[360], провоцируя рост, культивируя прогресс, акцентируя, таким образом, конкуренцию и соревновательность — важнейшие социальные темы. Тренировки начинают меняться изнутри. Об этом свидетельствуют новые работу и представляемые в них образы, ограничивающиеся по преимуществу вопросами о силе и здоровье. Гебхардт, говоря о рассчитанной программе, обещает «впечатляющую тактику»[361]. Лоти, хваля советы Дебоне, предлагает заручиться дополнительной уверенностью за счет «интеллектуального усилия»[362]. Сандов, рассуждая о заочном обучении, предлагает «анатомическую хартию»[363], превознося упорство и данные самому себе обещания. Больше всего об этом свидетельствуют разнообразные «методы», ориентированные на совершенствование внешнего облика, его «величины», его очертаний. Они провоцируют рост числа зеркал и фотографий, правил и планов, скрупулезных наблюдений за личными достижениями: развитие «рациональной культуры»[364], как назовет ее Эдмон Дебоне в 1901 году, или «бодибилдинга»[365] (термин, предложенный Бернаром Макфадденом в 1906‑м).
Таким образом, влияние этого психологического измерения расширяется: оно охватывает теперь не только гигиену или мораль, но и самоубеждение, не только проявление силы, но и прогресс, упорство в достижении цели, основанное на просчитанной программе тренировок. Усвоенная тактика должна, действительно, «впечатлить». Тренировка, таким образом, становится еще и психологической, преобразуя решимость в успех, помогая тренирующемуся стать «достойным человеком»[366]. Вырисовывается ориентир на «максимальное проявление жизненной силы», призванное, как отмечается в нескольких американских текстах, преобразовать «слабость в силу»[367], чтобы дать возможность эффективнее противостоять жизненной непредвиденности.
Нельзя сказать, конечно, что тема социального подъема в начале XX века была нова. Многочисленные бальзаковские персонажи в эпоху французского романтизма уже предлагали различное видение этого процесса. Новизна состояла в сосредоточенности произведений на вопросе физического развития, в их дидактической направленности, их персонализированном тоне, их практической ориентированности. «На упражнения нужно каждый день выделять время из рабочих часов»[368], — говорится в одном из текстов 1900 года: одновременно становится ясно, к какой социальной группе этот совет имеет отношение. В другом тексте утверждается, что упражнениям необходимо посвящать «вечер после закрытия контор»[369]. Растущий слой мелкой буржуазии обнаруживает в этом поле для деятельности, некоторую «опору»: нужно больше работать над собой, чтобы лучше преуспеть в жизни. Это соответствует новой социальной ситуации, складывающейся во многих западных странах. Во Франции 1900 года лучшим примером выступает Компания Северных железных дорог, разработавшая длинную лестницу должностей, которую последовательно, год за годом, может пройти добросовестный сотрудник: 28 квалификационных уровней с соответствующей градацией оклада в «работах на путях», 43 — в «оборудовании и службе тяги», 64 — в сфере эксплуатации. Уровни и звания теперь становятся как никогда разнообразны, они подстегивают стремление к успеху и к повышению по службе[370]. В то же самое время количество служащих во Франции в период с 1870 до 1911 год удваивается.
Эти изменения сочетаются с бытующими в обществе проектами личностного развития, выводя на первый план понятия соревновательности и равенства. Они близки литературе начала XX века — литературе совершенно нового свойства, сулящей обретение «веры в себя»[371], рассказывающей, как «стать сильнее»[372] и «идти по жизни своим путем»[373]. Они также близки психологической литературе, которая спустя несколько лет обратится к ментальным техникам, чтобы выявить способ развития уверенности в себе: «Во время физических упражнений можно практиковать нечто вроде самовнушения»[374], — утверждается в одной из работ 1930‑х годов.
II. Досуг, спорт, сила воли
После I Мировой войны атлетическая модель тела укрепляет свои позиции, принимая разнообразные формы. Вырисовываются новые перспективы: естественность и нагота иначе представляются, сила и мускулатура — иначе оцениваются. Рабоче–промышленный мир, характеризующийся растущим ритмом жизни, и конторская среда, с присущей ей приспособляемостью, все больше ориентируются на жизненный тонус и худощавость. В условиях появления новых возможностей для досуга все важнее становится проведение его на свежем воздухе и в движении. Все это происходит на фоне смены основных культурных отсылок, сопровождающейся триумфом «городского» образа жизни, зачатками культуры «свободного времени», туризма, походов: мускулы теперь не являются признаком рабочего класса, а загар — сельских жителей[375]. Тело воспринимается как «атлетическое», активно взаимодействует с окружающей обстановкой, занимает все свободное время.
В дальнейшем, в период между двумя войнами, физические тренировки поспособствуют началу работы над личным пространством, то есть овладению чувственной сферой, помимо развития мускулов и оттачивания движений.
1. Тело «снаружи»
Критерий «внешнего» прежде всего заставляет задуматься о проведении свободного времени: каникул и выходных. Это физическое проявление активности «на свежем воздухе», где особое значение приобретают воздух, море, солнце. На модных фотографиях царит свет, окружающее пространство оживляет лица: «Тела загорают, как созревают фрукты»[376], — утверждает Vogue в 1934 году. Пляж больше не воспринимается как декорация, теперь это среда обитания: все меньше гуляющих и все больше непринужденных тел, все меньше повседневной одежды и все больше купальных костюмов[377]. В литературу входит образ «солнечного удара»[378]. Описания добавляют яркости подвижному времяпрепровождению. Вот как, например, в 1936 году Votre beauté описывает девушку: «Она идет широкими шагами, увлекая за собой, словно необычный зов воздуха, свежего воздуха»[379]. Лицо должно вызывать «воспоминания о каникулах»[380]. Тело должно порождать мысли о «свежем воздухе», ведь только он сопутствует «торжеству настоящей красоты»[381].
Этот «внешний» образ становится каноническим. Загар превозносится, глубинно преобразуются методы ухода за собой, во всех отношениях изменяется цель работы над собой: если каникулы порождают эстетику[382], то солнце дает энергию[383]. Также происходит масштабное педагогическое переосмысление ситуации, в рамках которой любой человек в поисках беззаботности и удовольствия имеет возможность стать лучше и «похорошеть». Никогда еще проявление силы воли при работе над собой не давало подобной вольности: сделать «настоящую передышку»[384], «предаться ласке солнечных лучей», чтобы добиться «нового типа привлекательности»[385]. Будучи первым заявлением о себе современного индивида, эта непринужденность предвосхитила вопрос о принадлежности человека себе, о посвящении самому себе времени. Еще более примечательна она тем, что сопровождала появление оплачиваемых отпусков[386], ставших для некоторых «первым годом счастья»[387].
Возможно, пример загара для самого начала XX века не поражает воображение, но имеет решающее значение. Речь идет о гедонистических отсылках, о неожиданно возникшей уверенности в возможности достичь большего через разрыв с прежним, через отдаление, через приверженность природе и свежему воздуху[388]: «помолвка с летом»[389], «грубые сельские удовольствия»[390], «по–весеннему юное тело»[391]. Все эти летние образы Мак–Орлан переносит в поэтическую сферу: «Молодое и обновленное тело возрождается ароматными морскими вечерами»[392].
2. Поддержание внешнего облика
Сам образ тренировок, а также сопутствующий ему, как принято считать, образ «свободной манеры поведения»[393] перестают быть чем–то необычным. Также становится привычным представление о преображении силуэта благодаря движению и упражнениям: «создай свое тело»[394] — вот главный лозунг пространной литературы, посвященной спорту. Внешний облик «моделируется», пребывание на «свежем воздухе» активно пропагандируется. В период между двумя войнами все эти рассуждения становятся довольно очевидны, хотя по–прежнему обращены к довольно ограниченному слою населения, что разительно отличается от сегодняшней ситуации.
Например, вес теперь все чаще объявляется показателем здоровья. Его излишек сулит опасность: кривые роста смертности и веса пересекаются, что подчеркивает риски для здоровья, подстерегающие «толстяков». Чтобы это продемонстрировать, Votre beauté публикует таблицу, представляющую пять различных причин смерти:
Болезни и вес (Votre beauté, сентябрь 1938 года)
Причина смерти Худые С нормальным весом Тучные Апоплексический удар 112 212 397 Болезни сердца 128 199 384 Болезни печени 12 33 67 Болезни почек 57 179 373 Диабет 6 28 136 Общее количество 315 651 1358Таким образом, смертность от одних и тех же болезней у «худых людей» в четыре раза ниже, чем у «толстяков». Следовательно, ожирение, долгое время считавшееся лишь преддверием патологического состояния, теперь превращается в «очень серьезную»[395] опасность, тяжелую болезнь. Оно негативно влияет на все жизненные функции: от засорения сердечных клапанов до «закупорки дренажа»[396] печени. На основе этого представления вырабатывается определенная шкала опасности, строже оценивается верхняя предельно допустимая граница нормы. Так, например, американские общества страхования жизни с 1910‑х годов рассматривают 8 категорий, рассчитывая свои тарифы в зависимости от отклонения веса своих клиентов от нормы: от 12 кг ниже нормы до 23 кг — выше. Французские журналы такой подход заимствуют и освоят несколько позже, но сам принцип, внедряющий представление о цифрах и уровнях[397], укоренится уже тогда.
С 1920‑х годов существенно меняются представления о женском силуэте, при этом безостановочный переход от «худого» состояния к «тучному» получает образное воплощение. Вред, безостановочно наносимый «ожирением», Поль Рише отображает в округлостях: все больше увеличиваются круги под глазами, все больше утяжеляется второй подбородок, все больше портятся изгибы груди, бедра становятся шире и на них появляются жировые складки, ягодицы обвисают[398]. Анатомический рисунок облекает время в телесную форму, подчеркивая непрерывно происходящую деформацию: отныне выявляются различия не только между разными живыми организмами, но и между разной степенью грузности тела, постепенного обвисания кожи и отягощения силуэта. Другими словами, деформация линий тела требует определенного просчитанного вмешательства. Отяжелевшие округлости, которым наука раньше не придавала никакого значения, становятся объектом ее исследования, достоянием анатома и врача.
Ранее не известные симптомы подробно описываются в книге Жоржа Эбера «Мускус и женская пластическая красота»[399], впервые увидевшей свет в 1919 году и выдержавшей множество переизданий. Вот, например, какие выделяются типы увеличения живота: «живот одутловатый или вздутый со всех сторон», «живот раздутый и округлый снизу», «живот обвисший или опавший»[400]; и места «жировых отложений»: «верхний жировой пояс», «нижний жировой пояс», «пупочный жировой пояс»[401], и все это только для живота, а кроме того, выделяются «три стадии обвисания груди»[402]. Таким образом, избыток жира, деформирующий очертания фигуры, распределяется и оценивается по определенным слоям, что позволяет эффективнее отслеживать начало процесса ожирения.
3. Тело «изнутри»
Можно сказать, что такое повышенное требование к «моделированию» своего тела активизировало идею работы над ним, то есть применению к нему силы воли: необходимы непоколебимость и упорство, несмотря на каникулы и отдых на свежем воздухе, настойчивость и упрямство, несмотря на минуты отдыха и расслабленное состояние. К тому же с начала века эта установка была поддержана многими начинаниями, представлявшими первые шаги в деле обретения силы и «уверенности в себе»[403]. С 1920‑х — 1930‑х годов этот вопрос все чаще рассматривают с психологической стороны. Теперь он затрагивает глубины сознания, предлагая различные методы «самовоспитания»[404], основанные на ощущениях и внутренних ориентирах, задействует идущие извне референции. Постепенно вырисовывается целый мир, прежде мало проявлявшийся в телесных практиках: мир проверенных, изученных мускулов, «о которых сформировалось определенное представление». Тело «психологизируется» по образу индивида, который, согласно требованию современности, все больше становится хозяином самому себе. На этой основе формируется представление об упражнениях нового, не известного ранее типа: например, «сконцентрируйте ваши мысли на дыхании»[405] или «сконцентрируйте ваше внимание на работающей в данный момент мышце, думайте о ней и попытайтесь прочувствовать, как она выполняет свою функцию»[406]. Необходимость стать «скульптором [собственного] силуэта»[407] предполагает новые внутренние поиски, подчеркивает насыщенность личных ощущений, очерчивает вектор неизвестной ранее работы над личным пространством. Графиня де Полиньяк, дочь мадам Ланвен, в 1934 году вспоминает упражнения, которые она выполняла в самое неожиданное время, но при этом они не выходили за пределы личного пространства и строго контролировались ею, так что оставались практически незаметны для окружающих: «В течение дня, в машине, во время разговора, я делала упражнения так, что никто не мог этого даже заподозрить. Я вращала запястьями, я медленно поднимала вверх руки, представляя, что держу ими неподъемную тяжесть. Благодаря этому методу я добилась железных мускулов»[408]. Votre bonheur в 1938 году предлагает программу «незаметной гимнастики», которую можно выполнять в такие моменты, когда обычно бессмысленно теряется время: «во время ожидания автобуса», «в метро», когда никто не видит, но при этом можно максимально мысленно сосредоточиться: «Чтобы укрепить мышцы коленей, бедер и ягодиц, попеременно напрягайте и расслабляйте каждую их них… в течение нескольких минут вы сможете совершенно незаметно выполнить целый комплекс движений»[409]. Тот же принцип следует использовать, чтобы представить себе желаемые формы тела, ради которых постоянно выполняется определенное упражнение: «Нужно постоянно думать о том, как ваш живот становится плоским, а мышцы подтянутыми»[410]. Эти совершенно практические психологические установки порождают новое искусство ощущать внутреннюю силу воли, пусть даже на элементарном уровне и в довольно ограниченных масштабах. Они также отражают новое представление о теле, более утонченное, более интериоризированное, ориентированное на ментализацию: необходимо «слушать» свои ощущения, чтобы лучше их контролировать, следует представлять физическую форму, чтобы ее обрести.
Впрочем, вместе с этими установками меняется и описывающая их реальность, соответствующим образом выстраиваются дискурс и исследование данных практик по восприятию ощущений. Внимательная как никогда к уровню ощущений спортивная литература периода между двумя войнами говорит о своем предмете только в этом ключе. Жан Прево, например, в 1925 году представляет чувственное переживание практически интеллектуальным: «Эти предупреждения, выражающиеся в тяжести в мышцах, могли бы быть языком, пусть и слишком надуманным, странным — как новости, телеграфируемые из провинции. Новая органическая жизнь, более интересная и более моя собственная, поднимается вместе с интенсивностью занятий до уровня моих мыслей»[411]. Доминик Брага смешивает пространственное воображаемое с телесным: «Эти повороты, эти десять, десять, восемь оборотов, составляющих комплекс, исходят из него, из центра его сил, можно сказать из пупка: они преобразуются в кишечные, перистальтические движения, рождаются из тебя самого и порождают то, что за ними последует»[412]. Возникает новая вселенная, если и не играющая первостепенную роль, то совершенно самобытная; с наибольшим успехом ее удалось изучить Прусту в начале XX века[413]. Психологи начали говорить о ней с конца XIX века, рассуждая о «мышечном» или «внутреннем чувстве»[414], а спортивная литература стремится применить ее «на практике», более чем когда–либо приравнивая современного индивида к непосредственно чувственной сфере жизни его тела.
4. От обустройства пространства к выдаче свидетельств
Помимо времяпрепровождения на свежем воздухе и контроля над фигурой и чувственным опытом, после I Мировой войны широкое распространение получают различные спортивные практики. Это составляет четвертую особенность 1920‑х — 1930‑х годов. «Энциклопедия для молодежи» уже касалась этого вопроса: статьи 1914 и 1917 годов, представлявшие почти военную гимнастику, в 1919 году вытесняются статьями, в которых рассматриваются «спортивный дух», «возрождающиеся» и «развивающиеся виды спорта[415]. В 1930‑е «Большой энциклопедический справочник Larousse» утверждает: «Нет ни одного поселка, в котором бы не было своей футбольной команды, своего велосипедного общества и своей спортивной команды; нет ни одного города, в котором бы не нашлось теннисного корта»[416]. Соответствующие цифры на местах это подтверждают: 16 спортивных и гимнастических обществ в Дордони в 1889 году, 92 — в 1924‑м, 117 — в 1932‑м[417]; 19 обществ создано за год в округах Руана и Гавра в 1912 году, 52 — в 1938‑м[418]. Одновременно число именно гимнастических обществ, как демонстрирует Габриэль Дезер на примере Нормандии, сократилось с 49 в 1921 году до 15 в 1939‑м, в то время как число клубов легкой атлетики и футбола в Кане и его окрестностях[419] выросло с 38 в 1921‑м до 50 в 1939 году. Эта ориентация на спорт подтверждается и в общенациональном масштабе:
Число спортсменов, зарегистрированных в федерациях легкой атлетики, баскетбола и футбола, в 1921 и 1939 годах [420]
1921 год 1939 год Легкая атлетика 15084 32000 Баскетбол 900 23158 Футбол 35000 188664К этому можно добавить комментарии и официальные данные: «Спортивные площадки, стадионы и велотреки открываются сегодня вокруг Парижа для отдыха наших умов, расслабления наших нервов и тренировки наших мышц», — утверждает L’Illustration в номере от 10 июля 1920 года[421]. Этот факт меняет направление местных дискуссий, проекты по спортивному оснащению. Еще больше он влияет на субсидии: их доля по отношению к спортивным обществам вырастает в Лионе в период между 1913 и 1923 годами с 5 до 18% от общего бюджета[422]. Ситуация в Безансоне, тщательно изученная Натали Мужен, отражает ту же прогрессию, а кроме того, обнаруживает новые направления этих субсидий: в 1910‑х годах интерес к старому гимнастическому залу и безансонским речным купальням отходит на второй план, уступая место стремлению построить стадион и организовать новый спортзал[423]. В этом можно усмотреть лишь новый виток развития культуры спортивных достижений.
Этому же соответствует и расширение социального слоя, к которому принадлежат люди, регулярно занимающиеся спортом. Разительно отличаются между собой ходоки пробега «Париж — Страсбург» 1931 года и чемпионы «гольф–клуба Сен–Жермен», сфотографированные в том же году: разношерстность первых, в запачканной одежде, против безукоризненного вида вторых, в мягких костюмах и навощенных ботинках. Здесь сталкиваются два образа действий: выверенные и четкие движения гольфистов и повторяющиеся изнурительные движения ходоков. Тот же контраст можно обнаружить между тяжелоатлетом и наездником: тяжеловес, воплощение рабочей силы, с одной стороны, и человек, олицетворяющий изящество и легкость, — с другой. В процессе своего развития спортивные практики в своей стилистике и своем разнообразии отражают совокупность социальной общности[424]. Это становится отличительной чертой популярных практик и способствует их распространению. Наиболее ярким примером здесь можно назвать футбол: еще в 1930 году зубной врач и выпускник политехнической школы или Высшей школы искусств и ремесел все вместе играли в футбольном клубе «Стад Франсе», однако уже в 1926 году в газете Le Miroir des sports отмечалось, что «лучшие французские игроки принадлежат к весьма умеренному социальному классу»[425].
Первые шаги делаются и в сфере женских спортивных практик. 13 июля 1919 года на «Празднике мускулов» в Тюильри появляются женщины в коротких костюмах, оголяющих ноги, в черных беретах и тесных футболках[426]. Фотографии с соревнований по толканию ядра, бегу с барьерами или же прыжкам в высоту отражают новую реальность: на этих соревнованиях проявление силы столь же свойственно женщинам, сколь и мужчинам. «Праздник весны» в мае 1921 года повторяет этот опыт, на этот раз уже в присутствии президента Республики. Для 1920‑х годов характерны многочисленные случаи противостояния и споров, в которых медицинское сообщество, стремясь диктовать нормы физического воспитания, демонстрирует свою приверженность традициям: «Ни в коем случае мы не осмелимся утверждать пользу спортивных соревнований для женщин»[427], — заверяет в 1922 году Морис Буаже, врач военной школы Жуанвиля. L’Illustration неуверенно добавляет: «Не кажется ли вам, что мы требуем слишком много от этих хрупких организмов, позволяя им участвовать в соревнованиях подобного рода?»[428] Алисе Милье, организатору этих мероприятий, наоборот, удается приобщить их к общей трансформации, связанной с положением женщин: «Физическое воспитание и спорт дарят девочкам и девушкам здоровье и силы, которые, не вредя их природной грациозности, делают их более приспособленными к тому, чтобы в будущем исполнять ожидаемый от них общественный долг»[429].
Школьный же мир межвоенного периода, наоборот, демонстрирует, насколько педагогика школьных площадок и дворов остается недоверчивой по отношению к спорту и спортивным играм. Свидетели того времени говорят об уроках, посвященных исключительно гимнастике, механически выполняемой всеми вместе, о «ходьбе строевым шагом», о «разминочных упражнениях», о «выполнении четких команд»[430]. Школьные практики ориентировались, в первую очередь, на совокупность подготовительных движений, довольно сдержанных по своему проявлению. Методики предполагали весьма ограниченное обучение: «Предпочитать спорт физической культуре — значит поступать так же, как каменщик, который хочет строить дом, начиная с крыши»[431]. Страх чрезмерной однонаправленной физической нагрузки, которую предполагает спорт, со всеми связанными с ним «бесконечными рисками»[432], преследовал педагогов 1920‑х годов, отчего они считали гимнастику необходимой и непреложной основой физического воспитания. Еще сильнее их обуревал страх некоторого «физического переутомления» от спорта. В противовес придумывались все новые дисциплины: «В том, что подростки бегают, нет ничего удивительного: они созданы, чтобы бегать. Но ведь они бегают только во время игр, лишенные возможности делать частые передышки»[433]. Сюда же можно добавить педагогический успех Жоржа Эбера и его школы морских пехотинцев[434], где и после 1920‑х не признавался спорт: он воспринимался как «международная ярмарка мускулов»[435], которой свойственны чрезмерность и безудержная мания спортивных достижений и рекордов. Эбер, как уже было сказано, создал «естественный метод»[436], основанный на наиболее «примитивных» движениях тела, он открывал палестры[437] и атлетические школы, антитехничная направленность которых могла кому–то понравиться — как, впрочем, и натуризм, противопоставленный якобы надвигавшемуся машинизму.
Однако с приходом 1930‑х годов ситуация в школьном образовании начала, пусть и медленно, но меняться: примером этому может служить появление «Свидетельства о спортивной квалификации», введенное в 1937 году с подачи заместителя министра спорта и организации досуга во время правления Леона Блюма. В основе замысла лежал спорт. Предполагался комплекс испытаний, разнесенных по времени проведения. Цель: оценить различные физические качества, определявшиеся с начала XX века физиологами «человеческого мотора»[438]. Эталоном служили показатели, рассчитанные Белленом дю Кото (так называемые VARF: vitesse, adresse, résistance, force — скорость, ловкость, выносливость, сила). В основе принципа лежала статистика, результат выражался в виде выверенной «таблицы»: для «выносливости»[439], таким образом, можно было выявить достижения и отклонения. Можно было оценить «физическую» силу и отдельные «свойства» нации в совокупности. Нововведение вызвало горячий интерес: в 1937 году 500 000 кандидатов было выдано 400 000 свидетельств[440]. Однако прежнее общее представление о спорте пока еще сохранялось: согласно ему приветствовалось совокупное развитие различных способностей, а не способностей специализированных. И тем не менее спорт становится мерилом, местом испытания, способом проверить свои способности и свой потенциал. Об этом же говорит и Анри Селье, открывая Высший спортивный совет 20 июля 1936 года: «Французская молодежь стремится к спорту. <…> Спорт должен сыграть большую роль, как с национальной, так и с социальной точки зрения»[441].
Это стремление и наметившееся спортивное развитие оказались в достаточной мере осознаны для того, чтобы в 1930‑х годах утвердился «спортивный метод»[442], которому полагалось следовать с самого раннего возраста. В его рамках предлагались «образцы занятий», составлялись «программы тренировок». Это вновь сблизило спорт, гимнастику и активность на природе, уравняв свойственное им понимание упражнений и прогресса.
5. Девиация силы воли
Но существуют также примеры извращенного понимания тренировок и проявления силы воли. «Национальное спортивное свидетельство», введенное в 1933 году в Германии, базировалось на идее командного духа: предполагались обязательные командные испытания[443]. Так же как вокруг идеи объединения в команды формировались телесные практики итальянской фашистской молодежи, регулировавшиеся начиная с 1928 года «Спортивным уставом». «Гигиеническое физическое воспитание» было призвано способствовать улучшению «физического здоровья нации»[444], предвещая почти телесное сплочение коллектива и настаивая на органическом преобразовании человеческой природы. «Новый человек», согласно подобным националистическим замыслам, должен «физически трансформироваться». На этом настаивает Карло Скорца в своих «заметках» о фашизме и «его лидерах»[445]. Гимнастика и спорт должны были способствовать этому в первую очередь.
Темная сторона волюнтаристских и спортивных устремлений была тонко уловлена и подхвачена тоталитарными режимами: об этом свидетельствует «триумф воли», превозносимый Лени Рифеншталь в нацистских кинопостановках, изобилующих освещенными солнцем мускулистыми телами[446], которые представлены в спортивных позах и демонстрируют напряженные линии. Гимнастика широкого масштаба, вовлекающая всю нацию в совокупности, оказывается крайне радикальным отпором передовым демократическим идеям (которые воспринимаются как чудовищная опасность[447]), движением против «упадка», «конца» Церкви, раздробления коллектива. В этом заключается активная и в высшей степени физическая попытка противостоять «разочарованию мира», сформулированному Максом Вебером[448]. Тренировка воли, обещание достижения решительного и прямого характера (derb und rauh[449]) превращаются в инструмент для достижения поставленной цели. Отсюда возникает идея физического совершенствования, которое призвано «укрепить» тела. Появляется безумный образ нации, стремящейся стать единой силой и кровью: «новый человек»[450] становится мифическим образом силы и воли. Остается единственная мечта — воплотить нацию в теле: «Тело — это божественный дар, оно принадлежит Volk[451], поэтому его надо защищать и о нем надо заботиться. Тот, что закаляет свою волю, служит нации»[452].
«Красота, сила и судьба суть одно и то же»[453], — заверяют подобные проекты по мифологизации коллективной телесной силы. Стоит отдельно остановиться на этих формальных контурах, на спортсменах, единообразно выстроенных в ряд в фильме «Боги стадиона»[454] Лени Рифеншталь, на красивых очертаниях мраморных скульптур работы Арно Брекера[455]: в этом непроницаемом внешнем виде, в этих застывших лицах воплощается теоретическое представление о красоте, сводимой к простому набору абстрактных черт, свойственных вдохновлявшим их греческим образцам. Для них характерны отсутствующий взгляд и «идеологизированная» походка: эротизацию и персонализацию они отрицают. «Как стать красивым?» — обращается к обоим полам реклама в немецких газетах 1930‑х годов: сила и мощь предполагают совершенно другой ответ[456]. И опять же неизбежна «воинственная» тема: эта «воинственная манера, или <…> выправка, читается во всем: требуется ясный, суровый, укрощенный и мужественный внешний вид»[457]. В этом трагическая амбивалентность начинаний по воспитанию воли.
III. Между «тонусом» и «личным» телом
Успех приходит к спорту после войны. Становятся популярны клубы, с их принципом героизации и педагогическими установками: спорт прочно утверждает свои позиции в сфере школьного образования, представляя эталонную педагогическую схему.
Еще более важное изменение претерпевают ожидания от тренировок и физического развития: победоносное развитие психологии сулит личностные открытия. Работа над собой, исследование «внутренних посылов», изучение чувственной сферы в последние десятилетия принципиально трансформируют способы тренировок и их цели. Вне спорта, совместно с ним или параллельно ему, «тренировки» становятся отдельным миром, совершенно особым средством, цель которого в том, чтобы максимально преуспеть в мастерстве, а кроме того, в «раскрытии» самого себя (это должно способствовать саморазвитию). Вот в чем заключается стремление человека к ясности и прозрачности в отношении самого себя, и тело должно сыграть первостепенную роль в достижении этой цели.
1. Спортивный путь
France illustration использует внешне весьма условный язык, публикуя 9 февраля 1946 года исследование об американской молодежи. Упоминаются «радость быть сильным», «желание быть телесно здоровым», журнал настойчиво говорит о «месте, которое отводится спорту в школах и университетах»[458]. Формулировки известны, образы банальны. Однако подспудно и явно здесь доминирует наивная, но весьма примечательная идея: только спорт может содействовать воспитанию тела. Школьные упражнения также начинают трансформироваться: нет больше гимнастики или «физической культуры», нет набора подготовительных упражнений; их сменили соревновательные игры, отрегулированные правилами поединки, практики, бытовавшие ранее в рамках федераций и клубов. Рушилась целая традиция прежней дисциплинарной целостности, базировавшейся на повторяющей геометрии.
Во Франции эта идея утвердилась в 1950‑е — 1960‑е годы, после долгих дискуссий и обсуждения деталей. Нельзя сказать, что были сняты все противоречия: некоторые педагоги осуждали «спортивную логику», предполагавшую «невыносимое дозирование усилий», и клеймили вред от ориентированности на «спортивные результаты», стремление к которым осуществляется «во вред здоровью»[459]. Но большая часть требовала приблизить школьные практики к практикам клубов, заменить прежние «аналитические упражнения» школьных площадок «спортивным разнообразием»[460]. Высшее руководство, как, например, сделал президент Республики после Олимпийских игр 1952 года, высказало пожелание «организовать массовое движение по спортивному воспитанию» и, ориентируясь на самых юных граждан, начать этот процесс «со школ»[461].
Независимо от того, были ли инициативы подобного рода содержательными или чисто декларативными, они способствовали развитию спорта после II Мировой войны:
Численность спортсменов в легкой атлетике, баскетболе и футболе в период с 1944 по 1968 годы [462]
1944 год 1949 год 1968 год Легкая атлетика 34800 35214 77463 Баскетбол 60100 95801 133909 Футбол 277332 440873 602000Общая численность спортсменов в период между 1944 и 1950 годами практически удваивается, увеличиваясь с 2 081 361 в 1950 году до 2 498 894 — в 1958‑м[463]. С 1958 по 1968 год она удваивается вновь. Наибольшую интенсивность этот процесс приобретает в период с 1950‑х по 1970‑е годы: спорт становится не просто видом деятельности, которым занимается большое количество человек, а превращается в популяризированную практику. Численность футболистов, например, вырастает с полумиллиона до миллиона в промежуток между 1950 и 1975 годами, теннисистов — с 50 000 до полумиллиона, дзюдоистов — с нескольких тысяч до более чем полумиллиона. Данные статистики наглядно отражают социальную сторону вопроса: численность боксеров, например, с 1950 по 1975 год уменьшается, тогда как количество лыжников — возрастает, с 45 000 до 620 000, то есть более чем в 12 раз. Наблюдается с одной стороны отказ от практик, имеющих явно насильственный характер, с другой — расцвет практик открытых пространств и головокружительных движений. Наиболее показателен рост, сопутствующий практикам среднего класса: происходит освоение прежде элитарных видов спорта, например тенниса и особенно лыж, наемными работниками эпохи «славного тридцатилетия», которых Ив Лекен объединяет под термином «наемные средние классы» («от руководителей высшего уровня до конторских служащих»). Их число доходит до 3,5 миллиона в 1962 году и до 6 миллионов — в 1975‑м[464]. К этому стоит также добавить активное развитие женских практик: например, пропорциональное соотношение баскетболисток вырастает с 20% в 1960 году до более чем 40% в 1975‑м, а легкоатлеток — с 12% до более чем 30%.
При этом, помимо спортивных практик, популярность набирают спортивные зрелища, которые утверждают спортивный образ в качестве образца для подражания. Показательны послевоенные изменения: стадионы больше, чем когда–либо, воплощают массовую культуру, образ чемпиона больше, чем когда–либо, вызывает энтузиазм и осознание идентичности. Смерть Сердана 29 октября 1949 года была воспринята как национальная трагедия: 600 000 человек следовали за похоронной процессией, объединившей как руководителей страны, так и просто сочувствующих[465]. Достижения велогонщика Луисона Бобе в начале 1950‑х годов вызывали великую «гордость»: подлинно французский успех, триумф изящества и труда. Это же подтверждают и некоторые проводившиеся в это время исследования. Жители Анси, среди которых в 1953 году Жоффр Дюмазедье проводил опрос о том, кого можно назвать «людьми–событиями», отдают предпочтение спортсменам: спорт упоминается 92 раза, кино — 89, политика — 47[466]. В этот период Бобе опережает аббата Пьера[467] и Эдуарда Эррио[468] в борьбе за звание «главной звезды»[469] французов. «Очевидное» торжествует: «Спортивная зрелищность существует и готова противостоять любой критике»[470]. И стоит ли говорить, что подобная тенденция характерна для всех западных стран. В Италии 1950‑х Доминик Жамо приводит в пример образ велогонщика Коппи, который «сопутствует меняющейся Италии»[471]. Ричард Холт, говоря о Великобритании 1950‑х годов, приводит «ставшее магическим имя»[472] футболиста Стэнли Мэтьюза, неудержимого дриблера. «Спортивная культура» должна отождествляться с «наивысшим проявлением телесной культуры»[473]. Даже спортивная специализация становится «движущей жизненной силой»[474], что далеко от бытовавшей прежде неоднозначной ее оценки в отношении детей. «Энциклопедия видов спорта» в 1961 году с опозданием констатирует: «Чем дальше, тем больше в повестке дня возникает установка на спорт»[475].
Мир досуга[476] породил свою собственную культуру. Для свободного времени были выбраны ориентиры: повышенный интерес к спортивным зрелищами и самоидентификация с их участниками. Телевидение способствовало усилению этой тенденции: в 1958 году спортивные передачи, которым еженедельно посвящалось три с половиной эфирных часа, смотрели 72% телезрителей[477]. Значительное увеличение числа людей, занимающихся спортом, укрепившийся ореол легендарности позволили спорту начиная с 1950‑х годов уверенно стать одним из наиболее важных проявлений нашего времени, породившим собственную мифологию. Отсюда столь пристальное внимание к внешней форме и резкий «протест», вызванный результатами французов на Олимпийских играх в Риме в 1960 году: пять медалей и ни одного золота. Le Figaro увидела в этом «крах»[478], L’Équipe — «национальный позор», «упадок Франции»[479], после чего было организовано широкомасштабное исследование «ущемленного французского спорта»[480]. Прочно укоренилось убеждение, высказанное голлистским правительством V Республики: «Место Франции в мировом спорте со всей очевидностью связано с развитием спортивного сознания при воспитании французской молодежи»[481]. Государство–покровитель легитимизировало спортивную цель: для усиления и придания официального характера руководству необходимо создание Государственного секретариата, а впоследствии Министерства спорта. Дальнейшее известно[482]: принятие закона–программы, включенного в четырехлетний план развития спорта в 1961–1965 годах[483], создание должности «спортивных советчиков», а позже «спортивных воспитателей», призванных производить отбор среди молодежи, масса министерских инструкций, в которых школа рассматривалась как место реализации «спортивных инициатив», а полдня, посвященные спорту, расценивались как время «спортивного совершенствования»[484]. Предполагалось, что спорт должен стать первостепенной школьной дисциплиной[485].
2. Культурное разнообразие или подобие?
В дополнение к государственному признанию, в 1970‑е спортивные практики определенно становятся массовым явлением: в 1980 году число футболистов достигает полутора миллионов, число теннисистов приближается к 800 тысячам, а приверженцев спортивных единоборств и боевых искусств — к миллиону[486]. Эти цифры в 2005 году вызывают гордость у некоторых президентов спортивных федераций: например, Федерации любительского футбола, в которой «2 миллиона молодых участников, 20 000 клубов, проводится 50 000 еженедельных матчей, которые обслуживают 350 000 добровольцев и 27 000 молодых судей»[487]. Много практик — много практикующих их людей. Отсюда возникает тенденция к максимальному разнообразию самих практик, выражающемуся в широком выборе принципов, времени, места, стилей и ожидаемых результатов. К этому можно добавить большое многообразие пространств для занятий. Сама суть тренировок становится весьма разнородной, готовой к включению новой моторики и двигательных функций. «Материальная поэтика»[488] описывает теперь большой набор телесных отношений и взаимодействий: более восприимчивое «пустое тело», неуловимое и использующее обманные движения; более агрессивное «полное тело», базирующееся на контактной и ударной технике; разнообразные образы, связанные с воздухом, с водой, образы головокружения, насилия, пускания корней, противопоставление скорости и медлительности, гибкости и жесткости, силы и порывистых движений. В вопросе выбора и вкусовых предпочтений, кажется, «снимаются все ограничения»: вырисовывается новый тип нравственного проявления, для которого характерно многообразие индивидуальных наклонностей и чувств.
При этом в привилегированных сферах продолжает, бесспорно, играть большую роль половая принадлежность: так, например, среди «спортсменов–любителей» число мужчин составляет сегодня 52%, а среди «профессиональных спортсменов» — уже 81%, что весьма показательно для рассмотрения вопроса о равенстве[489]. В то же время продолжают накладывать свой отпечаток социальные различия. Спортивные единоборства и ходьба, например, противопоставлены видам спорта «для богатых», в числе которых остаются яхтенный спорт и гольф: такой выбор определяется материальными и пространственными причинами[490]. К тому же сама моторика спортивных практик углубляет различие: разве не противопоставлены социально любителям борьбы приверженцы айкидо, где требуется большая акробатичность и эстетичность, где «эвфемизируется» насилие, увеличивается дистанция и трансформируются ощущения, что подчеркивает прекрасное исследование Жан–Поля Клемана[491]?
Также стоит остановиться на значимых тенденциях, новых возможных конвергенциях. «Творческое бурление»[492], в особенности резкое изменение самой двигательной и игровой структуры начиная с 1970‑х годов привело к появлению более четырех десятков новых «видов спорта» (триатлон, горный велоспорт, парапланеризм, фанбординг, каньонинг, катание на монолыже, сноубординг, фрирайд, ривербординг, ультрамарафон, роллерблейдинг, уличный футбол, самбо…)[493]. Изобилие, несомненно подтверждающее изменчивость моды в обществе потребления конца века, исключительный приоритет самого процесса изменения, успех рекламы и вызванные ею обновления — все это говорит о быстрой приспособляемости спортивных техник: начинает использоваться все более разнообразный инвентарь, все большее внимание уделяется снаряжению и его эксплуатации. Никогда еще игровые механизмы не размножались с такой скоростью, как сегодня. И никогда еще они не имели такого большого отношения к проявлению гедонизма и этики потребления.
Однако само изменение имеет более глубокие корни. С 1970‑х — 1980‑х годов множество новых практик появляется вне традиционных видов спорта. Многие из них призваны представить «контркультуру», заявить о своей особенности и сопротивлении системе институций, пропагандируемой сегодня индивидуалистическим обществом. «Серферы Атлантики», среди которых Жан–Пьер Огюстен проводил опрос, признают, что «своеобразный стиль жизни и особое самосознание» отдаляет[494] их от традиционного спортивного сообщества. Лыжники–фрирайдеры, приверженцы экстремального вида лыжного спорта, практикуемого вне проложенных трасс и на отвесных склонах, также описывают свое занятие как «образ жизни, социальное явление»[495], которому ближе природа, чем организованные соревнования. Бегуны по шоссе продолжают бороться за возможность организовывать забеги, не включенные в федеральную программу, отдавая предпочтение коллективным мероприятиям, своеобразному хеппенингу, где каждый стремится к достижению личного результата, а не бросает вызов лучшим. В то же время ассоциации роллеров предлагают многочисленные городские инициативы, цель которых — достижение «свободы действий»[496].
Перемены характеризуются еще большей глубиной также потому, что новейшее спортивное снаряжение, такое как доски для серфинга и виндсерфинга, «летающие крылья», лыжи, колеса всех видов, способствует развитию видов спорта, использующих сенсорную информацию. Это триумф практик, связанных с пилотированием и скольжением, для которых работа органов чувств может оказаться важнее работы мышц. Новые практики становятся информационными: действия серфера или парашютиста полностью зависят от контроля над информацией, поступающей от тела спортсмена и окружающей среды, и лишь незначительно — от непосредственного приложения к этой среде силы. Вся суть деятельности состоит в «обратной связи», ее скорости и точности: «Производство подобных игровых механизмов аккумулирует самый передовой опыт технологического прогресса, а их применение предполагает совокупность наиболее теоретизированного рационального знания о мире»[497]. Информационный поток начинает превалировать над прежде первостепенным энергетическим потоком. Это то, что городские роллеры определяют как «головокружение и легкое опьянение»[498]. И то ощущение, которое городские бегуны стремятся на свой манер составить из разных частей, признаваясь, что сочетают информацию от органов чувств и свои действия, внешнюю действительность и интенсивность своих движений: «Когда я бегу, мне достаточно меня самого, мне не нужно идти на спортивную площадку или ждать игроков команды, я концентрируюсь на механике моих мускулов и ритме дыхания»[499]. Дивек Спино призывает таких бегунов быть максимально бдительными по отношению к самому себе: «Я концентрирую все свое внимание на сегодняшнем шуме из–под своих ног»[500]. Добавление инвентаря доводит эту тенденцию до карикатурных образов. Так, например, «умная подошва» предлагает благодаря «установленным в пяточной части датчикам» адаптировать свою «гибкость» и «амортизирующую» силу к «покрытию беговой дорожки, весу бегуна и ритму его бега»[501].
3. Рост сенсорности
Надо заметить, что довольно много спортивных практик ухватилось за тему информатизации и сенсорного контроля. Цель была вполне ясна. Тренеры и обозреватели ставили во главу угла «самоконтроль» со стороны чувств. Чемпион должен в первую очередь «выявить» или «повторно выявить свои ощущения»[502], он должен получить «представление обо всех частях своего тела»[503]. Телесная машинерия стала настоящей системой оповещения. Нельзя сказать, что стремление к осознанию своих движений или обращение к своему внутреннему пространству тела было совершенно новым явлением. Предлагавшиеся в период между двумя войнами практики уже задействовали «ощущение» движения, его «субъективное» воздействие. Связь между двумя сторонами «движущей силы», командой и ее «восприятием», уже была изучена[504]. Новизна заключалась в том, что этой связи теперь отводилась главная роль. Методов становилось все больше. Начиная с 1960‑х они предлагают самоизучение, ведущее к «совершенному осознанию склонностей собственного тела»[505], достижению полного «восприятия собственного тела»[506], обретению «завершенного образа самого себя»[507]. В их рамках оформляются новые термины, такие как «интериоризированное внимание»[508], «создание ментального образа»[509], «ментальный повтор»[510]. Кроме того, создаются образы, которые ассоциируются с двигательной сенсорностью: например, «подъем жидкости в пробирке»[511], придуманный Орлик, чтобы лучше «направлять» каждое сокращение мышц, или «визуализация» частей тела, «каждая из которых окружена определенным цветом»[512], чтобы сделать восприятие точнее. Проще говоря, все эти методы направлены на то, чтобы добиться всестороннего восприятия внутреннего мира: «Необходимо, чтобы ощущение каждого участка тела было включено в связное целое»[513]. Работа над собой предполагает, более чем когда–либо, умственную работу.
Подобные претенциозные заявления, демонстрируя исключительную роль воображаемого по отношению к действиям, делались на основе современных нейрофизиологических исследований: воображаемое помогает построению нервных путей, принимает участие в контроле над мускулами и движениями[514]. В определенной степени эти утверждения ирреалистичны, но речь здесь прежде всего о том, чтобы обозначить сам принцип и конечную цель: они дают уверенность в возможности управления телом во всей его целостности за счет контроля над всей совокупностью чувств; уверенность в полном овладении своим телом при изучении бесконечного мира ощущений. Это торжество «суперсовременного» подхода описано в многочисленных современных исследованиях, касающихся умения слышать самого себя: новая эпоха сенсорности есть не что иное, как новая эпоха в развитии индивидуума. Несколько «спортивный» подтекст вопроса делает эту тождественность лишь более очевидной. Опубликовайное в 1993 году в журнале L’Équipe фото фехтовальщика ясно указывает на новые ориентиры: «Благодаря мишени, снабженной световым сигналом и освещаемой случайным образом, Эрик Срекки, олимпийский чемпион по фехтованию, изучает, с помощью специального компьютера, время, которое он тратит на размышление и реакцию. И естественно, это помогает ему, насколько возможно, улучшить свой результат»[515]. Разрабатываются «двигательные программы», основанные на «сохраненных в памяти схемах»[516] движений и их разнообразных комбинаций. Также разрабатываются «программы ментальных тренировок», включающие последовательности упражнений, обладающих определенной длительностью и пространственной реализацией. Input и output, связанные с определенным положением в пространстве, с сенсорным восприятием движения, с внутренним сенсорным восприятием, приравнивают «приобретение двигательной способности» к «обработке информации»[517]. Господствующий образ подобной коммуникации трансформирует идеальную модель тела: теперь она предполагает не только силу или определенную эстетику, но и информацию, исчерпывающую и мгновенно доступную.
Результат показателен: изменилось само представление о «спортивном» облике, о результате тренировок. Демонстрация самого себя не обладает больше прежними свойствами. Физический облик теряет свою «подчеркнутость», призванную, как считалось издавна, отражать работу мускулов, что проявлялось в горделиво обрисованных торсах прежних спортсменов, участников соревнований. Теперь нет необходимости ни демонстрировать силу, ни фиксировать некоторый деланный образ: на смену сокращению мышц приходит контроль над ними, широкую амплитуду применения силы заменяет быстрота реакции. Об этом говорят тексты: «Мы требуем не „выполнять дыхательные упражнения каждый день 3 раза по 10 минут”, а стать более внимательными к своим легким, которые сами знают, что им необходимо делать»[518]. Фотографии подтверждают эту тенденцию. На них больше не найти внешне напряженных бюстов. Руки, например, теперь не скрещивают на груди, стремясь изобразить требуемую решимость: они вытянуты вдоль тела, помогая ему занять мобильную и устремленную вверх позу. «Грудь колесом» уходит в прошлое, ее сменяют силуэты более спокойные и в большей степени отвечающие требованиям перцептивного совершенствования. В этом состоит разница между хорошо прорисованными торсами первой французской команды по регби, сфотографированной перед матчем 25 марта 1912 года[519], и современными коллективами, демонстрирующими тщательно проработанную легкость движений и улыбку[520].
4. Вера в «глубокое» тело
Разработка подобных сенсорных методов углубляется с появлением с 1970‑х — 1980‑х годов современных практик: ощущения приобретают новую глубину, а упражнения — новую цель. «Информация» теперь представляется в виде сообщений, которые тело должно расшифровать. Физический внутренний мир, согласно выводам клинической психологии, позволяет выйти на поверхность «ранам», болезням, аффектам, представляя их более понятно и доступно, чем предлагаемое учеными понятие бессознательного. В результате поисков обнаруживаются следы личной истории, травмы, глубоко запрятанные в тайниках тела, скованного в движениях. Отсюда возникает понятие физической блокады, раскрывающей породившее ее чувство: им может оказаться неразрешенный конфликт или сопротивление, имеющее телесную природу. Многочисленные работы 1970‑х — 1980‑х наперебой предлагают раскрыть самого себя с помощью «глубокого осознания тела»[521], «освободить мозг, принявшись непосредственно за тело»[522], «снять отравляющее все напряжение», чтобы лучше «осознать свою истинную суть»[523]. Вне всякого сомнения, это новый этап в истории индивида: работа над своим внутренним пространством становится массово доступной практикой, занятием тем более понятным, что оно основывается на данных, которые воспринимаются как ощутимые и вполне конкретные.
Постепенно подобное мировоззрение, набирающее все большую популярность в журналах о здоровье, в научных работах о «повышении жизненного уровня»[524], в трактатах о красоте[525], порождает концепцию, в которой телу отведено играть новую роль: роль «партнера»[526], который призван усмирить и прояснить, привести в соответствие с общим целым и, наконец, подменить самые смутные, если не тайные, области человеческого «я». Тело должно быть практически превращено в психологический инструмент: оно должно стать выразителем темных областей сознания, необузданных миров, всего того, что необходимо усмирить, чтобы «жить лучше» и вообще существовать. Безусловно, это представление карикатурно, оно весьма упрощает суть, однако оно легко для понимания и популяризации, так как подводит осязаемую основу под понятие внутреннего пространства, которое современное общество постоянно стремится углубить в психологическом плане.
Развитие понятия индивидуализации проходит большой путь, полностью переосмысляя модель начала XX века, основанную на «вере в себя» и реализуемую в процессе совершенствования «мускулов»[527]: спустя век индивидуализация переходит к модели, основанной на «самоусмирении», к которому приводит определенная «внутренняя» физическая работа.
Спортивные практики и тренировки меняют свою суть, что подтверждают в 1980‑е годы слоганы новых спортзалов, созданных, чтобы «открыть путь к активной жизни, найти оазис свежести, время, которое можно посвятить себе и своему телу»[528]. Между тем как количество людей, посещающих эти залы, резко выросло[529], основная идея их создания была связана с постоянной темой «возвращения к себе»[530]. Везде речь шла о времени, «взятом в скобки», или о пространстве «вне времени»[531], необходимом для того, чтобы более эффективно «открыть свое тело заново»[532] или «прийти в гармонию со своим телом»[533]. Подразумевалась, конечно, гимнастика, однако основная идея заключалась в том, чтобы «осознать свое тело, прислушаться к нему»[534] и на основе этих знаний добиться прекрасного самочувствия в психологическом и личностном плане.
Потребительские практики, такие как «мягкая гимнастика», «зеленые зоны»[535], проекты «телесной поддержки»[536], также объясняют успех подобного мировоззрения. Маркетинг направляет потребительские запросы: «флаеры»[537] на продукты, проводимые торговыми марками «игры о здоровье»[538], конкурсы, предлагающие бесплатные путевки на курорты талассотерапии или в «школы осанки»[539], абонементы в «клубы здоровья» («health clubs»[540]), «клубы хорошей формы», на «курсы терапии „Легкие ноги”»[541], «центры водных процедур»[542], стажировки по достижению «полной жизненной силы»[543]. Нельзя сказать, что это направление носит чисто теоретический характер. Нельзя и сказать, что этот поиск с самого начала был понятен. Тем не менее ясно, что акцент был сделан на смутной попытке понять себя «через» тело, «приблизиться [с его помощью] к своей истинной внутренней сути»[544].
Как бы то ни было, спектр существующих сегодня практик весьма широк, и, вне всякого сомнения, целая пропасть разделяет возврат к «мирному внутреннему миру и настоящим ощущениям»[545], предлагаемый в рамках «мягкой гимнастики» в спортивных залах для восстановления формы, и «муштру», практикуемую некоторыми спортивными тренерами, которые «зачастую слишком активно стремятся к хорошим результатам»[546]. С одной стороны — бесконечное стремление к интериоризации, с другой — последовательность механических повторений, с одной стороны — тщательный анализ, а с другой — стремление к «отстраненности». Однако уже давно наметилось определенное сближение: тренировки, направленные на достижение результата, не пытаются больше игнорировать «память тела»[547], а «физическое» развитие себя неотделимо теперь от определенной «умственной работы» над собой. Поэтому в речи сегодняшних чемпионов появляются двойственные сочетания, обе темы соединяются как само собой разумеющееся: «Один день посвящен моей голове; другой — моему телу»[548]. Тело окончательно становится предметом беспрестанного изучения.
5. Последние эксперименты
Однако в последние время данные вопросы рассматриваются под другим углом. Большое значение получает понятие риска. Например, невозможно не сказать об «экстриме», к которому тяготеют сейчас некоторые виды спорта: игре с пределами, особенно в сфере достижения результатов. Здесь уже давно существует противоречие между подспудным стремлением к новым результатам и необходимостью отказаться от них ради работы над самим собой. В этом проявляется одно из очевидных противоречий нашего общества: необходимо отдыхать и сбавить обороты, чтобы улучшить свое самочувствие и испытать себя, но также необходимо взять на себя ответственность и проявить стойкость, чтобы преуспеть и самоутвердиться. Эти два подхода противоположны по сути, но неотделимы один от другого при разговоре об углубленном самоизучении[549]. Стремление к достижению результатов, превозносившееся в кубертеновском мире, эта «чрезмерность», являющаяся «первопричиной спортивной жизни»[550], заставляет вспомнить прежний принцип, когда тренировки были способом противостоять жизненным рискам: преодоление самого себя позволяло стать более выносливым, излишнее усилие помогало стать крепче и сильнее.
Сегодня акценты смещаются одновременно с тем, как изменяется само представление о теле. Тренировки могут тяготеть к риску, предполагать крайности, выходить за грань закона[551]. Практически признанное существование допинга, если учесть масштаб его распространения и присутствие его в мире «юных» спортсменов, «подростков из лицеев и коллежей»[552], — это один из вариантов «отклонения» от нормы. Помимо скрытой здесь опасности, эта ситуация прежде всего позволяет обнаружить новое представление, возникшее в сознании современного человека и разделяемое многими активными участниками индивидуалистического общества: речь идет об уверенности в том, что можно оказывать безграничное воздействие на собственное тело, преодолеть любую физическую данность и создать организм, обладающий способностями, которые пока еще даже невозможно предсказать. Подтверждением этому становится выход в конце 1980‑х годов книги «300 медицинских препаратов, позволяющих превзойти самого себя в физическом и интеллектуальном плане». Принцип действия этих препаратов, помимо «расширения возможностей», авторы поясняют так: «С учетом стремления индивида обладать хорошим здоровьем временное применение стимуляторов и тонизирующих средств не только совершенно правомерно, но может быть полезно и в определенных случаях даже необходимо»[553]. Это тонкий намек на законность использования препаратов: обосновывается «право» на замену физических норм, «право» «манипулировать» собственным организмом. Перед нами лишь одно из проявлений медленного процесса эмансипации сферы личного пространства, со всеми ее заблуждениями и наивными представлениями. Но кроме того, здесь можно усмотреть опасность десимволизации телесной целостности в той области, где прежние общественные институты, долгое время задававшие коллективные ориентиры, теряют свою силу[554]: «Допинг, в конце концов, — это лишь самый современный вариант тех популярнейших практик, цель которых — самосовершенствование человека»[555].
Но допинг можно рассматривать и как некое продолжение тренировок, ведущее к их банализации, как постепенное «саморазвитие»: научная работа, включающая в себя разработку лечения и режима для спортсменов, а также изучение разрешенных спортивных приемов и нагрузок, не отличается по сути от вызывающего много сложностей незаконного использования стимулирующих препаратов. Тренироваться — значит осваивать приемы, в которых мы не испытываем нужды в «естественной» жизни; добиваться успеха — значит придумывать определенные инструменты, разрабатывать методы, терпеливо просчитывать новые подходы.
Стоит ли говорить, что практики, основанные на использовании стимуляторов, позволяют еще больше расширить границы? Сюда можно, например, отнести стремление к постоянному освоению пограничных состояний, попытки почувствовать «иное пространство» в самой непосредственной близости — с помощью тела, его внешнего и внутреннего мира — желание испытать себя, обнаружить скрытые стороны, до предела расширить спектр ощущений. Некоторые практики доводят представление об этом изменении до абсурда: в основу экстремальных достижений кладется телесный опыт. Стремление освободиться от каких бы то ни было физических норм в данном случае становится определяющим. Противостояние предельным нагрузкам и опасностям мы обнаруживаем в триатлоне, пробегах, свободном падении, скоростном спуске по рекам и в других «экстремальных» практиках. Своеобразие конкретной практики, впрочем, не составляет ее сути, а лишь предлагает еще один вариант, расширяя спектр активностей, привлекающих все больше почитателей. Желание ощутить неограниченные возможности становится массовым явлением. Тело, изученное вдоль и поперек, заменяет таким образом другие источники «бесконечности», не имеющие сегодня прежней силы: в недавнем прошлом таковыми являлись мир религии и мир политики. В разочаровавшемся во всем мире утверждается безостановочная игра с телом. Она выражается в стремлении к чрезмерности, основанной на усиленном сенсорном восприятии, и в упорном чисто физическом поиске, ставшем культурой большинства.
В конечном счете в представлении о современном теле и физических тренировках максимально акцентируется двойственная природа идентичности, а также двойной способ «осознать свое место» в обществе, где превозносится личностное развитие. С одной стороны, необходимо найти то, что составляет движущую силу каждого человека, а с другой — то, что позволит максимально расширить свое собственное пространство. «Развитие» тела сегодня для многих становится сутью личного опыта: исключительный пример поиска собственной идентичности.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОТКЛОНЕНИЯ И ОПАСНОСТИ
ГЛАВА I Анормальное тело. История и культурная антропология уродств
Жан–Жак Куртин
25 декабря 1878 года некто Альфред Классен, режиссер одного из цирков по ту сторону Атлантического океана, добивается у префекта парижской полиции разрешения на демонстрацию «девочки–обезьянки (микроцефала) из Албании». «Этот живой феномен не произведет на зрителей никакого отталкивающего впечатления, — уверяет он. — Она будет представлена публике в подходящем месте и таким образом, что это не повредит ничьей нравственности»[556]. Под подходящим местом подразумевался зверинец, расположенный на бульваре Клиши: его владелец, укротитель Бидель, покорил зрителей с Парижских бульваров постановочными дикими схватками со свирепыми львами.
I. Демонстрация анормального
1. Пролог. Живые феномены и балаганы
Несколько лет спустя к тем же властям поступил еще один подобный запрос. На этот раз просителем был выходец из Италии, который 7 апреля 1883 года потребовал разрешение «демонстрировать на одной из площадей вашего города, в балагане или в выставочном помещении, одно из самых необычных явлений. Это два ребенка, у которых тела срослись в одно целое. Им по пять лет, и они живые. У них две головы, четыре руки, одно туловище и две ноги. Их еще ни разу не представляли в Париже, но они уже побывали в самых крупных городах Италии и Австрии, Швейцарии и во многих городах Франции»[557]. Письмо было подписано неким Батистой Точчи, который представлялся отцом Джакомо и Джованни — двоих «детей–феноменов». В следующем году в Лионе на сцене «Казино искусств», развлекательного заведения, расположенного в самом сердце католических и буржуазных кварталов города, представляется музыкальная фантазия, в которой принимает участие Эжен Фредерик Буду. В его антропометрической карточке, составленной местной полицией, в разделе «особые примеры» указано: лоб: низкий; цвет лица: родимые пятна; рот: имеет форму рыла; лицо: уродливое»[558]. И наконец, в том же 1884 году сэр Фредерик Тривз, хирург Королевского госпиталя, отваживается зайти в заваленную всяким пыльным хламом заброшенную бакалейную лавку на Майл–Энд–Роуд. Именно тут он впервые встречает «наиболее отталкивающий человеческий экземпляр»[559], который ему когда–либо доводилось видеть: это был Джозеф Меррик, «человек–слон»[560].
Итак, на пороге 1880‑х годов наряду с макаками и львами Атласских гор предлагается к показу публике ребенок–микроцефал. Отец бороздит европейские ярмарки в надежде заработать на демонстрации своего уродливого чада. Сам же ребенок с безобразной физиономией старается песнями развлечь заскучавшую публику консервативного провинциального городка. А известный, в будущем знаменитый, врач бродит по лондонскому дну в поисках тератологических экземпляров[561]. Спустя всего лишь век мы пытаемся отгородиться от этих фактов. Нам представляется, что они относятся к очень далекому прошлому, что они характеризуют минувшую эпоху народных увеселений, которой свойственно проявление архаичной и жестокой любознательности. Мы больше не можем испытывать подобных чувств: пуст вагончик бородатой женщины на Тронной ярмарке[562], публика покинула аттракционы, «балаганы» на Кур–де–Венсенн, где еще вчера теснились целые толпы. «Этим словом, — говорит нам о слове „балаган” Жюль Валлес, неутомимый наблюдатель анатомических странностей и завсегдатай парижских ярмарок и улиц, — мы называем театр. Он может быть матерчатым или дощатым, представлять из себя повозку или сарай, где держат разных монстров, будь то теленок или мужчина, овца или женщина. Само слово уже показательно. Публика входит, феномен поднимается, блеет или говорит, мычит или хрипит. Публика входит, выходит, вот и все»[563]. Сложно лучше выразить тот факт, что посещение ярмарочных монстров становится банальным явлением среди других семейных развлечений[564]. На этих зрительных праздниках, каковыми являлись народные сборища конца XIX века, было где разгуляться любопытству зевак. Перед их взором представало целое нагромождение странностей человеческого тела: «живые феномены», необычные уродства людей и животных, которых демонстрировали в балаганах; заспиртованные в банках тератологические образцы или половые патологии, выставлявшиеся в анатомических восковых музеях; экзотические странности и дикие ритуалы «людских зоопарков»; трюки и оптические иллюзии: «говорящие головы», «женщины–пауки» и «женщины, шаманящие на луну»; музеи реальной жизни с их кровавыми экспонатами и представлением каторжной жизни. Находясь на стыке наивной антропологии, ярмарки человеческих органов и музея ужасов, демонстрация монстров имела успех.
История монстров, таким образом, подразумевает также историю отношения к ним: сюда можно отнести материальные средства, позволявшие создать особые условия для демонстрации этих уродливых тел, знаки и выдумки, с помощью которых их представляли публике, а также эмоции, которые вызывало само созерцание деформаций человеческого тела. Постановка вопроса об истории отношения к этим деформациям позволяет предположить, что в течение XX века произошло существенное изменение в восприятии выставленного напоказ тела.
2. Экзотические развлечения, извращенные увеселения
На самом деле история эта начинается двумя десятилетиями ранее, на пороге 1880‑х годов. Именно в это время своего апогея достигает демонстрация ненормального, центральный элемент в наборе средств, благодаря которым выставление напоказ различий, странностей, деформаций, недугов, увечий и уродств человеческого тела становится основой представлений, являющихся зачатками современной индустрии массовых развлечений. Сегодня наши представления изменились настолько, что нам трудно представить себе весь масштаб распространения визуальной культуры такой формы в европейском и североамериканском городском пространстве. Как можно понять, что фигура монстра могла оказаться в центре этой театрализации ненормального, что она одновременно могла являться для нее источником, принципом существования и образцом? Особое место, которое она занимала среди других «ненормальностей», не ускользнуло от взгляда Мишеля Фуко. Он пишет о монстре:
Это созданная игрой самой природы преувеличенная модель, наглядная форма всевозможных мелких отклонений. И в этом смысле можно сказать, что монстр есть увеличенная форма всех незначительных нарушений. Это интеллигибельный принцип для всевозможных форм аномалии, циркулирующих в виде разменной монеты. Поиск фона монструозности за мелкими аномалиями, мелкими отклонениями, мелкими сдвигами: эта проблема будет заявлять о себе на всем протяжении XIX века[565].
И в самом деле, если приоткрыть дверь увеселительного заведения последних десятилетий XIX века, где столпилась тьма народа, можно обнаружить, что «фон монструозности» выявляется не только за мелкими отклонениями, но также за существенными различиями человеческих тел. К ним, например, относится расовое различие, фундаментальная дискриминация в восприятии тела, к которой «человеческие зоопарки» и «туземные деревни» призывали завсегдатаев садов акклиматизации и посетителей всемирных выставок[566]. Но нет никаких сомнений, что еще задолго до модернизации этих «антропозоологических» выставок, которые коллекционер и предприниматель Карл Хагенбек начал проводить в Гамбурге в 1874 году, и до того, как образ «дикого» в 1920‑х годах под действием благ цивилизации уступил место образу «туземного», именно на арене балаганов, бок о бок с человеческими монстрами, расовые различия становятся прежде всего объектом демонстрации. Под экзотической странностью зрители готовы различить уродливую аномалию. Здесь необходимо отметить наличие чрезвычайно устойчивого антропологического фона, древнего смешения в восприятии безобразного и отдаленного, что превращает телесную монструозность в меру пространственного отдаления и признак расовых различий. В конце концов, по мнению Плиния Старшего, окраины известного ему мира населены уродливыми племенами. И при Старом порядке ярмарки, такие как ярмарочные праздники XIX века, изобиловали настоящими или поддельными «дикарями». На потребу «цивилизованной» толпе представлялись нелепость их внешнего вида, животное состояние тел, кровавая жестокость нравов, грубость языка: в то время как на сцене Египетского зала в Лондоне еще с первой половины XIX века демонстрировались необузданные танцы и племенные стычки, на Тронной ярмарке женщина — «антропофаг» колола булыжники и глотала ужей[567]. Тератологической антропологии Дебайи оставалось лишь сформулировать обоснованность родства между животными, монстрами и дикарями:
Готтентоты и сегодня занимают низшую ступень антропологической лестницы. Сидя целыми днями на корточках в грязи, ни о чем не думая, строя рожи, почесываясь, они пожирают паразитов, которыми покрыто их тело; их лень, тупоумие и отталкивающее уродство в своем роде уникальны[568].
Сближение монстров и дикарей легло также в основу первой экспозиции, которую увидели посетители, перешагнувшие порог анатомического музея восковых фигур, открытого «доктором» Шпицнером в 1856 году на площади Шато д’О в Париже[569]. «Этнологический» и «тератологический» отделы находились здесь друг напротив друга: восковые бюсты нубийца, готтентота, кафра и ацтека были представлены в странном соседстве с муляжом братьев Точчи, заспиртованным младенцем, ребенком–жабой и гермафродитом. Но «фон монструозности» пронизывал всю коллекцию целиком и придавал некую рациональность и целостность этому разнородному собранию рас, видов, деформаций и патологий. И в особом «выделенном» отделе музея, где украдкой были представлены венерические болезни, именно монструозность провоцировала смутную привлекательность этого зрелища: патологическая гибель, телесные разрушения и зияния, погружение человека в деформированную болезнью, раздувшуюся плоть.
3. Власть нормализации
Эта модель восприятия монстров, которая безраздельно царила в сфере представлений о телесных аномалиях, действительно, имеет большое значение. Она затмевает любое другое различие. «Человек–слон», «женщина–верблюд», ребенок без рук, «белый негр» перестают восприниматься с точки зрения их пола, возраста, увечья или расы: все скрывается за понятием монструозности. Сила ее влияния в сфере представлений об анормальном кажется практически неограниченной, она охватывает не только телесный, но и знаковый уровень. В конце века, раздираемого муками физического и морального вырождения, именно эта модель ставит свою подпись под портретом криминального элемента, порождая антропологию опасностей[570], именно ее физическое и моральное клеймо отмечает великие криминальные фигуры, заполняющие собой судебные хроники и провоцирующие социальные страхи[571], и именно ее кровавые последствия разыгрываются на сцене театра «Гран–Гиньоль» и увековечиваются в восковых фигурах музеев Гревен или Мадам Тюссо. Монстр, будучи предметом всеобщего любопытства, точкой отсчета для любой телесной странности, единицей измерения социальной опасности, концентрирует в себе коллективный страх и фиксирует в умах представления о том месте в обществе, которое он еще недавно занимал. И даже если, в результате постепенного разочарования[572], он утратит радикальное отличие, которое страшило или восхищало в нем традиционное общество, его сила лишь возрастет, растворившись в безграничной заурядности мелких преступлений криминального характера и сексуальных отклонений:
Говоря кратко, ненормальный (причем до конца XIX, а возможно, и до XX века <…>) является по сути своей тривиальным, банализированным монстром. Ненормальный долгое время будет оставаться своего рода бледным монстром[573].
То, что Фуко пытается определить, выявляя тень монстра за многочисленными и изменчивыми фигурами ненормального, — это, как он говорит, возникновение, а затем распространение во всем обществе «власти нормализации»[574]. Ясная формула Жоржа Кангилема проливает свет на эту связь между монстром и нормой: «В XIX веке безумец в доме умалишенных служил тому, чтобы показать, что есть разум, а монстр в лабораторном стакане эмбриолога служил тому, чтобы показать, что есть норма»[575].
Но стоит сразу добавить, что не только в лабораторной пробирке эмбриолога, но и на сцене балагана. Если мы покинем на время сферу науки и отправимся в места массовых зрелищ, то сразу осознаем всю интерпретационную силу данной формулы: за решетками человеческого зоопарка или в загоне туземных деревень на Всемирных выставках дикарь служит тому, чтобы обучать цивилизацию, чтобы демонстрировать ей ее блага, но одновременно он подтверждает представление о «естественной» иерархии рас, навязываемой колониальной экспансией. Труп в витрине морга, собирающий воскресную толпу зевак, усиливает страх перед преступлением. В полумраке анатомического музея восковых фигур муляжи тел, обезображенные наследственным сифилисом, упорно внушают мысли об опасности сексуальной близости, о необходимости соблюдения гигиены и о пользе профилактических мер.
Таким образом, в этом заключалась одна из основных форм установления «власти нормализации» на излете века: распространение влияния нормы осуществлялось с помощью комплекса мер, основанных на демонстрации ее обратной стороны, на выставлении напоказ ее изнанки. Однако в рамках подобной массовой педагогики не было никакой необходимости в принудительных мерах, в отличие от государственного контроля за паноптикумами: речь идет о весьма нестабильной и рассеянной сети зрелищных заведений, частных и публичных, постоянных и временных, оседлых и кочевых; это были первые шаги в формировании индустрии массовых увеселений, призванной развлекать и очаровывать. В ее рамках были созданы механизмы, задействующие зрение, вызывающие зрительный голод, а пищей для его удовлетворения должны стать анормальные образцы человеческого тела — или их видимость, реалистичная замена[576].
Это почти всеобщее любопытство к анатомическим странностям и телесному разложению, эта тератология, доступная каждому, имеют, однако, более древнее происхождение, для понимания которого потребуется более глубокое изучение второй половины XIX века. Современная история этой формы визуальной культуры, действительно, начинается, как мы увидим позже, с открытия в 1840‑х годах в Нью–Йорке Американского музея Барнума. До I Мировой войны в ней не будет происходить никаких изменений, а после — появятся первые признаки спада, истощение продолжится в 1930‑х годах, а с конца 1940‑х она будет постепенно себя изживать. Это история расцвета, заката, а затем и исчезновения выставок человеческих монстров, о которых в первую очередь идет речь на этих страницах. Мы постараемся уловить здесь фундаментальное изменение отношения к телу, которое разворачивается в XX веке и имеет неоднозначный, комплексный характер: это сложный процесс изъятия анормального тела из его монструозной изоляции и долгий и парадоксальный процесс включения его в телесную общность; это важнейшая трансформация, для осмысления которой необходимо выявить способы формирования современного понятия индивидуальности, через осознание принципиальной роли идентичности, приписываемой телу.
Как изменилось отношение к телу, из–за чего то, что раньше виделось как монструозность, теперь воспринимается лишь как увечье? Как изменился угол зрения, что с определенного времени мы видим в этом только физический недостаток? В чем состоит эволюция чувств, благодаря которой сегодня нам кажется само собой разумеющимся при взгляде на небольшие и серьезные аномалии человеческого тела видеть лишь бесконечное телесное разнообразие?
4. Торговля монстрами
Вернемся к началу этой истории. Изменение роли монстра в культуре неразрывно связано с активным развитием построенной вокруг него коммерции. Так, историография старого Парижа[577] среди других парижских развлечений уделяет большое внимание «живым феноменам». В конце концов город становится мировой столицей редкостей, перекрестком уникального и диковинного, огромным рынком монструозности:
Все красивое, своеобразное, редкое или уникальное, что есть на поверхности земного шара, устремляется тотчас по направлению к Парижу, как стрела — к своей цели. <…> Рождается ли где–либо феномен, заставляющий саму природу отпрянуть при виде своего детища: двухголовый теленок, безрукий человек, чудовищный ребенок, способный задушить гидру в своей колыбели, или такой крошечный и легкий, что может уместиться в туфельке Золушки, — значит, он создан для Парижа! Циклоп с единственным глазом в центре лба, бородатая женщина, огромная, как бык, крыса, белый дрозд, хвостатый человек, человек–собака, весь покрытый волосами, скорее, в Париж! <…> Обогните земной шар! Короткий проигрыш кларнета, барабанная дробь, и вот уже все готово! Посмотрите в этот чан, на этот стол, в этот ящик, там вы обнаружите искомого монстра[578].
И действительно, начиная с 1850‑х годов и вплоть до последнего десятилетия XIX века количество ярмарочных балаганов на Тронной ярмарке растет с астрономической скоростью. Эта старинная ярмарка перед больницей Сен–Антуан в 1806 году собирала не более двадцати торговцев даже на Пасху. В 1852 году их будет уже 200, в 1861‑м — 1600, а в 1880‑м — 2424[579], по мере того как постепенно вытесняемые из центра столицы балаганы будут медленно перебираться на окраины. Тератологические выставки, имевшие здесь большой успех, вскоре выходят за пределы ярмарки и захватывают Бульвары. Они грозят заполонить весь город. Монстры проникли в город: их показывают в задних залах кафе, их выводят на сцены театров, иногда их приглашают в частные салоны для приватной демонстрации. Как сообщает Альфонс Доде, в этот период на улицах нередко можно было неожиданно столкнуться нос к носу с «монстрами, ошибками природы, со всеми этими странными и причудливыми существами <…>, прикрытыми лишь парой суконных отрезов, подвязанных веревкой, перед которыми на стуле стоит ящик для сбора денег»[580].
Таким образом, человеческая монструозность становится таким же предметом торговли, как и все остальное. Но ее демонстрация, за исключением периодически происходящих провинциальных и столичных ярмарочных праздников, остается чрезвычайно разрозненной, несмотря на развитие новых форм сосредоточения и механизации развлечений, из–за чего на излете века многочисленные «скоморохи» исчезают под натиском мощной ярмарочной индустрии. Принципиально ведущие кочевое существование и часто имеющие лишь временный характер, представления человеческих редкостей во Франции никогда, в сущности, не являлись частью ни больших бродячий цирков, ни городских музеев редкостей. Они оставались тем, чем были всегда: ремеслом по представлению диковинок, уличной торговлей уродствами, мелкой торговлей странностями. Французы все еще ждали своего Барнума.
Подобное торговое усердие обнаруживается и в Англии, хотя здесь оно приобретает принципиально другие формы. В первой половине XIX века все еще процветали penny shows («грошовые представления»), которые, как и в былые времена, привлекали зевак на Варфоломеевскую ярмарку и в трактиры на Чаринг–Кросс[581]. Во второй половине XIX века спрос не падает, а скорее наоборот: все так же толпами, но теперь по железной дороге, лондонцы отправляются провести день в созерцании странных существ, которых демонстрируют на ярмарках лондонских пригородов Кройдона и Барнета[582]. В Лондоне, как и в Париже, растущее количество человеческих диковинок не поддается подсчету. Перед лицом столицы проходит армия бородатых женщин, затем маршируют гиганты, а за ними — полк карликов, дорогу которым открывает «генерал» Том Там, чье триумфальное появление в 1844 году организует Барнум. Аттракцион монстров постепенно меняется, приобретая международный масштаб: после Чанга и Энга Банкеров, близнецов сиамского происхождения, высадившихся на английский берег в 1829 году, Лондон становится обязательным пунктом посещения в европейских гастролях воспитанников Барнума, которые чаще всего будут выступать на сцене Египетского зала, первого из крупнейших музеев диковинок, основанного в 1812 году Уильямом Баллоком[583]. Анличане, таким образом, получили исключительно право первыми принять не только Тома Тама, но и Генри Джонсона по прозвищу Зип, он же «Что–это?» или «недостающее звено в генеалогии», а также Харви Лича, «муху–гнома», и, наконец, Хулию Пастрану, лицо которой покрывала шерсть и для которой Лондон стал вечным домом: во время гастролей в Москве она умерла от послеродовых осложнений, но ее тело, надлежащим образом забальзамированное, было возвращено в Лондон, на потеху британской публики, post mortem. Прах монстра, как прежде мощи святых, получил привилегию удовлетворить любопытство толпы.
5. Барнум и Американский музей
Но пока мы ничего еще не знаем. Финеас Тейлор Барнум основал свой Американский музей в 1841 году в самом центре Манхэттена. Ему предстоит стать самым посещаемым аттракционом не только города, но и всей страны: с 1841 по 1868 годы (в 1868‑м музей был уничтожен пожаром) его посетили около 41 миллиона человек[584]. «Он станет, — заявлял его создатель, — лестницей, по которой я взберусь к богатству»[585]. Разумеется, в американских городах до гражданской войны существовали музеи диковинок, в которых демонстрировались коллекции естественной истории в целях народного воспитания. Одновременно с ними существовали freak shows («шоу уродцев»), которые в свою очередь представляли всю гамму аномалий человеческого тела без какой–либо таксономической закономерности[586]. Барнуму удалось соединить оба этих типа развлечения в едином увеселительном заведении, способном утолить постоянно усиливающуюся жажду зрелищ у нью–йоркской публики, в которой смешивались вновь прибывшие эмигранты и коренные жители, представители рабочего и среднего класса, мужчины и женщины, горожане и гости из сельской глубинки[587]. И на сценах, и в галереях Американского музея именно монстры были гвоздем программы. В здание на Бродвее теперь отправлялись провести воскресенье всей семьей или устроить пикник в компании живых феноменов, к великой радости детей и ко всеобщему назиданию.
То, что изобрел Барнум, — эта акклиматизация монстров в центре проведения досуга, где проводились конференции, организовывались «научные» показы явлений месмеризма и френологии[588], ставились магические и танцевальные спектакли и театральные постановки, сооружались диорамы и панорамы, проводились конкурсы на самого красивого младенца[589], где диких зверей заставляли рычать, а индейские племена — танцевать; это сосредоточение в одном месте аттракционов, которые до сих пор всегда были рассредоточены в пространстве, — не что иное, как отправная точка новой эпохи в истории представлений, начало индустриального периода в сфере развлечений. Это открытие музейного зала диковинок эпохи масс, своеобразного Диснейленда тератологии, если позволить себе столь анахроничную формулировку, достоинство которой в том, что она позволяет указать, в чьих руках находится сегодня большая часть наследия Барнума. Он оказался современным капиталистическим предпринимателем, первым в длинном ряду зрелищных промышленников. До него монструозное тело было лишь одиноким странным феноменом, получавшим минимальный доход в рамках мелкой торговли диковинками. После него оно превратилось в продукт, чья ценность безостановочно повышалась; в продукт, который можно было продать на массовом рынке, который удовлетворял растущий спрос и был способен беспрестанно разжигать новые желания зрелищ[590]. Нужно в последний раз повторить: демонстрация монстров и связанная с ними торговля, весьма далекие от понятий подозрительной или маргинальной деятельности, послужили экспериментальным полем для индустрии массовых развлечений в Америке — и в меньшей мере в Европе — конца XIX века.
II. Сумерки монстров
Наследие Барнума значительно. Он один из создателей современных методов рекламы, и freak shows были, бесспорно, одним из первых проектов, на основе которых эти методы разрабатывались. Но его имя также заставляет вспомнить его талант к жульничеству (humbug) и ловкость, с которой ему удавалось выдавать фальшивых монстров за настоящих: например, придумать 61-летнюю чернокожую кормилицу Джорджа Вашингтона или же, соединив невероятным образом тело рыбы и голову обезьяны, выдать это за настоящую «сирену с островов Фиджи»[591]. Барнум был мастером оптических иллюзий, предтечей «спецэффектов». Он создал принципы представления монструозного тела, которые будут служить моделью демонстрации уродств вплоть до начала следующего века. Потому что человеческие диковинки — это не просто телесный остов, заброшенный на ярмарочную площадь, лишенный какой–либо искусственности и выставленный ради удивления толпы в облачении лишь своей анатомической ущербности. Театр монструозности подчинялся строгим сценическим задачам и комплексным зрительным схемам: будучи природным исключением, тело становится также культурной конструкцией.
Таким образом, морфологическая странность сводилась к установленным способам ее демонстрации, которые выполняли четко определенные функции[592]. Прежде всего необходимо привлечь внимание, удержать взгляд и направить неуверенную поступь зевак внутрь балагана. Для этого гуляющим предлагались буквально «аттракционы», где монстры выступали в качестве «развлечения» или «увеселения», — то есть если обратиться к этимологии, то, что «отвлекает», заставляет «свернуть с дороги», а затем «захватывает» сознание гуляющего[593]. Но все эти сценические постановки и переодевания отвечают более древней и глубокой необходимости. Декорации, в которые помещается тело монстров, знаки, которые его окружают, имеют иную функцию: подготовить взгляд зрителя к тому перцептивному шоку, который вызовет у него столкновение лицом к лицу с крайними проявлениями телесной анормальности.
1. Метание взгляда
Итак, возникают принципиальные вопросы: какое впечатление демонстрация монстров производила на зрителей? Как уловить психологические причины того очарования, которое созерцание живых феноменов вызывало у публики?
Чтобы подойти к ответу на эти вопросы, задержимся на мгновение перед афишей, висящей на стене балагана и приглашающей на представление братьев Точчи[594]. В центре изображены близнецы. Их две ноги, твердо стоящие на земле, легко держат два туловища, разделяющиеся выше талии, с четырьмя руками и двумя головами. Тела совершенно симметричны относительно делящей их вертикальной линии. С каждой стороны располагаются подобные друг другу органы: два лица со схожими чертами, волосы, ниспадающие одинаковой волной, плечи и руки, вывернутые под одинаковым углом. Как если бы речь шла не о двух торсах, а об одном, отраженном в зеркале. Афиша одновременно демонстрирует и приглушает монструозность, будоражит и успокаивает взгляд: глаз фокусируется на этой вертикальной оси симметрии, и двойное тело, в конце концов, начинает восприниматься как одно, сопоставленное с собственным отражением. Таким же образом действуют декорации, помогая успокоить восприятие. Здесь соединяются канонические элементы мастерской фотографа или художника: задник с двумя колоннами, традиционный фужер, комфортабельный буржуазный интерьер, маленький костюмчик в морском стиле с большим воротничком, в который принято было наряжать девочек и мальчиков той эпохи, когда их фотографировали. Тело смущает, но декорация ободряет. Строение тела диковинно, но ангельские лица, опрятный внешний вид, пастельные тона, респектабельный антураж, благопристойность зрелища как бы говорят: стоит сходить посмотреть.
Однако тотчас же на этот доведенный до банальности образ столь будоражащего воображение тела накладывается следующий. Взгляд, изучающий изображение, неожиданно наталкивается на другую ось прочтения, на этот раз горизонтальную. Она делит тело в области талии на верх и низ. Монструозность проявляется вновь при сочетании этих двух торсов с этими двумя ногами. Создается впечатление, что верхняя и нижняя части тела не могут быть объединены: кажется, что, наподобие непарных вещей домашнего обихода, их соединили в районе пояса, чтобы создать причудливую куклу, собранную из разрозненных органов разделенных на части игрушек. И это снова тревожит взгляд: что здесь делают эти четыре руки, поддерживаемые двумя ногами, как могут быть четыре глаза, если ног всего две? Беспокойство нарастает, а вместе с ним и желание рассматривать: полудевочка, полумальчик, ни девочка, ни мальчик, — существо какого пола скрывается под этим бесполым костюмом, за этими кукольными лицами? И в таком случае имеет ли монстр один пол, как на то намекает низ тела, или же два, что можно предположить, посмотрев на его верхнюю часть? Взгляд замирает в растерянности перед этой анатомической загадкой. Так как две оси прочтения, которые формируют восприятие и каждой из которых мы сейчас посвятили отдельный анализ, предоставляются взгляду, естественно, одновременно. Взгляд безостановочно колеблется, не зная, на чем остановиться, воспринимать ли это как два тела или как одно; иногда оно представляется двумя телами в одном, а иногда — одним телом, разделенным на два. Такое метание взгляда лежит в основе того любопытства, которое возникает при созерцании телесной монструозности. От умения его порождать и поддерживать, а также от обещания удовлетворить подпитывающее его желание зависит коммерческий успех монстров и финансовая выгода, которую можно извлечь с помощью демонстрации их на ярмарке.
Понимание той привлекательности, которой обладает представление живых феноменов перед публикой, требует умения сдерживать ее, чтобы иметь возможность сместить центр внимания непосредственно с них на сам процесс созерцания. Таким образом, создаются условия, чтобы то беспокойство взгляда, которое провоцирует афиша, приглашающая посмотреть на сиамских близнецов, имело повсеместный характер.
Так и в случае с Жюлем Валлесом сочетание любопытства и сострадания, склонности к необычному и идентификация с маргинальным, непокорным миром лишних людей постоянно подталкивает его переступить порог балагана: «Я бы зашел, я всегда захожу: я всегда испытывал любовь к монстрам»[595]. В своей жизни он встретил большое количество бородатых женщин, начиная с той, которая в юности имела отношение к чувственному воспитанию его однокашников — учеников старших классов[596]. Валлес несомненно разделяет со своими современниками эту страсть: начиная с Мадлен Лефор и вплоть до Мадам Делайт бородатая женщина будет выступать центральной фигурой эротических и тератологических фантазий XIX века. Однажды привратник сообщает Валлесу: его ждет некий старик.
И, подняв лицо, он посмотрел на меня, а затем она добавила:
— Я — БОРОДАТАЯ ЖЕНЩИНА.
Уже несколько дней я ждал этого визита, но я не предполагал, что буду иметь дело с мужчиной. Я почти с ужасом взирал на этот мрачный маскарад. Я не осмеливался разглядеть женское сердце — причем, как мне говорили, любящее — за рабочим рубищем этого старика. <…> Это была ОНА! О ее поле, несмотря ни на что, можно было бы догадаться по ее тонкому голосу, и рука, которой она гладила свою бороду, была пухлая и красивая. <…> Я привел монстра к себе. Он или она (как понять), она или он сел передо мной и в трех словах поведал мне свою историю[597].
Он или она? Она или он? Колебание в повествовании, неразрешимость в выборе грамматического рода передают глубину смущения, охватившего взгляд Валлеса, его ошеломление и ужас перед лицом «мрачного маскарада», скрывающего смешение полов. Отголоски этого зрительного землетрясения ощущаются везде, где перед взглядом непосредственно предстает тело монстра. «Ужасное создание, которое, кажется, могло появиться только из кошмара»: сэр Фредерик Тривз признается в «отвращении», которое он испытал, когда перед ним в первый раз появился получеловек–полузверь Джозеф Меррик, человек–слон[598]. Подобная перцептивная рассеянность охватывает и Виктора Фурнеля при виде мальчика, демонстрируемого в одном ярмарочном балагане вместе с восьминогим бараном: он поочередно поворачивался к публике то одной стороной лица, с белой кожей, то другой — с «настоящей кожей негра». Это представление вызвало у Фурнеля галлюцинаторное ощущение: в конце концов он увидел в нем «голову кабана»[599].
2. Тератологические постановки
Пара сиамских близнецов, бородатая женщина, человек–слон, белый негр: в этих людях–диковинках смешиваются идентичности, соединяются оба пола, концентрируются родовые признаки, переплетаются расы. Театр монстров обличает нарушение — реальное или мнимое — законов природы[600]. Исключение из биологических норм, изменчивость жизненного процесса, репродукционные сбои; разнородность человеческой внешности, неустойчивость ее физической структуры, хрупкость человеческой оболочки: любопытствующие, стремящиеся сделать монстра объектом эксперимента, намерены составить перечень радикальных нарушений человеческого тела и разыграть на сцене балагана драму о жизненном порядке. «Живые» феномены: здесь следует понимать это выражение в буквальном смысле.
Существование монстров ставит под сомнение саму жизнь в том отношении, в каком она призвана обучить нас порядку. Мы должны, таким образом, увидеть в определении монстра его живую природу. Монстр — это живое существо в негативном значении. <…> Именно монструозность, а не смерть, является эквивалентом жизни[601].
Смущающее развлечение и странное представление — вот, однако, что могут предложить эти «живые существа в негативном значении». Не будем возвращаться детально к истории чувственного восприятия по отношению к человеческим уродствам[602], отметим лишь, что нет ничего удивительного в том, что именно ощущения ужаса и очарования все еще наиболее четко выделяются в рамках того перцептивного потрясения, которое вызывают тератологические развлечения рубежа веков: подтверждением этому становится «ужас», который переживает Валлес, «отвращение», испытываемое Тривзом, почти галлюциногенные ощущения Фурнеля.
Но также известно, что для вчерашней публики встреча с обитателями балаганов стала рядовым явлением. Это ставит перед нами, как зрителями, ряд вопросов: как ужас превратить в увеселение, отвращение — в развлечение, страх — в наслаждение? Что искали у Барнума и на Тронной ярмарке все эти бесчисленные толпы? Все эти вопросы нам знакомы, разве что сегодня нам чаще всего приходится задавать их не в отношении тела, а в отношении восприятия знаков — кровопролития, кинематографических ужасов, некоторых форм телевизионной пошлости. И именно за этим несоответствием времени, объектов и чувств и таится ответ. Именно постепенное отдаление от этой тревожащей близости уродливого тела, попытки скрыть за знаками его радикальное отличие, изобретение способов его демонстрации, способных приглушить вызываемое им смущение, позволили этим телам — «страшилищам»[603] оказаться в ряду первых современных актеров индустрии массовых развлечений. Важнейшим моментом стало, таким образом, отделение самого момента встречи лицом к лицу с телом монстра, его непосредственного присутствия в поле зрения, его телесной близости со зрителем, от всех привычных и научных форм его демонстрации. Иными словами, необходимо отграничить монстра от его монструозности[604], а также уметь обнаружить своеобразие тела за многообразием других признаков.
Именно этому принципу следовал во второй половине XIX века и в первые десятилетия следующего столетия театр человеческой монструозности: разумеется, монстры из плоти и крови появлялись здесь, на сцене балагана, но уже можно было предугадать, на основе окружавших их декораций, изготовленных для них костюмов и подобранных для них ролей, что дистанция становится все больше и что тело и взгляды зрителей начинают разделять многочисленные знаки. В их неотвязном присутствии можно предощутить их скорое исчезновение.
Самих постановок стало больше. Монстры были везде, и прежде всего на театральных подмостках. На нью–йоркской Бауэри, на лондонской Пикадилли и на парижских Больших бульварах, везде, где бурлеск производил фурор, они играли свою определенную роль в водевилях[605]. Но кроме того, ради них создавались специальные постановки. Как правило, они относились к одному из двух типов: «экзотической» или «высококлассной»[606] форме, хотя не всегда было понятно, в какой мере эти формы вообще были необходимы.
Джунгли из папье–маше и прочие экзотические выдумки были призваны подчеркнуть анатомическую странность географической дистанцией и расовыми отличиями. Когда Чанг и Энг Банкеры, «восьмое чудо света», самые известные сиамцы столетия, в 1829 году сошли на берег в Бостоне в качестве трофея охотника за монстрами, вернувшегося из «сафари» по древнему Королевству Сиам, то устроители показов сочли недостаточным демонстрировать лишь их анатомическую уникальность: потребовалось для «разъяснения» окружить их полным арсеналом ориенталистских атрибутов, среди которых был даже питон в клетке[607]. Монструозность тотчас узнавалась в этой дикой декорации.
3. Бурлескная кастрация
Каждому телесному дефекту соответствует своя постановка: так, например, пышные фантасмагории «увеличивают» тела карликов, снимая дискомфорт, возникающий при взгляде на это воплощение человеческой слабости и ничтожности. Барнум, безусловно, был стратегом этого апофеоза карликовости, так как прекрасно понимал, что чем существо меньше, тем выше оно может подняться. Так как только в Старом Свете можно было получить признание, шоумен (showman) экспортирует свои диковинки на европейский континент: Чарльз Страттон становится «генералом» Томом Тамом и объезжает Европу в карете в рамках триумфального турне, в котором его принимают знаменитейшие европейские дворы, о нем говорят в массовой прессе, его бурно приветствуют рабочие массы[608]. И другие безвестные собратья по балагану так же старались, быть может, немного скромнее, «исправить» на свой лад образ тела, неполноценность которого очаровывала, но смущала: Николай Васильевич Кобельков, «человек–обрубок», возобновляя многовековую традицию[609], так активно метался по сцене театра на бульваре Сен–Мартен, что заставил публику забыть о той неловкости, которую вызывало созерцание его лишенного конечностей тела.
Люди–обрубки, таким образом, представляют собой не просто любопытный пример этой своеобразной аномалии, встречающейся иногда в человеческом роде: они также показывают, как людям, благодаря терпению, тяжелому труду и находчивости, удается обходиться без органов, которых они лишены[610].
Почтовая открытка, продающаяся на выходе со спектакля, довершает представление: на ней человек–обрубок окружен своим многочисленным потомством: в нем он вновь обретает, буквально, «членов» семьи. Суть данного механизма раскрывает, наконец, еще один возможный вариант, представляющий собой некую анатомическую фантазию, ценившуюся повсеместно, от балаганов до freak shows: «женитьба крайностей» соединяет «дополняющие друг друга» физические недостатки и предлагает обнаружить, таким образом, образ «нормального» тела за счет суггестии морфологического характера: человек–скелет берет в жены самую толстую в мире женщину, гигант без памяти влюбляется в карлицу, безногий управляет двухместным велосипедом, держась за руль, в то время как педали крутит безрукий… Бурлескный эффект обеспечен.
Идет ли речь о создании воображаемой дистанции экзотичности, о социальном престиже, трудовых заслугах или гротескном сочетании, в любом виде тератологического представления на поверхности лежит иллюзия нормального тела. Таким образом, психологический механизм возникновения любопытства, подпитанного очарованным восприятием человеческой монструозности, становится более понятен: если тело живого монстра столь потрясает смотрящего, если оно вызывает у него такой перцептивный шок, то причиной этому является насилие, которое оно оказывает на тело самого смотрящего. Представление уродства искажает существующий у зрителя образ телесной целостности, грозит нарушить единство жизни[611]. Тот, кто присутствовал на представлении «человека–обрубка» на бульваре Сен–Мартен, должен был при виде туловища Кобелькова, лишенного рук и ног, пережить в отношении собственного тела некий обратный иллюзорный опыт: ощутить в рамках образа собственного тела не наличие отсутствующих конечностей, а отсутствие наличествующих. Сценические упражнения человека–обрубка «скрывают», таким образом, монструозность тела за компенсирующими симулякрами, будучи призваны развеять ужас в процессе воссоздания воображаемой телесной целостности. Балаганный зритель входит, видит монстра, лишается части своего тела, а затем обретает ее вновь. Представляется, что подобное бурлескное представление кастрации может обрести разрешение лишь в смеховой разрядке. Когда слышны взрывы смеха, вызванные комичным гротеском, это значит, что где–то рядом есть нечто странное и пугающее.
4. Массовый вуайеризм
Визуальная массовая культура, центром которой являлась демонстрация анормального, не ограничивалась только лишь ярмарочными представлениями и музеями редкостей. Пример Барнума в этом случае показателен: он с самого начала понял, что развитие массовой печати станет бесподобным резонатором для развития торговли странностями. Он и его коллеги наводнили газеты душещипательными рассказами о несчастьях монстров и их искуплении: они подробно описывали чувственную сторону их жизни, они устраивали и чествовали их брачные союзы, умиленно склонялись над их колыбелями. Прочно опираясь на повествовательную структуру народных сказок, в эпоху формирования массового общества они секуляризировали древнюю традицию чудес и предзнаменований: монструозность упрочивала свое вторжение в обыденность повседневной жизни. Эти рассказы сопровождались изображениями, которые уже сами по себе представляли необычное явление в ряду других визуальных впечатлений читателя и зрителя. Эти выдуманные истории превращали монстров в знаковое явление, вводя в оборот «разменную монету аномальности». На этой основе также получили развитие особые практики.
Ведь посетители балаганов редко выходили из них с пустыми руками. Свои воспоминания от короткой встречи с ярмарочными феноменами они сохраняли в форме почтовых открыток. Надо сказать, что в ту эпоху подобные изображения не представляли собой какой–либо коллекционной редкости. Все балаганы на Тронной ярмарке и ярмарочных представлениях в Америке предлагали их своим посетителям в формате почтовых открыток или иллюстрированных визитных карточек, особенно после того, как прогресс в области фотографических технологий позволил в 1860‑х годах начать их массовое производство. Фотографические студии тотчас начали специализироваться на диковинных портретах: чтобы попасть из Американского музея Барнума в студию Мэтью Брэди, известного своими негативами Линкольна и фотографическими хрониками гражданской войны в США, монстрам нужно было лишь перейти улицу. И там, среди знаменитых литераторов и политиков того времени генерал Том Там, Чанг и Энг, бородатая женщина Энни Джонс и Генри Джонсон (по прозвищу «Что–это?») делали передышку в декорациях дворца или джунглей[612]. То же самое происходило во Франции и в Англии: студии и производители почтовых открыток не пренебрегали созданием подобных изображений, вне зависимости от того, был ли это чей–то заказ или их личная инициатива.
Тот факт, что они обладали коммерческой ценностью, говорит о том, что для удовлетворения любопытства по отношению к странностям человеческого тела недостаточно было лишь случайного посещения ярмарок или рассматривания украдкой обитателей балаганов. Купленные чаще всего во время таких посещений портреты монстров занимали место в фотографических альбомах рубежа веков среди других сувениров из поездки: в конце альбома, следуя за вереницей изображений родственников разных поколений, непритязательные деревенские колокольни и диковинные столичные достопримечательности соседствовали с «ошибками природы». Доходило до того, что в некоторых ничем не примечательных населенных пунктах за неимением романской церкви приходилось гордиться наличием некоторой человеческой редкости: кто бы узнал про Таон–ле–Вогезы в начале XX века, если бы не широко распространенная серия почтовых открыток, демонстрировавших в салоне, в коляске или верхом на велосипеде бородатую женщину Мадам Делайт?[613] Мон–Сен–Мишель не может быть во всех коммунах Франции.
Здесь необходимо поставить вопрос об изучении разнообразия материальных форм визуальной массовой культуры. Способы распространения этих особых почтовых открыток вновь подтверждают мысль о том, что демонстрация анормального) имеет своей целью распространение представления о телесной норме. Монстр продолжает оставаться исключением, которое подтверждает правило: это нормальное состояние урбанизированного тела горожанина, которое хоровод возникающих перед фотообъективом клейменых тел предлагает распознать в зеркале, искривленном анормальностью. Французский пример особенно показателен. Восприятие телесной странности, иллюстрируемой почтовыми открытками, сближается по сути с чувством растерянности в непривычной обстановке, возникающим в путешествии, с исследованием периферийных областей страны, с погружением в атмосферу отдаленных деревень, с осознанием остановившегося и запоздавшего биологического и социального времени, которое царит в них: за исключением ярмарочных представлений, медицинских изысканий и этнологического экзотизма, фотографическая иконография телесных уродств, начиная со второй половины XIX века и до 1930‑х годов, оказывается тесно связана с туристическими поездками по стране. Если отправиться в Верхние Альпы, там обнаружится образ «круглого дурака» («crétin du Pelvoux» — букв, «слабоумный из Пельву»); в Бретани — столетняя дикарка; в Оверни — косматый отшельник; почти везде — деревенский идиот. Анатомическая странность, отставание в умственном развитии, грубая внешность — это ожидаемые черты колоритного сельского жителя, которому они придают необходимый оттенок аутентичности. Любопытство, проявляемое по отношению к этому фотографическому запечатлению недугов, патологий или просто внешнего вида «тератологизированного» крестьянского тела, являлось допустимым, обычным, широко распространенным и весьма банальным. Эти изображения можно было показать друзьям или отправить родителям. Любители почтовых открыток, таким образом, занимали по отношению к своим близким позицию, в общем и целом сходную с позицией хозяина выставки редкостей по отношению к его клиентам. Это значит, что любопытство к созерцанию человеческих уродств незаметно, но основательно замененное безостановочным распространением обычных практик, выходило за пределы ярмарок и музеев, чтобы запустить цепную реакцию, создать целую сеть. XIX век легко и просто породил массовый вуайеризм. Почти везде можно было обнаружить монстров, «бледных» от своей аномальности, если использовать выражение Фуко. И наконец, возможно, самым удивительным, на взгляд современного человека, было полное отсутствие комментария о необычности сюжета в тех нескольких словах, которыми сопровождали подобные послания. Отправляют негатив кретина из Альп: «Поцелуи из Бриансона»… Во французской глубинке были свои туземные деревни[614].
Регулярная продажа почтовых открыток с монстрами прекратилась в конце 1930‑х годов. После этого можно обнаружить лишь случайное изображение гиганта или затерявшуюся открытку с карликом. Ирония истории: последняя изданная серия была посвящена «Королевству Лилипутов», деревни карликов, устроенной на площади перед «Домом инвалидов» по случаю Всемирной выставки 1937 года[615]. Она должна была занять ровно то место, которое занимали туземные деревни до их ликвидации, когда распорядитель Парижской колониальной выставки генерал Лиоте в 1931 году счел, что расистские проявления не соответствуют времени. В споре о том, за кем, карликами или туземцами, закрепить право служить страшилищем в демонстрации активно развивающегося прогресса, «победа», по крайней мере в данном случае, досталась монстрам. Печальная привилегия…
5. Порнография инвалидности
Чтобы закончить с этим вопросом, рассмотрим почтовую открытку такого типа: изображение сиамских близнецов, которое Батиста Точчи предлагал посетителям своего балагана[616]. Здесь не было обмана: четыре руки, две головы, два торса, две ноги, один половой орган. Феномен был «естественным». Это не было результатом одной из уловок Барнума, которыми изобиловали ярмарки XIX века, таких как «альбинос из Австралии», родившийся в Нью–Джерси, или «дикарь с Борнео», родом из Пантина[617]. Выставление напоказ монстра порывало здесь с традицией диких вымыслов, экзотических мечтаний и пышных фантасмагорий: в течение двух последних десятилетий XIX века и двух первых десятилетий следующего столетия в фотографическом представлении дефектов человеческого тела все чаще используется полный условностей студийный портрет. В том, что эти изображения стремились ограничить рамками, в которых чаще всего существует изображение обычных людей, можно усмотреть один из признаков стремления к нормализации человеческой монструозности. Однако стремиться сделать из монстров обычных людей — это донельзя парадоксально. Далекое от подчинения законам жанра, монструозное тело искажает порядок вещей и делает странным самое обыденное обрамление.
К тому же здесь стоит добавить, что Точчи не говорит всей правды: внешние руки детей опираются на два кресла. Без этого близнецы бы упали: Джакомо и Джованни Точчи не были способны ни передвигаться, ни даже стоять на ногах. Неожиданно становится понятно то, что скрывала афиша: две ноги, бесполезные и асимметричные, висят под туловищами, которые сами поддерживают себя с помощью подпорок. «Живой феномен» оказывается калекой. Неожиданно за неоднозначным изображением начинает просматриваться полная картина: кресла вдруг перестают выполнять традиционную для фотографических постановок функцию и оказываются двумя огромными костылями, двумя комнатными протезами. Сам декор обнажается и полностью подчиняется сути представления: лишенный своей условной респектабельности, он становится лишь приемом для демонстрации, анатомическим столом.
В этом заключается одно из свойств монструозного тела: разрушать сам контекст своего появления, расшатывать рамки, в которых оно демонстрируется[618]. Под его влиянием на портрет незаметно накладывается другой фотографический жанр: медицинская фотография[619]. Как и в ней, здесь создается впечатление, что задний план отодвинут назад и абстрагирован перед явным проявлением тератологических признаков; передержанное изображение обнаженных тел усиливает видимость этих признаков; взгляды близнецов, смотрящих в объектив фотокамеры, исполнены покорной грусти, свойственной многим пациентам, ставшим предметами медицинского любопытства в XIX веке, веке, который «стремился натурализировать монстров»[620].
Но изображение снова стремится ускользнуть, выступая за перцептивные рамки, накладываемые медицинскими представлениями того времени. Об этом говорит одна необычная деталь: букет цветов, который протягивают зрителю вытянутые руки близнецов, не свойственен больничной клинической фотографии. Это происходит потому, что зрелище адресовано не кому иному, как ярмарочному зеваке. Резкий свет выделяет для него то, что он, в сущности, все время хотел увидеть с того самого момента, когда, привлеченный зазывной афишей, направился к порогу балагана. Фотография раскрывает самый животрепещущий вопрос, на который афиша лишь слегка намекала: пол монстра. Зритель также наталкивается на еще один аспект изображения: на этот смотрящий на него двойной взгляд. И этот взгляд оказывает еще большее впечатление: зритель начинает безостановочно блуждать глазами по этому треугольнику, который от взгляда одного через взгляд другого близнеца неумолимо ведет к созерцанию их половой принадлежности. Если зритель утомится, если неожиданная стыдливость или запоздалая целомудренность заставит его отвести пресыщенный взор, расположение изображения тотчас вернет его к той же точке: букет цветов, которым дети машут над головой, расположен симметрично половым признакам относительно оси взглядов.
Два голых смущенных тела, явно демонстрируемая половая принадлежность, двойной взгляд, смотрящий на зрителя, странно расположенное подношение: здесь собраны основные элементы порнографического метода, которые оказываются смешаны на почтовой открытке с традициями портретного жанра и аллюзиями из медицинской семиологии[621]. Вот это двойственное зрелище, разрешение на демонстрацию которого французской публике и просил Батиста Точчи. Сегодня невозможно ни смотреть на это без отвращения, ни даже писать об этом без чувства неловкости. Суть его, в наших глазах, не вызывает сомнения: коммерческое использование физического недостатка, уродливый стриптиз, порнография инвалидности.
Но не стоит подменять одно другим: такое восприятие не было свойственно тем толпам, которые посещали балаганы Тронной ярмарки со второй половины XIX века до 1920‑х годов. По тогдашним представлениям предлагавшаяся Точчи манера демонстрации являлась «классической»: так антрепренеры придавали своим монстрам рыночную стоимость, так ярмарочные зеваки «поедали» их взглядом, а любопытствующая публика покупала, сохраняла, дарила и рассылала их изображения. Все то, в чем мы видим непристойность представления, унижение актеров, порнографический характер визуального интереса, все, что в этой демонстрации задевает наши чувства, — все это и привлекало когда–то искавших развлечения парижан. В течение очень долгого времени они отправлялись на эти поиски не вопреки, а благодаря этому, беззаботное любопытство вело их туда, где мы бы обнаружили лишь нездоровый вуайеризм. Постепенная, в течение XIX и XX веков, замена второго типа восприятия на первый и составляет центральную проблему данного исследования.
Итог пребывания в Париже Батисты Точчи и его детей позволяет выявить один из первых случаев, отмечающих эту смену ощущений, а также прояснить форму и условия, в которых она происходит. На запрос Точчи префектура ответила категорическим отказом. «Я не считаю возможным демонстрировать публике подобное уродство. Оно может рассматриваться только в рамках медицинского факультета»[622], — безапелляционно решает ответственный чиновник.
В этом состоит вся суть дела Точчи: оно отмечает тот момент, когда демонстрация человеческой монструозности перестает быть обычным явлением и становится чем–то шокирующим, оно показывает, что преодолен порог толерантности по отношению к демонстрации телесных деформаций, что изменилось само представление о предметах, об актерах и о способах проявления любопытства к монстрам. Формулировка запрета имеет большее значение, чем просто отказ, данный Точчи на его запрос: она предсказывает будущее этих ярмарочных феноменов в наш век, их скорое исчезновение из мест массовых развлечений, возникновение моральных переживаний, объектами которых они станут, ограничение их пространства медицинскими научными исследованиями.
Действительно, с 1880‑х годов все признаки начинают говорить о том, что дело Точчи не было уникальным, что везде, во всей европейской индустрии массовых развлечений, возникает новое отношение к анатомическому и моральному убожеству человеческих диковинок. Случай Джозефа Меррика столь же показателен: в 1883 году в Лондоне была запрещена демонстрация человека–слона. Жестокость и ужас этого зрелища были настолько невыносимы для врача–филантропа, что реакция Тривза, впервые увидевшего его, была следующей: «Демонстратор — будто обращаясь к собаке — грубо окликнул его: „Встань!" Существо медленно поднялось, сбросив покрывавшую его голову и спину материю. Появился человеческий экземпляр, самый отталкивающий из тех, что мне доводилось видеть»[623]. Меррику, который блуждал таким образом между разными ярмарками северной Европы, был изгнан из большинства мест массовых развлечений и лишен своей рыночной стоимости, стараниями Тривза выделил приют главный Лондонский госпиталь: там человек–слон мирно закончил свое душещипательное существование на публичные пожертвования. Судьба Меррика, действительно, показательна: демонстратор редкостей и врач борются за монстра, желая удовлетворить два разных типа любопытства и извлечь разную выгоду. Полагаясь на строгость властей и заручившись поддержкой милосердного общественного мнения, врач одолевает ярмарочного дельца, балаган сменяется на госпиталь, а тело монстра, вызволенное из театра уродов, полноправно становится предметом медицинских исследований и объектом моральной любви. Обширная страница в истории человеческих монстров вот–вот будет перевернута.
III. Ужасно человечные
Новая же страница открылась, хотя и незаметно, там же, где демонстрировали монстров на потеху публике: начиная с первых десятилетий XIX века монстр в работах Жоффруа Сент–Илера[624] занимает свое место в теории творения и в логике натурального порядка.
1. Наука о монстрах
Действительно, кардинальный перелом в истории восприятия монструозности произвело создание научной тератологии, основанной на развитии эмбриогенеза и сравнительной анатомии[625]. Самостоятельная наука об аномалиях телосложения кардинальным образом перестраивает само понимание монструозности. Она переворачивает видение анормального тела и дает новые ответы на старейшие вопросы. Так, монструозность больше не воспринимается как проявление дьявольского или божественного, как любопытное отклонение, причудливое порождение исступленного женского воображения или плод кровосмесительной связи человека и зверя. «Монструозность больше не является бессмысленным беспорядком, но представляет собой иной порядок, столь же правильный, в той же мере подчиненный своим законам»[626]: монстр подчинен общему закону, управляющему жизненным порядком[627]. У этого восприятия есть два аспекта. С одной стороны, монструозное отклонение от нормы соотносится с видовой нормой, причем таким образом, что сверх того проявляет ее генезис. Этьен Жоффруа Сент–Илер увидел в монстре эмбрион: монстр — это не что иное, как организм, развитие которого было прервано. Древняя загадка получила разрешение, не нуждаясь более в мифах о происхождении: монстр — это лишь незавершенный человек, «вечный эмбрион», природа, «остановившаяся на полпути»[628]. С другой стороны, каждый отдельно взятый монстр воспринимается как проявление особого типа монструозности, со своей особенной структурой: для ацефала, человека–циклопа характерны свои черты телосложения, позволяющие соотнести их с другими монстрами, обладающими в структурном плане схожими отклонениями. Изидору Жоффруа Сент–Илеру оставалось лишь завершить работу отца, снабдив мир аномалий строгой классификацией и продуманной терминологией. А Камилле Дарест, спустя некоторое время, — получить экспериментальное доказательство, совершенствуя при этом представление о происхождении аномалий в развитии (это позволило ей, благодаря систематической работе над яйцеклетками, создать кур–монстров)[629]. Отныне анормальное позволяет понимать нормальное, и граница между ними становится все менее четкой: «невозможно сказать, где заканчивается нормальное состояние и начинается аномалия, так как эти два состояния не могут иметь четких границ»[630].
История тератологии дает возможность, таким образом, в полной мере осознать переворот, который XIX век принес в научное представление о монструозности. Пошатнулась целая историческая эпоха, долгое время не знавшая изменений: монстр — двойная нелепость, звериная родня, живое отрицание человека — был, наконец, возвращен в общий порядок. «Порядок был возвращен в мир внешнего беспорядка; <…> было наглядно доказано, что люди–вне–закона имеют свои законы», — так заявляет в 1948 году Этьен Вольф в своей «Науке монстров»[631], почти дословно повторяя слова Изидора Жоффруа Сент–Илера, сказанные веком ранее. Ведь XX век их в целом подтвердил, сохранив общий описательный контекст, классификацию и номенклатуру, созданную Жоффруа Сент–Илером и Дарест[632]. С этих пор медицина и биология завладели монстром. Развитие в начале века генетики и эмбриологии открыло новый пласт научных вопросов: монстр может быть результатом порожденной в лаборатории мутации. Начиная с 1932 года Вольф основывает экспериментальный тератогенез и выявляет связь между искусственно вызванными аномалиями и наследственными уродствами. А затем будут открыты, в конце 1940‑х, тератогенное (приводящее к возникновению аномалий развития) воздействие окружающей среды, химических веществ и ионизирующей радиации. Монструозность, возникшая как результат промышленного загрязнения или побочное действие ядерной войны, породит новые страхи.
Таким образом, целый век, с 1840 по 1940 годы, видевший апогей, закат, а затем и исчезновение практики демонстрации анормального, в то же время был свидетелем создания и становления научной тератологии: демонстрация человеческих монстров неизбежно должна была стать предметом спора культуры вуайеризма и культуры наблюдения. Изидору Жоффруа Сент–Илеру удалось снять неясность между понятиями монструозного и анормального, классифицировать аномалии согласно их тяжести и закрепить слово «монструозность» за самыми тяжелыми отклонениями[633]. Тератология разрешит также еще одну путаницу — между понятиями монстра и калеки, и это разграничение, как мы увидим, будет иметь значительные последствия для социальной судьбы и этического отношения к человеческому уродству[634]. Жоффруа Сент–Илеры ограничили восприятие монструозного тела рациональной зрительной аскезой. Перцептивное состояние тревоги, лежащее в основе гипнотической очарованности человеческими уродствами, — это именно то, чего натуралист стремится избежать при создании упорядоченной классификации тератологических видов: в каждом случае он заменяет ошеломление рациональным отстранением наблюдателя. Современный ученый «тоже способен удивляться; но, кроме того, он стремится понять, объяснить увиденное»[635]. Возникновение рационального взгляда неразрывно связано с особой линией дискурса, «объясняющей» явление живых феноменов в области коммерческих развлечений. Во время триумфальных европейских гастролей «Гигантского американского музея» в первые годы XX столетия Барнум и Бейли готовы продемонстрировать, помимо огромного зверинца диких животных, также самое крупное из когда–либо виденных в Старом Свете собраний человеческих монстров, в котором объединились «все живые феномены, все человеческие аномалии, все удивительные создания, диковинные существа, капризы и чудачества природы»[636]. Таким образом был совершен окончательный разрыв между традиционным представлением о монстре как нарушении природного порядка и научным опровержением этого представления средствами тератологии: «Не существует ни одного органического образования, которое бы не подчинялось законам; слово „беспорядок” <…> не следует применять ни к одному творению природы. <…> Из зоологии нам хорошо известно, что в таких видах нет ничего неупорядоченного, ничего странного»[637].
Влияние такого рационального взгляда в отношении человеческих диковинок постепенно начинает ощущаться даже в сфере массовых развлечений. Нельзя сказать, что поток любопытствующих, толпившихся до 1920‑х — 1930‑х годов у порогов балаганов, неожиданно иссяк. Но демонстрация анормального постепенно лишается научной обоснованности, ей становится все сложнее ссылаться на научное знание и искать поддержки в науке. Вместе с тем это рациональное регулирование любопытства столкнется во второй половине XIX века с моральными и политическими инициативами, предполагающими борьбу с праздным образом жизни и контроль свободного времени рабочего класса и призывающими регулировать и организовывать увеселение народных масс. Это движение, начавшееся в Англии и получившее здесь особенно яркое развитие, стремилось перевернуть основы народной досуговой культуры, пропагандируя культурное времяпрепровождение в противовес беспорядочным и шумным развлечениям, которые все еще превалировали у городской публики[638]. Показы монстров и заведения, где они проводились в продолжение ярмарочной и карнавальной традиции, потерпели убыток от массового посещения музеев, которые приглашали всех приобщиться к просвещению. Например, в 1857 году Британский музей запустил прибыльную программу об электрификации, допускавшую вечернее посещение, которая до 1883 года собрала более 15 тысяч посетителей. Времена поменялись, как в середине века объявляло простодушным толпам издание Illustrated London News:
Некогда музеи могли давать приют поддельным монстрам, и это стало причиной столь широкого распространения массовых заблуждений; сегодня же о подобном обмане не может быть и речи, и любой демонстратор редкостей будет опасаться проверки со стороны полиции просвещенного общественного мнения[639].
Во имя такого рационального общественного воспитания все чаще (особенно в Америке, где freak shows собирают полные залы) звучит осуждение предлагаемых Барнумом развлечений. «Хаотичная, запыленная, безобразная коллекция… без научной организации, без перечня, без смотрителей, и чаще всего даже без подписей, не что иное, как разнородная куча редкостей»[640]: вот эпитафия, напечатанная The Nation, влиятельным изданием реформаторской протестантской элиты, после пожара, уничтожившего в 1865 году Американский музей[641]. «Любители редкостей… были ли они довольны существованием уничтоженных коллекций или же скорее оскорблены их несовершенством, их беспорядочностью, небрежностью их состояния и их явно не первостепенной важностью?»[642] Как разительно различаются, продолжает газета, научный порядок, царящий в коллекциях Британского музея, и чудовищный хаос, загромождавший галереи Американского музея. Барнум, занимая оборонительную позицию, предлагает присоединить к восстановленному Американскому музею заведение бесплатного народного просвещения в целях воспитания вкуса у публики Нового Света[643]. Стоит ли уточнять, что это предложение не было реализовано?
2. Рост сострадания
Новое чувство, чувство сострадания, постепенно обретает форму в течение XIX столетия: развитие современных взглядов на телесные уродства сыграло в этом свою роль. Подтвержденное тератологическими исследованиями семьи Сент–Илеров неоспоримое признание человечной природы монструозности, без сомнения, явилось важным фактором в этой смене чувственного восприятия. Поэтому сложно полностью согласиться с Мишелем Фуко, анализирующим основные черты упорного исключения человеческого монстра.
Фуко не без основания полагает постановку вопроса о монстре в области, которую он характеризует как «юридически–биологическую»:
Монструозность есть только там, где противоестественное беззаконие затрагивает, попирает, вносит сбой в… право. <…> Однажды противоестественное беззаконие попирает юридический порядок, и появляется монстр[644].
В таком двойственном плане монстр представляет собой нарушение законов, преступая одновременно правила за пределами закона»[645]. Однако нельзя сказать, что развитие научной тератологии укрепило «биологическую» сторону такого восприятия: принципы, на которых она основывается, определяют, что монстр, далекий от того, чтобы быть «против природы», полностью подчиняется ее законам. Тератология занимает решительную передовую позицию в познании человека, показывая, что к человеческому роду могут относиться такие формы жизни, которые по сути представляют непримиримое различие. Вывод ясен и прост: тело монстра является телом человека.
Очевидно, что это не могло не повлиять и на саму юридическую сферу. Утверждение наукой человеческого характера монструозности должно было иметь принципиальное значение и для присвоения монстрам правосубъектности: помимо того что он не был «против природы», монстр не был обречен и оставаться «вне закона». Однако последствия создания тератологии в области права начинают ощущаться не сразу. Для этого необходимо было вызволить монструозность из традиционного круга представлений, основанных на радикальном исключении и архаичной жестокости, одобряемых законом[646]. Авторы большинства юридических трактатов начала XIX века, вслед за своими предшественниками, отказывают монстрам в обладании гражданскими правами, в частности передачи права и наследования. Некоторые, вопреки всякой научной очевидности, продолжают поддерживать идею о «незаконнорожденности», являющейся результатом плотской связи с животными, и все еще иногда оправдывают тератологическое детоубийство: «Нельзя совершить убийство ни в отношении мертвеца, ни в отношении монстра»[647], — утверждается в «Трактате о французском уголовном праве» Ротера в 1836 году — тогда же, когда выходит в свет «Трактат о тератологии» Изидора Жоффруа Сент–Илера. Именно эту ситуацию на протяжении всего века будут пытаться исправить гражданские кодексы: так, например, в Германии, из–за того, что существа, родившиеся мало похожими на людей, не могут пользоваться семейным и гражданским правом, им нельзя жертвовать, не получив специального судебного разрешения. В Англии основным вопросом остается признание за монстрами человеческой природы, что позволяет подвести их под действие уголовного права. Этот же вопрос является центральным в комментариях Эшбаха о французском законодательстве по отношению к монстрам[648], где впервые обнаруживается довольно отчетливый след тератологических открытий: юрист из Страсбурга прежде всего опровергает устаревшую идею о незаконнорожденности, а затем пытается определить границу между нормальным человеком и монстром, рассуждая следующим образом: «Любое существо, вышедшее из чрева женщины, является человеком; оно может не иметь гражданской правосубъектности, но это не является результатом его уродства; это лишь следствие его нежизнеспособности и недееспособности; оно может существовать лишь под опекой, оно неприкосновенно». Наука вернула монстру надлежащее ему место в природном порядке, а право — справедливое место в отношении закона.
Таким образом, вопрос о жизнеспособности становится основополагающим в рамках юридической оценки, ставя проблему права в зависимость от медицинской экспертизы. Именно врач отныне должен судить о жизнеспособности монстра согласно категориям, объединенным Жоффруа Сент–Илером в сводную таблицу: мертворожденный, проживший лишь несколько минут после рождения, доживший до тридцати лет, имеющий нормальную продолжительность жизни. В сферу влияния медицины попадает теперь не только тело монстра, но и его правосубъектность, условия его рождения и прогнозирование его смерти: монстр с полным правом становится предметом судебной медицины. Кроме того, именно судебно–медицинский эксперт выявляет преступный характер действий в случае возникновения подозрения в тератологическом детоубийстве. Его же участие, как дополняет доктор Мартен, «необходимо и в отношении вопросов менее серьезных, чем предыдущие, но имеющих особое социальное значение; так, например, может случиться, что властям, запрещающим или разрешающим демонстрацию монстров, может потребоваться информация о природе феномена, чтобы любопытствующая публика не стала жертвой мошенничества: в этом случае самого общего осмотра будет достаточно, чтобы развеять все сомнения и утвердить административные власти в принимаемом решении»[649]. В отношении демонстрации анормального медицинское мнение готово получить силу закона.
Это возвращает нас к сфере развлечений. Постепенно зрители начинают останавливаться в нерешительности на пороге балаганов, их охватывает чувство неловкости, заставляющее их в итоге отвести взгляд. Таким образом, все яснее проявляются новые чувства по отношению к анатомическим диковинкам, долгое время существовавшим в зависимом положении на подмостках ярмарочных театров: зритель начинает распознавать их человечность и чувствовать их страдания.
Тогда же возникают новые формы проявления заинтересованности. Например, в викторианской Англии: все большее распространение получают романтические постановки с участием монстров, в основе которых лежит мощный двойственный компромисс между вуайеризмом и наблюдением. Известно, что сама королева Виктория, слывшая недотрогой, увлеклась созданным Барнумом «генералом» Томом Тамом. Александра, принцесса Уэльская, присутствовала на чаепитии с Джоном Мерриком, человеком–слоном, в Лондонском госпитале, где его приютили. Она оставила ему подписанную фотографию, которая будет позже висеть у изголовья несчастного существа. Он написал ей письмо благодарности. Так завязалась переписка. Сэр Фрэнсис Карр Гом, директор госпиталя, озабоченный необходимостью финансировать административно необоснованное содержание монстра среди других больных, сообщил об этом прессе[650], которая тотчас же занялась этим вопросом. Растроганный до слез британский средний класс начал сбор пожертвований, и менее чем за неделю человек–слон был обеспечен средствами к существованию. Сочувствие к несчастьям анатомического характера стало характерной чертой приличного общества, породив новые финансовые схемы: возникла своеобразная экономика сострадания, отличная от традиционных практик по сбору пожертвований, существовавших в рамках древних религиозных форм регулирования благотворительности или государственных учреждений, ведавших помощью калекам. На сей раз речь шла о прямом призыве, адресованном, с помощью средств массовой информации, персонально каждому человеку, который сумеет на расстоянии разглядеть в монстре себе подобного. В этом и заключается основополагающий парадокс сострадания по отношению к человеческим монстрам, оформившийся в конце XIX века и получивший невероятное развитие в течение следующего столетия: речь идет о странной любви к «ближнему», растущей пропорционально отдалению от самого объекта любви[651].
Существенную роль в этой смене восприятия сыграла литература XIX века. В произведениях совершенно разных писателей, таких как Бодлер, Банвилль, Гюго или Валлес, в хрониках о старом Париже Виктора Фурнеля и многих других авторов создается целая галерея нищих шутов, «бедных перелетных птиц», среди которых обнаруживаются уличные диковинки, ярмарочные «живые феномены», призраки парижских мостовых. Романы, хроники и газеты рассказывают о чувственных несчастьях монстров, любовных страданиях гигантов и мучениях карликов. Монстры оказываются лишены мифического покрова бесконечного счастья, играющего в ярмарочном пространстве роль заднего фона для их невзгод. В качестве примера можно привести трагическую судьбу бородатой женщины, которая влюбилась в одного актера из театра Шатле, осмелилась появиться на публике в женской одежде, стала посмешищем и умерла от любви. Эта тема близка Валлесу, который столь остро воспринимает неустойчивые формы существования подобных «знаменитостей мостовых», что посвящает им длинные рассуждения биографического характера, превращая их в романических персонажей, каким, например, является герой романа «Бакалавр–циркач». Он снабжает их двумя типами биографий, восходящей и нисходящей, пронизывающей сверху вниз всю социальную лестницу. К первому типу относятся несколько монстров, чудом исцеленных или особо удачливых в жизни, которым удается избежать уготованной им, казалось бы, судьбы. Ко второму — толпы тех, кто неумолимо стремится к деградации, присоединяясь к армии уличных теней и заканчивая свое убогое существование на городских мостовых: такова судьба персонажа Валлеса, бакалавра–циркача, ученого ярмарочного артиста, учившегося в школе, знавшего латынь, но обреченного на несчастье из–за своего физического уродства.
Откуда же такое количество литературных монстров и, главное, почему они все так несчастны? Откуда столько жалоб и стенаний? Таков Франкенштейн, одинокий монстр, желавший лишь «снова быть включенным в человеческий строй»: одиночество озлобляет доброе по природе существо и впутывает в самые мерзкие преступления. Таков Квазимодо, гримасы которого исполнены грусти и кротости. Таков Гуинплен, с уродливой улыбкой на лице, душой которого становится слепая девушка Деа. Душа монстра… Возможно, Теофиль Готье находит ответ на вопрос в одной из статей в Moniteur universel, где он описывает спектакль карликов в концертном зале Херц:
Когда не идут пьесы, монстры, феномены и диковинки, пользуясь этим, появляются на сцене. В прошлый четверг в зале Херц давали представление три фантастических существа, рост самого большого из которых не превышал и тридцати дюймов. Они прибыли из Германии, родины гномов и кобольдов. <…> Это представление было весьма забавно, эти три карлика, возможно, станут известными, как Том Там: в любом случае, они более живые, более веселые, более остроумные. Что касается нас, мы бы предпочли лицезреть трех красивых женщин, троих детей или троих красивых мужчин. Уродство не смешно, оно предполагает страдание и своего рода стыдливость. В этих трех безобразных, сморщенных телах, в этих вытащенных из спиртовой бутыли гомункулов, есть, в конце концов, душа, заключенная в плохо слаженную оболочку и, видимо, исполненная горечи[652].
В этом заключается одно из важнейших научных, литературных и эстетических открытий XIX века, наследие которого мы ощущаем в полной мере: у монстров есть душа. Они человечны, ужасно человечны.
3. Охрана зрительских взглядов
Однако сострадание к человеческому уродству разделяли не все. Административные власти, вопреки обычному безразличию, начинают проявлять беспокойство относительно опасности, которую представляет демонстрация уродств для общественного порядка и морали, в надежде наложить определенные ограничения на подобные представления, а затем их искоренить.
Как мы видели, раньше всего подобное движение возникает в Англии, где на первый план в борьбе за повышение нравственности рабочего класса выдвигается реформаторский средний класс, опираясь на поддержку полиции, заботящейся о городском порядке, и антрепренеров–капиталистов, обеспокоенных своими доходами. Во Франции начиная со Второй империи попытки контроля над сферой досуга становятся все более частыми и достигают пика в два последних десятилетия XIX века и в два первых XX, при этом они подстегиваются санитарным и моральным «крестовым походом» против риска дегенерации. Одна из ответных реакций на угрозу венерической опасности и физического и морального вырождения общества принимает форму своеобразной моральной «пастеризации» визуальной культуры, процветающей на ярмарочных праздниках и в музеях редкостей.
Одной из первых мишеней такого надзора становятся балаганы. С 1860 по 1920 годы лавина административных текстов наложит массу ограничений на ремесло ярмарочного артиста и на саму практику демонстрации человеческих диковинок[653]. С 1863 года делаются попытки препятствовать демонстрации мутаций и физических недостатков с помощью запрета на эту деятельность для «слепых, безногих, одноруких, калек и прочих увечных»; в 1893‑м возникает необходимость во введении особого надзора за «демонстрацией феноменов, за анатомическими музеями, за лунатиками и шарлатанами»[654]; и наконец, в 1896 году выходит запрет на «демонстрацию живых феноменов, на зрелища непристойного или отталкивающего характера, на демонстрацию женщин в каком бы то ни было виде и в целом на так называемые балаганы»[655].
Однако расхождение между законом и практикой все еще остается значительным[656]. Подобные зрелища являются частью визуальной культуры, глубоко укоренившейся в перцептивной практике, — слишком древней, чтобы ее так легко можно было изжить. Но тем не менее призыв к ее запрету становится все более настойчивым накануне I Мировой войны: достигнут порог административной толерантности по отношению к демонстрации анормального.
Из поступающих ко мне многочисленных жалоб и сообщений становится ясно, что эти [запреты] слишком часто забываются или игнорируются. Зрелища, предлагаемые многочисленными «анатомическими музеями», могут представлять собой, в частности, явное нарушение правил приличия; они включают среди прочего омерзительные сцены родов, демонстрацию нормальных или обезображенных половых органов и последствий различных заболеваний. Имею честь особенно привлечь ваше внимание к этим случаям, которые, как представляется, носят повсеместный характер[657].
Программа такой охраны зрительских взглядов имела двойственную направленность. С одной стороны, речь шла о том, чтобы убрать с глаз публики обнаженное, демонстрирующее половые признаки, обезображенное, больное тело, созерцание которого еще недавно было привычным делом, но отныне начинает восприниматься исключительно как непристойность и мерзость. В 1920‑е — 1930‑е годы центральное место в борьбе за визуальную культуру проведения досуга займет представление об общественной нравственности, в рамках которого будут одинаково осуждаться как живые феномены, так и анатомические музеи, порнографические зрелища и демонстрация насилия и разврата на афишах ярмарочных кинотеатров[658]. Но с другой стороны, речь идет о моральном дозволении, когда уникальное право выносить решение о законности демонстрации телесных аномалий предоставляется медицинскому надзору. Таким образом, организаторы ярмарочных представлений, стремящиеся обзавестись для своих аттракционов покровительством анатомической науки, окажутся пойманными на слове: постановление мэра Лиона, вышедшее в апреле 1920 года, помимо обычного теперь напоминания о запрете демонстрации живых феноменов, предписывает проведение предварительного медицинского осмотра анатомических музеев.
Перед открытием таких музеев их должны посетить медицинские сотрудники, уполномоченные муниципальной администрацией, которые могут, в соответствии с сущностью предметов, предполагающихся для демонстрации публике, изъять те, которые не имеют научного характера, или ограничить их показ только взрослой публикой, возраст которой должен быть ими установлен. Эти предметы не могут быть беспрепятственно предоставляены вниманию определенных категорий зрителей[659].
Отныне в области демонстрации анормального тела безраздельно царит медицинский контроль. Уже с конца XIX века он выходит за свои традиционные пределы, чтобы наметить общую линию художественной истории уродства[660]. Теперь он решает, кто может видеть и что может быть увидено. Он разбивает ярмарочную публику на категории, определяя для каждой, согласно возрасту и полу, риски, связанные с посещением балаганов. И его влияние постоянно расширяется. Ведь первые громкие осуждения демонстрации человеческих монстров произносятся тогда же, когда создается новая психиатрическая классификация, непосредственно затрагивающая рассматриваемый вопрос: именно в 1880‑е годы получают определение и описание извращения, среди которых «частичные влечения», основанные на «эротизации взгляда», вуайеризме и эксгибиционизме. Использование медицинского вмешательства в качестве юридического и административного средства контроля над визуальной культурой будет отныне охватывать сферу аномалий не только предмета, но и субъекта, не только демонстрируемые уродства, но и направленные на них взгляды, не только влечение, вызванное любопытством, но и психологическую характеристику того, кто ему поддается. Любопытство по отношению к человеческим монстрам, проявляемое вне медицинской сферы, будет теперь восприниматься как порочное, аморальное и извращенное: нарушение, заслуживающее наказания с точки зрения закона, оказывается в то же время психологическим отклонением с точки зрения нормы.
В завершение разговора стоит подчеркнуть, что генеалогия правового и медицинского запрета на демонстрацию анормального позволяет, напротив, увидеть, что в основе самого принципа психопатологической классификации извращений лежит большое желание криминализировать визуальный интерес. Оно же проистекает одновременно как из политических и социальных опасений, вызванных демонстрацией анормального, или из страха вырождения, так и из чистого стремления к получению медицинских знаний[661]. Стоит ли удивляться подобному смешению? Шарль Ласег, автор опубликованного в 1877 году первого крупного трактата медицинско–правового характера, посвященного эксгибиционизму, был одновременно первым главным врачом камеры заключения при «специальной поликлинике» префектуры полиции Парижа.
4. Изобретение понятия «ограниченной трудоспособности»
Монструозное тело, демонстрация которого оказалась запрещена в результате политики по надзору за зрелищами, а существование поддерживалось за счет сострадания публики, постепенно покидало сферу общественных развлечений. Восприятие человеческого уродства, долгое время отождествлявшееся с образом монстра, начинает дифференцироваться: увечное тело все больше отделяется от тела монструозного и становится объектом медицинских забот, связанных с реабилитацией инвалидов. Возникнув в конце XVIII века в рамках медицины эпохи Просвещения в отношении слепых и глухих людей, эта идея в течение XIX века распространилась и на физические увечья, способствуя открытию все большего числа ортопедических учреждений и созданию соответствующих техник, развивая реадаптацию (включение в общественную и социальную жизнь) с помощью труда, ускоряя придание светского и государственного характера помощи тем, чьи тела приобрели некоторый физический недостаток[662]. В конце концов это привело к изданию 14 июля 1905 года закона, предусматривающего определенные виды помощи «тем, кого постигло увечье или болезнь, признанная неизлечимой». Это тесно связано с развитием демократического эгалитаризма, в рамках которого отныне сокращалось число ранее считавшихся неизлечимыми увечий, так как они воспринимались как следствие «естественного» неравенства между телами.
Однако сразу же после I Мировой войны признание увечности среди других социальных норм восприятия тела становится более отчетливым. Возвращение в городское общество многочисленных калек, распространение практики ампутаций, зрелище лишенных конечностей тел и ежедневное созерцание трупов, усиление психической травмы и физических страданий помещают обезображивание и уязвимость тела в центр перцептивной культуры[663]. Масса инвалидов войны присоединяется ко множеству пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, обеспечение которых предполагает закон, изданный 9 апреля 1898 года: как в одном, так и в другом случае речь идет о поддержке, включающей необходимость возмещения ущерба, признание ответственности и коллективной солидарности, а также защиту со стороны государства[664], участие которого в данном вопросе в течение 1920‑х годов растет за счет совокупности мер по интеграции, переквалификации и реабилитации инвалидов[665]. Телесные дефекты сразу же попадают в сферу моральной виновности и ответственности, а также становятся частью медицинской и социальной культуры, связанной с возмещением ущерба. Общество признает свою ответственность перед тем, кто заплатил тяжелую дань собственным телом, предлагая ему взамен протез вместо ампутированной конечности и социальное восстановление в правах. XIX век разграничивает монстра и калеку, берясь за реабилитацию последнего. В межвоенные годы инвалид был подменен калекой, а в инвалидности теперь видели лишь «недостаток, который необходимо компенсировать, проявление слабости, которую необходимо устранить. Это смещение будет свойственно новому дискурсу, основанному на представлении об „ограничении трудоспособности”. В конце концов, это общее понятие: оно охватывает всех инвалидов, все формы проявления физических недостатков. В 1920‑е годы происходит переворот и устанавливается новая логическая схема»[666].
Особенное значение подобная логическая схема приобретет после II Мировой войны. Но уже с 1920‑х годов она начинает оказывать своеобразное влияние в сфере массовых развлечений. Согласно ей, за человеческим уродством необходимо распознавать недостаток, который следует компенсировать, а в самом монстре следует видеть себе подобного в становлении. Отныне нельзя больше предаваться вуайеризму с еще недавно столь свойственными ему безжалостной наивностью и игровым безразличием. Таким образом, рассылка почтовых открыток с изображением человеческих диковинок в 1920‑е становится все более редким явлением, сведясь в 1930‑х к единичным случаям, за исключением открыток с изображениями деревень и групп карликов, которым, казалось, вплоть до II Мировой войны ничто не могло помешать собираться вместе и иметь определенный успех[667]. Визуальная культура freak shows не была ликвидирована, особенно в Америке, где ее расцвет (в условиях отсутствия массового сопоставления с телесными уродствами, вызванными войной) не сдерживался. В Европе же ситуация складывалась совершенно по–другому. Здесь необходимо было поддерживать компромисс между зрелищной логикой демонстрации анормального и необходимостью проявления морального сострадания, готового прийти на помощь. Появляются странные почтовые открытки, на которых соединяются «дополняющие друг друга» уродства: слепые и паралитики, «объединенные несчастьем» или «жертвы долга», странствуют по дорогам Франции, следуя странными маршрутами; постановки freak shows совершают трудные и искупительные путешествия.
Итак, наука восстановила монстра в его правах в биологическом отношении, юстиция наделила его правосубъектностью, а усиление чувства сострадания, поддержанное развитием восстановительной медицины, завершило возвращение в человеческое общество тех, кто так долго был из него исключен. Можно, безусловно, определить общие черты этой истории очеловечивания монстров. Однако она была не слишком ясной, часто мрачной, а иногда — трагической.
5. Карлики Освенцима
С конца XIX века до 1940‑х годов как в Европе, так и в Америке развивается евгеника. Этот термин появился в 1883 году, в основе его лежал страх перед «вырождением», о котором уже шла речь. Казалось, что человеческая порода находится под угрозой: качественное и количественное убывание населения, ослабление тел, снижение энергии. Так во Франции, когда потребовалось найти причины военного разгрома и национального краха 1870 года, обнаружилось все увеличивающееся количество «испорченных» людей и дегенератов, а также изобилие изъянов, среди которых патологические признаки туберкулеза, сифилиса и алкоголизма соперничали с разнообразными телесными уродствами[668]. Фрэнсис Гальтон, основатель этого учения, видел в евгенике механизм контроля над факторами, «которые могут поднять или опустить расовые качества будущих поколений», программу, которую его ученик Карл Пирсон сумел резюмировать в до грубости простой фразе: «Избавиться от нежелательных представителей и увеличить число желательных». Двоюродный брат Дарвина имел во Франции как соперников, так и ревностных последователей, готовых изобличать угрозы, проистекающие от смешения кровей, и губительные последствия демократического эгалитаризма. В своих одновременно медицинских и политических программных трудах Шарль Бине–Сангле, Шарль Рише и Алексис Каррель[669] критиковали заботу о слабых и высказывали сожаление о медицинской поддержке, несправедливо оказываемой слабоумным и калекам.
Порок нашей цивилизации, как отмечал Шарль Рише, заключается в игнорировании и даже противодействии «святому закону» неравенства между индивидами и борьбы за выживание, лежащей в основе природного существования.
Те, кто не выдержал и пал, заслуживают этого… <…> их слабость объясняет, подтверждает и оправдывает их падение. К тому же в нашем человеческом обществе самые умные, самые сильные, самые смелые должны взять верх над теми, кто слаб, изнежен и глуп. <…> Однако наша цивилизация столь щедра, что снисходительно относится к посредственностям, защищает больных, трусов, хилых и калечных и окружает заботами слабых, уродливых и слабоумных[670].
Алексис Каррель продолжает:
Жизнь множества слабейших индивидуумов сохранена только благодаря усилиям гигиены и медицины. Увеличение их количества вредно для человеческого рода. Есть единственный способ воспрепятствовать губительному господству слабых. Необходимо увеличивать количество сильных[671].
Склоняющиеся к неомальтузианству врачи, биологи и антропологи, увидевшие в период между двумя войнами в этой программе отражение своих взглядов, заново изобрели тератологию. Под пером Шарля Рише рождались, росли и множились новые монстры: описание аномалий и признаков телесного вырождения безотчетно повторяло древние категории монструозности, взятые «в избытке» и «по умолчанию»[672], сочетало их с патологическими симптомами наследственного сифилиса, сплавляло их с крайними формами проявления умственной отсталости и безумия, смешивало их с чертами, характерными для криминальной деятельности. Известно, что во Франции медицинское сообщество в целом сумело противопоставить совокупность этических, политических и религиозных принципов применению двунаправленной евгенической программы. С «позитивной» стороны, она поощряла отбор и разведение здоровых представителей человеческой породы. А с «негативной» — она боролась с «порчей крови» с помощью половой сегрегации и массовой стерилизации.
С начала XX века и до 1940‑х годов в некоторых американских штатах, в Канаде, в Швейцарии, в Дании издаются и входят в силу законы, предусматривающие стерилизацию «дисгенических» индивидов[673]. Определяются категории населения, которые должны быть подвержены стерилизации. Этот вопрос обсуждается в Англии и в скандинавских странах. Между тем в 1930‑е годы негативная евгеника, направленная на уничтожение, начинает сдавать позиции. Однако в Германии в июле 1933 года издается закон, предусматривающий стерилизацию всех, «чье потомство с большой долей вероятности будет иметь серьезные наследственные отклонения, как физического, так и интеллектуального характера»[674]. Начиная с 1934 года этот закон был применен более 50 000 раз, в том же году он начал действовать также в отношении преступников, сумасшедших и слабоумных, людей с увечьями и уродствами: превентивное истребление, которое окажется предвестием «окончательного решения» ситуации[675].
В 1868 году в селе Розавля, в Трансильвании, в еврейской семье родился ребенок–карлик. Шимшон Овиц страдал от псевдоахондроплазии, формы карликовости, влияющей на рост конечностей[676]. Будучи странствующим раввином, он женился на женщине нормального роста, родившей ему десять детей. Семеро из них унаследовали генетическое свойство отца, благодаря чему Овицы стали самой важной из когда–либо известных семей карликов. После смерти их прародителя его дети, искусные музыканты, основали «Труппу лилипутов». Слава об их «Jazz Band of Liliiput» разрослась, и в 1930‑е годы их ждал большой успех в Румынии, Венгрии и Чехословакии. Их номер стал классикой тератологического бурлеска, ценившегося в то время.
В 1940 году Трансильвания перешла под управление Венгрии и оказалась под контролем Третьего рейха. На ее территории вступили в силу расовые законы последнего. Застигнутые в своем родном селе, Овицы были схвачены и отправлены в Освенцим, куда они прибыли в ночь с 18 на 19 августа 1944 года. Доктор Менгеле, предупрежденный заранее, вышел им навстречу на перрон и, увидев их, по многочисленным свидетельствам, воскликнул: «Теперь у меня работы лет на двадцать!»[677] Освенцим был самой большой в мире генетической лабораторией, ежедневно снабжаемой человеческими подопытными, а Менгеле — ее руководителем. Одержимый идеями наследственности и расовости, поглощенный мыслями о передаче телесных аномалий, он отбирал по их прибытии в лагерь близнецов[678] и карликов — «подопытных кроликов», на лагерном жаргоне, — и ставил над ними вызывавшие невыносимые страдания медицинские опыты, которые были не чем иным, как научным абсурдом. Останки жертв пополняли коллекции расовых патологий и наследственной биологии Института антропологии, человеческой генетики и евгеники имени кайзера Вильгельма:
Я погружал тела инвалидов и карликов в раствор хлористого кальция, я обжигал их в печах, чтобы эти скелеты, подготовленные по всем правилам, можно было, в конце концов, выставлять в музеях Третьего рейха, где они служили бы будущим поколениям, доказывая им необходимость уничтожения представителей «низшей расы»[679].
Овицы выжили, несмотря на пытки, сопровождавшие опыты. Возможно, потому, что совокупность свойственных им аномалий делала их незаменимым предметом исследования для нацистской «генетики». Еврейское происхождение обрекло Овицев на опыты; их карликовость обусловила их выживание. В этом заключается один из мрачных парадоксов Освенцима: здесь излишняя человечность становилась приговором без права обжалования, а монструозность могла стать спасением. Таков был пример Элиаса Линдзина, номера 141565, сумасшедшего карлика, обладавшего нечеловеческой силой, которого встретил в лагере Примо Леви: он предположил даже, что тот был там счастлив[680].
После войны Овицы возобновили свой музыкальный номер, но теперь он носил иное название: Totentanz, пляска смерти. Доктор Менгеле мирно умер на бразильском пляже в 1979 году.
IV. Монструозность, ограничение трудоспособности, отличия
Демонстрация монстров начинает идти на спад сразу же после II Мировой войны. И если причины подобного исчезновения сейчас все более очевидны, то последствия остаются весьма парадоксальны: сфера зрелищ и торговли, связанная с монструозностью, действительно могла процветать, лишь пока идентификация зрителя с объектом демонстрации оставалась слабой или отсутствовала вовсе. Именно в тот момент, когда монструозности был придан человеческий характер, то есть когда балаганный зритель смог разглядеть в уродстве демонстрируемого тела себе подобного, сама такая демонстрация стала в высшей степени проблематична. Это двойственный и сложный исторический переворот в отношении к монструозности, несколько иного порядка, чем тот, развитие которого мы видели в XIX веке, а результат — в первой половине следующего — привел к отказу от традиционных средств демонстрации анормального. Но монструозные зрелища имеют слишком древнюю антропологическую основу и отвечают слишком глубоким психологическим потребностям, чтобы так просто исчезнуть. В течение XX века могло лишь поддерживаться уже установившееся положение между зрителем человеческих аномалий и объектом его внимания, заключающееся в разнообразных способах отстранения. Об истории различных форм психологической, технологической и социальной отстраненности, появившихся в течение века в сфере отношения к монструозности, а также о масштабах их парадоксальности, нам бы и хотелось упомянуть в конце разговора. Начать стоит с происходящих с начала века изменений вкусов и состава публики, проявляющей все большее охлаждение к балаганам.
1. Конец балаганов
При чтении обозрений ярмарочных празднеств того времени становится очевиден упадок зрелищ, основанных за истощении и развращении демонстрируемого тела. На празднике в Нёйи в 1910 году обнаруживаются «три уставшие женщины, с вялыми телами, в трико борцов»[681]. Далее демонстрируются человеческие диковинки и «живые картинки»: за кассой съежилась старая женщина, одетая в черное. На эстраде выступает согнутый в три погибели горбун. Что касается «красоты греческого тела»: «это были бедные уставшие девушки, с осунувшимися лицами, неумело накрашенные… с застывшими, безвольными и вялыми взглядами»[682]. Описание традиционных мест массовых увеселений в период между двумя войнами представляло собой длинный некролог, изображающий мрачную процессию изнуренных актеров, трогающих до глубины души. Время от времени в прессе сообщалось о печальной кончине ярмарочных диковинок и престарелых ярмарочных актеров.
Подобные взгляды, несомненно, отражали социальное суждение тех, кто их высказывал. Таким образом, можно говорить о разделении публики, которую так долго объединяло общее любопытство к ярмарочным феноменам. «Нёйи, где парижанам предлагался единственный настоящий праздник, наводняли самые низшие слои населения, чернь»[683]. «Приличные люди», почтенные представители мелкой буржуазии и празднично одетая публика «уступила место всякому отребью, основную массу которого составляло безработное трудоспособное население»[684]. Об этом настойчиво говорит смена точки зрения в описаниях обозревателей ярмарочных балаганов: постепенно они переводят взгляд со сцены, чтобы рассмотреть зал. Это классическая стратегия установления визуального различия: «хороший вкус» буржуазного наблюдателя вынуждает его к отстраненности. Если он желает получить удовольствие от массового развлечения, ему необходимо выделить себя из толпы зрителей, чтобы отгородиться от нее. Запах, грязь, шум толпы становятся такими же элементами зрелища, как и демонстрируемые на подмостках анатомические странности. Таков результат процесса социального отказа от «пошлости» во имя «вкуса», завершающий движение по установлению контроля над общественной досуговой культурой, первые попытки которого, как мы видели, обнаруживаются уже во второй половине XIX века: «Я заплатил шесть су, чтобы зайти в числе первых. Балаган был почти полон… <…> Я встал в углу: одним глазом я наблюдал за спектаклем, другим же — рассматривал зал»[685].
Итак, после II Мировой войны в визуальной культуре развлечений происходит переворот. Ярмарочные театры один за другим закрывают свои двери, балаганы постепенно лишаются обитателей, зрителей становится все меньше. Такое изменение визуальных вкусов сопровождается экономической эволюцией ярмарочных развлечений: ярмарка индустриализируется ценой небывалых трансформаций. Число ярмарочных актеров на Тронной ярмарке, при той же выручке, с 1880 по 1900 годы сокращается вчетверо[686], по мере того как развивается механизация и электрификация аттракционов. Телесные удовольствия также претерпевают изменения: улица Кур де Венсен теперь удовлетворяет скорее не визуальные потребности неподвижного зрителя, а желание испытать пробирающую до дрожи скорость, головокружительные падения, силу столкновений: «В этих бочках на колесиках получаешь такие толчки, что при каждом ударе одной об другую глаза чуть не вылезают из орбит. Каких вам еще радостей! Шутка пополам с насилием! Вся гамма наслаждений!»[687]
Приходит конец демонстрации анормального в тех формах, которые господствовали в сфере зрелищ со второй половины XIX века до начала 1930‑х годов. Человеческие зоопарки исчезают к 1931–1932 годам, анатомический музей «доктора» Шпицнера дает последнюю гастроль в 1939 году. Среди ста одного ярмарочного аттракциона, представленного на празднике в Сен–Клу в 1920 году, едва найдется пара балаганов и один анатомический музей, затерянные среди многочисленных манежей, тиров, кондитерских и лотерейных киосков.[688] Если в период с 1935 по 1938 год на ежегодных лионских «гуляньях» в среднем давалось 40 представлений с участием живых феноменов, то в период с 1939 по 1942 год их было уже 23, с 1943 по 1947 год — лишь 2 или 3[689]. Затем их следы теряются. Действительно, больше не подается ни одного прошения о получении разрешения на демонстрацию монстров, за исключением банального случая с парой карликов в 1944 году[690] или в 1950‑е — 1960‑е годы более необычной истории с «двухголовой женщиной» бельгийского происхождения, одна из голов которой, как позже выяснилось, была сделана из картона[691]. И если и росло число протестов местных жителей, заваливавших заявлениями канцелярии местных властей, то их главным предметом было далеко не «бессмертие» подобных зрелищ, а скорее неудобства городского характера, которые вызывали народные гуляния: шум «ревущих по ночам громкоговорителей», смрад мочи, замусоривание общественных мест[692]. Ярмарочные празднества, за неимением предмета, перестают представлять проблему с точки зрения контроля нравов, но создают новые проблемы, связанные с городским движением и «общественным здоровьем», что отмечает в 1955 году квартальный врач Красного Креста[693]. В то же время муниципальные власти все больше сокращают число и продолжительность существующих празднеств, и выдворяют их все дальше за границы города. В Париже число ярмарок уменьшается с 40 в начале 1920‑х годов до 13 в 1929‑м. Эйфория периода Освобождения приведет к некоторому увеличению их количества, но начиная с 1950‑х их число снова начнет резко сокращаться[694]. В Лионе в 1899 году было организовано 34 празднества, в 1934‑м — 26, в 1956‑м — 5 празднеств и одна благотворительная ярмарка[695], еще меньше в 1971 году, когда мэр города предложил ярмарочным артистам отправиться развлекать неблагополучные пригороды[696]. Ярмарочный праздник отныне становится досугом для бедных. «Существование ярмарочных гуляний — это настоящий анахронизм», — говорится в 1954 году в муниципальном рапорте, требующем их упразднения[697]. Что касается балаганов, то они полностью исчезают: последние ярмарки, где демонстрировались живые феномены, в конце 1940‑х были вынуждены сменить название и суть своей «индустрии».
Эта эволюция тесно связана с тем, что происходит в области freak shows, и показывает, что в обеих сферах задействованы сходные факторы. Dime museums (общедоступные музеи), где монстры оставались гвоздем программы, и которые в сердце больших американских городов сохраняли наследие Барнума, были на пике популярности в 1880‑е — 1890‑е годы, после чего с первого десятилетия XX века начался их постепенный упадок, еще усилившийся после I Мировой войны. В те времена конкуренцию им составляли большие передвижные цирки, с их парадами монстров, carnivals (карнавалы, ярмарки с аттракционами), и периодические скопления человеческих диковинок на midway (аллея аттракционов) на Всемирных выставках или же собираемых на постоянной основе в первых парках аттракционов, организуемых вблизи городов, каким был, например, нью–йоркский Кони–Айленд. Как и в Европе, эти тератологические развлечения в течение 1930‑х — 1940‑х годов переживали растущее охлаждение публики, что привело к их полному исчезновению в послевоенный период, несмотря на некоторые остаточные явления[698]. Действительно, монстры больше не приносили дохода.
2. Последние монстры
Если быть точнее, им суждено было пережить возрождение в другом месте и иметь успех в другой форме. Писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд получил тяжелый опыт, когда как–то в октябре 1931 года отправился в студию Metro–Goldwyn–Mayer, чтобы обсудить сценарий. Зайдя в столовую киностудии, он, потеряв аппетит, поспешил оттуда выйти[699]. Ему довелось столкнуться нос к носу с труппой актеров фильма «Уродцы», который Ирвинг Тальберг, один из руководителей MGM, предчувствуя наступающую в кино «эпоху ужасов», поручил снимать Тоду Браунингу: все то, что Америка начала 1930‑х годов все еще считала живыми феноменами, возродилось здесь, на съемках.
Кинематограф был изобретен на рубеже веков, и вскоре монстры покинули балаганы, чтобы утвердиться на киноэкранах. Пока в первые два десятилетия XX века не увеличилось количество передвижных кинотеатров, ярмарки оставались основным местом, где монструозное тело превращалось в светотеневые образы[700]. Внимательный анализ ярмарочных увеселений позволяет говорить об этом еще с конца XIX века: визуальные предпочтения публики меняются, и на смену остывающему любопытству по отношению к тератологическим демонстрациям, вызывающим теперь отвращение, постепенно приходит интерес к оптическим иллюзиям, количество и разнообразие которых непрерывно увеличивается. В момент, когда человеческие монстры уже были готовы удалиться из поля зрения публики, различные зеркальные установки и прочие хитроумные осветительные механизмы начинают демонстрировать на ярмарочных экранах все разнообразие их уродств. Тела, лишенные своей телесности, превращаются в световые иллюзии: балаганы заполняются призраками[701], из темноты выплывают скелеты, высвеченные рентгеновскими лучами[702]. Это превращение тел в образы на ярмарках и в музеях редкостей позволяет предложить в дематериализованной форме, одновременно отстраненной и реалистичной, зрелище, которое общество неспособно более воспринимать напрямую в его грубой форме. Зрители вводятся в мир визуальных условностей, где оскорбительные, а вскоре и запрещенные, предметы демонстрации заменяются иллюзиями. По мере того как уходит в прошлое публичная смертная казнь, ярмарки и музеи заполняются «говорящими головами»[703], женщинами без голов и головами без женщин. В то время как морги закрывают свои двери перед длинными очередями любопытных, желающих содрогнуться при виде трупов со следами разнузданного преступного насилия, ярмарочные театры предлагают зрителям все формы жестокости, проявленной в оптической форме, по отношению к женскому телу, которое прямо на сцене распиливается, протыкается и разделяется на части[704]. И в балаганах снова оживают монстры: «женщины–пауки»[705] подстерегают свою добычу, на экране оживают «оптические» карлики. Тела, освобожденные от всякой анатомической условности, обрастают новыми членами: появляются двухголовые и трехголовые[706] женщины, трехногие монстры… Кроме того, подобная дематериализация трупов, пыток и монстров предполагает счастливое разрешение ситуации: обезглавленные рассказывают зрителям свою печальную судьбу, ящики иллюзионистов чудесным образом делают тела снова целыми, в отличие от сундука из дела Гуффэ[707]; иллюзорные аномалии рассеиваются в то же мгновение, когда в зале зажигается свет. Смерть, увечья и монструозность отныне перестают быть необратимыми.
Тело, таким образом, получило вторую жизнь, длительность и сложность которой кинематограф с самого начала будет лишь увеличивать. Кино продолжает и совершенствует ярмарочное иллюзионное искусство. Жорж Мельес, студия которого стала первой лабораторией спецэффектов, был выходцем из ярмарочного мира, как и Тод Браунинг, который на своем опыте подтвердил переход от ярмарочного трюкачества к голливудскому мастерству[708]. Он перепробовал все ярмарочные профессии: зазывалы, клоуна, пластического акробата. Ему даже довелось играть роль «живого загипнотизированного трупа» в «путешествующем речном шоу» на Миссисипи, где каждый вечер его хоронили, чтобы на следующий день он ожил. Что–то от ярмарочной культуры он взял с собой в Голливуд, где его ждала короткая и печальная карьера. Его сотрудничество с многоликим актером Лоном Чейни, «человеком с тысячей лиц», можно рассматривать как длительный эксперимент, связанный с кинематографическими преобразованиями аномалий[709]. Успех Браунингу обеспечили фильмы ужасов, стремительное развитие которых среди других жанров раннего кинематографа дополнительно подчеркивает, если в этом есть необходимость, связь между ним и ярмарочной культурой ужасов и кровавой театральностью парижского театра ужасов «Гран–Гиньоль». Потрясение, вызванное в 1919 году фильмом «Кабинет доктора Калигари», а затем в 1922 году фильмом «Носферату» Мурнау, утверждает в визуальной культуре 1920‑х жанр, который быстро осваивает образы известных монстров, в буквальном смысле слова «возвращающихся», вновь и вновь появляющихся на большом экране, а позже и на экране телевизора: Франкенштейн, доктор Джекил и мистер Хайд, Дракула… Именно успех его фильма «Дракула», снятого в 1931 году для студии Universal с Белой Лугоши в главной роли, и обеспечил Браунингу заказ на «Уродцев»[710]. Он дал обещание студии снять «самый страшный фильм ужасов». И он сдержал свое обещание.
Однако не совсем так, как предполагали заказчики. «Я хотел получить что–то страшное… Я получил, что хотел», — сокрушался Ирвинг Тальберг, читая в первый раз сценарий[711]. «Уродцы» — это фильм, не поддающийся классификации, уникальное явление в истории кинематографа, полностью ломающее представление об успокаивающей условности страха в традиционных фильмах ужаса. Но одновременно в этой картине можно обнаружить и нечто иное: важную веху в истории представления анормального тела, пограничную черту в истории восприятия человеческого уродства.
История, между тем, кажется довольно простой: цирковой карлик влюблен в прекрасную наездницу. Она же намерена извлечь из этого выгоду и присвоить все его состояние при пособничестве ярмарочного Геркулеса. План терпит крах благодаря беспримерной взаимопомощи феноменов из side show: заговор раскрыт, виновные наказаны. Мораль фильма отвечает происходящей в это время эволюции чувственности: физическая красота может скрывать за собой моральное уродство, а телесное несовершенство — таить человеческие чувства. Но неожиданно ситуация усложняется и фильм заносит, как те поваленные в грязь цирковые повозки, которые служат декором финальной фантастической сцены. Ведь тот факт, что в актерский состав этого фильма вошли максимально разнообразные представители человеческих монстров, увеличивал количество технических и художественных трудностей: в 1932 году никто, кроме Тода Браунинга, не желал видеть на экране целую процессию тератологических образчиков, достойных музея Барнума.
Конечно, и Джин Харлоу, и Мирна Лой, обе отказавшиеся от главной роли, не без основания полагали, что обмен репликами с артисткой–гермафродитом Жозефиной Джозеф или «человеком–гусеницей» Принцем Рандианом вряд ли поспособствует активному продвижению их карьеры[712]. Того же мнения придерживался и сам директор студии Луис Майер, несколько раз собиравшийся прервать съемки. Даже техники отказывались принимать пищу в этом странном обществе и заваливали профсоюз заявлениями.
Но основная трудность заключалась в самой природе фильма, несущего в себе все противоречия и двусмысленные прочтения эпохи культурного перелома: в то время как кинематограф оказался способен ответить на запросы новой чувственности, требовавшей погружения в мир отстраненного созерцания человеческих уродств, «Уродцы» создали визуальный мир предельного тератологического реализма, сымитировали свойственную ярмарочному вуайеризму близкую дистанцию. Киноэкран был заполнен монстрами, Браунинг будто поместил зрителя в зал freak show. Поэтому нет ничего удивительного, что длинный пролог, добавленный постфактум, напоминал об обязательной в 1930‑х годах теме сострадания: «Опаска, с которой мы смотрим на необычных людей, уродов и калек, обуславливается наследием наших предков. Сами монстры в своем большинстве способны на нормальные мысли и эмоции. Их судьба трогает до глубины души»[713]. Однако финальная мрачная сцена лишает это воззвание силы: феномены упорно ползут в грязи, стремясь окружить своих жертв, уничтожить Геркулеса, а красотке придать такую внешность, которая отражала бы коварство ее души, сделать из нее изуродованную и гротескную женщину–птицу, диковинку из freak show. Монстры человечны, потому что страдают, говорит первый кадр фильма. Но они монстры, потому что жестоки, — заключает последний.
В этом заключается мрачная проницательность Тода Браунинга: «Уродцы» позволяют распознать за видимым подъемом сострадания по отношению к физическим недостаткам людей обратный вектор движения, подразумевающий все еще свежий ярмарочный вуайеризм, любопытство, страх и отвращение, которые еще недавно вызывали цирковые феномены. В этом смысле «Уродцы» представляют собой — как и «Человек–слон» Линча, но, как мы увидим позже, в совершенно иной форме — точку отсчета, фильм–основоположник, где рассматривается изменение представлений о человеческом уродстве в создании культуры массовых развлечений. Тод Браунинг напоминает нам: человеческие монстры здесь на первых ролях, ярмарка — это колыбель кинематографа, а Голливуд — побочный ребенок Барнума.
В Америке эпохи Великой депрессии эти истины еще не были в полной мере осознаны. Фильм потерпел полный финансовый провал, став предвестием конца кинематографической карьеры Браунинга. Он произвел большое зрительное потрясение, был подвержен цензуре и вызвал шквал критики: «Для подобного фильма нет никакого извинения. Нужно быть слабоумным, чтобы его снять, и нужно иметь крепкий желудок, чтобы его смотреть»[714]. Эти осуждения, звучащие одновременно и в унисон с настойчивыми требованиями запрета на демонстрацию уродств на европейской сцене, говорят о крепнущем единстве западного культурного пространства по отношению к продукции индустрии развлечений. Создание и массовое распространение культурного продукта, урбанизация публики, систематизация технологии производства образов предопределяют ожидания, стандартизируют способы восприятия, унифицируют эмоциональный отклик: «фабрика грез» создает современного зрителя.
В этом отношении «Уродцы» представляют собой двойной протест. С одной стороны, в Америке, как и в Европе, критики твердят о том, что подобное зрелище может быть обосновано лишь с медицинской точки зрения: «Трудность состоит в том, — пишет The New York Times, — чтобы решить, должен ли этот фильм быть показан в „Риальто”[715] или, скажем, в Медицинском центре»[716]. С другой стороны, в газетах высказываются сожаления о том, что отождествление зрителя с кем–либо из этой галереи человеческих уродств попросту невозможно: «Эта история не увлекает и в то же время не вызывает интереса, поскольку невозможно, чтобы нормальные мужчина или женщина прониклись симпатией к воздыханиям карлика»[717]. Слишком эфемерно это сострадание, испытываемое по отношению к человеческим уродствам: лучше всего оно проявляется при их отсутствии и исчезает при малейшем их физическом проявлении. Кинематографу необходимо будет создать иную условность, установить иную дистанцию, изобрести монструозность без монстров, чтобы освободить зрителя от этой неловкости: необходимо успокоить и растрогать толпу.
3. Кино уродов
Необычные актеры Браунинга с тех пор были преданы забвению, из которого вернулись намного позже, когда в 1960‑х годах фильм был открыт заново. Его провал как эхо отразил закрытие балаганов и завершил эпоху демонстрации анормального, которую столетием ранее Ф. Т. Барнум начал торжественным открытием своего Американского музея.
Определенная нетерпимость во взглядах не привела, однако, к исчезновению монструозных зрелищ: они являют константу, антропологическую необходимость. В этом отношении заманчиво сопоставить культурный и финансовый провал Браунинга с громким общественным и коммерческим успехом другого фильма, который был впервые показан в Нью–Йорке годом позже, 2 марта 1933 года. Его звездой стал опять же монстр, однако совершенно иной природы: теперь это не «настоящее» человеческое тело, пугающее с экрана своей тератологической необычностью, а тело–иллюзия — гигантская горилла, обладающая невероятной силой, Кинг–Конг, «восьмое чудо света», придуманное Мерианом Купером и Эрнестом Шодсаком и воплощенное мэтром спецэффектов Уиллисом О’Брайеном[718].
«Уродцы», фильм–завещание, одинокий и не имеющий наследников, в последний раз вывел на сцену настоящих людей–монстров[719] в тот момент, когда автоматические машины начали захватывать власть в царстве иллюзий, которое с тех пор будет лишь безостановочно пополняться новыми монструозными артефактами: в пересечении судеб этих двух кинематографических продуктов есть нечто большее, чем просто временное совпадение, это следствие раскола, происходящего в это время в восприятии человеческого уродства.
Развитие в период между двумя войнами представлений о физической нетрудоспособности помещает их в сферу чувств и практик, запрещающих отныне превращать их в объект демонстрации: эти чувства проистекают из морального долга, предполагающего скромные взгляды и использование в речи эвфемизмов. Представляется, что монструозные черты, за которыми не распознается их телесная и человечная природа, начинают проявляться в зрелищной сфере, чтобы добиться в ней самостоятельного существования: движимые развитием кинематографических технологий, они достигают гиперболических форм по мере того, как ослабевает ощущение инаковости в восприятии человеческой монструозности. Преувеличенная необычность монстров на киноэкране, так же как и чувства, которые они вызывают (удивление, изумление, ужас, отвращение…), по сути противоположны смягченному восприятию телесных уродств человека в общественной жизни, растущему их рассредоточению в форме небольших отличий, «бледным монстрам» с телесными аномалиями, а также сопутствующим им чувствам и практикам: чувство вины, стеснение, желание их избежать… Вот почему «Кинг–Конг» появляется на сцене в тот момент, когда монстры Браунинга ее покидают. Ему придется обезьянничать в самом прямом смысле слова, изображать то, чему человеческое уродство так долго было единственной опорой и для чего оно больше не будет объектом зрелища.
Монструозные киноподобия с этого времени всегда будут восприниматься как инструмент для управления массовыми эмоциями. Однако множество фиктивных уродств, порожденных индустрией спецэффектов, столь обширно, что мы не рискнем углубляться здесь в детали их истории, а ограничимся лишь кратким обзором их основных функций.
Прежде всего монстры повергают в ужас: вновь обретая свою судьбу, они воплощают коллективные страхи и позволяют он них избавиться через катарсис. Потомки Кинг–Конга продолжают древнюю традицию пророческих предзнаменований, представляя практически исчерпывающий перечень катастроф XX века: войны, эпидемии, экономические депрессии и научные безумства — все это порождает своих монстров. Начиная с 1920‑х бесчисленные ремейки «Франкенштейна» и «Доктора Джекила», а также постановки «Острова доктора Моро» отмечают усиление беспокойства в отношении медицинского всемогущества. Годзилла возникает из страха перед атомной радиацией в послевоенной Японии, в то время как марсианские захватчики через противостояние миров отражают опасения холодной войны. Мысли о заражении крови в середине 1980‑х годов пробудят задремавших было вампиров, тогда как страх перед грозящей неизвестностью, пронизывающий межзвездное пространство, наполнит космические корабли толпами «чужих». Они лишь ненамного опередят плотоядных динозавров, которые появятся в 1990‑х годах из страха перед генетическими опытами[720].
И хотя монстры исчезли, монструозного становится только больше: на смену периодическому появлению тела на сцене балагана постепенно приходит сплошной поток образов, скорость которого лишь увеличивается с переходом от широкого экрана к телевидению. Предлагающие очищение от коллективных страхов зрелища, которые называют фильмами ужасов, становятся непрерывными. Но сила потрясения, которую они вызывают, намного скромнее, чем та, которая еще недавно возникала при одном только появлении живых феноменов. Обреченная на вечное повторение, виртуальная киномонструозность будоражит лишь для того, чтобы сильнее ободрить, никогда не давая зрителю избавиться от ощущения дежавю.
И это не последний ее парадокс. Демонстрируемые в кинозалах тератологические мутации, лишенные сковывавших их телесных оболочек и сохраняющие оптимальную дистанцию, отличаются невероятной гибкостью отображения: монструозные иллюзии не только ободряют, но также и берут за душу. «Уродцам» был необходим длинный пролог, чтобы напомнить зрителям о том, что аттракционы «шоу уродов» одновременно являются человеческими существами. Кинг–Конг в этом отношении ушел значительно дальше, так как никто не сомневается: речь идет «о теле гориллы и о душе человека»[721]. Идентификация зрителя с героем упрощается, сопереживание усиливается, когда демонстрируется страдание, выражаемое обезьяноподобным автоматом, а не транслируемое монструозностью человеческого тела. «Я хотел заставить женщин плакать над его судьбой еще до того, как я с ним расправлюсь»[722], — повторял Мервин Купер, говоря о созданном им существе. Кинематографическая иллюзия пришлась как нельзя кстати, избавляя зрителя от нежелательного теперь созерцания человеческих уродств и утверждая принцип образного беззакония в вопросе сострадания.
С тех пор представление монструозного в кино начало в полной мере играть роль массового транквилизатора. Так, например, Кинг–Конг, пережив череду ремейков, растерял большую часть своей изначальной грубости, пока, наконец, не превратился в добродушную плюшевую игрушку в версии, снятой в 1976 году Джоном Гиллермином[723]. Но настоящий переворот в деле «подслащения» монструозного образа произойдет с созданием студии Disney и выходом в 1938 году ее первого полнометражного фильма «Белоснежка и семь гномов»[724]. Дисней, без всякого сомнения, — наследник Барнума: тот же коммерческий гений, такой же организаторский талант, то же понимание рекламы. Однако это Барнум, который спустя век осознал, что пришло самое время выпустить семерых эстрадных карликов, намекающих на freak shows, но ввести их в переосмысленном виде в стерилизованное пространство рисованной анимации, предназначенной для детей. Заслуга Диснея, надо признать, в том, что он довел до апогея торговлю монстрами, в чем Барнум, как теперь становится очевидно, делал лишь первые шаги. С 1940‑х годов он будет получать доход, создав индустрию связанной с кино продукции, и преобразует монструозные образы в удобные для всех предметы, продавая их «во всех формах, какие только можно вообразить: куклы, конфеты, настольные часы, целлулоидные игрушки, шоколадные плитки, альбомы, картинки, платки, белье, трикотаж»[725], темы для парка аттракционов.
Коммерческий успех, сопутствовавший предприятию Диснея в течение второй половины XX века, говорит об окончательном разделении демонстрации человеческих уродств, имеющей далекие карнавальные корни, а проявляющийся на индустриальном уровне уход от чувственных ощущений, еще недавно стремившихся к перцептивному потрясению от созерцания анормального тела, — о вступлении в финальную стадию массовой пастеризации народной культуры. Монстры отныне делятся на милых инопланетян и добродушных людоедов. И именно они, герои самых успешных образцов детской литературы и анимационной кинематографии, пугают сегодня детей[726].
4. Архипелаг различий
В этой весьма ровной и дружелюбной череде монструозных развлечений фильм «Человек–слон» Дэвида Линча, кажется, представляет исключение. В этом фильме человеческие монстры вновь обнаруживаются на сцене side show, где их оставил Тод Браунинг. Необходимо написать продолжение их истории: приходит пора медицины, основанной на жалости. В то время как она признает себя неспособной вылечить того, кого поразило самое жуткое уродство, она пытается все же оказать ему содействие. «Если речь идет об умном человеке, заключенном в тело монстра, — объясняет Фредерик Тривз, — я ощущаю моральную обязанность помочь освободить этот ум, освободить эту душу, насколько я могу, помочь этому человеку жить настолько полной и удовлетворительной жизнью, насколько это возможно»[727]. Через трагическую судьбу человека–слона в фильме показано происхождение представлений о монструозности, кратко изложены научные и моральные аспекты того пути, который привел героя от ярмарочной эксплуатации к медицинской поддержке. В финальной сцене, где Джозеф Меррик избавляется от страданий, умирая в своей постели в Лондонском госпитале, Линч стремится изобразить мирный конец беспокойного мира вымыслов, связанных с монстрами. «Наука может породить монстров», — пророчествовала Мэри Шелли, написавшая первое подобное сочинение в начале XIX века. Линч возразит — в конце следующего, — что наука может их спасти.
Но хотя история правдива, монстр человечен, а визуальное восприятие монструозности реалистично, тщательная историческая адаптация не должна вводить в заблуждение: произведение Линча все же несет на себе отпечаток своего времени, начала 1980‑х, и потому передает викторианскую чувственность слишком постановочно. «Господин Меррик, Вы совсем не человек–слон», — пишет госпожа Кендал, знаменитая актриса, которую пленила тонкость души, спрятанной за телесными деформациями. — О, нет!.. Нет!.. Вы — Ромео!»[728] Монструозность зависит от того, как на нее смотрят. Она не настолько охватывает тело монстра, насколько пронизывает взгляд наблюдателя.
В основе этой идеи лежит изменение широты взгляда на физическое уродство и вообще телесные дефекты. Это изменение становится все более заметно в течение 1960‑х — 1970‑х годов. Широта взгляда возникает в рамках мощного движения за уничтожение различий, что Токвиль определил как главный принцип демократического общества. Ее появление подготавливают выходящие после окончания II Мировой войны многочисленные законы и административные постановления, касающиеся лиц с ограниченной трудоспособностью[729]. Происходящее тогда же, с конца 1950‑х и до начала 1980‑х годов, переопределение понятия ограниченной трудоспособности, принятие мер по восстановлению в правах инвалидов, так же как и создание многочисленных организаций, борющихся за эти права, становятся верным отражением этой идеи и ее движущим фактором[730]. Ее развитие приведет к изданию массы законов, которые, одновременно с усилением в течение 1990‑х годов степени государственного вмешательства, как в Европе, так и в США, утвердят права инвалидов, установят ответственность за их дискриминацию, усилят меры их поддержки[731].
Два произведения, автор одного из которых — социолог, а другого — фотограф, особенно отчетливо демонстрируют это изменение взгляда на анормальное тело, это стремление изъять уродливое, увечное, немощное тело из монструозного состояния инаковости и утвердить его включение в общество обычных тел. В начале 1960‑х, в то время как Ирвинг Гоффман заканчивает редактировать свою «Стигму»[732], потрясенная Диана Арбус открывает для себя «Уродцев» Тода Браунинга в кинотеатре одного из кварталов Нью–Йорка[733]. Арбус покажет то, что Гоффман видит и анализирует: анормальное — это лишь вопрос восприятия, стигма существует во взгляде того, кто наблюдает[734][735].
Это смещение взгляда имеет кардинальные последствия: отклонение, монструозная деформация «денатурализируются», извлекаются из анормального тела, чтобы стать предметом восприятия при «смешанных контактах», когда «стигматизированные люди и нормальные оказываются в одной „социальной ситуации”, то есть испытывают физическое присутствие друг друга»[736]. Вызывая десоматизацию, уродство превращается в итоге в проблему коммуникации, ведет к социальной патологии взаимодействия с ее неизбежными последствиями: смущением, стремлением избежать встречи, дискомфортом, отрицанием другого человека, демонстрацией одного «из способов, которым обычное взаимодействие лицом к лицу может выйти из–под контроля»[737], — то есть уничтожением — и даже с отрицанием — права любого человека на включение в социальные связи[738].
Таким образом, будучи изолированной от тела, аномалия приобретает психологическое значение — «сейчас этот термин… не столько обозначает знак на теле, сколько указывает на постыдный статус индивида как таковой»[739], — оно распространяется, рассредоточивается и придает инвалидности поистине всеобъемлющий масштаб.
Можно назвать три существенно различающихся вида стигмы. Во–первых, есть телесное уродство — разного рода физические отклонения. Во–вторых, есть недостатки индивидуального характера — такие, как слабая воля, неконтролируемые или неестественные страсти. <…> Наконец, есть родовая стигма расы, национальности и религии…[740]
Последствия такого смещения, затрагивающего современные нормы телесных форм идентичности, весьма существенны. Различия между физическими отклонениями, психическими аномалиями, принадлежностью к социальным меньшинствам постепенно стираются: все стигматизируется. Над всем этим находится разграничение нормального и анормального, которое сглаживается за счет расширения представлений об инвалидности: «Если необходимо определить стигматизированного индивида как девианта, безусловно, лучше его назвать нормальным девиантом» (курсив наш)[741].
Формирование массового общества потребовало утверждения представлений о телесной норме, для которой демонстрируемая монструозность стала подтверждающей ее антимоделью. С усилением ее демократического характера сокращаются нормативные различия, стирается соматическая иерархия, в норму включаются совершенно противоположные идентифицирующие черты. В обществе «нормальных девиантов», обладающих лишь временной телесной полноценностью (temporarily abled body), переосмысление телесных норм делает из каждого человека временного не–инвалида: «Проблема теперь не в том, имеет ли конкретный человек опыт стигмы, а в том, насколько разнообразно она проявляется»[742]. Согласно данным Национального совета по делам инвалидов, в 2001 году 49 миллионов американцев имели физические или умственные отклонения. Инвалидность — это нормальная жизненная характеристика, одно из человеческих состояний. Инвалидность стремится стать нормой.
Происходящее сейчас перераспределение границ между нормой и анормальным состоянием имеет широкое влияние на визуальное восприятие тела. Прежде всего это относится к сфере социального взаимодействия: действительно, оно все более явно проникается идеей умышленного невнимания, формой гражданского невнимания[743], основанного на стремлении сократить зрительные контакты, избежать взаимодействия, ограничить способы и время созерцания людьми тел друг друга, что является продолжением давнего процесса установления дистанции между телами, который Норберт Элиас определил как первую современную форму общественной жизни. Это не могло обойтись также без последствий юридического характера: понятно, что формулирование подобных требований было несовместимо с дальнейшей демонстрацией человеческих уродств. Теперь она была подчинена законному регулированию в знак уважения к достоинству личности: тератологические зрелища преследовались по закону[744], упорное анахроническое использование в постановках карликов теперь запрещалось[745]. Но сверх того, определение форм зрительной дискриминации распространяется отныне и на рядовые жизненные ситуации и проявление лукизма (lookism), разделения по внешности[746]. В своих самых крайних проявлениях эти тенденции стремятся скорректировать визуальное восприятие, призывая закрыть глаза на внешние особенности тела другого человека, а также призывают к запрету определенных слов, что делает речь более эвфемистичной и изгоняет из языка любой намек на вербальную дискриминацию[747]. Сегодняшняя норма говорит, что нельзя задерживать взгляд на телесных аномалиях, что термин «монстр» может теперь использоваться по отношению к человеку только метафорически, что карлик обретает вторую лингвистическую жизнь под обозначением «человек маленького роста»[748]: там, куда мы смотрим, уродливое должно остаться незамеченным.
И наконец, все это не могло обойтись без политических последствий. Массовое демократическое общество захотело превратить анормальное тело в тело обычное. Таким образом, возник конфликт между политическим разумом и индивидуальным видением: первый требовал равного отношения ко всем индивидам вне зависимости от их внешности, второй обнаруживал визуальное смущение по отношению к телесным уродствам. Средства, которые использует общество, чтобы превратить инвалида в «такого же индивида, как все остальные» и даже в «полноценного работника», — рассуждения о реабилитации, усовершенствование медицинских технологий по протезированию, издание набора постановлений и законов, увеличение числа специализированных служб — могут привести лишь к парадоксальному ослаблению телесной стигмы, которая одновременно заметна и стерта, объявлена и отрицаема, известна и притесняема[749]. Но здесь не должно быть никакой двусмысленности: медицинское и юридическое дополнение к состраданию по отношению к невзгодам и телесной и душевной слабости чаще всего было адресовано тем, кто страдал, будучи жестоко забыт природой и людьми. Таким образом, было необходимо, чтобы разум одержал победу над взглядом и чтобы телесная аномалия, лишенная своей «странности», так долго поддерживавшей этот разрыв, растворилась в бескрайнем архипелаге «различий». Именно на это ссылается термин, избранный в демократическом обществе, чтобы провозгласить — когда взгляд отступит перед разумом — равенство между телами.
Растворение уродства в многообразии различий ведет к тому, чтобы в итоге стереть границы между этими различиями. Это верно с точки зрения бюрократических форм социального восприятия инвалидности, которые замалчивают особенности анормального тела, чтобы вписать его в реабилитационную схему. Но это также верно в отношении визуальной и семантической путаницы, возникающей периодически в дискурсе, строящемся вокруг анормального тела.
С сокращением явно выраженных форм расизма все отчетливее показывает свое мерзкое лицо сегрегация людей по весу [sizeism], возникают предубеждения против толстяков, что становится наиболее отчетливой и потенциально приносящей наибольший доход формой дискриминации в современном мире. Сегрегация по весу по своей идеологии и методам схожа с расовой дискриминацией, практиковавшейся в США еще в недавнем прошлом. <…> Тучные люди так же страдают от отношения к ним как к тучным, как страдали чернокожие, когда их воспринимали как негров[750].
Однако с точки зрения восприятия ожирение и расовая принадлежность совершенно не равноценны, нет никакой исторической схожести между формами расовой сегрегации и теми предубеждениями, которые клеймят излишнюю полноту. Здесь можно усмотреть лишь параллель между двумя движениями — Движением за гражданские права и тем, которое привело к принятию в 1990 году закона об американцах–инвалидах (Americans with Disabilities Act): первое явилось моделью для второго. Увеличение количества различий может уничтожить сами различия. Наше общество, будучи демократическим, взывает к равенству; но будучи обществом массовым, оно требует единообразия. И именно эта тенденция пронизывает сегодня восприятие, представление и жизненный опыт анормального тела.
5. Эпилог. Добро пожаловать в Гибсонтон, штат Флорида
О том, что возможен иной взгляд, не лишающий тела его индивидуальности, ярко говорит фотографическое творчество Дианы Арбус. Для нее не могло пройти незамеченным погружение в мир Тода Браунинга. Она начала посещать последнее freak show, существовавшее еще в Нью–Йорке: Huberts Museum на 42‑й улице. Перед объективом ее камеры прошло целое шествие карликов и гигантов, двойняшек и тройняшек, шпагоглотателей и покрытых татуировками ярмарочных артистов, травести с Таймс–сквер, а также людей, отмеченных стигмой трисомии (наличия добавочной хромосомы). В тот момент, когда отношение к инвалидности потребовало смягчить демонстрацию аномалий, она создавала портреты, перцептивный шок от которых никогда не приглушался, а особенности уродливого тела осознавались в тот же момент, когда приходило понимание, что это тело принадлежит человеку: несомненно, это можно считать визуальным эквивалентом того, что Гоффман определил как «принятие»[751].
Однако Диана Арбус уловила и нечто иное: в обществе, где отклонения считаются нормой, нормальным становится поиск современных форм диковинок. Чем больше гиганты и карлики, запечатленные объективом ее камеры в своем повседневном существовании, становятся похожи на обычных людей, тем больше «нормальные» тела, захваченные врасплох в публичном месте, таят в себе странного: парализованные автоматы в коктейльных костюмах, галлюцинация юного патриота, «нормальная» Америка для того, кто умеет видеть, — это лишь бесконечное freak show.
Интуиция Арбус не подвела ее: в политическом и культурном пространстве западного общества анормальное тело окружено парадоксальными ограничениями. Звучат призывы к толерантности и состраданию по отношению к нему, провозглашается равенство тел, и в то же время визуальный ряд прославляет телесное совершенство и заочно клеймит реальные и мнимые уродства. Не будем повторяться, так как многие разделы данного тома останавливаются на этом подробно: XX век характеризуется небывалым расширением власти нормализации, беспримерным усилением бюрократических, медицинских и рекламных норм, заключающих индивидуальное тело в определенные рамки. Анормальное тело в этом отношении стало объектом масштабного корректирующего движения, которое с развитием медицины вошло в свою финальную стадию: сегодня генетика, фиксируя происходящие в генах мутации[752], позволяет выявить признаки монструозности еще в зародыше, технологии внутриутробной (in utero) визуализации дают возможность обнаруживать их ранее проявление и планировать устранение. Многочисленные и все более сложные протезы позволяют восполнить разнообразные телесные недостатки, а хирургия все активнее борется с уродствами: «тяжелые», критические случаи монструозности, чаще всего обнаруживающиеся в бедных странах, становятся объектом показательных восстановительных хирургических операций, широко освещаемых средствами массовой информации, которые вместе с медицинским всемогуществом прославляют технологические формы проявления сострадания Севера к Югу[753]. Но особенно небывалый подъем переживает искусство устранения «легких» недостатков. Ведь давно прошло время, когда пластическая хирургия ограничивалась лишь исправлением телесных несовершенств. В некоторых субкультурах, особенно в Южной Калифорнии, хирургическое вмешательство скоро станет обязательным элементом обряда по вступлению молодых женщин в зрелый возраст, вне зависимости от того, испытывают ли они в этом действительную потребность или нет[754]. И скоро эти постмодернистские формы заботы о самих себе, подстегиваемые принципами индустрии телесной реконструкции, охватят весь мир. Но это еще не все: эстетическая медицина и ее клиентура придумывают разнообразные несовершенства, требующие хирургического вмешательства, они переписывают телесную норму, безостановочно вводя новые формы «уродств». Как после этого удивляться тому, что недавно получила распространение совокупность страхов и симптомов, патологий телесного образа — дисморфофобия (боязнь физического недостатка), Body Dysmorphic Disorder, Body Integrity Identity Disorder, — заставляющая страдающего от нее человека безостановочно ложиться под скальпель?[755]
Эти проявления гипернормальности приводят нас к воротам небольшого городка во Флориде. Гибсонтон расположен на самом юге города Тампа, на автостраде 41. И именно сюда, чаще всего из–за безработицы, вызванной техническими причинами, удалились последние человеческие диковинки, актеры freak shows[756]. Здесь можно встретить Грэди Стайлза Третьего, «человека–омара», последнего представителя семейства эктродактилов[757], или Эммитта Бежано, «человека–аллигатора». Еще недавно там можно было увидеть Жани Томаини, женщину–обрубка, получившую известность в 1930‑е годы вместе со своим мужем–гигантом, с которым они составляли «самую странную пару в мире». Ничем не отличающийся от других маленький городок, взявшийся из ниоткуда, со своими домиками, выстроенными вдоль большой улицы с несколькими супермаркетами, с mobile homes. Именно здесь, в самом центре провинциальной Америки, между индейской резервацией и общиной пенсионеров, монстры испустят свой последний вздох.
ГЛАВА II Идентифицировать. Следы, приметы, подозрения
Жан–Жак Куртин и Жорж Вигарелло
Демократическое общество стирает традиционные физические приметы, запутывает древние коды, характерные для общества порядка, лишает самобытности повадки, маскирует иерархии. Оно также заново определяет причины для беспокойства, меняет представление об угрозах, придает большее значение формам и лицам, тогда как поведение и привычки становятся все менее различимы. Из–за этого все большую тревогу вызывают формы выражения, их таинственность и опасность. В этом кроется причина успеха новых «наук», появляющихся в XIX веке: френологии и криминальной антропологии, в основе которых лежит попытка оценить степень опасности в соответствии с выражением лица и соотнести конкретные проявления жестокости в поведении с жестокостью, которую предполагает внешний облик. Это способ восстановить древнее соответствие между «внешней» и «внутренней» сторонами тела, которое совсем недавно было установлено физиогномикой, способ ввести в научный дискурс представление о темных силах, идущих из глубины человеческого естества. Но надо отметить, что это также способ неверно истолковывать подлинность лиц и данных о них.
Потребовалось масштабное обновление теоретической базы, чтобы решить комплекс столь же своевременных, но иначе сформулированных проблем: как каждый раз устанавливать личность, выявлять приметы при идентификации человека, безошибочно определять, кто есть кто, когда неизвестны имена и первичные данные. Любопытно, что подобное опознание стало возможным лишь тогда, когда была отброшена ориентация на мнимую опасность, при каковой ориентации уточнение характерных признаков обеспечивало «нейтральность» ситуации, а безобидные характеристики предпочитались демонизации. Такое опознание, использующее целый арсенал телесных признаков, предопределило новое отношение к телу как к обновленному видению идентичности: эта установка, изначально приспособленная для того, чтобы описывать сомнительных лиц, в итоге стала применяться ко всем. А это, в свою очередь, порождает тревожные вопросы о контроле и подозрительности.
I. О чем «говорят» черепа
Долгое время было невозможно избавиться от упорных поисков признаков угрозы: тревоги XIX века делали их все более насущными, призывая производить их на все более «научной» основе. Первыми в этом отношении становятся предположения Галля, который с начала века ищет соответствия между анатомическими особенностями и склонностью к преступлению, тщательно исследуя черепа осужденных с целью обнаружить характер исходящей от них угрозы: так, например, на хищнический инстинкт убийцы указывает костный выступ, расположенный над внешним слуховым каналом, а на порочные наклонности вора — лобный костный выступ. Он также определяет расположение изгибов и выпуклостей, характерных для насильников и сексуальных извращенцев: так, например, был «лишен» затылка Киноу, посаженный в тюрьму в Берлине за «педерастическое преступление». Этот осужденный вызывал тем больший интерес, что отличался «исключительными» умственными способностями[758]. Преступник становился «пригодным для идентификации» при помощи опытного взгляда.
Набор критериев, характерный для подобных поисков в области криминальной морфологии, сформировался после 1920‑х — 1930‑х годов. Установилась определенная традиция, намеки на которую можно уловить в Gazette des tribunaux («Газете судов»), где часто звучат призывы к «краниологам»[759] внимательно присмотреться к черепам осужденных, а также в настойчивых рассуждениях Бруссе, описывающего «наши способности, неизбежно связанные с головным мозгом, которые рождаются, растут, изменяются, слабеют, увеличиваются и сокращаются вместе с этим великим телесным инструментом»[760]. В 1847 году Брюйер подтверждает заключения Галля в своей пользовавшейся популярностью книге: он говорит о важности непропорционального основания черепа для выявления «разрушающих наклонностей»[761] и значении «широкого, выступающего затылка»[762] для определения «нарушений» сексуального характера. Эти же характеристики приводит в определенную систему Ловернь, долгое время изучавший черепа многочисленных каторжников Тулона, где он работал врачом в 1830‑е годы. Он отмечает «выступы бокового рельефа», предопределяющие «склонности убийцы»[763], увеличение мозжечка, говорящее о сексуальных страстях, узость и округлость лба, характерные для корыстных наклонностей[764].
Эта новая встреча тела и преступления, это установление соответствий между ними сталкивается с невиданным ранее анализом органической природы: факты, основанные на исследованиях биологов начала века, определяют различия между индивидами[765], выражающиеся в особенностях костного строения. Интерпретация черепов является своеобразным продолжением исследований по сравнительной анатомии[766], несмотря на ее недалекость и малую обоснованность. В ней также проявляется развитие очень древнего стремления, связанного с научным дискурсом: исследовать «внутреннюю» сторону индивида через «внешнюю». С помощью тела, которое теперь можно читать, как картину, можно обнаружить чувства: распознать наклонности убийцы или скрытые силы, непосредственно формирующие кости.
В итоге впервые стало возможным установить «научное» различие между преступниками, распознавая уже по форме головы воров, насильников и убийц. Безусловно, несмотря на изначальную увлеченность этой идеей, часто звучали протесты, требования доказательств и призывы к рациональности. Подобная «интерпретация» была одновременно непонятна и двусмысленна. В 1861 году «Dictionnaire des science» («Научный словарь») настойчиво утверждал: «Общественное мнение далеко от того, чтобы довериться френологии»[767]. «Dictionnaire de médecine» («Медицинский словарь») Робена и Литтре подчеркивал отсутствие доказательств, разоблачая аргументацию, «не подтвержденную опытами»[768]. Мнение «Encyclopédie moderne» («Новой энциклопедии») 1864 года было более резким: данная система может привести к созданию «самой абсурдной и самой отвратительной доктрины»[769].
II. Дегенерат
Эти представления были полностью переосмыслены в 1870‑е годы, когда возникает желание связать различные телесные признаки с первобытными периодами эволюции. Анализу подвергается теперь не только лицо, но и все тело. Преступник теперь рассматривается не как отдельный случай устройства черепа, а как отдельный вид в истории человечества. Определяющим для установления параллелей между «примитивным» поведением и «примитивным» организмом становится влияние эволюционизма, а также одержимость идеей прогресса, со свойственным ей страхом перед препятствиями и рецессиями. Физические и умственные аномалии обнаруживают образцы поведения, сформировавшиеся на предыдущих этапах развития человечества. Предполагается, что физические дефекты и наследственные пороки своим негативным влиянием могут нарушить ход прогресса. Преступники воспринимаются как «индивиды, оставшиеся позади (в эволюционном отношении)»[770], они составляют «отдельную расу», близкую к высшим животным, проявляющую «регрессивные тенденции, передающиеся по наследству»[771], начало изучению которых было положено в 1876 году Ломброзо в его книге «L’Uomo deliquente»[772].
Происходит кардинальный сдвиг, при котором интерес перемещается с вида преступления на личность преступника и отношение к нему. Воры, насильники и убийцы впервые становятся предметом анализа, позволяющим лучше понять их родословную, историю, со всеми ее яркими соответствиями, проявлениями и влияниями. Так, например, фигуру Жака Лантье, находящегося во власти наследственности (сформированной под влиянием бедности и алкоголя), с его «слишком мощной челюстью»[773], слишком густыми волосами, с приметами распутства, скрытыми в «круглом и правильном лице»[774], искаженном как «хищническим инстинктом»[775], так и «наследственной жаждой убийства»[776], Золя, прочитав Ломброзо[777], превращает в «человека–зверя».
Основное внимание уделяется лицу, именно в его чертах проявляется жестокость: «слабо выраженный объем черепной коробки, тяжелая и хорошо развитая челюсть, большие глазные впадины, выступающие надбровные дуги»[778] — все признаки гуманоида. Прочие части тела представляются совокупностью цифр: рост и вес, окружность головы и лицевой угол, мочки ушей и складки на ладонях, длина конечностей и ширина плеч. «Внешность» отражает не какую–либо склонность, способную исказить череп, как это было у Галля, а скорее результат влияния генетических изменений: некоторые из них отсылают к первобытному периоду человеческой истории, другие фиксируют жестокую природу предков. Это способ показать тело, подчиненное рудиментарным проявлениям силы и инстинктов, пронизанное архаичными признаками необузданной грубости. На этой основе в 1880 году появляется претендующая на научность дисциплина: «криминальная антропология»[779]. А стремление к оправданию этой теории ведет к тому, что начинают издаваться специализированные журналы и созываться международные конгрессы.
Без сомнения, успех теории был весьма непрочен: очень скоро обнаружилась неоднозначность физических измерений, а также представлений о возможности выявлять «прирожденных» преступников. Об этом свидетельствуют методы и принципы проверки: Лакассань в 1899 году иронизирует над «утверждениями итальянского криминалиста»[780], предпринявшего анализ мозга серийного убийцы Вашера, «губителя пастушек», в то время как слепок, который он изучал, имел явные дефекты. «Анатомические теории итальянской школы» были расценены как слишком «узкие»[781], не позволяющие провести должное различие, «скорее громогласные, чем имеющие прочное основание»[782]. К этому можно добавить сомнения по поводу репрессивных мер, предлагаемых Ломброзо: «вечного заключения» для «прирожденных» преступников. Подобный приговор представлялся тем более «спорным»[783], что был лишен всякого здравого смысла.
Впрочем, дальнейших споров вокруг этой быстро получившей признание и столь же быстро раскритикованной[784] антропологии не возникало. Представление о существовании физических признаков, позволяющих проводить точную идентификацию, перестало внушать доверие уже в 1890‑х годах; в то же время перестали игнорироваться «социальные причины», факты, которые Лакассань, директор «Архивов уголовной антропологии», объявил определяющими, сравнивая их инициирующую роль с той, что играет органическая среда в отношении микробной вирулентности: «Микроб становится важен только в тот день, когда он оказывается в бульоне, который вы съедите»[785]. Дегенерат становится преступником только тогда, когда его к этому подспудно подталкивает среда, в которой он живет. Эта социальная предопределенность является, очевидно, более стойкой и яркой характеристикой, однако, несомненно, пока не способствует развитию криминальной социологии.
III. Потребность в идентификации
Нельзя сказать, что в этот период, в конце XIX века, физические приметы утратили свое значение. На самом деле их роль и содержание были коренным образом переосмыслены: так, например, они стали меньше ориентироваться на поиск некого неуловимого «прирожденного» преступника, а больше — на поиск неизвестных личностей, но зато вполне реальных.
Чтобы лучше это понять, необходимо остановиться на том, какую важность после 1880 года стали придавать понятию повторного правонарушения. В XIX веке все более насущной становится необходимость распознавать преступника, скрытого под личиной другого человека. «Бродяги», «праздношатающиеся», «гастролеры», которых новая мобильность индустриального общества сделала более неуловимыми, вызывают все большее недоверие: беспокоит их возможность «безостановочно» менять источник заработка и местопребывание, вызывает подозрение их способность совершать одни и те же преступления в отдаленных один от другого регионах[786]. Эти люди усиливают распространенный в современном обществе страх, который подпитывают пресса и детективная литература, разоблачая зло, «растущее из года в год»: увеличение числа «рецидивистов»[787]. В своей популярной книге 1882 года Рейнах приводит следующие данные: «Из 6069 освобожденных в 1879 году человек 1138 (19%) были вновь арестованы или повторно осуждены в том же году»[788]. Давление становится еще сильнее с принятием закона, который предполагает строгое наказание за рецидив. 12 мая 1885 года депутаты голосуют за принятие постановления, предписывающего отправлять в ссылку «на вечное поселение на территориях французских колоний и владений» тех лиц, которые были дважды осуждены за преступления в течение десяти лет, «не считая всего срока наказания»[789]. Представления о рецидиве вызывают такой ужас, что порождают в конце века миф о специальном заключении под стражу в целях «депортации».
Все это вызывает необходимость прежде всего усилить средства проверки личности: разоблачить преступника, скрывающего свою личность, предотвратить любую возможность для сокрытия факта повторного правонарушения[790]. Для этого, как никогда, нужно уметь описать конкретного индивида, выделить его приметы, определить его особенности. Это, в свою очередь, приводит к новому обращению к физическим чертам. Происходит кардинальный переворот: в задачу теперь входит не выявить подозрительные свойства, смутные или неявные приметы, а скорее сравнить череду обликов, которые принимает один и тот же человек, появляясь под разной внешностью и под разными именами. Для этого требуется отбросить прежние представления о возможном проявлении внутреннего через внешнее, чтобы более прозаично, «на поверхности», обнаружить зашифрованные, «научные», признаки личности. В интерпретации примет намечается революция: путь, радикально отличающийся от того, которому следуют в это же время эпигоны Ломброзо.
Стоит повторить, что целью становится разоблачение вызывающей подозрение скрытой от нас личности. Этому, впрочем, совершенно не способствуют прежние паспортные данные: слишком много становится терминов, описывающих каждую характеристику «среднего» или «обычного» человека, слишком много появляется примет, позволяющих «проверить заявленную личность, но не раскрыть ее»[791]. Техника, как кажется, наоборот, способствует выявлению деталей: появляется фотография. Префектура парижской полиции в 1890 году имеет в своем распоряжении более 100 000 негативов преступников, что становится важным дополнением к массе докладных записок и архивов: «многообещающая» возможность кроется в том, чтобы с помощью многочисленных референций обнаружить тайного преступника. Количество данных, включая документы и дела, растет. Однако вскоре обнаруживается их ограниченность, беспорядочность и неоднородность. Фотографические документы не оправдывают ожиданий. Как классифицировать совокупность всех данных? Как распознать за ними конкретного человека, скрывающего свое имя и подлинные черты? Масса данных замедляет расследование. Круговорот образов не поддается определению. Разнообразие ракурсов еще больше усиливает путаницу. Хорошо оно или нет, но вырисовывается лишь одно решение: выявлять личность в обыденных, а не в диких образах, «охотиться» за приметами на самых безобидных фотографиях, выискивать фальсификаторов в самых повседневных образах, а не в «отвратительных лицах»[792] и отталкивающих профилях. Задача четкая, но все еще запутанная, так как количество портретов и досье не перестает множиться.
IV. Антропометрическая идентификация
Нужно еще раз уточнить: вырисовывается определенный путь, который далек от поисков признаков жестокости и свирепости. И именно ему следует некто Альфонс Бертильон, скромный служащий префектуры, который начинает использовать не фотографии, а «антропометрию». Под это подводится фундаментальная гипотеза, основанная на уверенности, что невозможно «встретить двух индивидов, имеющих одинаковые скелеты»[793]. На этом основана идея, что корректно измеренные физические данные позволят «отличить» подозреваемого или преступника. На этом же основано и представление о том, что корректно «уточненные» цифры позволят упорядочить картотеку с делами. На эту же мысль наведут и антропометрические кривые Кетле, выведенные им в 1870‑х годах. Разве не показывает автор «Социальной физики», что «количество крупных индивидов, показатели которых превосходят средние на определенное количество сантиметров, столь же велико, как и количество мелких индивидов, чьи показатели ниже средних на то же количество сантиметров»[794]? Симметричность отклонений от средних показателей конкретизирует распределение: она устанавливает определенный порядок, вычерчивает определенную классификацию[795].
Принимая во внимание все большее количество цифр, Бертильон вплотную приближается к обозначению индивидов, подтверждая данную классификацию. При этом идентифицируемых независимых признаков становится все больше. Бертильон близко знаком с антропологическим методом: его отец был одним из его зачинателей[796], и сам он уже давно умел управляться с линейкой, угольником и циркулем. Его предложение было вполне конкретно: использовать одиннадцать измерений, включая длину и ширину головы, длину и ширину ушей, длину среднего пальца левой руки, рост, размах рук. Все эти цифры «обезличены», но «индивидуальны». Все эти показатели независимы друг от друга, чтобы лучше выявить «индивидуальные особенности». В дальнейшем была разработана целая система: для начала три категории роста (большой, средний, маленький), внутри каждой категории показатели длины головы образуют вторую классификацию, которая, в свою очередь, подразделяется на три разряда согласно ширине головы. Целое вырисовывается в процессе последовательного подразделения, вплоть до самых мелких показателей. Многие десятки тысяч карточек, содержащих измерения, были объединены в обособленные подмножества: некоторые из них дополнительно дробились, чтобы выявить минимальные группы, включающие не более десяти индивидов, среди которых уже можно было проводить подлинное сравнение. Значение данного метода проявлялось тогда, когда подозреваемый подвергался «измерениям для антропометрического описания»[797], которое становилось основой для его дальнейшего опознания при повторном задержании.
Эта система, которая начала разрабатываться в 1883 году, очень быстро приобрела известность, после того как Бертильон, проводя однажды измерения некого Дюпона, арестованного за несколько часов до того, выявил его подлинную личность: физические параметры подозреваемого оказались идентичны параметрам некого Мартина, арестованного несколькими месяцами ранее за кражу «пустых бутылок»[798]. Сопоставление цифр выявило, что речь шла не о двух разных людях, а об одном и том же. Допрос сразу изменил свою суть и характер: Дюпон признался, что воровал бутылки. Тело было проявлено в своем своеобразии, на основе чего Бертильон обнаружил «искомый предмет», выявил преступника.
Следует подробнее остановиться на принципиальной новизне практики антропометрических измерений, которым подвергаются теперь тела подозреваемых, на ее кардинальном разрыве с прежними представлениями: с одной стороны, в приоритете оказываются нейтральные характеристики, а не их явные искажения, с другой — выявляются крайние проявления особенностей исследуемого объекта, причем данные приметы максимально лишены нравственных аллюзий. Впервые подтверждается и иллюстрируется существование биологической печати. Понятие уникальности утверждается на физическом уровне: индивид тем более «исключителен», чем лучше он вписывается в некоторую строгую статистическую схему, отражающую закон больших чисел. Закон проявляется в телах, позволяя насквозь увидеть индивида как единичный объект.
Систематические измерения позволяют проводить опознание на таком уровне, что теперь его можно применять в разнообразных расследованиях — например, для опознания трупов преступников, уже зарегистрированных Бертильоном, как случилось с неким Ф., обнаруженным в Марне в феврале 1893 года: его идентификация позволила выявить личность убийцы[799]. Кроме того, эта практика порождает представление о поголовной «переписи», о внедрении контроля за населением: идентификацию индивидов можно использовать для лучшего управления массами.
V. Отпечатки пальцев
Однако все же было найдено иное решение проблемы. Еще одна система, столь же своеобразная и так же основанная на физическом различии, была опробована в Англии в 1890‑е годы: речь идет об отпечатках пальцев. Они тоже представляют собой своего рода биологическую печать. Если они сняты аккуратно и четко читаются, то их рисунок напрямую соотносится только с одним–единственным индивидом. В дальнейшем этот метод ждало большое будущее.
Классическое, однако несколько упрощенное, изложение истории их открытия и обретения успеха выглядит следующим образом: после того как к ним проявил интерес Фрэнсис Гальтон, двоюродный брат Чарльза Дарвина, их начала использовать для своих нужд полиция; принятая в начале века Скотленд–Ярдом система идентификации личности по отпечаткам пальцев получила распространение практически во всем мире, окончательно вытеснив систему бертильонажа в 1920‑е годы.
Однако эта история не столь проста и однозначна. У отпечатков пальцев была своя история использования еще до того, как их начали применять для идентификации преступников: речь идет о древней практике аутентификации документов с помощью телесного следа, считающегося уникальным, — воскового отпечатка пальца. Эта практика появилась, по–видимому, в Китае, а оттуда распространилась на Японию, Тибет и Индию[800]. И уже там ее открыли англичане, которым нужно было решить проблему управления огромными человеческими массами. Таким образом, система идентификации людей по отпечаткам пальцев родилась не в Англии, а в той огромной лаборатории по надзору и контролю за «туземным» населением, коей являлись британские колонии. И внедрялась она изначально скорее не для выявления преступников, а для управления гражданским населением: так, британский чиновник в Бенгалии Уильям Гершель[801] начал использовать ее при распределении жалований, чтобы безошибочно идентифицировать их получателей.
Происходивший одновременно поиск решения похожих проблем в Новом Свете внес свою лепту в утверждение данной системы. На самом деле отпечатки пальцев не были исключительно британским изобретением: как в Северной, так и в Южной Америке демографический рост, усиленный непрерывными иммиграционными потоками, породил общество иностранцев, для идентификации которых нужны были новые средства. Распределить этих людей согласно системе семейных связей или традиционного географического родства было еще сложнее, чем европейцев. В два последних десятилетия XIX века новая процедура идентификации с помощью отпечатков пальцев была введена по инициативе Хуана Вучетича в Буэнос–Айресе и Генри Морзе в Сан–Франциско[802]. Американский пример особенно показателен: речь шла о контроле над китайскими иммигрантами, которые активно прибывали в порты западного побережья со времен золотой лихорадки и строительства железной дороги, и о проведении своего рода внутренней границы между коренными жителями и всеми остальными с помощью удостоверения личности[803]. Как в колониальной Индии, так и на берегах эстуария Ла–Плата и в городах Калифорнии возникала одна и та же проблема: казалось, что сходство лиц индусов или китайцев в глазах жителей Запада бросало вызов возможностям антропометрической идентификации. «Затруднение, которое мы можем испытывать при идентификации индусов, — отмечает Фрэнсис Гальтон, — по меньшей мере, равнозначно тому, с которым нам приходится сталкиваться при идентификации китайцев, проживающих в наших колониях и владениях. В глазах европейцев они похожи между собой еще больше, чем индусы, и имена их отличаются еще меньшим разнообразием»[804]. Миф о расовой однородности безликих орд подпитывал чувство потерянности, испытываемое европейцем, который попадал в толпу безымянных тел. И это стало переломным моментом в развитии системы идентификации личности по отпечаткам пальцев, сулившей закат антропометрии.
Однако еще нужно было разработать метод классификации отпечатков пальцев, который позволил бы их распределять, сохранять и находить быстрым, экономичным и рациональным образом. Гальтон принялся за работу в конце 1880‑х годов и разработал в итоге систему, основанную на трех элементах (дугах, петлях и завитках), которая послужит образцом для большинства последующих классификаций. В лабиринте гребней и бороздок с ее помощью выявляется набор сравнительных элементов, позволяющих говорить о схожести или отличии двух отпечатков; с помощью расчетов исключается любая возможность того, что два индивида могут иметь схожие отпечатки. Чиновник колониальной администрации Эдвард Генри совершенствует эту процедуру: «система Генри», которую в 1895 году начала применять полиция Бенгалии, будет введена в 1897 году на всей территории Индии, а в начале века — в Англии, где она будет сосуществовать вместе с антропометрическими полицейскими отчетами. Бертильонаж не выдержит этой неудержимой экспансии: новый метод, подхваченный волной успеха, распространится по всему миру и в конце концов приобретет ту всемирную монополию, которой он обладает сегодня. С 1910‑х годов в США выявится возможность его использования для обнаружения «скрытых» отпечатков пальцев на месте преступления. Это даст ему значительное преимущество перед антропометрией и сыграет определяющую роль как в судебной медицине, так и в ведении судебного доказательства. Департамент полиции Нью–Йорка, как и большинство североамериканских и европейских полицейских служб, в 1920‑е перестанет снимать антропометрические мерки с задержанных правонарушителей. Начиная с 1930‑х — 1940‑х годов будет создана целая корпорация специалистов по снятию и расшифровке отпечатков пальцев. Ее члены станут профессионалами своего дела и будут претендовать на звание экспертов. Их техники будут стандартизированы, а суды, после некоторых проволочек, в конце концов, признают неопровержимый характер выдвигаемых ими доказательств. Этот прорыв будет еще больше усилен массовым успехом детективной литературы накануне и после II Мировой войны, и в частности детективных романов, где незаметные отпечатки пальцев будут играть все большую роль в демонстрации борьбы с преступностью: они станут своего рода поимкой in absentia на месте преступления, своеобразной подписью преступника.
VI. Тело и его следы
Необходимо хорошо понимать, какие последствия имела замена бертильонажа дактилоскопией. Так, распространение и освоение в Англии техник идентификации личности, которые использовались в ее колониях, придали довольно странный характер британскому уголовному делопроизводству. Но, помимо английского примера, связанного с контролем над преступниками, принятие «системы Генри» почти во всем мире свидетельствует о трансформации способа управления простыми гражданами в тех странах, где в течение XX века значительно усилилась бюрократизация.
Трансформация по типу колониальной модели управления, трансформация отношений между государством и его гражданами… которые становятся похожи на колониальных подданных: масса иностранцев, чужаков, опасно мобильных… личности которых необходимо контролировать с помощью отпечатков пальцев[805].
В этом заключается двойственность широкого распространения системы отпечатков пальцев, эффективного противопреступного средства и одновременно потенциального средства масштабного закабаления населения. Триумф дактилоскопии над антропометрией при этом раскрывает еще одну трансформацию: глубокое изменение представлений о преступном теле и, кроме того, об индивидуальной идентичности, основанной на телесном своеобразии.
Антропометрия, опираясь на наблюдение и подсчеты и будучи оправдана антропологией, пользовалась настоящим научным авторитетом — даже среди тех, кто, подобно Гальтону, способствовали ее исчезновению. Однако в отношении обнаружения преступников и управления народными массами она обладала существенными недостатками: относительная волокита при использовании, сложность и длительность обучения специалистов, а также их возможная непоследовательность. Действительно, в ее основе лежит зрительный опыт (на восприятии тела через него основываются расчеты) и речь (техника «словесных портретов»), в применении которых нельзя полностью исключить влияние личных качеств специалиста. В связи с этим сразу становятся видны преимущества использования отпечатков пальцев: скорость и механический характер данной процедуры, быстрое и недорогое обучение специалистов, сокращение рисков расхождений между результатами расшифровки. Эта победа техники над наукой, механического метода, близкого промышленному массовому производству, над формой наблюдения научного характера, является последствием ограничения сферы восприятия человеческого тела и установления над ней контроля. «Бертильонаж» еще позволяет видеть человеческую личность. Техника отпечатков пальцев представляет личность в виде абстрактного образа. Механичность ее применения призвана дисциплинировать беспорядочность осуществляемых человеком наблюдений»[806]. Именно в этом заключается тот принципиальный переворот, который совершает технология распознавания отпечатков пальцев в визуальной культуре идентификации личности. Речь идет прежде всего об отказе от того рассеянного взгляда, которое предполагает в антропометрии целостное восприятие тела, и ограничении его лишь поиском отпечатков пальцев. И, кроме того, о сокращении до минимума использования зрения и речи в процессе идентификации личности. «Отпечатки пальцев индивида, — утверждает знаменитый криминолог Джон Генри Вигмор в 1923 году, — это не свидетельство о теле, это само его тело»[807]. Анализ технологий идентификации личности с конца XIX века до наших дней обнаруживает все более дробную фрагментацию и все более строгий контроль в восприятии человеческого тела: поиск личностной идентичности постепенно отходит от конкретного образа и внешних телесных примет и погружается в абстрактные глубины биологического кода организма.
VII. «Сожаления Гальтона» и генетические отпечатки
Но вернемся ненадолго к Гальтону. Сегодня можно было бы сказать, что его триумф всеобъемлющ. Отпечатки пальцев используются повсеместно, научная и юридическая сила предоставляемых ими доказательства больше не подвергается сомнению. Необычайное распространение детективных романов и фильмов способствует тому, что с точки зрения общественного мнения отпечатки пальцев являются гарантией того, что ни одно преступление не останется безнаказанным, по крайней мере в области литературного вымысла. Так, команды специалистов–криминалистов, вооруженные медицинскими познаниями и техническими средствами, заменяющими глаза, одна за другой появляются в литературе и на экранах, демонстрируя острый взгляд и ослепительную интуицию детективов XIX века, таких как Дюпен и Холмс, а затем ярое упорство следователей 1940‑х — 1950‑х годов, образы которых были созданы Дэшилом Хэмметом и Рэймондом Чандлером. От городских поборников справедливости детективный героизм постепенно передается судебно–медицинским экспертам. С 1980‑х развитие лазерной технологии позволяет новым экспертам криминалистики выявлять с беспрецедентной точностью самые незаметные отпечатки пальцев. Компьютеризация классификации, сортировки и сравнения отпечатков делает еще более быстрой обработку информации, собранной в региональных и национальных банках данных, и позволяет совершенствовать дистанционное проведение процедуры идентификации. Борьба с преступностью располагает сегодня таким арсеналом технических средств, о котором Гальтон не мог даже мечтать.
Однако это не могло бы уменьшить то разочарование, которое он испытал при жизни. Действительно, его исследовательская программа была пронизана постдарвинистской надеждой на то, что отпечатки пальцев играют роль законсервированных следов эволюции видов и рас. Он страстно желал обнаружить в неизгладимых следах индивидуальности маркеры наследственности и этнического происхождения. Нетрудно представить, какую роль они сыграли бы в евгенической программе. Но, к его великому сожалению, ему не удалось прийти в этом вопросе к тем результатам, на которые он рассчитывал[808].
Может показаться, что с тех пор сожаления Гальтона были несколько забыты. Корреляция между типами отпечатков пальцев и расами нашла отголосок, когда между 1880 годом и I Мировой войной разразилась борьба с «вырождением». Однако в 1920‑е эти идеи отошли на второй план, в 1930‑е — пережили упадок и, наконец, ушли в подполье в течение следующего десятилетия[809]. За одним трагическим исключением, когда подобные «морфологические» поиски были применены к расовому определению в рамках нацистской «антропометрии».
Идея интерпретировать отпечатки пальцев как «преступные» сегодня, безусловно, кажется странной, однако не может быть никакой уверенности в том, что надежды на обнаружение своеобразного биологического маркера, который предопределял бы преступный характер личности, полностью изжили себя: разве в начале 1970‑х годов не ходили разговоры о том, что наличие у человека двух Y-хромосом может объяснять его преступное поведение? Вот в чем заключается опасность, подстерегающая последние достижения в области технологий идентификации личности, основанных на поиске «генетических отпечатков».
Исследование ДНК, действительно, открыло широкие горизонты для судебной медицины. Генетических следов на месте преступления обнаруживается намного больше, чем отпечатков пальцев, что во много раз увеличивает возможности идентификации личности. Вместе с этим создание банков генетических данных позволяет предвидеть разрешение уголовных дел, в которых не найдены виновные, и оправдание несправедливо обвиненных[810]. Однако риски весьма велики: возможные махинации и некомпетентность полиции[811], а главным образом — сохранение собранных генетических данных, касающихся расовой принадлежности или медицинской истории людей, и их корреляция с преступностью[812]. Развитие методов биометрической идентификации личности, целью которых является контроль над «текучей современностью»[813], над изменчивостью отдельных людей и целых групп, остро ставит вопрос об охране частной жизни и защите индивидуальных свобод[814]. Этот риск усиливается значительностью ожиданий как со стороны политических и судебных институтов, так и со стороны общества: это небезосновательный страх обнаружить, как постепенно развивается генетический детерминизм, пробуждающий надежду на то, что в генетической наследственности можно найти биологические маркеры «преступного человека». Лучше было бы не выводить сожаления Фрэнсиса Гальтона из забытья.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ СТРАДАНИЕ И НАСИЛИЕ
ГЛАВА I Бойни. Тело и война
Стефан Одуан–Рузо
Любой опыт войны — это прежде всего телесный опыт. На войне одни тела наносят урон другим телам. Эта телесность войны так глубоко связана с самим феноменом вооруженного противостояния, что очень сложно отделить «историю войны» от исторической антропологии телесного опыта, вызванного военными действиями.
Если ограничиваться Западом и его контактами с другими культурными областями, как мы сделаем в этой главе, можно первым делом заметить, что в первой половине XX века мало кто из жителей Запада мог полностью отделить свое тело от военного опыта. В ходе двух мировых войн сражаться с оружием в руках стало своего рода общим долгом. Без сомнения, революционные и империалистические войны, спровоцировавшие появление массового рекрутирования в армию, а затем, в 1798 году, воинской повинности в разных европейских государствах, стали причиной первого обобществления телесного опыта войны, хотя мобилизация была далеко не полной (1 600 000 мобилизованных мужчин во Франции в период с 1800 по 1815 год). Затем, после по крайней мере частичного возвращения к норме, 1860‑е и последующие годы были отмечены, в связи с влиянием прусской модели, новой волной милитаризации европейских обществ. Однако по–настоящему рубикон остался позади по итогам двух мировых войн. С 1914 по 1918 год 70 миллионов жителей Запада были поставлены под ружье. Во Франции тяготы воинской повинности были очень сильными: некоторые возрастные группы были мобилизованы больше чем на 90%, а возрастные ограничения все больше сдвигались вниз (до восемнадцати и даже семнадцати лет в случае с добровольцами, получившими разрешение родителей), причем верхняя планка оставалась достаточно стабильной (сорок восемь лет для самых пожилых резервистов). Даже страны, в наименьшей степени склонные к общей мобилизации, были вынуждены в итоге пойти на эту меру: Великобритания объявила о мобилизации в январе 1916 года и призвала в армию 2,5 миллиона мужчин. Чуть больше двух десятилетий спустя, во время II Мировой войны, было мобилизовано еще больше людей: 87 миллионов жителей Запада надели униформу (хотя надо учитывать, что на этот раз война длилась дольше). В некоторых странах мобилизация была полнее, чем в предыдущий раз: Россия мобилизовала около 17 миллионов мужчин в период с 1914 по 1917 год, СССР же после 1939 года мобилизовал 34,5 миллиона. США мобилизовали 4,2 миллиона мужчин в 1917–1918 годах, а затем 1635000 мужчин в период после декабря 1941 года. Германия же, перейдя от 13,2 миллиона мобилизованных в 1914–1918 годах к 17,9 миллиона в 1939–1945 годах, ближе к концу конфликта начала призывать шестнадцатилетних (и даже еще младше) юношей и мужчин до пятидесяти пяти лет. Разумеется, не все эти милитаризованные массы получили настоящий опыт боевых действий: постоянно возраставшая логистическая и административная сложность армий внесла свой вклад в рост количества невоевавших военных, и к ним мы можем прибавить тех, кто не сражался в пехоте — роде войск, претерпевающих самые сильные телесные страдания[815]. Сделав эту поправку, подчеркнем тем не менее, что физические страдания стали своего рода социальной нормой для большинства мужчин западного мира в период с 1914 по 1945 год.
Но на самом деле были затронуты не только они. Никогда прежде боевые действия не пускали такие многочисленные и глубокие корни в социальную ткань воевавших наций. Гражданских лиц коснулись не только экономические и социальные неурядицы, которые особенно тяжким грузом легли на женщин, но и новый, тотальный характер боевых действий, проявившийся в полную силу в 1914–1918 годах и превратившим гражданское население в главную жертву войны. Это была косвенная жертва, страдавшая от телесного истощения из–за военных лишений, в первую очередь пищевых, а также из–за долговременных перемещений, связанных с массовыми исходами и насильственными переселениями. Также это была прямая жертва — жертва массовых убийств, происходивших во времена вторжений и оккупаций, стратегических бомбардировок, голода (рукотворного или нет), депортаций (ставивших или не ставивших своей целью уничтожение депортируемых).
В целом телесный опыт тотальной войны в период с 1914 по 1945 годы в первую очередь выразился в огромном количестве смертей: 8,5 миллиона жителей Запада погибли во время I Мировой войны, и это были почти исключительно солдаты — жертвы среди гражданского населения были сравнительно немногочисленными. Однако в ходе следующего конфликта были убиты 16 или 17 миллионов западных солдат и 21 или 22 миллиона гражданских лиц, большинство из которых приходится на Центральную Европу, Балканы и Восточный фронт. На это дополнительно наложилась повышенная смертность.
Во «втором XX веке», в контексте «ядерной революции»[816], опыт войны стал гораздо более ограничен в социальном плане: телесные лишения выпадали на долю определенных возрастных классов. 1,2 миллиона призванных французов, служивших в Алжире в 1954–1962 годах, представляют собой последнее «военное поколение» в Западной Европе XX века. 1,5 миллиона человек были призваны в США для участия в военных действиях в Корее, однако они составляют очень небольшую долю от американцев в возрасте от восемнадцати до двадцати одного года, которые должны были встать на воинский учет. И хотя в 1965–1972 годах во Вьетнам отправились 3,4 миллиона американцев, только 16% из их числа были призывниками (пик приходится на 1966 год, когда были призваны 382 000 человек, составившие 88% личного состава пехоты и на долю которых приходится 50% всех потерь). Даже если учесть советских молодых людей, воевавших в Афганистане с 1980 по 1989 год, или сербов, хорватов и босняков, сражавшихся друг с другом после распада Югославии в 1990‑е, все равно очевидно, что во второй половине XX века телесный опыт войны теряет свой характер социальной банальности и превращается в исключение. Кроме того, теперь его в первую очередь получают добровольцы, которые сражаются на театрах военных действий вдали от метрополии. Телесный опыт боевых действий постепенно отдаляется от западных обществ, которые становятся преимущественно демилитаризованными по сравнению с первой половиной столетия. К концу XX века большинство уже не может представить себе, что это значит — «понюхать пороху». Несмотря на угрозу терроризма — на самом деле весьма смутную, — кажется, что телесный урон, который война наносит солдатам и гражданским лицам, окончательно исчез с горизонта наших ожиданий. Однако это не означает, что экстремальное насилие XX века не определяет в большой степени наше настоящее, не захватывает наше воображение, не становится причиной виктимизации и дереализации.
I. Современная война: новый телесный опыт
1. Наследие прямого тела [817]
Солдат начала XIX века сражался с прямой спиной: он смотрел в лицо опасности стоя или в крайнем случае на коленях. Эта поза была продиктована его оружием: пороховым ружьем, которое стреляет одной круглой пулей, медленным, со слабой проникающей силой, годным при расстоянии в сто метров, едва ли намного больше. Очень опытный солдат мог сделать два выстрела в минуту, и перезаряжать ружье нужно было стоя. Стрелять также можно было только стоя, равно как и бежать с насаженным штыком против потока пуль. Такого рода «технику тела», если использовать знаменитое выражение Марселя Мосса[818], никак нельзя признать второстепенным фактором: вертикальная поза солдата не только была продиктована технологическими условиями боя — она также очень высоко ценилась самими солдатами и была для них источником высокой самооценки. Весь этос битвы стигматизирует телесные инстинкты: вжать голову в плечи, пригнуться под огнем. Жан–Рош Куане в своих воспоминаниях пишет, как 9 июня 1800 года во время битвы при Монтебелло, которая была для него первой и в ходе которой он служил на корабле третьего ранга, он инстинктивно вжал голову в плечи после залпа шрапнели. Его сержант–майор тут же ударил его плашмя саблей и сказал: «У нас не пригибаются»[819]. В условиях экстремальной опасности поля битвы мужчины держат спину прямо — физически и, предположительно, морально.
Суть была в том, чтобы быть максимально видимым, а не наоборот. Эстетика униформы объединяет жестокость сражения с красотой мундира, достигшей в эпоху наполеоновских войн своего апогея. Яркие краски, в которые красили ткань, не только помогали отличить своих от чужих на затянутом дымом от черного пороха поле боя. Как и сверкающие части униформы, они должны были подчеркнуть ценность тела солдата, особенно в ходе боя. Головные уборы в первую очередь подчеркивали рост и заодно увеличивали его. «Человека воодушевляет необходимость выглядеть высоким, вознося тем самым свою голову как можно выше», — писал Башляр[820]. Нельзя также недооценивать ужас, который могли вселять в противника высокие силуэты солдат врага, сидящих на лошадях и закованных в латы. При Ватерлоо британский сержант так описал появление французских кирасиров перед его строем: «Их вид ужасал: никто из них не был ниже двух метров, они были облачены в железные шлемы, на груди были кирасы, их животы были туго перетянуты, защищены от пуль. Казалось, что у них невероятное сложение, я подумал, что у нас нет ни малейшего шанса против них»[821].
Армии начала XX века еще сохраняли следы этих древних постулатов в отношении прямой осанки и боевой эстетики. Решение сохранить креповые штаны во французской армии в 1914 году хорошо известно. Менее известно, что даже в армиях, где в то время на первый план начала выходить функциональность и где перешли на цвет хаки (как, например, в Великобритании) или на Feldgrau (как в Германии), мало кто был готов отказаться от ярких цветов для позументов, сверкающих декоративных элементов, даже от головных уборов, не дающих настоящей защиты, таких как заостренные каски из вареной кожи, которые использовались в немецкой армии. Мысль об их необходимости коренилась в весьма древней традиции украшения силуэта воина.
«Муштра», которой подвергались призывники всех западных армий начала века, — бесконечное освоение умения правильно держать тело во всех прописанных уставом ситуациях, жесткость стойки «смирно», жесты представления оружия (про которые надо помнить, что они создают близость между солдатом и его ружьем), медленное освоение плотного строя и маршевого шага — была данью традиции правильного ведения боя, бывшей в ходу меньше чем за сто лет до того. Солдаты начала XIX века сражались практически плечом к плечу: слабость огнестрельного оружия требовала этой концентрации людей и гарантировала эффективность стрельбы. Офицеры держали подчиненных на расстоянии прямой слышимости и должны были заставлять их маневрировать под огнем. В целом они были «пришиты друг к другу», если использовать яркое выражение генерала Макдональда, произнесенное им после Ваграмской битвы (1809); генерал считал, что солдаты должны переживать ужас лобового столкновения, должны выставлять себя под вражеский огонь и под атаку вражеской пехоты или кавалерии. Это богатое наследие продолжало царить в казармах до 1914 года. Как подчеркивает Одиль Руанет, тела рассматривались как зеркало души отряда, «неподвижность и жесткость воспринимались как признаки контроля над собой и бесстрастности, которые могли требоваться от солдат в битве»[822].
Но можно ли сказать, что тела западных солдат были на тот момент совершенно не подготовлены к современной войне, как часто считается сегодня ввиду невероятных гекатомб 1914 года? Подчеркнем в первую очередь, что благодаря «систематическому производству военных тел»[823], которое в полную силу началось в предыдущем столетии, эти тела были как никогда прежде тщательно подготовлены к огромным нагрузкам войны. Так, во французской армии, которую нельзя было заподозрить в том, что она предвидела требования современности, с 1901 года главным критерием ревизионной комиссии становится не рост, а вес (минимум пятьдесят килограммов начиная с 1908 года) и объем грудной клетки. Последний параметр, как считалось, можно было улучшить при помощи новой дыхательной шведской гимнастики, ставшей популярной в войсках в начале века, а фехтование и плавание использовались как вспомогательные средства для раскрепощения тела. Маршевый шаг оставался главной составляющей физической подготовки к войне, что логично, если учесть непритязательность организационной структуры армий начала века. Вес экипировки солдата, несомненно, снизился с конца XIX века, но все еще достигал тридцати килограммов (рюкзак, одежда и оружие), и ее нужно было нести от двадцати четырех до двадцати шести километров, которые составляли обычный дневной переход. В кавалерии и артиллерии разнообразие выполняемых задач и требования военного ремесла влекли за собой еще более серьезные физические нагрузки. В целом «самые крепкие юноши в первые месяцы каждый вечер падают спать совершенного обессиленными, к какому бы роду войск они ни принадлежали», — отмечал один врач в 1890 году[824]. Подчеркнем прежде всего, что это освоение новой соматической культуры, «истоком которой является неоспоримое физическое страдание»[825], было подготовкой, далекой от абстракций и близкой к реальностям надвигавшейся войны. Показательным признаком прусской муштры, которая привела к победам в период объединения Германии — в первую очередь к победе над Францией в 1870 году, — было помещение солдат в еще более реалистические условия: обучение рассеиванию и восстановлению строя под огнем, все более напряженные тренировки в разных топографических условиях, проведение астрономических наблюдений, изучение укрытий и неровностей ландшафта (в целом эти умения были развиты во Франции гораздо слабее, чем за Рейном), обучение ведению огня (не ограничивавшееся стрельбой по мишеням) — как писал военный министр в 1901 году, надо было создать систему, которая готовит пехоту, способную демонстрировать «пластичность и маневренность» в боевых условиях[826].
Тем не менее ни одна из западных армий не разрабатывала программы подготовки на основании опыта войн начала столетия (англо–бурской, русско–японской и балканской) или с учетом новых вооружений, при том что многие из новых появившихся тогда вооружений обессмысливали немалую часть приготовлений к будущей войне[827]. Недооценка воздействия огнестрельного огня особенно поражает. В 1913 году врач по имени Ферратон, один из главных европейских военных врачей в период накануне I Мировой войны, написал: «Врачи всегда мечтали о гуманных видах вооружений, которые могли бы остановить врага, не вызывая тяжелых повреждений. <…> На самом деле боль, которую доставляют эти пули [малого калибра], весьма невелика; поражение тела достаточно незначительно, чтобы раненый мог сам добраться до пункта медицинской помощи; сами пули, на которых меньше бактерий, реже заносят в тело частицы одежды; отверстия, которые они производят, обычно аккуратные и узкие; развитие раны обычно проще и быстрее, чем раньше; тяжелые последствия возникают реже»[828].
В реальности проблема была не в том, что не было данных наблюдений за новыми конфликтами, а в том, что эти данные противоречили традиционной системе представлений о том, какой должна быть будущая война, и поэтому не могли быть восприняты. В конечном итоге уже сама война произвела мощный эффект: подготовка солдат в ходе конфликта была существенно изменена, став гораздо жестче. Это почувствовали на себе представители всех классов, призванные вр время I Мировой[829], но «отражение опыта» на военной подготовке случилось заново во время II Мировой войны, что очевидно на примере безжалостной, и порой смертельной, тренировки немецких войск, которых готовили к войне на Восточном фронте[830], или подготовки морских пехотинцев, которые должны были воевать в Тихом океане[831] или во Вьетнаме. Но все же никакие предварительные тренировки не могли полностью заменить соматическую культуру, получаемую на поле боя как таковом: во всех конфликтах XX века солдаты–новички, даже очень хорошо подготовленные, всегда несли тяжелые потери вскоре после их переброски на театр военных действий. Они попросту не умели вовремя пригибать голову и с нужной скоростью бросаться на землю.
2. Изменение телесной техники
Начиная с 1840‑х годов и особенно активно после 1860‑х развитие вооружений (в первую очередь ружей) начало заставлять западных солдат переходить от вертикального положения к горизонтальному, и поля сражений стали заполняться лежащими людьми. Новый этап технологического развития, начавшийся в 1880‑х — 1890‑х годах, закрепил этот переход, ставший очевидным в войнах начала века (англо–бурская война 1899–1901 годов, русско–японская война 1904–1905 годов, балканские войны 1912–1913 годов), но важнейшим этапом в развитии телесной техники сражения стала I Мировая война. Уровень опасности беспрецедентно возрос, и теперь согласно требованиям самосохранения солдаты воевали на корточках, а еще лучше лежа.
Это изменение было предопределено технологической эволюцией. Автоматические винтовки западных армий начала XX века выпускали больше снарядов за минуту в форме конических, быстрых, вращающихся пуль — с высокой поражающей силой, — которые наносили серьезные ранения на расстоянии до шестисот метров. Они «ранят и убивают в тишине»[832] на пустом, как кажется, поле боя. К увеличенной эффективности винтовок добавились пулеметы, типичное оружие индустриальной войны, способные создавать стену из пуль, выпуская от 400 до 600 снарядов в минуту. С другой стороны, мощь артиллерии возросла в десять раз по сравнению с началом XIX века. Она начала доминировать на полях сражений, находясь в нескольких километрах от них. I Мировая война ознаменовала важный разрыв: в ходе нее западные общества перешагнули решающий порог военной активности. Боевые потери поднялись на небывалый уровень: средние показатели в 1914–1918 годах достигли 900 убитых в день во французской армии и более 1300 в германской; они достигли 1450 в русской. Во время следующей войны Германия фиксировала более 1500 убитых в день, а СССР больше 5400. Тем не менее максимальные локализованные потери приходятся на I Мировую: с 20 по 23 августа 1914 года французская армия потеряла 40 тысяч убитыми, из которых 27 тысяч погибли 22‑го. 1 июля 1916 года британская армия потеряла 20 тысяч человек убитыми и 40 тысяч ранеными.
После 1945 года, однако, количество потерь резко падает и больше никогда не поднимается до уровня двух мировых войн. За время войны в Индокитае 1946–1954 годов французская армия потеряла 40 тысяч человек — в годы I Мировой столько человек погибали в среднем за полтора месяца. За тридцать семь месяцев войны в Корее США потеряли 33 629 человек убитыми, 103 284 получили ранения — всего на полуострове побывало 1,3 миллиона американских солдат. В 1964–1973 годах во Вьетнаме, где солдаты носили пуленепробиваемые жилеты, американская армия потеряла 47 тысяч убитыми на поле боя (если прибавить несчастные случаи и болезни, цифра возрастает до 56 тысяч) и 153 тысячи ранеными на 2,3 миллиона солдат, отправленных на театр военных действий. В день погибало около пятнадцати солдат — в десять раз меньше, чем во время II Мировой. Массовые потери продолжали сопровождать войны, но в асимметричных конфликтах середины и второй половины XX века они в первую очередь были характерны для противников западных армий: около полутора миллионов китайцев и северных корейцев были убиты и ранены в 1950–1953 годах; северо–вьетнамские силы и Вьетконг потеряли почти миллион человек в 1964–1973 годах.
В 1930‑е годы Вальтер Беньямин очень точно описал изменения, которые произошли в военных действиях в начале века: «Поколение, которое ездило в школу на трамвае, запряженном лошадьми, обнаружило себя в открытой местности, где все было непривычно, за исключением облаков, и где в центре, в силовом поле, пересеченном траекториями напряжения и разрушительными взрывами, находится крохотное и беззащитное человеческое тело»[833]. С начала XX века новый уровень опасности на поле боя заставлял западных солдат пытаться защитить свое тело: пригибаясь, чтобы уменьшить возможную область поражения, ползя и ложась так, чтобы оказаться ниже области огня. Эти телесные практики сохранились и в следующих конфликтах: фотографии, сделанные американскими военными репортерами во Вьетнаме, которые смогли оказаться ближе к полю боя, чем журналисты, работавшие на предшествовавших или последующих войнах, показывают солдат, скорчившихся в своих окопах, в траншеях или за мельчайшими естественными препятствиями, лежащих в практически внутриутробных позах, использующих соматические навыки, в которых сложно различить наследие предварительных тренировок и проявления естественных рефлексов: они лежат почти на боку, грудь и живот прижаты к земле, нога согнута, чтобы защитить открытую часть живота. Спина — «эта неуступчивая и изогнутая спина, похожая на панцирь… эта твердая и загибающаяся стена, за и внутри которой скрываются наши слабости»[834] (Мишель Серр) — остается открытой. Хорошо видно, как солдаты защищают голову: руками, прижимая каску к голове, практически обнимая ее, закрывая затылок.
Это телесное поведение в первую очередь отражает физический страх перед бомбардировками, который становится неконтролируемым, если они оказываются слишком сильными или слишком близкими. Габриэль Шевалье в «Страхе» (1930) описывал его так: «Артиллерия торопливо осыпала нас снарядами, она целилась прямо в нас, не промахиваясь больше, чем на пятьдесят метров. Порой снаряды падали так близко, что покрывали нас землей и мы вдыхали носом исходивший от них дым. Люди, которые раньше смеялись, превратились в загнанную дичь, лишенных человеческого достоинства животных, тела которых полностью повиновались инстинктам. Я видел, как мои товарищи, бледные, с безумными глазами, толкались и наваливались друг на друга, чтобы удар не пришелся по ним одним, трясясь, как марионетки, от приступов страха, обнимая землю и зарывая туда лицо»[835]. В минуты страха обстрела потеря контроля над сфинктерами и самыми базовыми телесными действиями становится самым обычным явлением. Канадский новобранец, попавший во время II Мировой под огонь немецких 88‑миллиметровых орудий, описывал свой опыт таким образом: «Сержант просто намочил штаны. Он всегда писался, когда это начиналось, добавил он, и вскоре это случилось. Он не пытался извиниться, и тут я понял, что со мной тоже что–то не в порядке… на земле было что–то теплое, и казалось, что это стекает по моей ноге… Я сказал сержанту: „Сарж, я тоже обоссался”, или что–то такое. Он широко улыбнулся и сказал мне: “Добро пожаловать на войну”»[836].
Многие другие неотъемлемые элементы старого военного этоса ушли в прошлое вместе с требованием держать спину прямо. В первую очередь вынужден был исчезнуть кавалерист, чей конь увеличивал его телесные способности, но делал его при этом более легкой мишенью по сравнению с пехотинцем. Исчезновение военного коня, долго бывшего центральной составляющей западных войн, стало причиной для сильных переживаний: в 1916 и даже в 1917 году командование союзников все еще поджидало удачного случая для использования лошадей. Машины, даже самолеты начали восприниматься многими кавалеристами как новые ездовые животные, которые смогут воссоздать физическую экзальтацию и эффективность кавалерийской атаки.
Схожие изменения коснулись и военной одежды. Богатое наследие униформы, в котором жестокость сражения смешивалась с эстетикой одежды, было окончательно забыто в 1914–1915 годах в связи с реалиями современного боя, который требовал невидимости, и необходимо осознать всю важность этой трансформации не только в плане изменения опыта ведения боя, но также в плане его восприятия нашими обществами.
II. Телесные страдания
1. Истощенные тела
Кроме новой интенсивности насилия, современное сражение также предполагает более долгие физические нагрузки. «Западная модель войны», выявленная Виктором Дэвисом Хэнсоном[837], сконцентрирована на сражении: в течение долгого времени она предполагала необыкновенно жестокое, но краткое столкновение — максимум несколько часов, при том что в некоторых случаях, как например в нескольких наполеоновских сражениях, около трети времени проходило без собственно боевых действий. Эта концентрация насилия во времени и пространстве давала в первую очередь возможность избежать затягивания войны. Одной из центральных характеристик современной войны, напротив, является длительность противостояния. Среди первых современных «сражений» такого рода — Мукденское сражение во время русско–японского противостояния в Маньчжурии. Оно предвосхитило многие аспекты феномена «затяжной кампании», которая характеризовала крупные конфликты XX века: траншейное сражение длилось с октября 1904 по февраль 1905 года, пока японские войска не заставили русских отступить, так и не совершив решающего прорыва. «Сражения» I Мировой войны довели эту тенденцию, вызванную преимуществом оборонительной тактики над наступательной, почти до абсурда. Они были сражениями только номинально — скорее речь шла о полноценных осадах, где использовались все возможные техники, старые и новые, традиционных осадных войн: ряды траншей (в некотором роде — врытых в землю укреплений), подкопы с минами под позиции противника, гранаты, артиллерия с высокой кривой падения снарядов и тому подобное. Именно из–за этого «сражение» при Вердене продлилось десять месяцев, при Сомме — пять месяцев, два столкновения при Ипре — месяц в 1915 году и пять месяцев в 1917‑м. II Мировая война закрепила это изменение. Мало кто из солдат видел «ясную войну». Большая часть из них пережили только «продолженные кампании», как та, что происходила на Восточном фронте осенью–зимой 1941 года и затем опять в начале Сталинградской битвы и при падении Берлина. Подобным же образом события разворачивались в Нормандии в июне–июле 1944‑го, к югу от Рима на «линии Густава» между ноябрем 1943‑го и маем 1944‑го, затем в Северной Италии начиная с лета, а также на островах в Тихом океане, завоеванных американскими войсками иногда после нескольких месяцев боев (битва при Окинаве длилась с 1 апреля по 25 июня 1945 года), и затем в Корее, где, после того как китайцы отошли на север за 38‑ю параллель, конфликт выродился в «окопную войну, сравнимую с I Мировой»[838]. Хорошо известно также, что битва при Дьенбьенфу была «Верденом без Священной дороги» (генерал де Кастрис), которая тянулась без остановки и без дополнений два месяца. Этот феномен продленной кампании, разумеется, не был повсеместным явлением. Вьетнам служит лучшим контрпримером: это был конфликт невысокой интенсивности, где обязательная воинская служба длилась всего год и где операции типа search and destroy («найти и уничтожить»), осуществлявшиеся небольшими группами, хотя и были весьма утомительны, все же перемежались возвращением на тыловые базы, хорошо снабженные всем необходимым для физического восстановления.
Однако, за исключением этого примера, длительные кампании составляли основу боевого опыта западных солдат, и в первую очередь в тот период, когда боевые действия были массовым социальным опытом. Отметим в первую очередь физическое истощение солдат, попавших в такие горнила. Известно, например, что при Дьенбьенфу, где быстро исчезла какая бы то ни было возможность для отдыха или для отправки на санитарные пункты, солдаты, полностью владевшие своими телами, неожиданно падали замертво без малейших ранений и без предварительных симптомов[839]. Современное «сражение» бесконечно продлевает стресс, который испытывают солдаты, — комплексную физическую, психологическую и психическую реакцию, призванную мобилизовать все силы человека в момент смертельной опасности, но вызывающую последующее истощение, если он длится дольше, чем человек способен это перенести. Таким образом, солдаты столкнулись с телесным и психическим опытом, который не имел прецедентов в истории западных войн. Случаи экстремального стресса были частыми: солдаты неожиданно теряли связь с окружающей действительностью, их тела оказывались парализованы ровно в тот момент, когда их застигала опасность. Именно в этом контексте необходимо рассматривать военные фотографии, на которых солдаты запечатлены лежащими, разбитыми, с пустыми глазами или, наоборот, расслабленными, спящими в самых неожиданных позах, пораженными невероятной физической усталостью.
Впрочем, самим сражением все не ограничивается. Необходимо также учитывать более прозаические «тяготы войны», также увеличенные в несколько раз продолженными кампаниями. Пешие переходы, отягощенные весом оружия и экипировки, оставались одним из главных испытаний для солдат XX века. Разумеется, в предшествующем столетии существенно возросла роль кораблей и появились поезда (они начали активно использоваться между 1859 и 1870 годами), что изменило традиционный способ перемещения и концентрации войск. I Мировая война ознаменовалась также дебютом грузовиков, без которых «черпалка»[840], питавшая Верденскую битву, была бы невозможна. Наконец, во время Корейской войны началось царствование вертолета, активно использовавшегося в Алжире, а потом во Вьетнаме. Вертолеты позволили рассеивать солдат для прочесывания большой территории с беспрецедентной гибкостью и эффективностью, экономя энергию пехотинцев. Однако никакие современные транспортные средства не могли избавить западных солдат от ужасной нагрузки бесконечных маршей в зонах боевых действий или на их периферии. Представьте себе, какое напряжение приходилось переносить солдатам левого фланга немецкой армии, вынужденным в 1914 году целиком пересечь Бельгию и весь север Франции в начале «войны передвижений»: солдаты армии Клюка должны были проходить по сорок километров в день в течение месяца на августовской жаре и постоянно сражаясь! Поражение, великий способ демодернизировать армию, оставляет солдатам, которые хотят избежать плена, только один выбор: в июне 1940 года отступавшие французские солдаты, а в 1943 году немецкие, пережившие несколько крупных поражений, были вынуждены все время идти маршем, что подвергло их невероятным физическим нагрузкам. Это же относится к «смертельным маршам», к которым принуждали пленных, например солдат, сражавшихся при Батаане в 1942 году или при Дьенбьенфу в 1954‑м.
Военный опыт, таким образом, коренным образом подрывает обычные телесные ритмы. Отношения с временем также сильнейшим образом изменяются из–за нехватки сна и нерегулярности времени отдыха и приема пищи. Несмотря на современные логистические возможности, снабжение часто оказывается недостаточным. Самые элементарные потребности из–за этого оказываются неудовлетворенными: голод, а еще чаще жажда были общей участью солдат XX века. Продленная кампания оставляет неудовлетворенными и другие потребности: грязное тело, его запах, паразиты, которые его покрывают,[841] — следствие невозможности помыться, сменить белье и даже снять обувь в течение долгого времени, — особенно ярко отразились в памяти солдат из городов, привыкших к повседневной гигиене. В 1916 году окопный дневник отмечает как особенно болезненный опыт, что «нельзя было помыться в течение двух недель, нельзя было сменить белье на протяжении тридцати пяти дней»[842]. Операционная модель американских войск во Вьетнаме, возвращавшихся на хорошо снабженные базы и тщательно экипированных для операций типа «найти и уничтожить», составляет скорее исключение, а не правило для войн XX века. Прибавим, что плохая погода, когда солдаты долго оказываются открыты стихии, серьезно усиливает нагрузку на тело: дождь нередко становился отдельным врагом (на Западном фронте 1914–1918 годов, но также в Тихом океане и во Вьетнаме), так же как и холод, пугавший европейцев на восточных фронтах в зимнее время в 1914–1918 и 1941–1945 годах. «Зимние кампании» и грязь были кошмаром солдат XX века.
2. Раненые тела
Новые техники боя умножили получаемые солдатами повреждения. Современные пули, движимые горением бездымного пороха, появившегося в конце XIX века, наносили невиданные ранее раны благодаря силе проникновения и воздушной волне, которая сопровождает удар. Что же касается осколков, которые разлетаются с высокой скоростью в момент взрыва артиллерийского снаряда, их ударная сила такова, что наиболее крупные могут разорвать тело на куски, вырвав любую часть человеческого организма. В 1914–1918 годах артиллерия была причиной от 70 до 80% всех зарегистрированных ранений в западных армиях, общее число которых (на самом деле, весьма неточная цифра) несомненно превысило 21 миллион. Во II Мировую войну соотношение практически не изменилось: военный опыт XX века прежде всего представлял собой ужасные артобстрелы, к которым можно добавить обстрелы из минометов и гранатометов, а также воздушные обстрелы, о которых Марк Блок в «Странном поражении» писал: «Этот обстрел, ведущийся с небес, внушает ужас как ничто другое»[843]. С ходом времени чувство телесной уязвимости неуклонно обострялось из–за повышения разнообразия и эффективности вооружений. В аспекте истории телесности особого упоминания заслуживают танки, чье господство начало утверждаться в 1918 году, обладающие способностью раздавливать и разрывать людей в клочья своими гусеницами, на которых остаются фрагменты человеческих тел[844].
Новая жестокость в большой степени была анонимной. Эта анонимность ранения и смерти была связана с увеличивавшейся дальностью поражения нового оружия: ты не знаешь, кого убиваешь сам и кто убивает тебя, даже если часть насилия, малоизвестная и статистически незначимая, продолжает происходить на личном уровне, в ходе рукопашной схватки. Эта деперсонализация смерти еще больше усилилась с появлением новых видов вооружений, таких как мины, которые могли убивать и калечить полностью без участия человека и которые стали одной из главных поражающих сил во II Мировой войне и в последующие пятьдесят лет (3% убитых американских солдат в 1941— 1945 годах; 11% убитых во Вьетнаме).
В соревновании в прогрессе между медициной и способами убивать пока лидируют последние. Разумеется, в XX веке на войне уже практически не умирают от болезней, в первую очередь благодаря вакцинации от столбняка и тифа. Но насильственная смерть продолжает править бал. Некоторые сравнительные исследования уровня смертности от ран в английских войсках, сражавшихся при Ватерлоо в 1815 году и при Сомме в 1916‑м, указывают, что во втором случае смертность была выше. На II Мировой войне 70% раненых, поступавших к врачам, имели повреждения рук и ног. Дело не в том, что эти части тела легче поразить, чем другие: просто ранения в голову, грудь и живот чаще вызывали немедленную смерть, не давая никакой надежды на исцеление.
В межвоенный период печальной реальностью европейских обществ становится присутствие инвалидов войны в деревнях и городах. В начале I Мировой пораженные части тела нередко ампутировали, чтобы избежать гангрены — это происходило особенно часто, поскольку медицинские службы не успевали вовремя обработать раны из–за нехватки персонала. Более быстрые способы эвакуации и улучшившиеся методы обработки ран позволили впоследствии уменьшить количество ампутаций. Все чаще производили операции при ранениях в грудь и живот, которые прежде, если были глубокими, всегда оказывались смертельными. Кроме того, в I Мировую впервые были предприняты попытки пересадки кожи, которые могли исправить, по крайней мере отчасти — ценой многочисленных операций и бесконечных госпитализаций, — страшные повреждения лица, вызванные современным оружием. «Разорванные рты» становятся образцовыми жертвами современной войны: делегация французских ветеранов с ужасно искалеченными лицами принимала участие в подписании Версальского договора в июне 1919 года, а в Германии Отто Дикс в 1920‑е годы сделал людей с поврежденными лицами главной темой своих гравюр, а затем и картин. Это были невероятные страдания: лицевое увечье не только мешало отправлению естественных потребностей, но и разрушало механизмы коммуникации с другими людьми, заставляя раненых осуществлять вынужденный, порой невыносимо сложный поиск новой идентичности. Те же люди, которые потеряли руку или ногу, должны были жить с болями, порой чудовищными, которые, с одной стороны, вызывала повышенная чувствительность их культей, а с другой — их «фантомные члены». Но почти никто из тех, кто перенес эти страдания, ничего о них не рассказал[845].
Если «гамма ранений не перенесла существенных изменений» в ходе XX века[846], то уход за ранеными телами впервые существенно улучшился во время II Мировой войны, хотя только отчасти и не везде в равной степени[847]. Забота о раненых в Красной армии была особенно рудиментарной, что отчасти объясняет невероятную смертность советских солдат и тесную связь между количеством мертвых и раненых (один погибший на менее чем двоих раненых по сравнению с тремя или четырьмя в других армиях — эта пропорция практически не изменилась на протяжении первой половины века). Зато с англо–саксонской стороны использование пенициллина (который в 1943 году начал производиться в промышленных объемах) позволило лечить зашитые раны и предотвращать заражение крови и открыло путь для новых ортопедических методов лечения пораженных частей тела. Газовая гангрена, главное основание для ампутации, исчезла в англо–саксонских армиях, продолжу свирепствовать в немецкой, особенно на Восточном фронте. Улучшение техники переливания крови и новые способы ее консервации и хранения позволили осуществлять массированные перевозки плазмы к театрам военных действий. Развитие знаний о шоке и реанимации, возможность (В отсканированом тексте отсутствует 273 страница)
Однако к данным психиатрической эпидемиологии необходимо относиться с осторожностью, поскольку они, вполне вероятно, одновременно фиксируют чувствительность медицинских служб к такого рода недугам и способность (постоянно растущую) солдат в них сознаваться. Как бы то ни было, все говорит о том, что в конфликтах конца века психические потери стали больше: 30% потерь израильской армии в Войне Судного дня были вызваны психическими причинами (в результате система психиатрического лечения израильских солдат была полностью реорганизована: ее базой стали систематические дебрифинги[848], которые солдаты проходили под присмотром психиатров на разных этапах конфликта). Силы, стремящиеся к поддержанию мира в XX веке, выиграли благодаря более полному признанию психических проблем солдат, особенно солдат нового типа, которые могли служить мишенями, но из–за очень жестких правил открытия огня не имели права использовать собственное оружие, из–за чего им казалось, что они не на войне, а на какой–то «бойне», где они являются основными жертвами[849].
Психические проблемы порождают соматические, и этот процесс зависит от формы сенсорной агрессии, связанной с современными боевыми действиями и вызывающей психическую травму. Очень важную роль играют зрительные стимулы, в первую очередь визуальный шок, который вызывает вид мертвого или раненого тела, или, хуже того, тела, разорванного на части, — этот образ становится неотделим от мыслей о том, что будет с собственным телом человека, который это видел. На мгновение другой становится тобой самим. В «Странном поражении» Марк Блок с высокой точностью описал это чувство, этот уникальный опыт исторической антропологии, опыт наблюдения боевого насилия двух войн: «Человек, который всегда страшится смерти, хуже всего воспринимает мысль о своем конце, если она сопровождается образом полного уничтожения его физического тела; инстинкт самосохранения проявляется здесь в самой иррациональной форме; никакой другой инстинкт не укоренен так глубоко»[850]. Современная военная психиатрия указывает, что, несмотря на то что они менее сильные по своему воздействию, другие визуальные переживания также могут вызывать ощутимые физические страдания: раненые или мертвые лошади, например, легко ассоциируются с людьми благодаря их антропологической смежности; развалины также отсылают к телесности, поскольку жилище — это защитная оболочка человеческого тела; сюда же относятся леса, уничтоженные картечью — дерево также становится метафорой человеческого тела. Слух тоже участвует в этом, например когда солдаты слышат непереносимые крики раненых. Он насыщается шумом взрывов, вибрация от которых может проникать внутрь тела и вызывать оцепенение, заставляющее многих солдат засыпать прямо во время обстрела. Не остается в стороне и осязание: иногда солдатам приходится идти по телам своих убитых или раненых товарищей — частая ситуация в траншеях и соединительных ходах I Мировой войны. «Ужасно сознавать, что человеческое тело… которое мы кормим, за которым мы ухаживаем, которое мы так старательно украшаем, является по сути всего лишь хрупкой оболочкой, заполненной отвратительными субстанциями»[851], — писал лейтенант морской пехоты Филип Капуто. Обоняние подавляется вонью разлагающихся тел, которые условия поля боя не позволяют похоронить. «Этот запах заставляет нас избегать близости с подобными нам после их смерти, мы просто не можем находиться рядом с ними»[852]. Многие солдаты XX века обращали внешнее насилие, которое они больше не могли переносить, против собственного тела — наносили себе увечья или даже кончали самоубийством, что фиксировалось военными врачами.
Многие психические проблемы, связанные с сенсорным опытом, сохранялись в течение долгого времени. Среди британских солдат, сражавшихся в Фолклендской войне, 50% демонстрировали признаки травматических неврозов через пять лет после окончания конфликта. Американцы начали называть неврозы, возникающие после участия в боевых действиях, особенно если они длились несколько месяцев, посттравматическим стрессовым расстройством. Французы предпочитают говорить о «травме», чтобы описывать сенсорный опыт — в первую очередь визуальный, — который «производит надлом» в психике солдат. Иногда достаточно одного взгляда — взгляда врага, который хочет вас убить или которого вы хотите убить, взгляда, в котором «видна смерть», из–за чего внезапно разрушается «иллюзия бессмертия»[853]. Как бы то ни было, сегодня известно, что цена военного опыта заключается не только в телесных повреждениях. Формы ведения военных действий в XX веке превысили способности солдат, которым поручено их вести, к психической адаптации.
4. Униженное тело, миф о воине
Солдат, упавший на землю под обстрелом, пытающийся сделать себя невидимым, в давно нестираной, пропитанной грязью одежде, бессильный перед вражеским огнем, истощенный, травмированный, — это человек, который знает, что такое физический ужас и какое унижение вызывает переживание этого ужаса. Его навыки, полученные благодаря подготовке, опыту, выносливости, физической храбрости, несомненно, важны, но порой, перед лицом анонимного слепого огня, свойственного современной войне, они значат не слишком много. Как вышло, что поле боя в XX веке перестало быть «полем славы», которое описывали в своих воспоминаниях ветераны кампаний Первой империи? С тех пор военный опыт превратился в нечто уродливое, многие описывают его как «забой» или «бойню», что показывает дегуманизацию тел солдат, низведенных до положения кусков мяса. Внезапно бой утратил всю свою былую значимость, война превратилась в отвратительный театр абсурда. Добавьте к этому тяготы восстановления после конфликтов, которые переносили люди с физическими или психическими увечьями или попросту те, кто потерял свое социальное положение: возвращение с войны было еще тяжелее из–за отсутствия культуры признания (это в первую очередь относится к солдатам Центральных держав после 1918 года, к немецким солдатам после 1945‑го, к солдатам, воевавшим в Индокитае, и призывникам Алжира, даже к американским солдатам, вернувшимся из Вьетнама)[854]. Другими словами, как найти в боевом опыте и воспоминаниях о нем самоуважение, которое потом можно было бы с этим опытом ассоциировать? Пацифизм XX века в большой степени проистекает из развенчивания этого телесного опыта, который в течение долгого времени обладал большой ценностью.
Пол Фассел, ветеран II Мировой войны, ставший преподавателем литературы, обратил особое внимание на язык солдат и показал, как военный язык XX века передавал это глубокое физическое унижение и его интериоризацию. После I Мировой войны «свежий язык» англо–саксонских солдат очень уничижительно описывал тело говорящего и тела остальных. Обсценность и скатология занимали здесь важное место, будучи зачастую немотивированными и непропорциональными и заражая весь язык. Слова «shit» и «fucking» стали особенно заметны, сочетаясь со всеми словами из лексикона и со всеми армейскими аббревиатурами. «Слово ,,fucking“ стало настолько банальным и обычным в эпоху Вьетнамской войны, — отмечает автор, — что американцы иногда ограничивались простой отсылкой к нему, скрывая его при помощи современной манеры придумывать аббревиатуры. Так, новичков называли FNG, „fucking new guy“. <…> Импульс к унижению, — заключает Фассел, — питаемый одновременно ненавистью и страхом, как кажется, признается допустимым только солдатами»[855].
Учитывая явный антимилитаризм этих речевых практик, можно также задаться вопросом, в какой мере этот взрыв вербальной вульгарности отражает сексуальную депривацию, царящую в ведущих боевые действия армиях. Можно ли сказать, что фронты — это «места асексуальности», которые Пол Фассел описывал, говоря о театрах военных действий англо–саксонских армий во II Мировой войне? «Ни сексуальная фрустрация, ни желание, которое невозможно подавить, в целом не мешали солдатам на передовой, — подчеркивает Фассел. — Они испытывали слишком сильный страх, у них было слишком много обязанностей, они были слишком голодны, истощены и лишены надежды, чтобы хоть немного думать о сексе»[856]. Возможно. Однако известно, что начиная с I Мировой войны эротические образы, тиражировавшиеся в иллюстрированной прессе, «заполонили и покрыли собой все; они попадали на передовую, просачивались в палатки, вешались на стены… и занимали солдат в их одинокой грусти»[857]. В годы II Мировой это стало еще более очевидным: распространение эротических журналов и книг было массовым в американской армии. Такие вещи всегда плохо документируются, но в источниках все же содержится немало сведений о сексуальных практиках: мастурбация, практически не упоминавшаяся в контексте боевых действий 1914–1918 годов, более открыто описывается в воспоминаниях о следующей войне. Также известно, что проституция была распространенным феноменом в тыловых зонах самых разных конфликтов. Что же касается гомосексуальности — как мы знаем, неизбежной в сообществах мужчин, лишенных какого бы то ни было женского присутствия и подталкиваемых стрессом к массовым нарушениям социокультурных норм, — она остается практически полностью табуированным сюжетом в свидетельствах солдат XX века[858].
Речь не идет о том, чтобы придерживаться сопереживательной позиции и рассматривать любой военный опыт в ракурсе виктимизации. Разумеется, историки не без причин замечали, что I Мировая война «лишила мужчину мужественности», нанеся решающий удар по традиционным формам маскулинности[859]. Однако, несмотря на то что телесный опыт современного воина полностью противоречит маскулинному мифу, ассоциированному с войной, одним из главных парадоксов XX века является то, что телесный — а также моральный — образ солдата сумел пережить изменения в западной культуре ведения боевых действий, произошедшие после 1900 года. Несомненно, стереотип западного воина был слишком давно — по мнению Джорджа Мосса[860], с конца XVIII века — связан с идеей современной мужественности, чтобы легко сойти со сцены. Возможно, в результате своего рода экзорцизма новых реалий войны, компенсаторную и умилостивляющую составляющую которого стоит оценить отдельно, телесный идеал фашизма напрямую вышел из современного поля боя? Его абрис очертил в 1917 году на афише, рекламировавшей 7‑й военный заем германского правительства, Фриц Эрлер, будущий портретист Гитлера: солдат, облаченный в знаменитый стальной шлем (Stahlhelm), знаковый для штурмовых соединений, участвовавших в Верденском сражении и в битве на Сомме, держащий в руке гранаты и противогаз, как кажется, освобожден от колючей проволоки «ничьей земли», видной на заднем плане. Черты лица отмечены решимостью. Главное — взгляд: глаза горят, но мы не знаем, обращены ли они к победе, смерти или к какому–то личному абсолюту. Это солдат, чьи тело и дух закалились огнем боев, и это уже «новый человек» фашизма, которого мы находим также на надгробных памятниках. Итальянский фашизм и немецкий нацизм возвели эту модель в систему, избавившись попутно от конкретных реалий современной войны: воины с гипертрофированными мускулами и мощным торсом на скульптурах и барельефах Йозефа Торака и Арно Брекера обнажены и держат в руках мечи, представляя собой «брутализированную»[861] имитацию воинов древности.
Фашистская форма вирильной модели эпохи модерна, вышедшая из экстремально правого прочтения боевого опыта I Мировой войны, а затем еще сильнее радикализированная во время II Мировой, не пережила поражения «осевых» стран. Но это не значит, что она не продолжила существовать в других формах вплоть до наших дней. Джордж Мосс подчеркивает ее сохраняющуюся актуальность, в том числе далеко за пределами военной сферы: «Вопрос стоит не о смерти стереотипа, — справедливо замечает он, — а о модальностях его распада»[862].
III. Тела врагов, тела гражданских лиц, тела мертвых
1. Расширение понятия врага
Новые военные условия откололи огромные куски от весьма древнего строения — западных норм военных столкновений. Закон войны гласил, что необходимо щадить тех, кто не может обороняться: раненых, военнопленных, гражданских лиц. Эти категории в XIX и начале XX века стали объектом кодифицированного международного права, унаследовавшего неписанному, но более древнему jus belli. Так появилась Женевская конвенция 1864 года (дополненная в 1929 и 1949 годах), а затем Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов (продленные в 1922–1923 годах). Однако экстремальное насилие войны XX века проистекало не только из тех технологических инноваций, которые мы уже описали. Его истоки также коренятся в культурных традициях, их необходимо искать в представлениях самих солдат. В брутальности современной войны под давлением вполне оправданного желания защитить себя и свою страну исчезли многие факторы, прежде сдерживавшие насилие.
Сначала они исчезли на фронте. Во время I Мировой войны исчезло перемирие санитаров, которое затем снова появлялось только в исключительных случаях: раненые страдали прямо на полях сражений, и чаще всего во врачей стреляли. Древняя традиция плена «под честное слово», которой могли пользоваться офицеры и которая сохранялась до первых дней I Мировой войны, исчезла и была заменена заключением в лагерях.
Затем они исчезли вдали от фронта. Стратегические бомбардировки вражеских городов, особенно столиц, являются грубым нарушением военного права, которое впервые появилось в I Мировую войну, еще до жестокостей войны в Эфиопии, войны в Испании и, разумеется, II Мировой, не говоря уже о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Разумеется, обстрелы городов проводились уже давно — с тех пор как в первый раз была предпринята попытка принудить город к сдаче. Однако бомбардировки городов без тактической цели означали, что был пройден важнейший порог: граница между вооруженной частью населения и беззащитными гражданскими лицами стала проницаемой, практически несуществующей. Отныне все население страны–противника стало врагом. Открылась дорога к «военным преступлениям», мишенью которых были тела.
2. Военные преступления
Экстремальное насилие поля боя было обращено против гражданских лиц, хотя они и были защищены правилами войны, которые стали писаным правом после Гаагских конференций 1899 и 1907 годов. Начиная с англо–бурской войны гражданские лица стали мишенью целенаправленного насилия. Это усилилось во время Балканских войн 1912–1913 годов, которые дали начало первому крупному международному проекту в этой области, Фонду Карнеги. Вторжения лета 1914 года ознаменовались вспышками насилия со стороны захватчиков — в Сербии, а также в Бельгии и в северной и восточной Франции, где было убито около 6000 гражданских лиц[863]. Разумеется, преступления, совершавшиеся на Восточном фронте во время II Мировой, находятся на совершенно ином уровне. Даже если не обращаться к теме уничтожения европейских евреев и к вопросу добавочной военной смертности, вызванной в первую очередь принуждением к труду и искусственным созданием голода оккупационными силами, считается, что почти 4 миллиона гражданских лиц погибли в Центральной Европе и на Балканах во время II Мировой войны, и от 12 до 13 миллионов — в Советском Союзе. Плод «извращения дисциплины»[864], характеризовавшего поведение немецкой армии на востоке, особенно в ходе борьбы с партизанами, привел к убийству 2 500 000 гражданских лиц в Польше (напомним, что здесь мы не учитываем жертв геноцида), 4–5 миллионов украинцев и 1 500 000 белорусов[865].
Нет никакой возможности описать массовые убийства такого масштаба во всех их телесных аспектах. Однако практика уничтожения еврейского населения на востоке, проводившегося Einsatzgruppen, позволяет кратко проанализировать гамму непосредственных физических взаимодействий между жертвами и убийцами. Если в июне 1941 года в первую очередь уничтожали взрослых мужчин, щадя женщин и детей, то начиная с середины августа женщины и дети тоже все чаще и чаще становились жертвами. Показательно разделение между двумя полярными случаями. В некоторых случаях умерщвление сопровождалось телесной близостью между палачами и жертвами — близостью, которая делала возможными жестокости, вызывавшие радость убийц: «Я сидел на десятой машине, — писал полицейский из Вены своей жене 5 октября 1941 года, через два дня после ликвидации гетто в белорусском Могилеве, — и спокойно смотрел и уверенно стрелял в женщин, детей и младенцев. <…> Младенцы взлетали вверх и делали большой полукруг — мы стреляли в них в полете, пока они не падали в яму и в воду»[866].
К тому времени стрельба по евреям велась уже вовсю — иногда она заканчивалась смертью десятков тысяч евреев в один день: 33 371 человек был убит в Бабьем Яре неподалеку от Киева 29 и 30 сентября 1941 года. Параллельно с персонализацией массовых убийств происходит систематическое физическое отдаление: стрельба ведется перед заранее вырытыми траншеями, жертвам стреляют в спину, чтобы они не могли посмотреть в лицо тем, кто их убивает. Иногда стрельба велась в милитаризованном ключе: взвод палачей стрелял по приказу с регламентированной дистанцией до цели, автоматизацией жестов перезарядки оружия и полным избеганием контакта стрелявших с видом тел в траншеях. В конце концов для ликвидации женщин и детей начали использовать местных ополченцев–коллаборационистов. В итоге было установлено жесткое физическое разделение между палачами и жертвами, целью которого было избежать физического шока наподобие того, какому подверглись бойцы 101‑го полицейского батальона, тогда еще только–только призванные, после убийства евреев в Юзефуве 13 июля 1942 года[867].
Чтобы выйти за пределы этого контекста, необходимо вспомнить, что массовые убийства гражданских лиц в принципе нередко встречаются в разнообразии видов военной тактики, характерном для конфликтов второй половины XX века. Если слишком тесно связывать их со временем II Мировой войны, военные практики, бывшие в ходу после 1945 года, не будут представлены реалистично. Уничтожение вьетнамской деревни Милай солдатами роты «Чарли» 16 марта 1968 года» — не мотивированное никакой тактической необходимостью: деревня не представляла никакой военной угрозы — являет собой один из лучше всего документированных примеров «бессмысленного» насилия — насилия, сопровождавшегося к тому же с трудом представимыми актами жестокости по отношению к безоружным женщинам, старикам и детям[868].
Убийства мирных жителей сходны с тем, что противоборствующие стороны совершают друг с другом. Убийство пленных, раненых или нет, сразу после сдачи или спустя какое–то время, или даже перед отправкой в концентрационные лагеря, стали постоянной чертой войн XX века. Как и в случае с гражданским населением, эти крайние случаи жестокости совершались без всякой внешней цели. Возникает представление, что нужно не только уничтожать врага, поскольку он представляет угрозу, но и заставлять его страдать, лишать его человеческого достоинства и стрелять в него, чтобы получать удовольствие от этого страдания и от этого унижения[869]. В 1914–1918 годах эти практики существовали на Восточном фронте. Они с большей частотностью снова начали бытовать в 1941–1945 годах, став своего рода продолжением того же ряда. Их отсутствие на Западном фронте в ходе обеих войн показывает, что там противоборствующие стороны, несмотря на подчас очень сильную враждебность, разделяли чувство принадлежности к одному человеческому сообществу.
Тихоокеанский фронт был другим эпицентром жестокости[870]. Американцы нередко уродовали пленных японских солдат (особенно часто упоминается отрезание ушей), изредка случались даже обезглавливания[871]. Надежные свидетельства также указывают на скатологические издевательства над вражескими телами[872]. Эти практики были весьма радикальными, но кроме того поведение американских солдат в Тихом океане характеризует их стремление, редкое в других конфликтах, сохранять части тел вражеских солдат. Скальпы и черепа врагов использовались как украшения на грузовиках и военных машинах, как это показывает среди прочего фотография, сделанная Ральфом Морсом на Гуадалканале и без задней мысли опубликованная в журнале Life[873]. Практика сохранения вражеских черепов была достаточно редкой, но существенно чаще встречается сохранение кистей рук, фрагментов пальцев, ушей и даже золотых зубов, вырванных у врага[874]. Судя по всему, части тела врага считались умилостивительными талисманами, которые должны были сохранить их владельцев в будущих боях, — представления, легко понятные в контексте кампании, состоявшей из серии высадок.
Ни в коем случае не стоит оставлять в тени такие практики, считая их делом рук извращенного меньшинства среди солдат и проявлением психопатологии или «садизма»: все это ведет к дереализации и умалению военного насилия. Сведения, которыми мы располагаем, указывают на то, что солдаты скорее воспринимали это как банальность. Обработанные вражеские кости нередко отправлялись в качестве подарков домой. 25 мая 1944 года в Life было опубликовано фото черепа японца, который американский солдат послал своей подружке[875], и все говорит о том, что это не был исключительный случай. 9 августа 1944 года Рузвельт получил нож для разрезания бумаги, сделанный из вражеской кости и отправленный солдатом с Тихоокеанского театра; от подарка Рузвельт отказался[876]. Эти практики были настолько распространены, что начиная с сентября 1942 года, меньше чем через год после вступления США в войну, главнокомандующий Тихоокеанской флотилией издал приказ: «Никакие части тел врагов не могут использоваться в качестве сувениров. Командующие соединениями должны принять строгие дисциплинарные меры», и т. д.[877]
Эти практики использования вражеских тел сохранились и после капитуляции Японии. В очень схожих формах они встречались в ходе войны в Корее (после 1950 года решающую роль в этом наверняка сыграли ветераны Тихоокеанского фронта), а также во Вьетнаме — очевидным образом, мы видим продолжение расово детерминированного и расистского отношения к врагу, которое сформировалось в ходе борьбы с Японией в 1941–1945 годах.
Можно ли сказать, что пытки — этот «абсолютный акт войны»[878], — применявшиеся к живым телам врагов, относятся к тому же разряду, что и описывавшиеся выше практики? Все заключалось в «первом ударе», как писал Жан Амери, перенесший пытки СС в 1943 году: «Первый удар давал задержанному понять, что он беззащитен, и этот жест заключал в себе в зачаточном виде все, что за ним следовало»[879]. Следовало же за этим, с разными вариациями в способах пыток и их применения к конкретным участкам тела, ощущение того, что «все тело страдает и мучитель обладает над тобой полной властью»[880]. Происходит полное уничтожение личности, и в этом буквальном «умерщвлении плоти» кроется связь с надругательством над вражескими трупами. Однако, как правильно подчеркивает Рафаэль Бранш: «Победа оказывается неполной, если жертва не признает за своим мучителем то, что положено тому по праву: превосходство. Целью является психическое уничтожение, полный отказ от воли, свободы, личности, а не физическое уничтожение»[881]. Если действительно можно установить связь пыток с другими формами насилия, то главный кандидат здесь — похищение женщин, поскольку в пытках сексуальное измерение также является центральным, и материально, и символически. Пытающий — это человек, «поимевший другого», силой и насилием добившийся согласия, это настоящий победитель в «сражении тел»[882].
Насилие над женскими телами стало другим отличительным признаком войны XX века. Если в 1870 году в прусской армии это было редкостью, «вторжения 1914 года» сопровождались массовыми изнасилованиями[883]. Это снова происходило (и действительно сопровождалось острижением жертв) после победы националистов в Испании[884], во время вторжения Германии в СССР в июне 1941 года, в ходе операций французской армии в Италии и Вуртемберге. Затем изнасилования снова происходят, но на совершенно другом уровне, с прибытием советских войск в Восточную Пруссию и в Берлин в 1945 году (некоторые подсчеты допускают, что были изнасилованы не меньше 2 миллионов немецких женщин[885]), во время операций американских армий во Вьетнаме и сербских войск в Боснии. Последние узаконили изнасилование как оружие в рамках своего проекта «этнического очищения». Пугающий инвариант: все происходит таким образом, как будто овладение телами женщин врага считалось равнозначным овладению самим врагом. Но это также было упражнением в жестокости: тот факт, что маленькие девочки и пожилые женщины не избегали этой участи, что жен и матерей насиловали на глазах у их мужей и детей, показывает, в какой мере насильники хотели затронуть родственные связи — верный показатель жестокости. Другой факт может быть еще более пугающим: насилием был затронут не только враг. Советские солдаты насиловали в своей оккупационной зоне в Берлине своих соотечественниц, угнанных в Рейх немцами[886]. Американские солдаты тысячами насиловали англичанок и француженок, перед тем как устроить еще более массовые изнасилования в Германии[887]. Казалось, будто глубочайший смысл войны заключался в том, чтобы насиловать женщин, кем бы они ни были. Может быть, это и был ее истинный смысл.
3. Дегуманизация, анимализация
С нашей точки зрения, многие практики и жесты можно осознать только в аспекте дегуманизации, даже анимализации вражеского тела, солдатского или гражданского. Радикализация военных действий в XX веке усилила рефлексы дегуманизации, и это было тем легче, что расовое превосходство над врагом было заявлено заранее и в большой степени интериоризировано. Самые худшие жестокости по отношению друг к другу солдаты совершали на фронтах, где любая видимость человеческой общности между сторонами была отменена с самого начала. Так было на Восточном и на Тихоокеанском фронтах II Мировой войны (в то время как на западных фронтах «правила войны» в основном соблюдались). Те же механизмы дегуманизации врага использовались в Корее, в Индокитае, во Вьетнаме, но также и в Алжире. Можно проследить единую последовательность от Тихоокеанского фронта через Корею и во Вьетнам, от Индокитая до Алжира, от сражений на Балканах в 1912–1913 годах до преступлений, которые омрачили десять лет конфликта, начавшегося после распада Югославии (не будем также забывать события II Мировой войны в этом же регионе).
Превращая в кашу лицо врага, делая его неузнаваемым, люди на войне пытаются лишить узнаваемого облика самую человеческую часть человеческого тела. Уродование рук врага выражает то же стремление. Отрезание гениталий — способ нанести удар по родственным связям при помощи профанации, характерной для жестоких практик[888]. Распять тело врага, подвесить его за ноги, содрать с него кожу, выпустить ему кишки — означает превратить солдата–врага в животное, предназначенное на убой. Здесь мы переходим от к дегуманизации к простому превращению в животных. Практика испражнения на тело врага — это скорее не анимализация, а «вещизация», если нам будет прощен такой неологизм. Явления такого типа наблюдались с болезненной очевидностью среди американских солдат в Тихом океане, которые столкнулись с врагом, которого представляли себе как обезьяноподобное существо[889]. Их поступки показывают желание приблизить тело врага к зоологической репрезентации, которая с ним ассоциируется. Стоит вспомнить, что четверть века спустя в Милай деревенские животные были убиты вместе с людьми.
То же рассуждение, возможно, относится и к практикам, связанным с геноцидом на Восточном фронте II Мировой войны: недавние работы позволяют уточнить, как в его ходе проходила анимализация тела Другого[890]. Порой евреи выступали в качестве дичи — таким образом их как бы низводили до дикого состояния. Облавы на них (равно как и облавы на партизан), таким образом, можно расценивать как охотничьи практики — это сцепление особенно очевидно в случае с полицейскими 101‑го батальона, которые осенью 1942 и весной 1943 года прочесывали леса под Люблином и сами говорили о своей деятельности как о Judenjagd. Как пишет изучавший их историк, «„охота на евреев“ — это ключ к ментальности их убийц. <…> Это была последовательно проводимая кампания, без отсрочек и передышек, в рамках которой „охотники“ отслеживали и убивали свою „добычу" в ходе прямой, личной конфронтации»[891]. Однако наряду с охотой на врага–дичь, врага–животное, были и практики «доместикации», предварявшие последующее убиение или даже немедленное массовое систематическое убиение, начавшееся осенью 1941 года и бывшее одним из главных аспектов телесного отношения к Другому в XX веке. Не видим ли мы то же стремление к доместикации в отношении к военнопленным? Не в этом ли заключается смысл их перегонов с места на место в виде огромных стад, часто превращавшихся в настоящие марши смерти, как это было с румынскими пленными германской армии в 1916 году, американскими солдатами, сражавшимися под Батааном в 1942‑м, и французами, попавшими в плен после Дьенбьенфу в 1954‑м (за сорок дней им пришлось пройти больше шестисот километров, в результате чего из 9500 человек, отправившихся в путь, умерла половина; первыми жертвами стали раненые и больные)? Не обнаруживается ли стремление к доместикации в помещении огромных человеческих масс, гражданских и солдатских, за колючую проволоку в концентрационные лагеря, о которых речь пойдет ниже? Ключевую роль здесь играет колючая проволока, изобретенная в США в XIX веке для содержания животных, а затем модифицированная, чтобы сделаться более опасной для уязвимой человеческой кожи, и ставшая в XX веке, в первую очередь в Европе, одним из самых простых способов обозначить для людей их телесное превращение в домашних животных, предназначенных для работы, голода, эпидемий и, в конце концов, для смерти.
4. Трупы
Можно ли сказать, что массовая смерть на войне, столь характерная для тотальных войн XX века, вызвала, за счет поднятия порогов чувствительности, все растущее безразличие к телесной оболочке жертв? Отметим по этому поводу, что стратегические бомбардировки часто принимают форму профанации: руины скрывают перемешанные тела, которые потом с задержкой идентифицируются и предаются земле. Иногда предание земле попросту невозможно, как в Хиросиме и Нагасаки, где слишком большое количество тел в зоне атомного взрыва привело к вынужденному использованию кремации. Что касается тел гражданских лиц, пришлось дождаться международных конвенций 1949 года, чтобы на них были распространены требования идентификации и уважения к погибшим, касавшиеся до этого только тел солдат, для которых в течение века ситуация радикально изменилась, но, парадоксальным образом, в основном только на словах. После Французской революции смерть на поле боя начала восприниматься как добровольное мученичество ради нации, но только с 1850‑х годов (как кажется, в первый раз это было в Крыму) начался радикальный поворот, в результате которого порой случались пароксизмы настоящего культа тел людей, погибших на войне. В 1862 году, во время Гражданской войны в США, американский Конгресс постановил создать военные кладбища; через восемь лет их было уже семьдесят три. Немного позже в Европе, без влияния новой заокеанской практики, Франкфуртский договор, заключенный в мае 1871 года, определил место захоронения французских солдат, погибших в Германии (на самом деле — погибших в плену), а также место захоронения немцев, убитых во Франции. Вдоль новой границы протянулись военные кладбища и оссуарии, которые превращали скелеты солдат в мощи святых, отдавших жизнь за родину. Затем, во время I Мировой войны, впервые в истории человечества стали появляться схожие по форме захоронения солдат, погибших в отдельных сражениях. Как об этом пишут Люк Капдевила и Даниэль Вольдман, «с учетом национальных вариаций западная модель обращения с телами людей, погибших на войне, стабилизировалась в районе 1914–1918 годов»[892].
С тех пор павшие начали получать имена. Смерть стала эгалитарной. Тела всех, кто умер за свою родину, равны: даже места погребения офицеров высшего командного состава отмечались на тыловых кладбищах простыми деревянными крестами. Вполне возможно, впрочем, что эгалитаризация похоронных условий стала результатом идеологического конструирования, которое началось уже после войны. В ходе раскопок полей сражений, предпринятых в последние годы, выяснилось, что офицеров нередко хоронили отдельно от простых солдат и что, в случае общих могил, останки офицеров были захоронены первыми и с большим усердием. Кроме того, надгробные камни, которые немецкие солдаты возводили для своих товарищей на некоторых тыловых кладбищах, свидетельствуют о желании скорее подчеркнуть различия, а не сгладить их.
Сакрализация затронула также вражеские тела. В Версальском договоре был раздел о содержании немецких кладбищ на территории Франции французским правительством в соответствии с планом, разработанным побежденной стороной. Этот сакральный аспект солдатских тел был еще больше усилен, когда временные тыловые кладбища превратились в настоящие кладбища, какими мы их знаем сегодня. Это происходило схожим образом в разных странах: немцы, французы, американцы, австралийцы, южноафриканцы, канадцы и новозеландцы создавали огромные некрополи, для которых было нужно переносить тела, порой на большие расстояния. Британцы, однако, перезахоронили своих мертвых на тех же местах, чтобы не множить некрополи[893]. Связь между живыми и мертвыми была таким образом существенно усилена — она остается сильной и сегодня.
Захоронение тела и табличка с именем были участью не всех. Условия современного сражения привели к исчезновению большого количества тел и к появлению тел неопознанных (почти 253 000 во французской армии в 1914— 1918 годах; 180 000 в немецкой армии; почти 70 000 британцев пропали без вести только на территории сражений на Сомме!), и это несмотря на нововведенную и быстро ставшую повсеместной практику носить с собой идентификационные жетоны. Оссуарий Дуомон неподалеку от Вердена, сначала временный, а в 1927 году ставший постоянным, хранит тысячи скелетов, которые хорошо видны в подземной части здания, законченной в 1932 году. Многие семьи не смогли вывезти останки своих близких после войны. Перед тем как французский закон, принятый в июле 1920 года, упорядочил эту практику, многие родители по ночам приходили на бывшие поля сражений, надеясь выкопать останки тех, кого они потеряли. Ярость Луи Барту, который не смог вывезти тело своего сына, нашла выражение на заседании Национальной комиссии по военным кладбищам 31 мая 1919 года, и его слова ярко передают страдания многих людей, перенесших утрату и не имевших возможности поместить тела погибших в семейные склепы и совершить подобающий траур. «Мой сын был убит в 1914 году, пять лет назад. Он лежит в склепе, его мать и я ждем его, и поскольку останки других людей не были найдены, вы хотите мне сказать, что вы запрещаете мне взять моего сына и увезти его на Пер–Лашез? Я могу только ответить вам, что вы не имеете на это права»[894]. Другой эпизод, другое место и время: в 1980‑е годы на мероприятиях в честь празднования Дня победы в Москве можно было увидеть старую женщину с плакатом на шее. На плакате было написано: «Разыскивается Кульнев Томас Владимирович, пропал в 1942 году в блокаду Ленинграда»[895].
После I Мировой войны только французы и американцы смогли легально вывезти тела своих солдат. В случае с первыми 30% идентифицированных останков были запрошены их семьями. Этот процесс привел к тому, что 240 000 гробов (около 30% тел, опознанных к тому времени) были доставлены поездом в города и деревни Франции в 1921–1923 годах[896]. 45000 гробов пересекли Атлантику, так как 70% американских семей также потребовали «возвращения тел». Этот принцип возвращения тел семьям был подтвержден во Франции в 1946 году и затем снова в 1954‑м, по случаю войны в Алжире, после чего репатриация тел стала систематической. В 1945 году США приняли решение репатриировать тела всех людей, похороненных слишком далеко или в ненадежных местах. Если британцы и их союзники по Содружеству наций оставили тела своих солдат, погибших во II Мировой, в Азии, то американцы забрали тела своих солдат, а потом сделали это снова в Корее и Вьетнаме, где появился современный тип савана — пластиковый мешок, body bag[897].
Для других людей фокусной точкой организованных воспоминаний и коллективного поминовения стали сами военные кладбища. Культовые формы, вошедшие в употребление после 1918 года, затем были характерны и для последующих конфликтов: почти повсюду после 1945 года тела солдат, погибших в бою за свою родину, были захоронены в манере, прямо унаследованной от периода после 1918 года, и новые британские, французские и американские кладбища — и даже в большой мере немецкие, несмотря на много важных изменений, — вписываются в межвоенный континуум.
Отметим также, что эта сакральность тел солдат была подвержена случайным вариациям, связанным с типом конфликта, и что сама сакрализация открыла дорогу для новых профанаций. Так, французские солдаты, вернувшие свою территорию в 1918 году, спонтанно уничтожали надгробные камни, возведенные их врагами. Точно так же советские войска систематически уничтожали немецкие кладбища, устроенные на территории СССР: родная земля таким образом очищалась от скверны вражеских тел, лежащих в ней. Максимальная профанация была достигнута, когда американские солдаты подвешивали тела вьетконговцев при помощи веревок на вертолетах, а затем сваливали их в кучу перед body count (подсчетом тел). Кроме того, даже «свои» тела не были предметом какого бы то ни было культа после «забытых» правительством конфликтов. Это относится к русским солдатам, убитым в 1914— 1917 годах, чьи могилы сегодня практически незаметны, и советским солдатам, погребенным как можно более скрытно после их гибели в Афганистане в 1980‑х годах[898].
Репатриация останков неизвестных солдат, которые должны были стать центральным объектом культа мертвых — и воплощением сотен миллионов останков, которые так и не были найдены или опознаны, — была одним из главных нововведений начала века. Эта практика была принята повсюду: церемония в первый раз состоялась 11 ноября 1920 года в Париже и Лондоне, затем чуть позже в Вашингтоне, в Арлингтонском мемориале, а также в Брюсселе и Риме, в 1922 году — в Праге и Белграде, в 1923‑м — в Софии, затем в Бухаресте и Вене. В Германии двадцать неизвестных солдат были захоронены в Танненбергском мемориале в Восточной Пруссии, а другой неизвестный солдат был погребен в Мюнхене. Эти национальные культы неопознанного тела пережили послевоенный период и стали точкой приложения национального траура после других конфликтов. Арлингтонский мемориал принял останки неизвестных солдат, сражавшихся в Корее и Вьетнаме. Во Франции крипта Нотр–Дам–де-Лоретте, мемориала сражений при Артуа 1915 года, стала местом захоронения неизвестных солдат, павших в 1939–1945 годах (они были погребены в 1950‑м), затем она приняла урну с останками неизвестных узников лагерей (в 1955‑м) и наконец — останки неизвестных солдат, павших в Северной Африке (1977) и в Индокитае (1980). Сакральность телесной символики не исчерпана до наших дней: в самом конце XX века канадские власти решили эксгумировать тело неизвестного канадского солдата, павшего на Сомме, после чего оно было с большими почестями отправлено на родину. С другой стороны, этот характерный для XX века процесс сегодня может быть превращен в прямо противоположный благодаря практике реиндивидуализации: проведенный в 1998 году тест ДНК «неизвестного солдата», сражавшегося во Вьетнаме, позволил опознать тело пилота Майкла Блэсси, которое затем было отдано его семье, живущей в Миссури.
Это показное горе, связываемое с пропавшими телами, ни в коей мере не помешало умалению того, что тела на самом деле перенесли во время I Мировой и в следующих конфликтах. Памятники, воздвигавшиеся после I Мировой войны, даже когда они изображают раненых или умирающих солдат, старательно затушевывают телесные увечья, вызываемые современным оружием. Фотографии и кинохроника в большой степени занимались тем же самым. Военная фотография появилась во время Гражданской войны в США, а во время I Мировой в иллюстрированной прессе начали появляться фотографии убитых врагов и даже иногда тела, на которых были видны следы современного оружия, однако это делалось с некоторой осторожностью: читателям было слишком легко спроецировать образ изуродованного вражеского тела на тела их близких, отправившихся на фронт. Во время следующих конфликтов, за исключением случаев, когда тела фотографировались или снимались на кинопленку, чтобы задокументировать жестокость врага, как часто было во время II Мировой, тактика избегания продолжает превалировать — как по отношению к телам солдат, так и по отношению к телам гражданских лиц, своих или чужих. Вьетнам стал важным исключением в этой области благодаря близости фотографов к местам боев и сравнительно слабой цензуре. Мы знаем, какую роль сыграли изображения тел раненых и убитых американских солдат, сделанные Ларри Берроузом, и какое воздействие на американское общество оказало изображение голого тела обожженной напалмом маленькой девочки Ким Фук, бегущей по дороге (эта фотография была сделана Ником Утом 8 июня 1972 года). Эти разоблачения послужили уроком для военных. Двадцать лет спустя, во время войны в Персидском заливе 1991 года, фотографии и видеосъемки, попадавшие в фокус общественного внимания, были практически полностью очищены от любых изображений, которые могли бы указать на судьбу, уготованную человеческому телу современным оружием. Из–за огромного неравенства сил в первую очередь речь шла о вражеских телах — почти исключительно иракских[899].
Разумеется, есть сильное искушение закончить эту главу несколькими соображениями по поводу недавнего прошлого, сосредоточившись на двух важных изменениях. Первое связано с беспрецедентным присутствием женских тел на полях сражений. В течение XX века боевой опыт был в первую очередь мужской прерогативой: мужчины монополизировали право носить оружие и наносить урон. В этом смысле практики насилия в западном обществе вписываются в универсальный инвариант, характерный для человеческих обществ, где женские тела удаляются от оружия, то есть от любой телесной травмы, которая может привести в истечению крови[900]. Однако если в XIX веке исключение женщин из военной сферы было практически тотальным, XX век втянул их в эту область. Женский батальон, собранный Марией Бочкаревой (по прозвищу Яшка) в России после февральской революции 1917 года и вставший под ружье летом того же года, ознаменовал важное изменение. Женщины с оружием снова появляются во время войны в Испании, в подпольных повстанческих организациях II Мировой войны, среди советских партизан и в рядах Красной армии, а после 1948 года — в рядах Армии обороны Израиля. Сейчас женщины служат в боевых частях всех западных армий. Разумеется, еще далеко до того, чтобы военные функции были поровну распределены между мужчинами и женщинами — уже упоминавшийся антропологический запрет еще продолжает действовать, — однако XX век несомненно закрепил принципиальный переход и утвердил за женским телом право быть источником крайнего насилия.
Есть также искушение дать набросок истории виртуального, описав телесные мутации, происходящие в американской армии, особенно после запуска в 2008 году программы Land Warrior, которая должна затронуть все сухопутные войска[901]. Солдатская униформа превращается в сложную компьютеризированную информационную систему, которая дает пехотинцу возможность компенсировать ограничения человеческого тела на поле боя. При этом солдат, который несет на поясе мини–компьютер, сам становится частью информационной сети. Шлем солдата помещает между внешней реальностью и мозгом экран, где отображается вся необходимая информация. Благодаря навигационной системе солдат может определить свое положение на карте, а также положение своих товарищей, с которыми он связывается по радио и с которыми образует законченный коммуникативный узел: все слышат его, он слышит всех и может отправить им любые изображения. Таким образом солдаты остаются на связи на больших расстояниях, что существенным образом меняет телесные тактики боя. Солдаты становятся более могущественными: они могут отличать чужих от своих, визуализировать заранее воздействие своего огня (лазерный дальномер с областью действия до двух километров автоматически рассчитывает расстояние до любого объекта на линии прицела), смотреть видео из своего компьютера или из ночных и дневных камер наблюдения. В первую очередь усилились сенсорные способности солдат — особенно зрение и слух, — уменьшив тем самым опасность для солдат и сделав их самих гораздо более опасными. Добавьте к этому разработки, цель которых — снабдить солдат настоящим экзоскелетом, чья автономная электрическая энергия умножит их телесные способности (особенно в области ходьбы и бега). Нельзя ли усмотреть в этих западных попытках создать небывалого боевого робота, представляющего крайнюю опасность для врага в ситуации технологического превосходства, первые наброски новой — и возможно, еще более пугающей — версии «нового человека», этого великого, и в большой мере телесного, мифа XX века?
ГЛАВА II Уничтожение. Тело и лагеря
Аннem Беккер
В 1997 году писатель Имре Кертес, переживший Освенцим и преследования венгерского коммунистического режима, так описал свой двойной опыт жизни при тоталитаризме: «То, как люди могут полностью преобразиться, живя под диктатурой. Например, как они перестают следовать модели человека предыдущего века. Я это почувствовал очень непосредственно, почувствовал кожей. Освенцим — это самая тяжелая, самая жестокая, самая экстремальная форма тоталитаризма, с которой нам приходилось сталкиваться. Кто знает, что нам еще предстоит узнать?»[902] Кертес выбрал свою телесную оболочку, чтобы максимально ярко выразить свой опыт. В лагере все было направлено на то, чтобы обесчеловечить его: его подавляли, пытали, лишали сил. Кертес был одним из членов того меньшинства, которое пережило эти ужасные времена, и впоследствии он рассказал о них в своих произведениях.
В этом разделе мы будем говорить о выведенных из строя телах, плодах двух систем концентрационных лагерей: сталинской[903] и нацистской. Концентрационные лагеря, наследие колониализма XIX века (они применялись на Кубе и в ходе англо–бурской войны) и I Мировой войны, были задуманы как способ избавиться от гражданских лиц: их «концентрировали» за колючей проволокой на время боевых действий. Отсутствие питания или средств гигиены нередко превращало эти лагеря в места ужасных страданий[904].
Однако лагеря, созданные в России в 1918 году и в Германии в 1933‑м, были совершенно другими. Они не были связаны с войной и представляли собой часть внутренней борьбы с «оппозицией». Туда помещали для «перевоспитания» тех, кто мешал движению к новому обществу, которое задумали создатели этих режимов. Однако очень быстро лагеря стали необычайно тяжелыми и жестокими тюрьмами для «преступников», которые «не поддавались перевоспитанию». Там они лишались своего человеческого достоинства, переживая онтологическое бесчестье. Инженер, работавший на золотых приисках на Колыме[905], обнаружил, что заключенные тамошних лагерей находились в ужасном состоянии; он воскликнул: «Люди могут погибнуть! — Какие же это люди? — улыбнулся тот (представитель лагерной администрации). — Это враги народа!»[906]
В медицинской диссертации, написанной после освобождения из Освенцима, доктор Хаффнер называет период в лагере перед возведением газовых камер временем «дикого истребления»[907]. Это определение подходит для описаний условий в лагерях двух диктатур даже лучше, чем иногда используемая формулировка «лагеря медленной смерти»: «Цель лагеря — быть заводом по уничтожению. <…> Способ уничтожения — голод, к которому добавлялись тяжелые работы, оскорбления, избиения и пытки, крайне переполненные бараки и болезни»[908]. В Советском Союзе такую постепенную смерть называли «сухой казнью»[909].
Если условия содержания в двух концентрационных системах и их воздействие на тела еще можно сравнивать, то попытка уничтожения евреев в Европе нацистами настолько исключительна, что для ее описания было придумано слово «геноцид». Описывая время, когда функционировали нацистские газовые камеры, доктор Хаффнер говорит о «научном уничтожении» — это выражение затем было заменено выражением «промышленное уничтожение», — описывая серийное производство смертей, прежде всего смертей евреев[910], свезенных со всей Европы для уничтожения в Хелмно, Белжеце, Собиборе, Треблинке, Майданеке и, наконец, Биркенау. Здесь можно привести наблюдение Примо Леви: «Несмотря на то что за годы, прошедшие до написания этой книги, мы столкнулись и с ужасом Хиросимы и Нагасаки, и с позором ГУЛАГа, и с бессмысленной, кровавой кампанией во Вьетнаме, и с самоуничтожением камбоджийского народа, и с пропавшими без вести в Аргентине, и с многими жестокими и бессмысленными войнами, концентрационная нацистская система так и осталась уникальной — как по масштабам, так и по своему характеру. Никогда и нигде не существовало такой непредсказуемой и сложной структуры, никогда столько людей не лишались жизни за столь короткий срок, никогда массовые убийства не проводились столь технически совершенно, с таким фанатизмом и такой жестокостью»[911].
Мы рассмотрим параллельно положение тела в советских и нацистских лагерях в период «дикого истребления». Нацистские заводы по производству мертвых тел в период 1941–1945 годов будут проанализированы отдельно.
I. Дикое истребление
Насилие, направленное на изменение базовых человеческих функций, оставляет неизгладимый след на душе и теле: «Мое тело — больше не мое тело», — восклицал Примо Леви[912]. Шаламов же писал: «Если могли промерзнуть кости, мог промерзнуть и отупеть мозг, могла промерзнуть и душа. <…> Так и душа — она промерзла, сжалась…»[913]
Заточение уменьшает пространство, в котором человек может двигаться, каким бы ни был его размер; даже если на самом деле места остается достаточно много, лес, снег, болото — надежные стражи. В этом пространстве, съежившемся из–за отсутствия свободы, тело также худеет и съеживается — из–за слишком тяжелой работы, недостаточного питания, жажды, нехватки сна, от жары и влажности летом, от холода зимой, не говоря уже об ударах и страхе. «Иногда слышно людей, которые начинают смеяться от холода. Кажется, что лицо человека раскалывается. <…> Холод навязывает свою волю в тишине и без насилия. Не сразу становится понятно, что ты приговорен к смерти. <…> Холод сильнее, чем СС»[914]. Тело, испытывающее постоянную агрессию, становится чем–то обратным по отношению к телу нового человека, который якобы создавался в советском и нацистском обществах, однако если это новое тело в основном существует в сознании теоретиков, то тела миллионов заключенных на самом деле были лабораторией, где ставились варварские опыты. Неудивительно, что лагерный «баланс» обычно сводился к смерти почти 80% заключенных. В совокупности советские заключенные в среднем дольше находились в лагерях — можно даже подумать, что пытки, выпадавшие на их долю, ставили своей целью продлить страдания. Ухаживая за заключенными, администрация давала им еще немного времени для продолжения наказания, поскольку в данном случае речь идет о пенитенциарной системе[915]. По сути, лагеря были местом содержания для тех, кого приговаривали более чем к трем годам заключения. От 15 до 20 миллионов человек прошли через советскую лагерную систему в 1920‑е — 1950‑х годы[916]. Заключенные нацистских лагерей обязаны своим выживанием окончанию войны, советские заключенные — смягчению наказания или реабилитации. В этом случае, как и при вынесении изначального приговора, выполняла свою роль система «правосудия». В советском обществе конца 1950‑х было гораздо лучше быть освобожденным «за отсутствием состава преступления», чем «за нехваткой доказательств»[917].
II. Слышать, видеть, чувствовать лагерь
Новые условия, в которые попадает заключенный, в первую очередь влияют на его чувства. В нацистских лагерях это были крики эсэсовцев и лай собак, сдобренные запахом разлагающихся тел, дымом траншей, где сжигают трупы, а затем дымом крематориев. «И тут всем нам… пришлось всерьез обратить внимание на запах. <…> По правде говоря — выяснилось мало–помалу… словом, труба, что виднеется там, напротив, на самом деле вовсе не кожевенная фабрика, а „крематорий”, то есть печь для сжигания трупов»[918]. Запах, количество труб и зрелище крайней худобы заключенных быстро давали понять новоприбывшим, что в люди лагере умирают в большом количестве. Юный Кертес подумал, что там была эпидемия, но эпидемией был сам лагерь, за несколько недель, даже за несколько дней превращавший юношей в стариков. «Медицинский сюрприз — ужасный сюрприз — заключался в том, что оказалось возможным за несколько дней за счет сочетания аномальных гигиенических условий, недостаточного питания, плохих условий содержания, нечеловеческих усилий и крайнего нервного напряжения вызвать тяжелую кахексию… которая новоприбывшим могла показаться следствием долговременных лишений. <…> Если прибавить к пищевым лишениям, количественным и качественным, постоянное физическое усилие, крайнее, продолженное, можно за две–три недели вызвать обостренный авитаминоз, который приводит к смертельному исходу в течение нескольких дней»[919].
Лагеря напоминали мусорные свалки: вся растительность там исчезала, будучи вытоптанной или съеденной, вплоть до корней. Зимой и в межсезонье отдельные места превращались в клоаку, иногда покрытую снегом; ее испарения вызывали сильные ожоги глаз с последующей временной или пожизненной слепотой. Летом сухость обнаженной земли вызывала пыль, которая проникала повсюду. Если добавить к этому появлявшихся из–за грязи паразитов — вшей, чесоточных клещей, клопов и мошкару, — становится понятно, почему почти все заключенные страдали от кожных болезней разной степени тяжести, флегмон, фурункулеза и тому подобного. Вши являются переносчиками нескольких эндемических видов тифа — отсюда, например, эпидемия сыпного тифа в Берген–Бельзене в 1945 году. Страх болезней преследует даже общества, приверженные гигиене и заботе о теле, и надписи в лагерях пытались за счет этого еще сильнее испугать заключенных, используя напускной цинизм: от «Одна вошь может стать причиной смерти» в Бухенвальде до «Мойте руки перед едой» и «Кедр помогает от цинги» на Колыме.
Голод, в свою очередь, вызывает авитаминоз, а он — пеллагру. «Было занятно, а не страшно видеть, как с тела отпадает пластами собственная кожа, листочки падают с плеч, живота, рук. Пеллагрозник я был столь выраженный, столь классический, что с меня можно было снять целиком перчатки с обеих рук и ноговицы с обеих стоп»[920]. Специалисты по ГУЛАГу по–ученому рассуждают о вызванной недостаточным питанием дистрофии, провоцировавшей трофические язвы и шанкры, которые свидетельствовали о необратимой дегенерации тканей. Муж Евгении Гинзбург, врач, который встретил и полюбил ее в лагере — случались и такие чудеса, — говорил, что это были отметины старых обитателей Колымы, «вытатуированные голодом»[921].
Признаками лагерей были нехватка гигиены, скученность бараков и малое количество туалетов, не говоря уже о низком качестве еды и бесконечном прочесывании мусорных куч в поисках очистков. Тошнотворные запахи нередко были вызваны дизентерией, которая часто сопровождалась недержанием мочи. В ГУЛАГе говорили о «трех Д: дизентерии, дистрофии, деменции»; эта формула в равной степени подходит и к нацистским лагерям. Неудивительно в этих условиях, что выражение «нырнуть в дерьмо»[922] означало смерть в советском лагере, а Жорж Пети, вспоминая Бухенвальд, писал:
Было ли у меня предчувствие, что я вернусь в это царство дерьма? <…> Я впервые увидел страшное зрелище построения исхудавших людей с пролапсом прямой кишки в «Scheiße–Kommando», где я пораженно наблюдал, как эсэсовцы с усердием и без заметного неудовольствия охраняли заключенных, которые шагали по ручьям дерьма. <…> Одного заключенного заставили съесть свои экскременты. <…> Вездесущее дерьмо — незабываемое зрелище для нас, французов, объединившихся под нечистоплотным предлогом под флагом национал–социализма[923].
В лагере все общее, невозможно остаться в одиночестве — чтобы поспать, поработать или утолить какую бы то ни было телесную потребность. Человек всегда вместе с другими, всегда на глазах у остальных, он переживает скученность и гнев, вызванный стыдом, ощущает запахи, слышит крики, получает удары. Все ответственные должности, сколь бы незначительными они ни были, пользуются большим спросом, поскольку это положение дает некоторую защиту: лучшее питание, возможность для подпольной торговли, и все это в условиях соперничества между политическими заключенными и уголовниками, не говоря уже о межнациональных конфликтах. В ГУЛАГе смесь уголовников, составлявших меньшинство, и прочих заключенных — с одной стороны, политических, «58‑х», а с другой — всех остальных, «мужиков», — была идеальным отражением советского общества. Кражи, избиения и убийства совершались урками, у которых были значащие клички — Вошь, Гитлер или Кнут, — на глазах стражников, использовавших их как союзников в деле унижения остальных[924]. Что касается жилья, использовались самые разные пристанища, пока заключенные сами не строили себе бараки, однако колючая проволока и сторожевые башни все время изолировали их от окружающего мира, имитируя настоящее поселение — мир наоборот, созданный не для того чтобы жить, а для того чтобы умирать[925]. Вообразите себе этих мужчин и женщин при зимних температурах Центральной и Восточной Европы, и особенно в Сибири. При этом, в отличие от эсэсовцев, полностью свободных в своих действиях в отношении заключенных, начальники советских лагерей могли быть наказаны — даже сами отправлены в лагеря — за «расточительность», то есть за превышение установленных уровней смертности среди заключенных.
Евгения Гинзбург описывает показательный эпизод с участием начальника совхоза, который был расположен в центре Эльгенского лагеря. Он удивился, увидев пустующее здание, и поручил одному из техников переоборудовать его для размещения заключенных.
— Что вы, товарищ директор! Ведь даже быки не выдержали, хворать здесь стали.
— Так то — быки! Быками, конечно, рисковать не будем.
Рассказчица заключает:
Он не был садистом. <…> Он просто не замечал нас, потому что самым искренним образом не считал нас людьми. «Падеж» заключенной рабсилы он воспринимал как самую обыденную производственную неполадку, вроде, скажем, износа силосорезки[926].
III. Использовать тела: работа и голод
Эти тела, истощенные допросами, пытками, перемещениями, и почти всегда больные, должны были работать, оставаясь жертвами плохого обращения со стороны охранников, которые обладали циническим представлением о цивилизации: в обеих системах заключенные нередко выходили на работу, и даже порой работали, под звуки оркестра[927].
Продуктивность труда голодных, испуганных, забитых людей в рамках экономически–репрессивных структур «тюремной промышленности»[928] не могла быть высокой. Все наружные работы, наиболее тяжелые, в карьерах или болотах, казались в большой степени бессмысленными и смехотворными, поскольку единственными инструментами были кирки и ручные тачки[929]. Использование исключительно мускульной силы мужчин является одной из форм регрессии, характерной для лагерей: после того как поезд или грузовик доставлял заключенных в лагерь, они напрягали исключительно мышцы рук — на шахтах, строительстве каналов, железных дорог, лесоповале. В Советском Союзе узникам лагерей была отведена своя роль в принятом в 1929 году первом пятилетнем плане: они должны были начать разработку северных и восточных областей страны. Их количество, которое считалось бесконечным, должно было компенсировать их низкую продуктивность. Заключенные, запряженные в телеги и сани, заменяли тягловых животных и трактора, они превращались в инструменты — на вагонах, в которых их перевозили, было написано «спец–оборудование»[930]. Другие вагоны, в которых в нацистской Европе или в Советском Союзе перевозили заключенных, были изначально предназначены для животных, и похожая логика прослеживается в водных перевозках на Колыму, где условия, в которых содержались люди, напоминали корабли работорговцев. Кроме того, на Колыме их иногда называли «деревом», поскольку рабы были из «эбенового дерева», а работа на лесоповале, почти всегда заканчивавшаяся смертью, называлась «зеленой казнью».
Эта двойная система рабства не была полностью разъединена: люди, депортированные в нацистские лагеря, встречались там с гражданами СССР, которые прежде пережили лагерный опыт в своей стране[931]; и к тому времени успели освоить некоторое количество техник выживания, они умели экономить силу на работах и переходах, это называлось «туфта». Без этих уловок они бы не смогли выжить в лагере и попасть на фронт, чтобы там быть снова загнанными за колючую проволоку, на этот раз нацистами — что, в свою очередь, не спасало их от очередной отправки в ГУЛАГ после освобождения. В отличие от вольноотпущенников античности, «каждый бывший зэка — это в то же время и будущий зэка»[932]: лагерное рабство заканчивается только смертью.
«Марш рабов. Gummi бьют по головам, плечам. Кулаки обрушиваются на лица. <…> Их утренняя доза алкоголя: бить, бить»[933]. На местах работы охранники продолжали совершать жестокости: толкая заключенных, чтобы они падали под тяжестью груза, забивая их до смерти, убивая их пулями, не говоря уже о «несчастных случаях». Перекличка до и после работ была частью ритуала превращения человека в инструмент: долгое ожидание, чтобы узнать точное количество заключенных, в том числе умерших накануне или перед перекличкой, проводившиеся снова и снова подсчеты, на морозе или на жаре, представляет одну из форм унижения для людей, для которых долгое стояние — одна из характерных особенностей человека — было невыносимым.
Один чекист, которого цитирует Николя Верт, подтверждал: «Нам не нужна ваша работа, нам нужно ваше страдание». В нацистских лагерях заключенные, которые не могли выходить на работу, немедленно отбирались для уничтожения. Кроме того, чем меньше человек работал, тем меньше его кормили, и этот порочный круг приводил к тому, что ослабленные люди были обречены: «Самыми несчастными были инвалиды. Они не могли работать, и им уменьшали пайку. В одном бараке их жила 1000 человек, в то время как в „нормальном" бараке жили 500 человек; им едва хватало места, чтобы повернуться. Им приходилось спать посменно: часть людей вставала в полночь, чтобы уступить место своим товарищам»[934]. Похожим образом в ГУЛАГе пища распределялась в соответствии с нормативами, то есть в соответствии с выполнением производственного задания. Бюрократия планирования и распределения питания предусматривала десятки видов пайка и не–пайка, выделявшихся в зависимости от выполненной работы или от представлений охранников о норме; учитывалась в числе прочего способность или неспособность работать при температуре ниже 35 градусов мороза[935]. Норма, таким образом, была способом организации голода, направленным на повышение продуктивности заключенных. Однако «больше работы» не означало «больше еды» — напротив, люди сильнее уставали. «Лагерь и есть голод. Мы сами — голод, воплощение голода»[936]. В обеих системах, где рацион состоял из жидкого супа и хлеба, цинга была неизбежна, из–за чего происходило выпадение зубов, и выражение «положить зубы на полку»[937], которое в России обычно обозначает голод, получило буквальное воплощение.
Распределение пищи становится в лагере одним из видов наказания. Ожидание перед окошком в Советском Союзе, постоянная проблема воровства приборов и котелков блатными или другими «организованными» заключенными, унижения со стороны охранников. Охранник мог перевернуть миску с супом, заставив оголодавшего заключенного встать на четвереньки, ползать, лакать землю и зачерпывать жидкость рукой как ложкой. Объект становился телом, тело — объектом, который можно отправить на свалку.
Наконец, в крайних случаях, о которых редко говорят из–за своего рода табу, голод приводил к каннибализму[938].
Нехватка одежды или использование одежды, не подходящей к климатическим условиям, — иногда настоящих тряпок, которые оставляли наготу неприкрытой, — было частью того же процесса: все это — удар по чувству стыда, равно как общие туалеты или испражнение у всех на виду[939]. «Все люди оголены, оголены внутренне, лишены какой бы то ни было культуры, какой бы то ни было цивилизации… люди, сокрушенные ударами, одержимые мыслями о блаженстве и забытой еде; они страдали от глубоких укусов вырождения — все и на протяжении долгого времени»[940]. Метафоры Давида Руссе здесь не просто образы — это точный анализ того, что происходило в лагерях.
IV. Анимализация, реификация для стирания идентичности
По сути лагерь — это место для анимализации и реификации[941] заключенных, которых называли «вещами» (Stücke), паразитами, крысами. Эту функцию в первую очередь выполняли голод и работа. «[Он] видел прииск лишь отраженно — в тех людских отходах, остатках, отбросах, которые выкидывал прииск в больницу и в морг»[942]. Нехватка витаминов превращала многих заключенных в почти слепых. Гемеларопия называется по–русски «куриной слепотой». Один из зеков, пораженный ей, уронив миску, «ползает по растоптанному снегу с опилками, собирает горстью и отправляет в рот опилки, пропитанные баландой»[943].
Имя, маркер идентичности, заменялось цифрами — порядковым номером. Тяга к секретности объясняет эвфемистическую метонимию: баржа, заполненная «номерами», перевозила заключенных, которые на самом деле получали эти номера только по прибытии[944].
Мужчины и женщины дегуманизировались благодаря отметинам, которые делались на их телах: иногда что–то отнималось, как в случае с острижением волос на голове и лобке, иногда, как в Освенциме, что–то добавлялось — например, татуировка с порядковым номером на предплечье. Узники со свойственным им черным юмором называли эти татуировки «небесным телефонным номером», Himmlische Telefonnummer. Лагерь оказывался запечатлен на самом теле.
Отметы также принимали форму кусков белой ткани, вшитых в униформу советских заключенных, или цветных треугольников и номеров в нацистских лагерях: «У него был такой же красный треугольник на груди — это сразу показывало, что он был здесь не из–за своей крови, а из–за своего образа мыслей»[945][946]. Отправке в лагеря подлежал набор категорий: люди оказывались в лагерях или из–за своего рождения — евреи, цыгане, украинцы, ингуши, поляки… — или потому что они были куда–то «включены», когда стали взрослыми: участники сопротивления, троцкисты, кулаки.
Предельно современная бюрократия — вплоть до использования сложной механографии — это другая форма диалектики современности и регрессии в концентрационной системе. Разного рода лагерные администрации произвели на свет огромное количество документов, содержащих, в частности, отпечатки пальцев или целых ладоней[947] и антропометрические фотографии заключенных. Фотографии, принадлежавшие заключенным, напротив, конфисковались у них вместе с другими личными вещами в рамках того же процесса деиндивидуализаций. «Кому–то из надзирателей понадобилось перейти в противоположный угол двора, и он, не затрудняя себя круговым обходом, встал сапожищем прямо в центр этой груды фотографий. На личики наших детей»[948].
Тела заключенных таким образом отмечались, классифицировались, архивировались. По прибытии у заключенных было лицо, тело, душа. Постепенно все это преображалось за счет голода, работы и болезней. Лагерь, выполнявший функции, прямо противоположные изначально задуманным, теперь протоколировал только то, для чего он существовал, — смерть. Тот факт, что номер заключенного вычеркивался после его смерти и отдавался новоприбывшему, весьма показателен: больше не было личностей, только взаимозаменяемые номера.
Время в лагере протекало в режиме страдания тела, которое оказывается временным: приходило время умирать. Преступление дегуманизации заключалось в навешивании ярлыков, как на товары, или нанесении клейм, как на животных на бойне, а также в вынужденной наготе, тесноте, в насилии, в еще больших лишениях, еще большем насилии. Пример татуировок заключенных, которые вырезались и использовались в абажурах и на декоративных панно, весьма показателен: тело становится предметом мебели, украшением в интерьере Ильзы Кох, жены начальника Бухенвальда: «Она обожала татуировки и осматривала заключенных в больнице. Если у кого–то из них была оригинальная татуировка, она приказывала убить его и вырезать ее, после чего кожа с татуировкой выделывалась и становилась редким объектом»[949].
V. Тело для сохранения памяти, для борьбы
Тело может также стать для заключенных манифестом и символом — очевидным образом это может случиться только при условии выдающейся храбрости. В тайге лесорубы–заключенные иногда отрубали себе руки, чтобы прекратить свои мучения; перестать работать в таких условиях означало перестать жить. Их товарищи прибивали отрезанные члены к бревнам, которые должны были отправиться наружу, и — неизвестно, правда это или нет, но история была опубликована в The Times — одна рука якобы была обнаружена прибитой к бревну в порту Лондона.
Вдруг страшная мысль взметнулась костром.
Я левую руку рублю топором. <…>
Друзья мою руку прибили к бревну.
Бревно продадут в другую страну.
Славное дерево — первый сорт!
Поезд примчал его в северный порт[950].
Другие случаи членовредительства, вроде прибивания мошонки к земле или разрезания кожи бритвой, в советской тюремной системе приводили к задержке переведения в другое место, что нередко означало смертный приговор.
Тело, таким образом, становилось областью каждодневного сопротивления: умыться, найти одежду, поесть, совершить базовый уход за собой, вызвать в себе эмоции, улыбнуться — это означало поддерживать тело и душу в живом состоянии, сохранять свое «я», свою личность. Голодовки и забастовки (чаще всего в ГУЛАГе), саботаж, побеги были способами сопротивляться, грозившими смертью. Во время Йом–Киппура в 1944 году венгерские евреи отказались от еды в Освенциме, к великому удивлению охранников: у этих животных есть душа?[951]
Евгения Гинзбург, в свою очередь, говорит, что само страдание превращает человека в вещь, «превращает в деревяшку»[952]. Эдмон Мишле же описывает жестокость, с какой охранники в Дахау набросились на старого еврея «со звериной яростью, такой, что у животных надо просить прощения за то, что ты назвал ее звериной»[953]. Реификация здесь становится оружием сопротивления, анимализации подвергаются палачи. Заключенные остаются людьми, у которых иногда есть только один выход — отказаться от телесного существования, чтобы остаться человеком: «Я пыталась стать невидимой. <…> Я пыталась перестать видеть. Я пыталась перестать видеть обнаженные трупы и скелеты, сваленные в кучу на снегу в макабрических позах, перед сожжением. <…> Я пыталась не слышать. <…> Я была как пьяная, это было безумие от желания жить»[954].
Некоторые женщины сопротивлялись, натирая себе щеки, чтобы сделать их краснее, делая себе своего рода грим, защищая свою поруганную женственность или пытаясь найти кусок стекла, чтобы посмотреться в него, несмотря на все запреты. Однако в этом мире это было очень тяжело, и большинство из них становились «бесполыми существами… <…> странными существами, призраками. <…> Может быть, когда–то они были женщинами. Но они потеряли все, что можно было назвать очарованием. Нет ничего более неопределенного, чем умершие, которым была дана отсрочка»[955]. В ГУЛАГе количество мужчин сильно превышало количество женщин — последних насиловали, вынуждали заниматься проституцией, они страдали от венерических болезней[956]. Количество детей, родившихся в ГУЛАГе в результате изнасилований или свиданий, запрещенных, но желанных, — в этом случае беременность тоже была видом сопротивления, — показывает, что вызванная голодом или травмой аменорея (царившая в нацистских лагерях) не начиналась сразу у всех. Если в момент ареста у задержанных отнимают их детей, то в случае беременности в лагере женщины, «мамки», получали право родить своего ребенка и выкармливать его в течение нескольких месяцев в комбинате для детей, перед тем как снова его потерять — некоторые женщины в результате сходили с ума от горя[957]. Их считали кормилицами, или скорее кормящими грудями, а не матерями. Дети воспитывались в специальных школах, где их учили ненавидеть своих родителей — «антисоветчиков».
VI. От выживания к смерти
Когда лагеря не убивали, они все равно превращали молодых людей или людей в расцвете сил в стариков. Все наблюдатели отмечали это ускоренное старение: «И вот теперь эта кожа свисала, желтая, высохшая, морщинистая, ее покрывали всяческие нарывы, темные пятна, ссадины, трещины, рубцы и чешуйки. <…> Я только поражался, наблюдая ту скорость, тот сумасшедший темп, с которыми, что ни день, уменьшалась, таяла, пропадала куда–то покрывавшая мои кости плоть с ее упругостью и надежностью. Каждый раз, когда мне приходило в голову взглянуть на себя, меня что–нибудь удивляло: какой–нибудь новый неприятный сюрприз, какое–нибудь новое безобразное явление на этом все более странном, все более чужом мне предмете, который когда–то был мне другом, был моим телом»[958], «…если смотреть на Таню спереди — она не подросток, а старуха. Растрепанные седые патлы, костлявое лицо, обтянутое сухой, шелушащейся кожей. Сколько ей может быть? 35? Неужели? — Удивляетесь? Это натуральных, собственных. Да два ярославских считайте за двадцать. Итого — пятьдесят пять»[959]. «И взгляд… Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот самый взгляд, который потом так часто встречался мне там»[960]. Не случайно, что свидетели так часто упоминают взгляд, лицо в целом и старение кожи: две основные черты человека, его фасад, разрушаются первыми. Евгения Гинзбург, лишенная зеркала в годы пребывания в лагере, увидела свое отражение и подумала, что это ее постаревшая мать, — ей было всего сорок. Напротив, у ребенка, чьи родители пропали в лагере, оставался от них только образ молодых людей, и он навсегда сохранялся в его сознании или на фотографии.
«После того как я увидел кучу голых тел, я был сильно впечатлен видом многих живых, которые демонстрировали такую же степень худобы и такое же выражение лица, как и мертвые. Можно было подумать, что в трупах оставалось дыхание жизни и что они двигались или следили за мной глазами»[961]. Этот американский солдат, участвовавший в освобождении Бухенвальда, описывает здесь живых мертвых, которых называли «мусульманами». Никто не знает, почему люди, не успевшие умереть в лагерях, получили это прозвище. Некоторые считают, что здесь есть связь с мусульманским фатализмом, но нам это представляется несколько поверхостно. В советских лагерях говорили о «доходягах» или «фитилях» — так называли тех, кто «достиг дна», чей огонь жизни грозил потухнуть. Обычно эти существа немы: между жизнью и смертью уже нет языка. На рисунках Зорана Музича видны создания, у которых еще есть тела, но которые начали лишаться плоти. Они больше не понимают, что их окружает, это голые кости. Их крайнее физическое истощение привело к полному стиранию их личности. «Она сама забыла себя, прежнюю»[962]. Удивительно сознавать, что в обеих системах все товарищи по несчастью практически презирали тех, кто ослабел, уже не мог сопротивляться, отдался смерти. Как будто было невозможно сохранить сочувствие по отношению к тем, кто был близко, но одновременно так далеко, поскольку это бы означало имплицитно согласиться на вырождение, которого жаждали палачи[963].
VII. Что делать с трупами?
В советских лагерях нормой было погребение — как можно более массовое, обычно без гробов. Чтобы убедиться, что смерть не была уловкой для побега, голову разбивали молотом. После смерти человек оставался номером: табличка, прикрепленная к ноге, сохраняла порядковый номер, и иногда ее также прикрепляли к колышку над могилой. Люба Юргенсон очень верно заметила, что в этом мире камня и льда, каким были лагеря, человек становился «минералом», но при этом он не получал главного камня — могильного[964]. «Смерть не должна была служить для нас знаком. Наши мертвые должны были исчезнуть. <…> Естественная смерть дозволяется, как сон или отправление потребностей, но она не должна оставлять следов. Ни в воспоминаниях, ни в пространстве. Нельзя было допустить, чтобы место, где находится тело, можно было локализовать»[965].
В нацистских концентрационных лагерях из гигиенических соображений и из–за одержимости секретностью нормой были крематории: «Завод по уничтожению тел: идея этого сооружения была в том, чтобы оно служило ярким примером „немецкой промышленной эффективности“. При максимальной нагрузке он мог уничтожить 400 тел за десятичасовой день»[966]. Так описано функционирование крематория в Бухенвальде. В 1945 году он стал самым известным лагерем, отчасти благодаря фотографиям Эрика Шваба, Ли Миллера и Маргарет Бурк–Уайт, открывших миру ужасы нацистских лагерей[967]. Тогда говорили «худой, как узник Бухенвальда». Из–за этого именно печь крематория, а не газовая камера, стала воплощением ужаса системы. Не была замечена разница между «диким» истреблением и промышленным уничтожением евреев.
VIII. Промышленное истребление: создание и уничтожение тел
Расистская политика, ясно изложенная в «Mein Kampf», начала реализовываться в 1933 году, но надо было пройти достаточно долгий путь, чтобы от маниакальной юдофобии перейти к уничтожению. Гитлер объяснял весь мир через призму расы и принцип борьбы за выживание высшей расы, арийцев. Любое нарушение ее чистоты, любая смесь или метизация приближали катастрофу. Нацистская биократия функционировала благодаря «позитивным» мерам, которые подталкивали расово чистых людей к размножению — это было сделано в рамках гиммлеровской программы Lebensborn. Однако эта часть программы была гораздо дальше от завершения, чем ее «негативная» составляющая — программа по стерилизации, изоляции, а потом и уничтожению людей, которые могли загрязнить немецкую кровь: «асоциальных» элементов, инвалидов и психически больных, ставших жертвой программы Т4 по «эвтаназии», а также цыган, гомосексуалистов и в первую очередь — евреев. Для последних, считавшихся полной противоположностью расовой чистоты, в качестве меры была выбрана селекция — то есть уничтожение, — основанная на социал–дарвинистских идеалах борьбы за выживание[968]. К этой биологизирующей, сциентистской идеологии, сходной с идеями, которые были характерны для многих западных стран в тот период, добавилось гитлеровское апокалипсическое видение мира, в котором евреи играли роль демона[969]. Евреи, люди без нации, живущие во лжи, желали лишь уничтожения любой нации, любой культуре, и поэтому немецкая нация, самая чистая из всех, была их полной противоположностью. Политические и религиозные аргументы, связанные с культурными и биологическими, легли в основу ненависти к евреям, одновременно паразитам и демонам, дважды нелюдям. Приход Гитлера к власти позволил ему начать состоявшую из нескольких этапов программу, которая не была продумана заранее, но которую оказалось легко оправдать. Немецкое общество в целом легко восприняло идеи Гитлера. На это указывает реакция на первые дискриминационные меры — Нюрнбергские законы 1935 года и даже на Хрустальную ночь 1938‑го: исключенные из общества евреи могли становиться жертвами невероятной жестокости. Неудивительно, что врачи и антропологи стали одними из первых защитников нового режима и его законов: здоровье и чистота немецкого народа были сердцем этой политики, и по сути это была политика радикальной евгеники, которую они к тому времени уже давно защищали.
Создание центров умерщвления евреев в 1941 году опирается на иную логику, нежели их запирание в гетто или в концентрационные лагеря: речь идет уже не о том, чтобы наказывать узников, хотя бы даже смертью, но о том, чтобы подавить, уничтожить их как можно быстрее, в больших количествах, создать максимальное количество тел и пустить в переработку все, что только можно. Это была настоящая война против евреев, где единственной целью была смерть. Открытие Восточного фронта сконцентрировало насилие, которое совершалось прежде, и радикализовало расовую политику остракизма, унижения и умерщвления, зародившуюся в 1933 году, вышедшую на новый уровень в 1939‑м и обращенную в равной степени против «испорченных» немцев, которых травили газом, против поляков, которых депортировали и убивали в огромных количествах, а также против евреев. Эта радикализация позволила перейти к тотальному истреблению на оккупированных европейских территориях.
Был осуществлен переход от «ремесленных» массовых убийств мужчин, а затем и женщин и детей, осуществлявшихся Einsatzgruppen, к газовым камерам на грузовиках, затем к стационарным газовым камерам и концентрированию людей в гетто при помощи пеших переходов или перевозки грузовиками; затем их отправляли поездами за тысячи километров. Был создан промышленный механизм уничтожения, основывавшийся на тщательном планировании — концентрация людей в помещениях, подходящих для умерщвления, химическая формула «Циклона Б», печи крематориев, — и предназначенный для совершения преступлений против человечества. Благодаря утонченной технической платформе жертвы естественного отбора перестали подвергаться сортировке — они начали уничтожаться, была запущена операция промышленной «дезинфекции». Можно было подумать, что речь идет о бациллах, о паразитах. Личные вещи использовались похожим образом — даже тела были превращены в товар. Люди, обладавшие интересными физическими особенностями, — карлики, гиганты, близнецы и т. д. — использовались как лабораторные животные для «медицинских экспериментов», уродовавших тело, перед тем как отправить его основную часть в «общую разработку». Волосы срезались — гигиеническая процедура перед уничтожением в «душевой кабине»; золотые зубы предварительно вырывались. Часть волос использовалась для изготовления париков, а конфискованные протезы — для нужд армии. СС и их сообщники существовали в своего рода альтернативной реальности: люди, которых они убивали и «перерабатывали», больше не были людьми. При этом они старательно выполняли приказы, направленные на достижение по–настоящему «окончательного решения»[970], — стараясь достичь уничтожения, которое подразумевает исчезновение тела и всех его следов.
В 1943 году нацисты заставили узников лагерей эксгумировать тела тысяч людей, убитых в Бабьем Яре в 1941 году. «После долгого нахождения под землей тела оказались спаяны друг с другом, и пришлось их разделять при помощи крюков. <…> Немцы заставили заключенных сжечь тела. Две тысячи тел были погружены на груду поленьев, потом их облили бензином. Гигантские костры полыхали день и ночь. Гитлеровцы приказали растолочь то, что осталось от костей, при помощи больших пестов, смешать это с песком, а затем рассеять по округе»[971]. Неподалеку от Треблинки были обнаружены сельскохозяйственные машины, использовавшиеся для этой цели[972]. Очевидно, что членов Kommandos, занимавшихся эксгумацией, равно как и Sonderkommandos, которые выносили тела из газовых камер, ждала такая же участь, как и других жертв. В лагере, ставшем локусом уничтожения, любые следы также должны были быть уничтожены: ни тел, ни свидетелей, ни архивов.
Главным продуктом двух концентрационных систем, их итоговым результатом, были тела. Нацисты с их газовыми камерами и крематориями довели этот процесс до совершенства. В концентрационных лагерях к моменту прихода освободителей остались горы несожженных трупов, лежавших, как брошенные вещи. В лагерях смерти, напротив, все тела–объекты исчезли, однако остались огромные кучи пепла, как в Майданеке, обувь, чемоданы, талесы, детская одежда, волосы и золотые зубы, которые еще не успели переплавить. Они выдали тайну, как и общие могилы, которые десятки лет спустя все еще продолжают находить в тех местах, где располагался архипелаг ГУЛАГ и где властвовали нацисты. Что же касается выживших, которых С. Аарон более точно назвал «под–жившими»[973], то они представляют собой отпечатки, которые смерть должна была стереть, шрамы века лагерей: «Опыт, который мы пережили, нестираем. Он отметил нас до конца наших дней. Мы сохранили его шрамы, не всегда заметные. Мы ни целые, ни невредимые…»[974]
ЧАСТЬ ПЯТАЯ ВЗГЛЯД И ЗРЕЛИЩА
ГЛАВА I Стадионы. Спортивное зрелище: от трибун к экранам
Жор Вигарелло
Зрелищность не играла ключевой роли в раннем спорте. Долгое время пространство стадиона остается случайным, выбранным по обстоятельствам, загроможденным деревьями или какими–нибудь приспособлениями, не имеющим точно обозначенных границ. Все же порядок устанавливается начиная с 1900‑х годов: геометрически выверенное расположение, шаблонные трибуны, прочные материалы. Ограда и расчет направляют взгляд. Вывески и церемонии облагораживают место. С приходом XX века распространяется унифицированная форма широкого массивного кольца. Стиль утверждается и там, где празднество смешивается со старыми моральными проповедями.
Что нужно, чтобы спорт нашел свою эпоху? Мобильность пространства, свободное время. То, что постепенно устанавливается индустриальным обществом. Также необходимо, чтобы приносимая выгода увеличивала приток публики. Рынок зрелищ и развлечений позволяет постепенно все это закрепить. Все указывает на соответствие сцены и ее экономического, политического, социального окружения: календарь праздников в новой секуляризованной модели времени, спортивный чемпион в новой демократической модели достижений, обнародованный результат в новом типе идентификации. Спорт с его явной валоризацией здоровья, с его возбуждением и прославлением прогресса, становится одним из главных зрелищ XX века. После 1950 года телевизор и монитор расширяют доступ к спорту, доступ все более привлекательный и разнообразный, окончательно придавший спортивной сцене планетарный размах, значение тотального зрелища. Все указывает на прогрессивный рост и на неотразимую привлекательность: манера рассказывать об исключительных случаях и особенно манера делать из идеала наиболее наглядный и конкретный предмет.
Нужно подчеркнуть и теневую сторону этого зрелища: финансовые махинации, отказ от санитарных норм, открытое и скрытое насилие. Разве игра с излишествами не рискованна? Коротко говоря, «угроза» неотделима от замысла.
I. Спортивные толпы
Толпа появляется лишь в 1870‑е — 1880‑е годы во Франции, когда образуются первые клубы. Пока еще нет идеи «большого» сборища, нет идеи массового участия, которое делает необходимым жесткое разделение на тех, кто смотрит, и тех, кто играет. Во время первой встречи между английскими и французскими школьниками в Булонском лесу 8 марта 1890 года зрители практически смешивались с игроками: несколько десятков мужчин в цилиндрах, к которым присоединились две или три женщины[975]. Зрителей было трудно отличить и от бегунов, метателей, прыгунов на площадке для легкоатлетов в Тюильри в 1891 году: это были несколько мужчин, которые, казалось, просто отвлеклись от прогулки, представляя собой «весьма изящную картину, достойную античной арены»[976].
1. Моральное ожидание
Дело в том, что первые спортивные площадки не предназначались для большого количества посетителей. К тому же моралисты от спорта еще осуждают зрелище, частично противоречащее их замыслу. Если спортсмена будут слишком «обожать», он скорее испортится, чем повысит свой уровень, и его будут скорее использовать, нежели уважать. Довольно резкое суждение, ведь в XX веке толпы захватят стадионы, что приведет к настоящим архитектурным революциям и, несомненно, к пересмотру всего спортивного дискурса. Зрелище завладеет спортом практически вопреки ему.
Все же Кубертен мало говорит о зрителях на тысячах страниц, которые он посвятил физическим практикам. Тем не менее идеи его ясны. Зрелище его беспокоит: представление «освящает фигуру спортсмена»[977], в то же время оно его «отвлекает», оно его оправдывает и в то же время обманывает. Оно заставляет действовать ради изменчивых целей, видимости, самомнения, тогда как спортсмен должен работать ради идеала: морального примера и бескорыстия. Иными словами, зрелище оказывается двусмысленным: значительным и обманчивым, чарующим и подозрительным. Толпа тоже беспокоит барона из–за неосознанной, но как бы самоочевидной точки зрения, противопоставляющей элиту народу, избранное — массовому. Толпа — это кишащее множество. Она — непредсказуемая страсть, спутанный сгусток, обратная сторона индивидуалистической исключительности, которую ставит на первое место «соревновательная» буржуазия конца XIX века[978]. В индустриальном обществе толпа, овладевающая городским развлекательным пространством, оказывается просто «уродливой»[979]. Отсюда следует недоверие к слишком вместительным трибунам, тревога перед толпой, отказ от спортивных помещений, наводненных человеческими массами: «Вы можете как угодно украшать трибуны или располагать их в самом приятном окружении, но стоит им наполниться, почти всегда они будут являть собой отвратительную массу»[980].
Конечно, проблема несколько сложнее. Первые Олимпийские игры — это также пример церемонии, цель которой — приумножение энтузиазма и восхищения: «возвращение к факелам вокруг площади Конституции» в Афинах в 1896 году, фанфары, флаги всех иностранных государств, «пробуждающие приветственные возгласы»[981]. После 1910‑х годов в специальную брошюру «Revue olympique» включают подробный раздел «Оформление, пиротехника, оркестры, шествия»[982]. Читатель узнает, как расположить флаги, гирлянды, трофеи, заставить держаться орифламмы, несмотря на капризы ветра, ориентировать трибуны и галереи, управлять перемещением людей или согласовать гармонию звуков оркестра. Кубертен хочет наставлять. Он хочет преобразовать спорт в пример. Он хочет привлекать, завораживать, что не всегда сочетается с элитарностью, на которую он претендует.
2. Стадионы и толпы
Как бы то ни было, с первых десятилетий XX века зрелищность берет верх. Масса зрителей неумолимо растет. Это можно увидеть на простой подборке изображений того времени. Например, «чемпионат мира по теннису» в Сен–Клу в 1913 году происходил перед импровизированными трибунами в несколько рядов зрителей. Тот же чемпионат в 1921 году окаймлен крепко сделанными трибунами, плотно расположенными вокруг корта: здесь более двадцати рядов зрителей. А турнир Кубка Дэвиса на стадионе «Ролан Гаррос» в 1932 году происходил перед панорамными, наращенными трибунами с «десятью тысячами трепещущих зрителей»[983].
Тем не менее после периода колебаний спорт постепенно систематизируется и регламентируется. На Олимпийских играх 1900 года в Париже еще можно увидеть деревья в центре стадиона, совмещение природного и искусственного. Стадион Игр 1908 года в Лондоне открыт для общего обзора, но все–таки смешивает различные зрелища. Это «многоступенчатый» стадион: гаревая дорожка, окружающий ее велодром и обложенный камнем и деревом бассейн для заплывов и прыжков в воду, вырытый посреди зеленого поля. Организаторы гордились тем, что после церемонии открытия состязания происходили одновременно на трех разных участках: гимнасты перемещались по зеленому полю, чтобы подчеркнуть богатство и всеобъемлемость спорта. «Никогда еще мы не были свидетелями подобной синхронности физических упражнений; однообразию не было места на этом великом празднике мускульной культуры»[984]. Желание ослепить зрителя еще принимается как оправдание зрелища.
Несмотря на это, в последующие годы взгляд фокусируется. Это очевидным образом касается наиболее популярных игр с мячом и стадионов, порожденных ими в 1920‑е годы. Обустройство совершенствуется, задача упрощается. Единственная дорожка окаймляет зеленое поле, предназначенное для отдельных видов спорта. Здесь уже приемлем один вид спортивного занятия, предназначенный для все более многочисленных взглядов. Журнал L’Illustration обращает внимание на зрителей, столпившихся на матче регби Франция — Англия 11 апреля 1925 года, играя на образах муравейника и усердия: «Больше всего привлекают зрители. Они снова и снова приходят группами, порциями… масса одновременно сплоченная и готовая рассыпаться, мрачный и живой ковер, брошенный на ширь трибун»[985].
Стадион «Коломб», построенный для Олимпийских игр 1924 года, был первым во Франции примером сочетания массовой доступности и утонченного взгляда, «один из самых просторных и оборудованных в мире», с трибунами, рисующими «параболический контур»[986], с «20 000 сидячих мест и 40 000 точек обзора». Здание построено на периферии города для извлечения больших выгод из пространства, расположено близко к транспортной сети для доступности, эстетически оформлено для придания большего значения месту. Парижские путеводители настаивают на успехе и новизне проекта и советуют посетить стадион читателям двадцатых годов[987].
3. Возбуждение
Необходимо задержаться на возникающем спортивном возбуждении, каким бы элементарным оно ни казалось: напряженность столкновения, трепет неуверенности, стремление к рекорду, к исключительному, мощное чувство прогресса, происходящее из достижений и подвигов. Все это уже в конце XIX века приблизил интерес к «феноменальным личностям»: «их необыкновенные результаты составляют одну из самых любопытных отраслей физиологии человека»[988]. Спорт соотносится с представлением о развитии и достижениях. Еще вернее он соотносится с тем предельным, тем «больше», которое всегда опережает, со «стремлением к чрезмерному», в котором Пьер де Кубертен распознает «поэзию и благородство»[989]. Вот что представляют собой актеры, работающие на усиление зрелищности и вовлеченности: «Я сам оказался так сильно измотан во время лодочной гонки, что сплевывал желчь и с трудом мог подняться с лодки. Но через четверть часа я снова был на ногах и выигрывал новую гонку…»[990]
Для зрителя к этому добавляется физическое удовольствие, вызванное непринужденностью наблюдаемых тел, скоростью или силой снарядов, неожиданностью или дистанцией отрыва. Пространства сталкиваются, свойства множатся. В повседневном кругозоре образуется горизонт больших расстояний и представления о других странах. Особенно благодаря машинам, например, с иллюстраций в La Vie au grand air, главном спортивном журнале с 1898 года. В это же время разрабатывается идея путешествий и отпусков. Итальянский туристический клуб с 1897 года издает свои путеводители[991], Адольф Жоанн заканчивает серию «Места и памятники Франции». Инсценировка спорта, пересекая свойства и местности, бросает вызов воображению.
Спортивные «толпы» вместе с веком незаметно приводятся в движение новыми принципами коммуникации и интернационализации. Они означают необратимый конец провинциализма: единые нормы, далекие связи и ускорение. Спорт воплощает быстрый рост человеческих передвижений, который инициировался международными выставками и научными конгрессами второй половины XIX века. «Великие изобретения, железная дорога и телеграф, сократили расстояния, и люди стали жить по–новому»[992] — замечают изобретатели первых современных Олимпийских игр. В то же время спорт воплощает постепенный доступ к свободному времени, которое делает соблазнительным спортивный туризм, остроактуальный с 1920‑х годов[993].
4. Идентификация
Это возбуждение не стало бы самоочевидным без дополнительной социальнопсихологической основы, особой активности, которая усилила его импульс, — речь идет об идентификации с действующими лицами. Так, например, греческий победитель марафона на афинских Олимпийских играх 1896 года оказывается окружен заботой нации: «одна дама снимает свои часы и отправляет их в качестве подарка молодому герою дня; патриотичный ресторатор подписал для него талон на 365 обедов»[994]. Матч по регби между Францией и Германией 14 октября 1900 года на парижских Олимпийских играх — это также несравнимое до тех пор вложение капитала, тем более при 3500 зрителях: «чрезмерная» восприимчивость публики, «сжавшиеся сердца»[995] игроков, неявные ссоры, способные разгореться при первом случае. Такой эффект имеет смысл: знак групповой оценки, множественных сил и средств, приоритет санитарнотехнического обслуживания. Форма утверждения власти и прогресса. То, что заставит прессу впредь подсчитывать национальные победы, начиная с первых олимпийских мероприятий.
Поскольку зрелища этого времени быстро приобретают предполагаемую манеру исполнения, эта сторона отождествления с действующим лицом направляет и определяет возбуждение даже сильнее, чем в играх, бытовавших при Старом порядке[996]. Она придает ему глубину и четкость. Она утверждает легитимность спорта и ее постепенное продвижение в обществе. Прежде всего, она производит «героев»: особых существ, одновременно близких и далеких, недоступных и родных. Вот одна из новинок: La Vie au grand air с начала века публикует «галерею знаменитых спортсменов»[997]. Знаменитости занимали всю страницу, изображались в цвете, восхвалялись в сопутствующих текстах. Спортивное сообщество создавало себе образцы для подражания. «Нужны герои»[998], — настаивает создатель «Тур де Франс» с 1903 года, творя поэзию из воображаемых пружин всякого зрелища: это реальное или потенциальное создание «легенды», построение мифического пространства. Вот пример такой «рекламы» первого победителя гонок, Гарена: «Я навсегда сохранил восхищение к Морису Гарену, оно было сродни тому чувству, что я питал в детстве к героям легенд»[999].
Еще одно парадоксальное, но решающее свойство проявляется в этих персонажах. «Чемпион», даже будучи выдающимся, остается настоящим, и даже очевидно чрезмерное испытание является «гуманным, спортивным, уравнивающим»[1000]. Ничего, кроме роста как показателя демократического общества. При пересечении заснеженного перевала Обиск на «Тур де Франс» 1910 года Октав Лапиз выражает это в характерной манере. Закатив глаза, но оставаясь впереди соперников, изнуренный спортсмен толкает велосипед рукой и кричит Брейеру, ведущему пробега: «Вы убийцы!»[1001] Разве герой не остается таким же «человеком», как остальные?
В таком случае «пропаганда» чемпиона прозрачна, она выявляет только личные качества, непередаваемые и не унаследованные. Победитель одновременно близок и недоступен, равен тебе и неравен. И как следствие рождается весьма специфическое увлечение, безмерная общественная мечта отождествления с этим особым существом. «Тур де Франс» как вид спорта мог бы дать возможность лучше осмыслить противоречие демократических сообществ. Он стирает конфликт между равенством в принципе и фактическим неравенством[1002], между «желательным» равенством и «реальным», более прозаическим. Этого не удается достигнуть в нашем повседневном мире. Спорт помогает верить, он позволяет мечтать о неком социальном совершенстве, без оглядки на неявные соглашения и покровительство. Спорт делает видимой возможность завоевать это совершенство, рассчитывая только на себя одного.
Говорит ли это об исчезновении традиционных культур? Говорит ли это об исчезновении религиозных убеждений? Говорит ли это об угасании героев старых локальных сообществ? Как бы то ни было, в конце XIX века спорт вырабатывает систему совершенно новых представлений, репертуар действий и символов, в которых отражается (то есть с которыми идентифицирует себя) коллективное воображение. Это построение связано с демократиями и индустриальными обществами.
5. Рассказывать
В таком случае спортивный нарратив получает новую глубину. Он отвергает логику равенства на самых различных уровнях, меняя обстоятельства и события. Это усиливает идентификацию. Благодаря этому появляется новая пресса, комментирующая состязания, а не только результаты. Издания Le Vélo, Tous les sports, La Vie au grand air разрабатывают свои способы высказываться и рассказывать об игре. Страница спортивной прессы начала века становится блоком последовательных эпизодов. Например, подъем «по отвесному склону» во время «Cross–country National» 1904 года, неожиданная слабость некоторых фаворитов, незаметное опережение Рагено[1003] перед его победой в этом кроссе или злополучная авария Нотье перед самым финишем на гонках моторных лодок в Монако[1004] в том же году. К новой организации игр в свою очередь присоединяется новое искусство провозглашать и героизировать.
«Литературная» специфика репортажей определяется тем, что они имитируют драматическую постановку. Иногда они делают это со всеми деталями. Например, первый этап «Тур де Франс» 1904 года, Париж — Лион, происходил без заметных происшествий, но Дегранж в своем тексте замечает неполадки, пишет об ускорении и скрытых трудностях. Гарен, первый победитель гонки в 1903 году, фаворит 1904 года, встречает отпор и реакцию: «Настоящая свора постоянно нападала на него по ночам: его прощупывали, искали его слабости»[1005]. Реальных или гипотетических ситуаций хватало. Статья направляет восхищение и порой закрепляет его. Именно она учреждает «подвиг». Гарен в этом лионском приключении становится исключительным существом: «невзрачный итальянский трубочист», получивший французское гражданство, победитель 1903 года именуется «великолепным бойцовым зверем», «дорожным Гераклом», «гигантом».
С помощью разнообразных речевых фигур «лучший» укрепляется в своем триумфе, соперник тоже оказывается способен проявить себя, — иногда все внимание сосредотачивается на самом слабом, и только личное достоинство позволяет преодолеть пустынные перевалы. Образы сочетаются между собой, противостоят друг другу, множатся, чтобы разнообразить развитие драмы и удовольствие от зрелищ. Хвалебный тон необходим еще больше, когда он стремится соблазнять. Чтобы иметь успех, пресса должна возвеличивать. Как подчеркивает Жан Кальве в одной очень хорошей книге, все делалось для того, чтобы гонка «стала народной эпопеей и породила миф»[1006].
6. Мораль и деньги
Нужно ли говорить, что в механизм героизации могут впутываться финансовые интересы и все, что с ними связанно? Спортивная пресса завоевывает публику. Это происходит тем вернее, что в случае с велоспортом пресса способна рассказать то, чего зрители вдоль дороги увидеть не могут: неясные эпизоды, трагические происшествия, течение событий. Еще лучше, если она сама организует гонку. Это понял Le Petit Journal, с 1869 года устраивавший гонку Париж — Руан. Но лучше всех это осознал Анри Дегранж, создавший в 1903 году «Тур де Франс». Замысел ясен: директор L’Auto, бывший служащий нотариальной конторы и рекордсмен по часовым заездам на велосипеде, предлагает «грандиозное» соревнование просто для того, чтобы увеличить продажи газеты и одолеть своего конкурента, газету Le Vélo. Суровость и продолжительность (2460 км) этой первой многодневной гонки были призваны поразить воображение. Попытка удалась. Состязание очаровало публику, тираж газеты вырос в три раза за несколько дней (с 20 000 до более чем 60 000 экземпляров), a Le Vélo потеряла своих читателей. Успех был усилен рекламной кампанией, а выросший спрос укрепил ценность газетных афиш.
Как видим, «Тур де Франс» предполагает предзаданную «прогрессивность», рекламную практику индустриализированных предприятий. В изобретении физических соревнований их вовлеченность в законы рынка предшествует их моральному и педагогическому характеру. Но нужно еще раз повторить, что этот финансовый подъем предполагает ускорение коммуникаций и едва ли не мгновенное поступление сведений. «Франция» в словосочетании «Тур де Франс» означает «устранение преград» в современном мире[1007].
Профессиональная мораль, связывающая победу с ее стоимостью, очень быстро сталкивается с противодействием дилетантского взгляда, связывающего победу с общедоступностью. Конфликт тем более горячий, что любительский спорт сумел отстоять свое право на некоторое «благородство». Великие глашатаи спорта конца XIX века пришли к строгим принципам. Накачивать мышцы ради денег, значит превратиться в раба, значит, если потребуется, согласиться на «предательство», стать зависимым от того, кто платит, а не от самого себя. Этому посвящаются многочисленные презрительные образы: ипподром, античный цирк; под ярким пером Пьера де Кубертена профессиональный атлет становится «похож на ценную скаковую лошадь»[1008] или на какого–то «несчастного гладиатора»[1009]. Тело профессионального спортсмена — это наемное тело, оно себе не принадлежит. Мы видим, как этим первым опытам сложно соединить «подлинный» культ тела и деньги, «подлинную» покупку силы и профессионализацию. Эти соревнования времен начала спортивного зрелища еще малопонятны; пока они не контролируются полностью, поэтому производят извращенное впечатление.
Мы все чаще видим, как желание обосновать практику моралью, которая бы составляла ее сущность, неизбежно приводит к догматизму. Что подтверждают различные «хартии любительского спорта», которые с начала XX века постоянно издаются и пересматриваются в Revue olympique. Требуется, чтобы «все без исключения виды спорта тяготели к чисто любительскому спорту, не содержащему в себе не свойственного спорту намерения узаконить призы в виде денежных средств»[1010].
К тому же спортивная организация чувствует необходимость регламентирования, как только провозглашает себя «символом нравственности». Ей нужно подтвердить свою «безупречность» уточнением запретов, отчетливо очертить собственное пространство, возвысить его ценность, разделить благородных и отверженных, чистых и нечистых. Она должна установить границы. В частности, в рамках олимпийского движения такую роль долгое время играла граница между любительским и профессиональным спортом.
Несомненно, это подвижная граница, ведь профессионалы в той же степени претендовали на мораль. Разве Анри Дегранж не стремится создать из своих профессиональных гонщиков «нерушимый спортивный батальон»?[1011] В этом пантеоне присутствует Гарен, первый победитель, а также все, кого захочет видеть такими директор гонки, спортсмены, считающиеся «исключительными»: Окутюрье и его «дыхание как кузнечные меха»[1012], «старый галл» Кристоф, Фабер — «гигант из Коломба», а Поттье, быстрее всех поднявшийся на гору Баллон д’Альзас в 1906 году, был увековечен на обелиске, который два года спустя по заказу Дегранжа был сооружен на вершине склона. Толпа очень быстро обеспечивает повальный спрос. Например, в 1914 году марсельский стадион–велодром был переполнен до такой степени, что двери закрывали за два часа до прибытия гонщиков.
Впрочем, героизация не зависит от конфликта между любителями и профессионалами. Мимоходом особенность этого конфликта показывает тот факт, что действующим лицам нужно скорее демонстрировать «безупречность», чем совершенствовать принцип игры. Спор предполагает набивание себе цены, соперничество вокруг идеала, вкус к «инквизиторскому бумагомарательству»[1013], которое останавливается на частностях вроде семейных обстоятельств. Ничто так не мобилизует зрителя, который гораздо сильнее привязан к соревновательному механизму, чем к «деталям тренировки»[1014]. Это подтверждает и Пьер де Кубертен, подчеркивая необходимую терпимость к «духу профессионализма»[1015]. Зрелище переносит свойственные ему неуверенность и агрессивное равенство на более сложный образ подготовки и цены этого зрелища.
II. Энтузиазм и миф
Возникновение свободного времени, распространение прессы, разнообразие информации дают этому зрелищу определяющий вес в эпоху между двумя войнами. Образы, которые оно порождает, выигрывают в насыщенности. Идентификации, которые оно размножает, выигрывают в размахе. Как никогда ранее, спортивные герои играют с национальными противостояниями и коллективными инвестициями. Они играют на великих политических изломах, с тоталитарными системами, с неясными ценностями, где пропаганда и цинизм могут сосуществовать. Еще один «успех» — но не развращает ли он?
Открытость чемпиона для взоров публики становится, как никогда, символом нации, вставшей на путь силы и здоровья.
1. «Мощность» героя
Проникновение спорта в социальную ткань делает эти образы ярче. Например, Жорж Карпантье был одним из первых воплощений «символа» в боксе. Его бой с Джеком Демпси в 1921 году недвусмысленно представляет национальные ценности, преодолевающие «страсти ринга»[1016], что раньше едва ли могло иметь место. Несомненно, Франция противостоит Америке, но это Франция Вердена, Франция, которая хочет верить в возможность единения буржуазного и крестьянского образа жизни, против Америки денег и технологий. Американцы сделали из Демпси символ современности, французы сделали из Карпантье символ проницательности, обновленной традиции. Карпантье слыл «интеллектуалом от спорта»[1017], по словам Le Temps, «аналитиком, управляющим своими рефлексами», тогда как Демпси изображали человеком резким, неразборчивым и невнимательным. Вся тревога старой Европы перед лицом Нового Света дала о себе знать в защите этого долговязого породистого боксера. Это был способ присовокупить к спорту национальную риторику, изобрести логику столкновения. Так выражается привязанность к спортсмену: Карпантье, превращенный в символ, — это Франция, которая пытается посмотреть людям в глаза, очертить контуры своего будущего перед лицом восходящей силы. Продвигаемый таким образом герой представляет собой более богатую и завершенную форму[1018], чем первые «спортивные звезды», запечатленные в 1900 году в La Vie au grand air[1019].
По–своему это подтверждает публика, толпившаяся на парижских бульварах вечером 2 июля 1921 года в ожидании результата битвы Карпантье в Нью–Джерси. Она также свидетельствует о новом статусе «мгновенной» информации. «Огни» разных цветов должны были сообщить результат боя после его передачи через «волны» радиожурнала Sporting в доме 16 по бульвару Монмартр. Кафе и рестораны приобретали абонементы телеграфных агентств, чтобы информировать своих клиентов. Театры и кинозалы тоже обещали объявлять результаты[1020]. Спорт и информационное общество начинали свое решительное слияние.
Аппаратура распространяла информацию. Деньги укрепляли Олимп. Необходимо остановиться на этой динамике. Андре Ледюк, великодушный улыбающийся чемпион, символ «французского чувства юмора», победитель «Тур де Франс» 1932 года, содействует продаже 700 000 экземпляров[1021] газеты L’Auto, организатора состязания. Сюзанн Ленглен и Рене Лакост, победители Уимблдонского турнира 1925 года в одиночном разряде, воплощают, наконец, то, чего все так давно ждали. Они не только прерывают традицию английских побед, но и демонстрируют изысканность, деликатность, позволяющую оспорить принятое всеми в 1920‑е годы противостояние индустриальной Англии и сельской Франции. Они изменяют устоявшийся образ, воплощают коллективный реванш. Сюзанн Ленглен добавляет к этому символ новой женщины, участвующей в публичной жизни. Она несравненна по своей расточительности в деятельных и привлекательных поступках, в своей свободной и уверенной подвижности. Отсюда гордость французской прессы, а «сами англичане не называют юную чемпионку иначе, как „великолепная Ленглен”, и тиражируют ее всевозможные изображения»[1022].
2. Политические ставки
Став повсеместно зримым, спорт делается также все более «желанным» для «творцов» общественного мнения — как основание, притягивающее информационные сигналы и агитацию, как среда, тем сильнее концентрирующая все вокруг себя, чем шире она распространяется. Вот откуда эта подверженность политическому влиянию. Вот откуда эта возрастающая разнородная эксплуатация, вот откуда вторжения власти, которым не всегда в состоянии сопротивляться спортивный принцип аполитичности. Возникновение крупных соревнований — это признак не только нового удовольствия от зрелища, но и очень четкой цели, по поводу которой Моррас на афинских Играх 1900 года высказал смутную уверенность: «Я вижу, что этот интернационализм не убьет партии, но укрепит их»[1023]. Здесь задействованы глубинные общественные ценности. Больше, чем когда–либо, они проявятся в условиях тоталитарных режимов 1930‑х годов.
Жесты и ритуалы берлинских Игр 1936 года — экстремальный пример. Спортивный орган Рейха, Reichssportblatt, так и заявляет в 1935 году: «Вместе с этими играми к нам в руки попало бесценное средство пропаганды»[1024]. Немецкие команды почти полностью профессиональны, чтобы гарантировать национальные победы и показать коллективные ресурсы во плоти и крови[1025]. Организация игр носит почти военный характер, чтобы лучше показать уникальную мобилизационную способность. Все в этих играх напоминает о порядке: организация толпы, повсеместное присутствие официальных лиц, непрерывно повторяющиеся официальные формулы. Здесь все — символ: униформа и значки, флаги и свастики. Каждый момент спортивной церемонии связан с политическим знаком. Каждая олимпийская отсылка заглушается нацистской[1026]. Вот один из многих примеров: нацистский гимн «Horst Wessel Lied» исполнялся на стадионах 480 раз, немецкий гимн — 33 раза.
За два года до этого чемпионат мира по футболу в Италии уже показал возможный размах политизации. Итальянская команда выходила на поле с фашистским приветствием, салютующий игрок был изображен на афише, немецкие игроки и официальные лица носили форму с символикой Рейха. Вездесущий дуче множил приказы и заявления, а президент Международной федерации футбола Жюль Риме несколько недель спустя не скрывал раздражения: «В течение этого чемпионата мира у меня было такое впечатление, что настоящим президентом Международной федерации футбола был Муссолини»[1027]. Впрочем, что может быть прозрачнее заявления руководителей итальянского футбола в 1934 году: «Конечная цель мероприятия заключается в том, чтобы показать, что такое фашистский идеал»[1028].
Политизация проявлялась и в попытках создать игры, параллельные берлинским, расцениваемым как фашистская угроза. Такие игры были организованы в Барселоне в 1936 году Каталонским комитетом содействия народному спорту. Игры были запланированы на 18 июля, но военный путч в испанском Марокко 17 июля сделал эти планы неосуществимыми[1029]. Проведение берлинских игр стало в конце концов неизбежно, хотя Олимпийская хартия категорически исключала «любую форму дискриминации в отношении страны или лица расового, религиозного, политического характера или по признаку пола»[1030]. Странная и мрачная прелесть спорта…
3. Праздники
Однако помимо идентификации с группой, с нацией, помимо открытой политической эксплуатации, спортивное зрелище остается, и даже в большей степени, чем раньше, праздником, коллективным наслаждением, смесью отдыха, возбуждения и рынка. Уникальность момента создает его обычаи. Включенность в общество развлечений с его рекламными кампаниями, буйством образов, заново изобретенными игровыми практиками — это главная причина сегодняшнего группового энтузиазма.
Лучший пример — караван «Тур де Франс», превращенный в соревнование в начале 1930‑х годов. Портреты из папье–маше, цветные афиши, передвижные оркестры, бесплатные раздачи сувениров. Например, в караване 1930 года грузовик шоколадной марки Менье, ехавший впереди гонки, распространил 500 000 бумажных шляп с логотипом компании. Торговые агенты оставили на дорогах множество тонн плиточного шоколада. Они останавливались на вершинах холмов и раздавали горячий шоколад зрителям и гонщикам[1031]. Караван неизбежно подчеркивал праздничную сторону «Тур де Франс»[1032]. И репортажи также могли отходить от героических интонаций, обыгрывать развлекательные сюжеты, позволить себе редчайшие до тех пор чувственные примеры: «Нахожусь у Гароннет, перед очень многочисленной группой привлекательных купальщиц, раздетых сильнее, чем в прошлом году, в следующем году, наверное, они разденутся еще больше»[1033]. Здесь моральные аллюзии уступают место воспоминаниям о совместном удовольствии.
Другое праздничное мероприятие, шестидневные велогонки, собирало 15 000 зрителей в начале 1930‑х годов. L’Illustration выделяет среди них «одержимых» и «светских». Первые берут отпуск, чтобы присутствовать там круглосуточно, «хлеб, колбасу и вино несут с собой»[1034], орущие и возбужденные, они беспрестанно комментируют неожиданные случаи и происшествия. Вторые приходят только вечером, просто чтобы взглянуть, — это дилетанты и щеголи: «Хорошим тоном считается приходить поздно вечером даже после театра; любители поужинать садятся за стол; шампанское льется рекой…»[1035]. Место для встреч и наблюдений, а также смесь групп и партий — спорт хорошо встроился в социальный пейзаж[1036].
4. Образы и звуки
Одно из свидетельств такого движения — значение образов и звуков, их растущее присутствие в распространении ежедневных новостей. Например, благодаря кинокамерам, которые появляются на стадионах с 1930‑х годах, гонки и матчи теперь существуют в кинохронике. Камеры водружают на автомобили во время «Тур де Франс», устанавливают на вышках трибун стадионов, крепят на финише кроссов, гонок и регат. Они дают жизнь тому, что до сих пор могло быть передано только на фотографии или в рассказе.
В этих первых опытах радио идет еще дальше. Оно производит эффект одновременности, создавая прямую связь между слушателем и «настоящим» состязанием. Американцы первыми провели эксперимент в этой области, транслируя бой между Джеком Демпси и Жоржем Карпантье 2 июля 1921 года: радио передавало звуки толпы, крики, шумы и комментарии на весь континент[1037]. Тем не менее этому виду репортажа все еще не хватает гибкости: сложно варьировать места, сложно воспроизводить запись. С «Тур де Франс» те же проблемы. В 1929 году, во время первой радиотрансляции, репортаж ограничивался лишь определенными моментами и не записывался. Однако все очень быстро изменилось. Интервью с гонщиками на финише «Тур де Франс» 1930‑х, записанные с помощью громоздкого радиооборудования, знаменуют бурное развитие радиовещания. Прорыв происходит в 1932 году, когда Жан Антуан и Алекс Виро транслируют репортаж, записанный на крутых перевалах, и оживляют этим репортажем интервью с участниками на финише[1038].
Это стало возможным благодаря изобретению целлулоидных дисков, которые можно воспроизводить сразу после записи. Вечерняя передача соединяет свидетельства, собранные «по горячим следам», с последующими комментариями. У слушателя появляется чувство, будто он попал в самый центр гонки, будто бы он различает ее голоса и шумы. Звук позволил спорту существовать иначе.
III. Деньги и ставки, очарование экрана
Грандиозную перемену приносит появление телевидения. Передающийся в прямом эфире, приходящий прямо домой к зрителю образ превращает спортивное столкновение в обычное явление. Экран едва ли не уравнивает спортивные и медийные образы, систематически отдавая предпочтение внешности и видимости. Он играет с шоу, современной постановкой зрелища, вплоть до видоизменения самой спортивной практики, внедрения в нее своих порядков и норм. Он заигрывает с «возбуждающим» элементом, чтобы лучше его продать, преобразовать образ для рынка, как это делала спортивная пресса с конца XIX века. Все это постепенно приводит к тому, что обстановка игр и ритуалы создаются заново. Раньше они имели национальный характер и должны были выражать «локальные» соглашения. Теперь они носят характер международный и претендуют на некое «глобальное» единодушие: планета объединяет здоровые тела в бесконечном сне о прогрессе.
1. Очарование и интересы
Сначала нужно оценить значимость этого спортивного образа, подчеркнуть ее постоянный рост. Французское телевидение уделило спорту 232 часа в 1968 году, 11 000 часов в 1992 году и 33 000 часов в 1999 году[1039]. Это по–своему подтверждается авторитетом профессионального футбола, который привлек 10 миллионов зрителей и 100 миллионов телезрителей в 2004 году[1040]. Необходимо также оценить рынок этого образа. Старый принцип, при котором пресса финансировала соревнования, чтобы извлечь коммерческую выгоду, или более поздний, при котором разного рода меценаты пытаются расширить свое влияние, к последним десятилетиям XX века заменяется использованием образа в этих целях телеканалами. Спортивная передача притягивает прибыль. Организатор берет деньги с телеканала, телеканал заставляет платить рекламодателя, извлекающего выгоду из образа, а образ умножает возможности других спонсоров. Переплетение интересов создает целую систему.
Логика рынка ускорила этот рост до безумия[1041]. В 1974 году ORTF (Управление французского радиовещания и телевидения) вложило во французский футбол 500 000 франков; в 1984‑м TF1, А2 и FR3 потратили 5 миллионов франков; в 1990 году французские телеканалы вложили 230 миллионов[1042]. А в 2000 году Canal+ и спутниковое телевидение (TPS) вложили 8,7 миллиарда франков на следующие пять лет[1043]. За несколько лет цифры изменились кардинально. Такие же мощные инвестиции и у иностранных каналов: «Американский канал NBC потратил 1,67 миллиарда долларов за восемь лет на трансляцию Игр в Сеуле (1988), Барселоне (1992) и Атланте (1996)»[1044]. Цены на эксклюзивное право трансляции Олимпийских игр для всех стран изменились с 34 862 долларов в 1976 году до 1332 миллионов долларов в 2000 году (Сидней) — из которых 54 миллиона для французских каналов, — 1498 миллионов долларов в 2004‑м (Афины), 1715 миллионов долларов в 2008‑м (Пекин)[1045]. Аналогично права на Чемпионат мира по футболу выросли на 1075% между 1992 и 2002 годами[1046].
Все это в большинстве случаев делает телевидение первым источником финансирования спорта[1047]. Например, право на трансляцию составляло 1% выручки для футбола в 1980 году, сегодня оно составляет 30%, то есть далеко опережает спонсоров (13,6%), публику (13,2%) и местные администрации (7,9%)[1048]. Цифры подчеркивают роль инвестиций в трансляцию. Страх «опустошения стадионов»[1049] вместе с распространением образов быстро обнаружил свою необоснованность. Посещаемость стадионов выросла на 30% за пятнадцать лет, а трансляции увеличились в десятки раз[1050]. Иными словами, будущее больших клубов зависит от права на трансляцию, оставляя государственную поддержку каким–нибудь громоздким динозаврам.
Инвестиции спонсоров — следующий пункт в нашем списке. Одна только программа TOP III позволила Международному олимпийскому комитету собрать 600 миллионов долларов между 1993 и 1996 годами. Десять участников, составляющих элиту этой программы (в частности, IBM, Kodak, Visa, Matsushita, Xerox и Coca–Cola), потратили по 40 миллионов долларов за входной билет, чтобы стать привилегированными спонсорами олимпийского мира[1051]. Местные инвестиции скромнее, но они также характерны, также сильно связаны с общественным спросом и теми феноменами идентификации, которые порождает спорт. Например, Лимож, где недавно из–за серьезных ошибок руководства возникли проблемы с местным баскетбольным клубом, без больших затруднений находит спонсоров, способных спасти клуб. «Если баскетбол споткнется, — говорит один из них, — то весь город будет нетвердо стоять на ногах, это очень серьезный удар по нашему самоощущению»[1052]. Отсюда вывод Жана–Пьера Каракилло, основателя Центра права и экономики спорта при университете Лиможа: «Самый мощный посредник коммуникации — это спорт. Вложить деньги в баскетбол — это форма спонсорства, открытая для каждого. Сколько это стоит? Вернее было бы задаться другим вопросом: сколько это приносит?»[1053] Тот же вывод подходит для лионской футбольной команды, умножавшей титулы в начале 2000‑х. «Лионский олимпиец — это незаменимый носитель престижа»[1054], — признает мэр города в 2005 году.
Как следствие — реальный престиж и заметные вложения в организацию больших международных зрелищ, крайнее возбуждение городов–кандидатов, бесконечная и трудная подготовка. «Тринадцать незнакомцев приезжают сегодня в Париж [олимпийские „оценщики”] и вызывают такое волнение, которого не вызвал бы визит Джорджа Буша, папы или целого самолета голливудских звезд»[1055]. Окончательный выбор вызовет метаморфозу. Город превратится в «мировой образ», поддерживаемый «экономическим влиянием», которое «заставляет мечтать»[1056].
Оценим непосредственно заметное неравенство, порожденное одним только телевизионным изображением. Нескольким привилегированным видам спорта (менее десяти) предоставляют от 90 до 95% эфирного времени[1057]. При этом среди пяти видов спорта, вызывающих наибольший интерес, некоторые, например «Формула‑1», почти никем из зрителей не практикуются[1058]. Футбол занимает значительно более выгодное положение. Именно благодаря футболу Canal+ получает самую значительную часть своей выручки[1059]. Футбольные клубы привлекают наибольшую часть инвестируемых денег. Их бюджет «в семь раз выше, чем у баскетбольного клуба для того же уровня соревнований и в тридцать два раза выше, чем у волейбольного клуба»[1060]. В то же время имеет место неравенство, разделяющее сами футбольные клубы. В 1999–2000 годах количество транслируемых матчей после 27 дней чемпионата для различных команд могло варьироваться от 23 до 1[1061]. В то же время «Марсель», самый «транслируемый» клуб, был далек от первого места в чемпионате[1062]. Мы снова сталкиваемся со странной смесью причин, влияющих на трансляцию, и далеко не все из них связаны со спортом. Что подтверждают слова президента TF1 1991 года: «„Марсель Олимпик“ — это звезда TF1. И как всякая звезда TF1, он заслуживает особого обращения»[1063].
2. «Шоу»
Нам остается рассмотреть образ, сосредотачивающий на себе все ожидания, — рекламные эффекты, эффекты шоу.
Определенный феномен становится все более важным вместе с ростом силы воздействия экранов, их всемирным распространением, — речь идет о церемониях, окружающих состязания. «Открытие» больших соревнований превратилось в тщательно продуманное шоу, во множество зрелищ, перемешивающих веселье и символику[1064]. Праздник нужен, чтобы радовать глаз зрителей и телезрителей, поэтому подчеркивается визуальный эффект, игра человеческих масс, красок и движений. Об этом свидетельствует множество высказываний, далеких от старых морализаторских речей: «Это было торжество, не больше и не меньше»[1065]. Но символ также важен, чтобы лучше передать все то, что может увеличить значимость страны–организатора. Это повод возвеличить свою историю (например, историю первопроходцев на Олимпийских играх 1984 года в Лос–Анджелесе или историю аборигенов на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее), повод прославить свою землю, свою территорию, географию (например, средиземноморскую Каталонию на церемонии в Барселоне в 1992 году). Праздничная составляющая имеет более широкий и, возможно, более обоснованный резонанс. Праздник должен иметь значение для публики по всему миру, и, таким образом, он становится всемирным «символом». Вот почему в течение нескольких олимпиад присутствовала тенденция создавать ритуалы межнациональной направленности: идиллические образы мира, идиллические образы «встречи», «преодоления барьеров» — впервые что–то подобное было инсценировано корейцами в 1988 году.
Несомненно, чем больше люди верят в эту межнациональную волю, тем крепче иллюзия, даже если с этой верой рождаются первые опыты всемирных обычаев вне религий и вне наций. Отсюда это ощущение «магии», но без самодовольного ослепления, какое она обычно практикует. Это почти футуристическое представление, ритуал, способный объединить множество народов.
С этой точки зрения церемонию, организованная на играх в Альбервиле в 1992 году, можно назвать каноническим примером. Огромное костюмированное шествие, где демонстрируются изобретательность, динамичная игра силуэтов, неожиданные формы, придуманные прогрессивным хореографом Филиппом Декуфле. Были сформулированы некоторые значительные коллективные «объединительные» сюжеты: различия и разнообразие, искусство жеста, индивидуальность каждого из видов спорта, которые сами стали «художественными практиками», всеобщая вовлеченность в зрелище, чтобы избежать тяжеловесности. Таким образом, неминуемо проявляются представления о современном теле: на первое место становятся стройность и легкость, головокружительные перемены, излучение гибкости и подвижности. Очевидная противоположность старым ценностям: силе и крепкому красивому телу. Иными словами, церемонии иллюстрируют символическую систему и желания.
Однако обсуждение спортивных результатов демонстрирует силу национальной чувственности и локальной привязанности. Здесь постоянно фиксируется рейтинг государств, их спады и достижения. «Французский спорт теряет еще одно место»[1066] — заголовок Le Monde после афинских Игр 2004 года, «положение Франции в олимпийском хоре выветривается медленно, но уверенно»[1067]. Бесконечные пересмотры, необходимые проверки соответствуют тревогам вокруг подготовки к Олимпиадам. Нужно ли говорить о том, что большое спортивное зрелище задействует образ нации? Это подтверждается той ролью, которую в этом процессе играет телеэкран. Бесцеремонное потребление и групповое вовлечение, коллективная манифестация, — зрелище для разочарованных масс, где каждый изолирован от остальных. Возможно, наше общество, уклоняющееся от объединительных стремлений, слышит в спорте слабый зов сопричастности? Образ тут играет ключевую роль.
3. Переустройство игры
Образ стремится к подлинности и тогда, когда ради собственного распространения он работает на материальную структуру практик, на правила, площадки, временные рамки. Для приспособления тенниса к телевизионной трансляции нужно иметь возможность управлять продолжительностью партий. Например, избавиться от бесконечной борьбы за победу из–за разницы в два очка. Ради этого в 1970‑е годы был изобретен тай–брейк, где спорная партия продолжается до фиксированной разницы в 10 очков. Это полностью видоизменяет тактику, приоритеты, подсчеты. Недавно такое же решение прижилось в волейболе. Похожее постановление было принято и для легкой атлетики, где после Чемпионата мира 2002 года фальстарт, приведший к победе, больше не засчитывается. К этому добавляются незаметные изменения, обязанные рекламным ограничениям и потребности в наиболее широком распространении: четыре периода по пятнадцать минут для американского футбола или перерывы в баскетболе. Несомненно, телеэкран изменил игру[1068].
Американские стадионы дают лучший пример обстановки, еще больше нацеленной на «широкое разнообразное зрелище»[1069]. Энергичные образы, ярко раскрашенные участники, сами движения и система отношений, переоборудованная так, чтобы притягивать взгляд, приманивать не только любителей, но и любопытных. «Чирлидеры, когда–то мужская клака, теперь стали привлекательными пляшущими девушками. Сложный „балет” фанфар, марширующий оркестр, когда–то предназначенный только для университетского футбола, сделался сегодня повсеместным явлением»[1070].
Бесконечная работа над временными рамками соревнований в конечном счете рискует навредить самим спортсменам. Пример — их расписание на олимпийских финалах, «установленное с целью позволить, насколько это возможно, американским и европейским каналам транслировать их в прайм–тайм с самым высоким рекламным тарифом, даже если игры проходят в Сеуле или Сиднее»[1071]. Телеэкран установил свои рамки в соответствии со своими законами.
4. Экран и код
Телеэкран разработал свои стандарты, приемы для рассказа и демонстрации.
Стоит посмотреть одну и ту же гонку в двух разных ситуациях — с обочины дороги и на телеэкране, — чтобы обнаружить, насколько могут различаться два зрелища, вплоть до того, что покажутся несовместимыми. Мир марафона, за которым следуешь пешком по асфальту, и тот мир, за которым следишь на экране, — это два разных мира. Переход от одного к другому оставляет странное впечатление непонятного, неконтролируемого превращения. Как будто местный житель, покинув бегунов, перепрыгивает через ограждения, чтобы добраться до телевизионного пульта. Происходит метаморфоза взгляда.
Наблюдать с обочины — значит присутствовать на забеге и видеть цепочку бегунов, замечая полутона, переходить от легкости лидеров к напряженности плетущихся в хвосте, различать недоступных чемпионов и неизвестных неудачников. Наблюдать на экране, напротив, значит ни на чем не задерживаться, следуя взглядом за бегунами, то есть только за лидерами забега. Здесь совершенно иная последовательность: не чередование следующих друг за другом фигур, но чередование мест, бесконечное продвижение вперед. Последовательность на экране становится прогрессивной, но если смотреть с улицы, то она регрессивна. Телевизионная картинка ограничивается передовой забега, удерживая телезрителя поближе к лидерам, подчеркивая постепенное истощение слабых как результат постоянной тактики сильных. Она устраняет впечатление перехода, мимолетности, чувство множества. Она сводит на нет это странное ощущение хрупкости отчаянного бегуна среди огромного ландшафта. Она уступает в насыщенности тому, что видит смотрящий непосредственно на трассу, и приумножает сообщения для того, кто смотрит трансляцию.
В той же степени, в какой телеэкран и его обслуживание создают иное измерение гонки, они провоцируют состязание внутри состязания. Тревожное ожидание усугубляется вопросами комментаторов: «Правдоподобны ли надежды отстающих? Смогут ли они здесь бежать быстрее, чем в другом месте? Быстрее, чем вчера? Увидим ли мы рекорды?» Каждая цифра возбуждает любопытство и заставляет сравнивать. Каждое объявление оживляет и укрепляет интерес. Ожидание очень быстро сосредотачивается на рекорде соревнований, бесконечно упоминаемом комментатором, улица за улицей, перекресток за перекрестком. Телезрителя окружает уже не беспокойная толпа, но бесконечные отсылки и цифры. Он играет в новую игру, нормированную звуком на фоне картинки.
Комментарий заставляет погружаться в другие реалии, обращаться к предыдущим или параллельным гонкам, к бесконечным сравнениям соревнований. Он затрагивает «легендарное», мифическое пространство сильнейших, героев, которые должны сохранять спортивную память, «лучших из лучших», к сонму которых мог бы присоединиться именно этот бегун, за которым сейчас следует камера. Именно комментарий составляет смысл «хороших» трансляций. Благодаря ему спортивное пространство и время становятся причастными к тому, для чего они существуют, — миру мифа, рассказа, к тому, что заставляет верить в историю и ценности. Комментарий вводит их в воображаемое, как это всегда делали спортивные газеты, но добавляет аспект, которым пресса не владела, — непосредственное присутствие. Таким образом, наши телеэкраны незаметно создают новые игры. Они усиливают испытания и возбуждение, преумножая сравнения и цифры.
Телеэкраны сталкиваются с возрастающим усложнением: времена проносятся по экрану, нагромождаются ссылки и цифры, изображение раздваивается, чтобы казаться вездесущим, замедляется, чтобы сосредоточиться на деталях, повторяется, чтобы лучше выделить интересные моменты. Здесь берет начало новый телевизионный профессионализм, новый способ смотреть спорт и в конечном счете новый способ восприятия. Повествовательные ресурсы тоже основываются на цифровых данных. В баскетболе компьютер определяет количество заброшенных игроками в корзину мячей, в конкретной партии и в совокупности, количество совершенных ими ошибок и штрафных бросков. В теннисе компьютер определяет рейтинг игрока, его турнирный результат, скорость мяча при подаче, количество очков, выигранных одним ударом, количество непосредственных ошибок, количество первых подач. В футболе он определяет количество угловых, штрафных ударов, офсайдов, «карточек» за нарушение правил, прошедшее и оставшееся время. Телеэкран не позволяет лучше видеть, он создает новый способ видеть. Он напрямую погружает телезрителя в миф, в интересную и привлекательную историю, выстроенную помимо игры и сделанную специально для того, кто смотрит. Конечно же, это детский миф. Но ведь эффект этого мифа отнюдь не ничтожен, даже если предпосылки его существования те же, что и у видеоигр.
Возможно, именно по этим причинам большое спортивное соревнование не может больше происходить без огромного экрана, помогающего зрителям стадионов и трасс увидеть действие иначе.
5. Теневая сторона
Образ имеет свою теневую сторону — впрочем, она представляет собой изнанку спорта вообще. Вот, например, удручающий и символичный эпизод. 29 мая 1985 года в Брюсселе на стадионе «Эйзель» на финале Кубка европейских чемпионов между командами «Ливерпуля» и туринского «Ювентуса» перед матчем болельщики Ливерпуля напали на трибуны болельщиков Турина. Толпа напирала на заграждения, стена обвалилась и образовалась давка.
Сводки поражают: 39 погибших, 454 раненых. Еще сильнее поражает решение руководства, несмотря на происшествие, провести матч. Игра велась и транслировалась, пока в нескольких метрах от поля умирали раненые. «Есть от чего заплакать, поэтому мы плачем»[1072], — газета L’Équipe от 30 мая не может найти других слов. Телеэкран торжествует, не считаясь с ужасом.
Теневая сторона состоит из таких нарушений, отклонений, порожденных состязаниями и свойственной им страстью, в то время как зрелище в спешке стремится их скрыть. Они известны и стары: насилие, допинг, финансовые махинации сопровождают спорт с самого начала. «Злоупотреблениям» нет числа в спортивной истории — от насилия со стороны зрителей, которые задерживали игроков во время первых «Тур де Франс»[1073], до умышленных травм, серьезно увечивших некоторых игроков на матчах конца XIX века[1074], или кокаина, который очень рано стали использовать боксеры, чтобы повысить болевой порог[1075]. Безусловно, опасность непрозрачности традиционна для спортивного мира. Сегодня ее стало еще больше: теневые зоны расширились, стали сложнее и организованнее, пропорционально масштабу зрелища и разнообразию целей. В результате члены спортивного сообщества и публика стремятся сохранить эти теневые зоны, чтобы защитить миф о совершенстве спорта и даже укрепить его. Нарушения только выигрывают от общепризнанности спорта: это помогает маскироваться, чтобы сохранять фундаментальную чистоту, на которую претендует спорт.
Противоречие развивается в самом сердце системы, усиленное, как никогда, прогрессом зрелища и обилием смыслов. Чтобы отвечать ожиданиям, спорт должен идти на крайности, чтобы быть привлекательным, спортивный образ должен граничить с «запретным». Нужно приготовить тело чемпиона к физической опасности, доходящей до насилия и полного разрушения. Нужно вознаграждать участников, не боясь финансовых рисков, доходящих до мошенничества и правонарушений. А спорт, чтобы выглядеть убедительно, должен способствовать «правильности», то есть равенству возможностей и сохранению здоровья. Чтобы к нему тянулись, он должен создать себе образ беспристрастного и контролируемого сообщества.
Три вида нарушений — насилие, коррупция, допинг — должны сегодня напоминать о том, насколько связаны между собой право и власть, причем не только в спортивном сообществе[1076].
Трагический пример «Эйзеля»[1077] слишком хорошо иллюстрирует действительное насилие. То же самое было в Марселе или в Лансе во время матчей кубка мира в июне 1998 года: хулиганы разгромили изрядное число улиц, и один английский министр назвал их «пьяными безмозглыми скотами»[1078]. Речь идет о более–менее ограниченном насилии, но при этом о явлении сложном и зрелищном, подпитываемом у одних крайними формами национализма, у других — алкоголем, который в спешке распивают у входа на стадион. Есть и насилие исключенных, тех, кто наиболее резко переступает через противоречие между все возрастающими потребностями общества изобилия и такой же постоянной невозможностью для некоторых стать его частью[1079]. В результате это насилие демонстрирует возможную уязвимость спорта, выявляющуюся в распущенности, которой способствовал его же успех.
Расследования договорных матчей, фальсифицированных финансовых операций, «купли» голосов в международных спортивных организациях иллюстрируют другое нарушение, связанное с денежными махинациями. Вот откуда постоянные подозрения, инициирование различных процессов, множество подсудимых, архивы, сожженные в Нагано после игр 1998 года (чтобы исключить возможность судебного разбирательства)[1080], сессия Международного олимпийского комитета 17 и 18 марта 1999 года, исключившая некоторых членов МОК за взятки[1081]. Изменение целей только содействует профессионализации нарушений. Девятнадцать обысков, проведенных в феврале 2005 года в «пяти значительных французских футбольных клубах, телеканалах, футбольной лиге, федерации футбола и маркетинговых фирмах»[1082] на предмет возможного мошенничества — ясный знак того, что рост задействованных сумм усугубляет риск растрат и злоупотреблений. Природа этих издержек тоже касается всех. «Операции трансфера игроков станут самыми выгодными, если обманом настаивать на невещественном характере цены игрока»[1083].
В 1980‑х — 1990‑х годах, во время сильной нестабильности, возникает потребность в допинге. Спортсмены широко применяли новые продукты: синтетические гормоны, анаболики, нервные возбудители. Возникал риск новых заболеваний: разновидностей рака, сердечно–легочных болезней, гормонального дисбаланса. Это касалось всех: здесь новички перемешались с уже признанными мастерами. Это одна из самых тревожных сторон спорта не потому, что употребление допинга разоблачает мошенничество или несет угрозу равенству среди соперников, но потому, что оно очерчивает контуры болезни как раз там, где должно торжествовать здоровье. Это внушает тревогу еще и потому, что продолжает обычную для нашей культуры веру в бесконечно гибкое тело, восприимчивое ко все более разнообразным изменениям, которые становятся возможны благодаря медицине и химии. Некоторые заголовки в научно–популярных журналах подчеркивают новый этап этой уверенности.
В Science et vie за 1968 год тело уподобляется «непрерывно совершенствующейся машине»[1084], сочетающей в себе «нервную искру» и «химические реакции», в Science et avenir за 2002 год оно уподобляется «кодированному устройству», стремящемуся к состоянию «генномодифицированного атлета»[1085], где новые волокна могли бы «производиться» по выбору программиста. Образ следует культуре времени, меняя свои модели, согласуя тему с метаморфозами «мысли», даже если многим они кажутся неосуществимыми.
Остается известный риск, связанный со стимулирующими практиками, порожденный ими новый рынок, ревизия «спортивных звезд»[1086], которую они провоцируют. Остаются и проблемы, с которыми эти спортсмены сталкиваются.
Иными словами, постепенно обосновываясь в мире спорта, зрелище, несомненно, преуспело: оно смешало в один коктейль легкую дозу очарования достижениями, самоидентификацию, рыночные находки. Непреходящая грандиозность спорта, повсеместная возможность наблюдения, медийная вездесущность не могли не породить в качестве ответной реакции склонность к нарушению порядка. Если взглянуть на дело так, в этом нет ничего удивительного. Здесь страсть всегда рождается в избытке как единственный, возможный и необходимый, законный ответ. Ответ, который черпает свою силу не столько из самого спорта, сколько из обращения к власти публики.
ГЛАВА II Экраны. Тело в кинематографе
Антуан де Бек
Когда Эрик Ромер, главный редактор Cahiers du cinéma («Кинематографических записок»), пытался определить «состояние», свойственное «седьмому искусству», он, говоря о том, «что останется от кино», выдвинул следующую гипотезу: «Сама материя фильма — это фиксация пространственной композиции и телесных выражений»[1087]. Фиксировать с помощью камеры отношения тел в пространстве — вот определение формальной структуры, названной кинематографом. Отсюда же направленность в исследованиях истории тела, как тела, обработанного для показа на экране: следовать за основными превращениями тела в постановках XX века, соткать полотно на основе беспрерывных переплетений тел мирового кинематографа. Такая постановка вопроса открывает новый воображаемый горизонт, созданный из фантазмов, идентификаций, педагогики, страхов, участия в воспроизводстве тел и его последовательных мутациях. Понять основные способы представления тела в XX веке мы сможем, лишь отыскав их источник, их происхождение как их собственную популяризацию на массовом экране. В конечном счете речь идет лишь о том, чтобы еще раз разыграть одну из ведущих тем современной истории культуры: поместить кинематограф и свойственную ему формовку внешности в контекст последовательно развивающихся в XX веке воззрений на тело и таким образом понять один из главных феноменов в истории представлений[1088].
I. Монстр и бурлеск: тело–зрелище начала XX века
Особенность кинематографа состоит в том, чтобы записывать тела на пленку и рассказывать истории с их участием. По сути это сводится к тому, чтобы делать их больными, уродливыми и иногда — в то же самое время — бесконечно привлекательными и соблазнительными. Первичная их фиксация на пленке, как создание вымысла, проходит обработку этой болезнью и этой привлекательностью, которые выражаются в виде ужасного обезображивания или идеального преобразования. В некотором роде Франкенштейн в кинофантастике — то же, что и «Политый поливальщик» у братьев Люмьер: телесное увечье, из которого рождается история[1089]. Это очень быстро поняли на ярмарках, гораздо раньше, чем в крупных продюсерских фирмах немого кино. Зевака приходит увидеть тело на экране. Лучше, если это будет странное, отвратительное, впечатляющее, потрясающее, извращенное, возбуждающее тело. Это непосредственное и необходимое соотношение. Тело, показанное в кино, — это первый признак веры в зрелище, а значит, тело помогает зрелищности заявить о своем привилегированном значении.
Свидетельства такого отношения к телу мы встречаем у самых истоков кинематографа. Притягивать публику — значит показывать ей необыкновенные тела. Монстры, великие преступники и их жертвы, алкоголики, проститутки или атлеты — все эти исключительные организмы занимают основную часть французской, американской или итальянской продукции на заре кинематографа[1090]. Этот феномен начала века принадлежит контексту всеобщей страсти к телесным зрелищам: «шоу уродов» привлекали очень широкую публику, а публичные гигиенические кабинеты, в которых демонстрировались изображения больных тел и трупов, посещали семьями. Таким образом, массовая кинематографическая культура возникает в Париже в конце XIX века, в городском сообществе, жадном до телесных зрелищ и «реалистичных» визуальных переживаний. Два главных развлекательных заведения проиллюстрируют этот популярный феномен, предшествовавший кинематографу, — музей Гревен, открывшийся в 1882 году, и морг.
В музей Гревен люди приходили толпами, чтобы увидеть восковые фигуры — многочисленные созданные тела, загримированные, наряженные, установленные и продемонстрированные «как в жизни». Восковые фигуры рассказывали истории, представляющие жизненные ситуации или исторические сцены. Толпа также посещала морг, где подвергали превращениям настоящие тела и демонстрировали знаменитые криминальные «дела». Так, в 1886 году 150 000 человек прошли мимо тела маленькой девочки, «ребенка с улицы Вербуа», одетой и привязанной к креслу красного бархата. Это выставка трупа, который поведал свою историю, ставшую воплощенным в жизнь событием[1091].
Кинематограф вписывается в зрелищную культуру тел начала века. Почти все первые актеры бурлескных комедий — это артисты цирка и мюзик–холла, а большая часть первых парижских кинозалов располагалась в местах, связанных с демонстрацией чем–либо замечательных тел: на обновленных сценах кабаре, в музеях восковых фигур, а иногда — в борделях или спортивных залах. Головокружительное желание созерцать необычные тела царит в нравах того времени. Несомненно, причиной послужило смущенное чувство зрителей, боязнь того, что под влиянием прогресса науки и модернизации общества эти тела скоро исчезнут и больше нельзя будет увидеть их чудовищность, виртуозность и необычность: ведь они воплощают стремления и настроения прошлого, к которым публика по–прежнему сильно привязана, даже если эпоха верит в прогресс. В некотором роде историческая роль, вверенная кинематографу, состоит в том, чтобы продлевать жизнь необычных цирковых, эстрадных, ярмарочных тел на экране, воссоздавать их и поддерживать их образы, чтобы они всегда оставались видимыми, даже если живые постановки с их участием уйдут в прошлое[1092]. Таким образом, немое кино — это, в первую очередь, призрачное искусство. Исчезнувшие и исчезающие тела остаются видимыми на экране. Связь между образом и призраком установилась в кинематографе еще с первых показов. Кино осуществляло запись тел, которые однажды непременно умрут, а значит, оно становилось грандиозным складом призраков. Первые зрители восприняли это в контексте моды на спиритуализм и мистику. Кино можно было расценивать как чрезвычайно действенную технику мумификации и возрождения тел. Более того, черно–белая гамма изображений, скорость их передвижения и тишина сыграли определяющую роль для такого восприятия. Тела из настоящего, перенесенные на экран, сразу становились телами из прошлого. Эти черно–белые, ступающие в ирреальном ритме, в тишине пересекающие пространства тела принадлежали иному миру[1093]. Публичный показ тоже очень быстро стал ассоциироваться с жизнью привидений. Темнота зала, луч света, прорезающий тьму, зрелищный ритуал — все эти элементы воссоздавали ситуацию спиритического сеанса, где экран сразу входил в контакт с внутренним миром каждого зрителя, как с местом постоянной грезы, куда могли проецироваться тела.
Кинематографические тела появились во Франции как образы массового внимания и живых представлений начала века, однако их полноценное, серийное производство началось в Америке. Первым стало Восточное побережье, где с 1910 года создается один из великих телесных мифов: выпущенный студией Эдисона первый фильм из серии о Франкенштейне[1094], за которым последовали другие (в 1915 и 1920 годах). Затем следовал Голливуд, где, например, Тод Браунинг с общепризнанным успехом показал типично европейское создание — вампира, уже прославленного в «Носферату» Мурнау и «Вампире» Дрейера. Фильм Браунинга «Дракула» 1931 года — это одновременно пример завораживающего кино (особенно в прологе)[1095] и лучший образец «форматирования» тела, которое начиная с 1930‑х годов будет массово практиковаться в Голливуде. Начинается серийное производство ужаса и телесной привлекательности, звездами которого станут чудовища и красивые женщины. Отныне эти создания во всех своих проявлениях, от самых отталкивающих до самых приятных, становятся будто прирученными. Они усваивают голливудские правила хорошего тона (не смотреть в камеру, на одних наводить трепет, но не слишком сильный, у других возбуждать нежные чувства, не оскорбляя могущественные союзы блюстителей нравственности, работать быстро и хорошо, проходить через руки гримеров, костюмеров, операторов–постановщиков, уважать речевые нормы) и завоевывают известность и славу. Тело, за которым зрители идут в кино, находит свои нормы, своих звезд, а вскоре и своих классиков.
Последний отзвук телесных зрелищ начала века растворяется в кинематографе, который через правила и нормы стремится оздоровить экран, заменяя «правду» тела макияжем, невнятное рыканье диалогами, выставку — повествованием. Голливуд растит свои искусственные тела. Этот переход от зрелищного тела начала века к искусственному телу Голливуда можно проиллюстрировать фильмами Тода Браунинга, которые существуют точно на этом разломе в истории изображения тела[1096]. Браунинг очень часто переигрывает с искусственностью, театральностью, но следует при этом этике подлинного реализма. Он снимает со своей собственной группой «настоящих» уродов. В то же время Лон Чейни, его любимый актер, становится чрезвычайно популярной международной звездой, хотя в его случае речь идет о виртуозном актере, имевшем притом пластику дегенарата. Это уникальный пример, когда монстр получает в кино статус полноценной звезды. Он единственный, кому удалось так сочетать зрелищность начала века и голливудскую искусственность.
Другой телесный регистр, появившийся вместе с кинематографом, — бурлеск[1097]. Он нашел приют во Франции, чтобы затем его переняло и развило американское кино. Тело здесь работает скачками, оно задействовано в происходящем через резкие переходы в сюжете. Бурлеск начинает одну из значительных традиций кинематографа, ведь этот жанр работает не с линейностью истории, но с нарративами самих тел, исполняемыми в непрерывных беспорядочных реакциях, где фрагменты противостоят один другому. Эта разнородность также возвращает и к полифонии постановочных жанров (цирк, пантомима, театр, танец, рисунок), и к ритму спектакля, где перерыв, пауза, интерлюдия, провал составляют определенную часть игры и удовольствия. Таким образом, бурлескные герои собственным телом производят эксперимент «нарративной эластичности», тело персонажа проходит через все возможные движения замысла. Речь тут идет об основополагающем принципе этих киносериалов: умножение ситуаций, созданных по заданной функции. Калино был одним из самых популярных героев французского примитивного бурлеска наравне с Онезимом, а Жан Дюран снял о нем две серии фильмов. Калино попеременно оказывается адвокатом, тореадором, пожарником, ковбоем, многоженцем, архитектором, дрессировщиком, тюремщиком. Его при одних и тех же условиях по кускам помещают во все возможные телесные состояния. Как только Калино «приучит себя к образу», например фокусника, бесстрастное лицо Клемана Миже показывается крупным планом, чтобы потом пойти по рукам прохожих. Они должны его поносить, потом кузнец бьет его молотом, его разравнивает землекоп, а в конце героя колотит по лицу огромный боксер[1098]. Такая концовка практически неизменна в комедийных сериалах и следует той же логике расщепления, взрыва под действием умножения фрагментов тела. В смешном разрушителе, возмутителе спокойствия, в этом герое живет тело–катастрофа[1099].
В этом смысле проникновение на экран — это некое испытание тела–катастрофы, предшествовавшего кинематографу. На сцене «Фоли–Бержер», варьете, кафешантанов кинематографический бурлеск заранее усвоил абсурдные фокусы, комические выпады, гротескные сочетания, и выход на экран позволил ему опробовать эту опустошительную власть над реальным миром перед широчайшей публикой массовой культуры. Не на сцене, но на улице, не для нескольких сотен зрителей, а для сотен тысяч. Бурлеск вызывал смех бесчисленных зрителей, потому что он сумел осознать тела своих персонажей буквально, сообразно категорическому действию телесной подлинности. Камера записывала, как тело врезалось в реальность жизни и отскакивало от нее.
На примере двух образцовых «пар» Тод Браунинг/Лон Чейни и Жан Дюран/Онезим можно увидеть, что кино в значительной степени развивалось вокруг отношений, связывающих режиссера и демонстрируемое тело. Более того, само представление о режиссере становится неотделимо от того, что он демонстрирует собственное тело. Традиция бурлеска иллюстрирует это очевидным образом: Макс Линдер, Чарли Чаплин, Бастер Китон, Гарольд Ллойд — здесь режиссер берет на себя ответственность за свое тело и ставит его под угрозу, это тело становится единственным инструментом зрелища. Само тело художника стало пространством произведения.
II. Гламур, или производство соблазнительного тела
Впоследствии кино как центр телесности было упорядочено системой голливудских студий, составившей классическую эпоху американского кинематографа, и реализмом с поправкой на искусственность, который задал тон «золотого века» французского кино. Это можно сравнить с тем, как кинематограф вообще приручил тело. Заточение в студии — это первое условие перепланировки тел в соответствии со стандартизированными канонами красоты, эстетизации внешности, которой содействуют все кинематографические техники (освещение, декорации, в скором времени и цветовые игры); контроль над чувствами и поведением, который внедряют бдительные и целомудренные цензурные установки по обе стороны Атлантики. Таким образом, кино «для широкой публики» концентрирует большую часть телесных средств на производстве стандартной привлекательности, нового горизонта чувственных грез всего мира[1100].
Образ и фетиш этой привлекательности — роковая женщина, так вылепленная Голливудом, что своей красотой, внушаемым ею желанием жизни и смерти, она увлекает мужчину к божественному источнику, но гораздо чаще — к несчастью и злу. Ее тело свободно от мысли, оно парит в ауре ее внешности. С самого начала кино впускает в себя этот чувственный образ и создает источник энергии для подобной женщины, которая колеблется между невинностью и соблазном. Усатый мужчина едва касается бледного лица первой в истории кинозвезды. Публику бросает в дрожь: бесконечный поцелуй на экране соединяет губы женщины с усами мужчины. В 1896 году в Нью–Йорке публика сталкивается с историей на представлении первого кинематографического поцелуя. Джон Райс обнял и поцеловал Мэй Ирвин, и эти исполнители главных ролей из театрального мюзикла «Вдова Джонс» сразу стали знамениты. Кинематограф обязан этой знаковой находке — поцелую, показанному крупным планом, — известному ученому с мировой репутацией, который, однако, не стеснялся браться за игривые сцены с обнаженными женщинами: Томасу Эдисону. Для многих зрителей эта женщина сразу и всецело оказывается воплощением их собственного влечения к кинематографу. «Тормоша бесчувственность зрителей, которые всегда оставались заперты в ослепляющем одиночестве, женщины с экрана готовили их к любви через влечение к идолам. В кинематографе многие женщины стали эротической мечтой, предчувствием, началом неразрывных уз». Так писал Адо Киру, глава критического сюрреализма, явно приписывая женским персонажам способность воплощать фетиши современного общества. Они сразу и безусловно становятся идолами, а кинематограф еще с начала века иллюстрирует это витальное влечение к фетишам. Будто «магнетический поток» связывал «женщину на экране» и «зрителя». Ведь, как пишет Андре Бретон в середине 1920‑х годов, «очевидно, специфика кинематографа как средства в том, что он способен материализовать власть любви»[1101].
При этом у роковой женщины[1102], воплощавшей этот эротический магнетизм, есть дата рождения. В 1915 году она проступает в чертах Теды Бары в американском фильме Фрэнка Пауэлла «Жил–был дурак». Речь идет о первой кинозвезде, созданной на пустом месте с помощью кино и ради него же. До этого момента фильмы в основном подхватывали процессы выдвижения звезд на театральной сцене, в водевиле, кабаре или цирке. Напротив, Теда Бара была придумана благодаря своему первому фильму. Актриса третьего плана, Теодосия Гудман, получила новое имя и новую оригинальную идентичность, и впервые слово vamp было использовано по отношению к актрисе именно в этой рекламной кампании. Идея происходила от первоначального названия фильма. Театральная пьеса, по которой был создан фильм, называлась «А Fool There Was» — первая строка стихотворения Редьярда Киплинга «Вампир». Фильм навсегда закрепил свойства женщины–вамп: соблазняющий взгляд, эффект теней на глазах, игра на противоположностях естественности, роскошное платье, восточная чувственность, эксгибиционизм в позах, великолепие обстановки, обилие бус и украшений, культ любви, фатальная судьба жертв этой любви.
В течение следующих лет женщина–вамп завладевает американским кинематографом. Персонаж был воспроизведен Ольгой Петровой в фильме «Вампир» (1915), Луизой Глаум в фильмах «Поклонники» (1917) и «Секс» (1920), Аллой Назимовой в фильмах «Запад» (1918), «Красный фонарь» (1919) и «Дама с камелиями» (1921), Вирджинией Пирсон в «Поцелуе вампира» (1916) и еще великолепной Полой Негри в фильмах «Мадам дю Барри» (1919) и «Сумурун» (1920). Сама Теда Бара некоторое время продолжает карьеру роковой женщины и удачно снимается с 1915 по 1918 год в фильмах «Кармен», «Ромео и Джульетта», «Клеопатра», «Дама с камелиями» и «Саломея»[1103]. Чары роковой женщины пытаются затмить опыт и память, которые возвращают мужчин на войну. Только абсолютно роковая женщина может теперь помериться силами с ужасами Великой Войны. В итоге женщина–вамп, изобретение Америки, которая находится далеко от театра военных действий, захватывает воображение зрителей всего мира. Единственная страна, которая знала подобный феномен, — это Италия с ее дивами[1104]. Между 1913 годом, когда появляется этот образ, воплощенный Лидой Борелли, и 1921‑м, когда Леда Гис в последний раз предоставляет ему свое тело, жесты и несравненную манеру преобразовывать в соблазн свою трагическую судьбу, в итальянском кино царствует великая Франческа Бертини, чьи любовные подвиги привлекают всеобщее внимание. Дива еще более изощренная, исступленная, артистичная, литературная, мелодраматичная, чем ее сестра по другую сторону Атлантики. Франческа Бертини и ее черные как уголь глаза, дрожащие губы, чувственное тело выходят на первый план среди этих призраков обольщения, появлявшихся на белоснежном экране в темных залах от Аргентины до Канады и от Европы до Японии.
Америка чувствует угрозу. Как только мировой конфликт закончился, а вместе с ним и мечта о бегстве в эротику, воплощенная в женщине–вамп, голливудская индустрия устанавливает этим соблазнительницам боевое расписание. Добрая часть могущественной киноиндустрии голливудских студий сосредоточивается на производстве идеальных женщин–искусительниц. Их аура формируется согласно строгим правилам гламура (освещение, макияж, язык жестов), их личная и публичная жизнь отдана на поруки различным конкурирующим студиям, и сами они постоянно «фабрикуются», о чем свидетельствуют хотя бы их имена: три или четыре звучных слога с арабо–славянско–скандинавским звучанием, западающие в память зрителям любой страны. Барбара Халупец становится Полой Негри, Гизела Шиттенхельм превращается в Бригитту Хельм, Грета Густафссон — в Гарбо, Харлин Карпентер — в Джин Харлоу, Кэтрин Уильямс — в Мирну Лой. К тому же продолжительность их успеха, подчиняясь изменчивым вкусам зрителей, в лучшем случае ограничивается десятью годами: Мэй Мюррей (1917–1926), Клара Боу (1922–1932), Луиза Брукс (1926–1936), Джин Харлоу (1928–1938), Мэй Уэст (1932–1937). Даже Грета Гарбо добровольно уходит на покой в 1939 году. После тринадцати лет славы Богиня почувствовала, что ее время прошло.
Между тем новые схватки звезд носят исключительно мирный характер. Отныне и впредь эти роковые женщины воплощают обещания американской мечты о невмешательстве в мировые конфликты, опустошающие старую Европу. Очень часто это европейские актрисы, сделавшие решительный шаг в своей жизни. Однако, становясь звездами, они превращаются в американок — не обязательно по гражданству, но в кинематографическом воображении. Становясь американками, эти женщины начинают постепенно избегать фатальности как в арсенале средств обольщения, так и в собственной судьбе. Голливудская система быстро видоизменяет женщину–вамп и женщину–диву. Сначала она заставляет их освоить профессию, поскольку чем дальше, тем яснее становилось, что женщина сможет покорить экран только с помощью настоящих драматических качеств, как это сделали Лилиан Гиш, Аста Нильсен, Мэри Пикфорд. Потом целомудренные и нормативные правила и цензура ограничили как эротическую откровенность, так и трагическое восприятие жизни. Строгие правила в одежде, движениях, поведении, как и правило хеппи–энда, создали в качестве побочного эффекта некоторое единообразие, нейтрализацию аффектов и желаний, связанных с кинематографическим воспроизведением женственности. 1930‑е годы классического кино — это господство звезды менее печальной, но соблазнительной, менее роковой, но возвышенной. Марлен Дитрих кажется совершенным образцом, воплощением актрисы (ангел, венера, императрица, томный взгляд, хрипловатый голос, очаровательные ножки); в то же время на ее счету впечатляющая фильмография из 45 картин, снятых самыми значительными режиссерами того времени[1105].
Последним потомком женщины–вамп Великой Войны, созданной, чтобы заставить мир полностью отдаться воображению, стал феномен pin–up girl. Но теперь речь идет о суррогате, задуманном из расчета на конформистские желания бравых солдат янки II Мировой войны. Мечтой I Мировой была женщина–демон, женщина–желание, роковая, экзотическая и изысканная. Во время II Мировой ей на смену пришла славная розовощекая девушка с аппетитной попкой, воплощающая American way of life (американский стиль жизни), порожденная здоровым возбуждением школьников и солдат[1106]. Впредь женский персонал больших студий планомерно фотографируется в нормированных позах пин–апа или в купальниках: женщины раздеваются в соответствии с искусными правилами публичного обнажения 1940‑х и 1950‑х годов. Понадобится сумасбродство Риты Хейворт, самой знаменитой пин–ап–красавицы, чтобы ускользнуть от этой благожелательной неизбежности и спрятаться на сцене в руках Орсона Уэллса. Позже другое чудо, близкое к пресуществлению, позволит Мэрилин Монро конвертировать свои многочисленные роли восхитительной дурочки–блондинки в настоящую звездную славу. Классическая кинозвезда была убита собственной публикой, зрителями кино. Эта властная женщина, разрушительница, торжествующая роковая красавица становится непопулярна. Как среди мужчин, которых она смиряла и укрощала, так и среди женщин, которых она высмеивала. Ожидания зрителей изменились, и гламурная звезда понемногу чахла, чтобы окончательно уйти в отставку с расцветом общества потребления[1107]. Ведь эта роковая женщина была особенностью определенной цивилизации. Доминируя при помощи власти внешней красоты и трагической чувственности, она брала реванш за второстепенную роль, которую оставлял за ней мужчина во всех важных жизненных делах. По мере того как политическое, экономическое и культурное развитие в XX веке позволяло женщине занять равное место рядом с мужчиной, реванш с помощью тела становился все менее необходим. Достигая социального признания, идол переставал быть идолом, а чтобы достичь художественного признания, женщина в кино становилась просто актрисой.
Взгляд, брошенный на эти тела в Америке и Европе, оказывается в плену, он укрепляет власть кинематографа как искусства очарования. Приручение тел не добавляет им престижа, скорее наоборот. Тела в кино перемещаются между странами и культурами, циркулируют среди мировой публики, хотя слова и отсылки часто более строго обозначают границы. Таким образом, тела классического кино являются средствами кинематографической торговли и производства, передающими свою славу новым звездам, бесконечно заменяющимися журналами и воображением обычных зрителей[1108]. Сила очарования кино и есть эта встреча — то, как тела приглашают зрителей войти в фильм, берут за руку, ведут их, то, как благодаря им история становится «моей историей» для каждого. Классическое кино было способом усилить этот соблазн. Широкое разнообразие чувств, чувствительность массы конструировались с помощью обаяния гламурных тел, увиденных на экране.
III. От классического кино к новому: одичавшее тело
Новое кино заставило рухнуть систему приручения тела и восхищения им, систему, эффектом которой была игра внешностью на протяжении более чем тридцати лет истории кино (1930–1960). В какой–то момент тела на экране как бы оторвались от свой пристойной формы: появились тела, увиденные иначе, одичавшие, изнасилованные, вернувшиеся к простоте своего кинематографического начала. Очарование внешнего было резко пересмотрено[1109].
В начале фильма «Хиросима, любовь моя» Алена Рене (1959) на нас смотрят женщины. Это японки — кажется, что они ждут нас перед своими больничными койками, на пороге палаты. Они больны, несомненно, смертельно больны, пораженные радиацией атомной бомбы, которая взорвалась в Хиросиме за четырнадцать лет до выхода фильма. Они встречают нас и смотрят спокойно, почти безмятежно. Как будто бы они сейчас направят наш взгляд к ужасным кадрам из музея Хиросимы, снятым японским оператором Акирой Ивасаки спустя часы и дни после взрыва. Эти невыносимые кадры были быстро изъяты американскими властями, оккупировавшими Японию.
Никто не видел этих ужасных кадров с женщинами, смотрящими в камеру, в течение четырнадцати лет, пока Ален Рене не смонтировал их и не показал на премьере своего первого полнометражного фильма. «Ты ничего не видела в Хиросиме», — звучит текст Маргерит Дюрас на фоне этих невыносимых кадров. «Нет, видела», — отвечает героиня фильма, Эмманюэль Рива. Да, она видела. Но лишь благодаря взглядам японских женщин. Пройдя перед ними, героиня смогла увидеть. Смог увидеть и зритель, а фильм смог начаться как художественное произведение. Вымысел возможен, потому что измученные женщины посмотрели в камеру и, таким образом, на каждого зрителя фильма. Вместе с ними на нас смотрит история[1110].
Ален Рене уже видел однажды эту сцену, этот взгляд, смотрящий сквозь объектив камеры. В 1952 году Ингрид Бергман входит в психиатрическую клинику, проходит одну палату за другой. У кроватей сидят женщины, вероятно сумасшедшие. Они на нее смотрят. Но взгляд актрисы совмещается с объективом камеры режиссера, Роберто Росселлини, — умалишенные смотрят в камеру и на нас. «Европа 51» утверждает взгляд в камеру в качестве важнейшего приема обновленного кинематографа[1111] одновременно с «Моникой» Ингмара Бергмана, где Харриет Андерссон долго удерживает взгляд на камере, соблазняя мужчину — не своего[1112]. Безумие и вызов смотрят на нас[1113].
Но откуда возникает этот взгляд, эта фронтальная напряженность? Непосредственно из истории. Не из истории кино, даже если множество взглядов в камеру было брошено зрителям во времена немого кино, когда бурлеск как бы репликой в сторону приглашал к шуточному соучастию. Но этот комизм не имеет ничего общего ни со взглядами больных японок из «Хиросимы», ни с сумасшедшими из «Европы 51». Этот взгляд настолько личный, что его прямота берет нас за горло, и это переживание сразу называет себя «новым кино». Мы встречаем его в другом фильме Алена Рене, «Ночи и тумане» 1955 года. Две изголодавшиеся девушки делят миску похлебки и смотрят на нас. Эпизод был снят англичанами за десять лет до этого при освобождении лагеря смерти Берген–Бельзен[1114].
Используя этот документ «постфактум», Ален Рене проникает в центр слепого пятна истории XX века — того, которое невозможно вообразить, но которое, однако, смотрит на нас. Тотальное уничтожение, Холокост. После него и после съемок лагерей кино ведут обращенные на нас взгляды женщин. Эти взгляды в камеру в Бельзене, в Хиросиме, в «Европе 51», в «Хиросима, любовь моя» говорят о том, что кино должно меняться, уже изменилось, ведь никто больше не может остаться невиновным, ни режиссеры, ни зрители, ни актеры, ни персонажи. Именно история эпохи породила новый кинематограф с помощью интимного представления: взгляд, который смотрит на нас, возвращая к травмированным, изувеченным, казненным, истребленным, исключенным телам[1115].
Спустя несколько лет Жан–Люк Годар, которому, по его собственным словам, эта травма не давала покоя, разрезает тела перестановкой кадров, дробит их движения ложными склейками, искажает их голоса, дублируя их или перегружая звуками, недодерживает или передерживает экспозицию под естественным светом. Впрочем, характерный метод взгляда в камеру планомерно применяется и режиссерами «Новой волны» вплоть до того, что становится ее эмблемой: Джин Сиберг в финальном кадре фильма «На последнем дыхании» и Жан–Пьер Леон, застывший на экране в конце фильма «Четыреста ударов». Неслучайно взгляд в камеру стал чертой стиля нового кинематографа, он означает «взгляд наблюдающий и наблюдаемый». Зритель обязан высказаться по поводу тел, которые он рассматривает. А высказаться — уже значит выйти из зала, покинуть черный кокон темной пещеры и показаться на белый свет[1116].
Появление «Новой волны» тесно связано с изменением взгляда на тело, что можно продемонстрировать на примере Брижит Бардо. Осенью 1956 года в фильме «И Бог создал женщину» было показано реальное тело, бежавшее из студий с их искусственным освещением и пластическими условностями. Спустя четыре года Харриет Андерссон в «Монике» Бергмана (фильм–тело нового кино) демонстрирует себя почти таким же способом, и даже еще более шокирующе, талантливо и антиконвенционально. Но она не была «увидена» на самом деле. Фильм Бергмана спровоцировал скандал, встретил интерес, но на тот момент был скорее уже отнесен к разновидности «скандинавской эксцентрики», чем воспринят как современный манифест новой телесной свободы в кино[1117].
Брижит Бардо сразу была «принята» и «взята под защиту» будущими режиссерами «Новой волны», «младотурками»[1118] из изданий Arts и Cahiers du cinéma. Благодаря ей они увидели, что происходит в мире. Реальность, исчезавшая из фильмов парижских киностудий, возникла вновь благодаря ее появлению. Пока крупная пресса от имени традиционной киногероини нападает на «звезду» за то, что она подвергала себя угрозе скандала из–за обнаженного тела, из–за своего голоса, своих жестов, Франсуа Трюффо объясняет, что он увидел в этом теле, интимном дневнике ее действий и чувств: «Что до меня, то, посмотрев три тысячи фильмов за десять лет, я больше не переношу слащавые и лживые любовные сцены голливудского кино, как и грязные, фривольные, но столь же фальшивые — во французских фильмах. Вот почему я благодарю Вадима за то, что он снял свою жену, заставив ее повторить перед камерой повседневные и незначительные действия, например поигрывание босоножкой, или более значительные, такие как любовь под открытым небом, но при этом столь же реальные. Вместо того чтобы имитировать другие фильмы, Вадим захотел забыть о кино, чтобы „копировать жизнь“, подлинную близость, и, за исключением двух или трех немного самодовольных сцен, он великолепно справился со своей задачей».
Оказывая поддержку фильму «И Бог создал женщину» как «документальному фильму о женщине», «о женщине моего поколения», Трюффо рассматривает Брижит Бардо наравне с Мэрилин или Джеймсом Дином: их телесное присутствие делает других персонажей некрасивыми. Так же как Джеймс Дин осуждал Жерара Филиппа за театральные ужимки, Бардо своим появлением переводила Эдвиж Фёйер, Франсуазу Розай, Габи Морле, Бетси Блэр «и всех первых мастериц исполнения жизни» в разряд «устаревших манекенов». Совместное открытие Вадима и Бардо стало решающим для эстетики «Новой волны». Не нужно видеть здесь прямого и дословного заимствования — это скорее осознанное порождение. Явление нового тела Бардо, восприятие ее нонконформистского языка обнажили реальность, ранее скрытую французской школой за адаптацией костюмов, психологией, игрой, постановкой света или тенденциозными псевдосюжетами. Более чем «автор», Вадим был ценен именно как феномен, обнаживший кризис. Он один показал женщину 1956 года, другие показывали женщину двадцати летней давности[1119].
Женское тело становится пробным камнем кинематографа, поскольку оно позволяет молодым критикам изобличать «псевдореализм» студийных фильмов, где разучились снимать реальность тела, реальность самую верную, самую прямую, реальность торговли телами, проституцию. Не случайно проституция является одним из приоритетных сюжетов фильмов «Новой волны» у Трюффо и Годара. Первый затрагивал ее косвенно, однако был почти одержим ею (в каждом из четырех его первых фильмов этой теме посвящены один или несколько эпизодов). Второй рассматривает эту тему в одном из лучших своих фильмов «Жить своей жизнью». Вовлечение реального женского тела — основная черта эстетики «Новой волны». Оно начинается с Бардо у Вадима, но не останавливается на этом. Это манера, в которой Риветт в своем «Письме о Росселлини» прославляет плоть, восхваляет путешествие в Италию во имя ее «чувственного буйства». Манера, в которой Ромер защищает и описывает сочную Джейн Мэнсфилд в фильме Тэшлина «Испортит ли успех Рока Хантера?», увидев в «изгибах ее тела» возвращение к примитивизму, который тоже может быть современным. Эти позиции говорят о значении телесной выразительности для становления «Новой волны». Истина телесной природы кинематографа вновь дает о себе знать благодаря той же Брижит Бардо в фильме «Презрение», где в эпизоде после титров, по ее словам, камера исследует ее тело от пальцев ног до кончиков грудей. Есть что–то гениальное в сочетании незначительности снятых событий и интенсивности их телесной реальности. Реализм «Новой волны» построен на этой незначительности и на женском теле, которое постоянно, навязчиво описывается. Именно во славу этого автографа тела Жан–Люк Годар разражается восклицаниями на страницах Arts, жестоко нападая на старых кинематографистов и французскую школу: «Ваши движения камеры уродливы, потому что ваши сюжеты слабы, потому что ваши актеры играют плохо, потому что ваши диалоги никчемны, одним словом, вы не умеете снимать кино, потому что больше не знаете, что это такое. Мы не можем вам простить того, что вы никогда не снимали девушек такими, какими мы их любим, парней, какими мы их ежедневно встречаем, родителей, какими мы их презираем и обожаем, детей, какими они нас удивляют или оставляют равнодушными, — короче говоря, вы не снимали тела такими, какие они есть на самом деле»[1120].
IV. Тело автора фильма
Автопортрет дал новый импульс демонстрации тел в новом кино. Это было обусловлено и одной из особенностей нового кинематографа, — новой постановке вопроса, основополагающего для раннего кино: как может тело режиссера стать местом самого фильма? Линия «автокорпорального» кино снова находит свое место. Она основательно связана с авторами, чья работа состоит в том, чтобы довести до совершенства единичное появление самого себя. Жак Тати, Джерри Льюис, Франсуа Трюффо приходят на смену Китону, Уэллсу и Гитри. Кроме того, тело режиссера выглядит как подпись автора, нестираемый знак его искренности и индивидуальности. Именно «Новая волна» вводит эту телесную игру авторского следа, несомненно, соотносясь с тем, как появлялся в своих фильмах Хичкок. Шаброль — тщедушный деревенский юноша в фильме «Красавчик Серж», Трюффо появляется в крутящемся барабане на ярмарочном празднике в «400 ударов», Годар — прохожий–доносчик в фильме «На последнем дыхании». Систематичность таких тайных появлений — больше, чем шутка для своих. Напротив, она вскрывает стремление воплотить основное теоретическое изобретение критиков, создавших Новую волну, — «авторскую политику». «Кино есть форма, внутри которой и с помощью которой художник может выразить свою мысль, какой бы она ни была абстрактной, или воспроизвести свои навязчивые идеи, как это делается сегодня в эссе или романе. Очевидно, это влечет за собой тот факт, что сценарист сам должен делать фильм. Лучше сказать, что сценариста больше не существует, поскольку в таком кино различие между автором и режиссером не имеет более никакого смысла, постановка больше не является способом иллюстрировать или представлять сцену, она есть подлинный стиль», — писал Александр Астрюк в 1948 году. Влияние автора на свой фильм имеет отношение лишь к стилю. Оно предполагает телесную включенность режиссера в свою собственную постановку. «Младотурки» Новой волны лишь применили здесь то, о чем они раньше могли писать по поводу своих любимых режиссеров, то есть антропоморфическую концепцию кинематографа[1121].
«Свидетельство» автора фильма о самом себе через телесное появление у Джона Кассаветиса, Клинта Иствуда, Вуди Аллена, Элии Сулеймана, Филиппа Гарреля, Нанни Моретти, Жуана Сезара Монтейру, Даниэля Дюбру и некоторых других всегда кажется отображением болезни души, депрессивным или комическим воплощением меланхолии. Именно оно фиксирует в каждом теле, показанном на экране, потерю невинности и тем не менее желание начать жизнь заново. Все эти люди кажутся пораженными меланхолией с клиническими симптомами. Одинокие, страдающие, не имеющие никакого оружия кроме иронии, всегда «работающие», если у них больше нет работы, они никогда не в силах «переварить» ни свои фильмы, ни свою судьбу. По Аристотелю, меланхолик — это «тот, кто не может переварить». Современный режиссер — это человек с меланхолическим телом, обязанный продумать связь между остатками неуправляемой памяти, недоделанным детским характером, отказом от академической формы, гениальной изобретательностью и грезами из смеси времен, культур и обличий. Ведь, если форма такого кино в сущности болезненная, неуравновешенная, то при этом существует некое «здоровье» меланхолика, в корне хрупкое здоровье, уверенность, порожденная ненадежностью. И именно эту творческую потенцию меланхолии всегда хотят реализовать Аллен, Иствуд, Моретти, Монтейру или Гаррель.
V. Современный кинематограф как возвращение к примитивному телу
Хотя Европа всегда ждала от Америки образа завтрашнего дня, ближайшего будущего, «сцен из жизни будущего», а значит, изображения рационализированного, стерилизованного или кибернетического тела, сильнейшая традиция голливудского кинематографа передавала европейской публике образы отчаянных, униженных, примитивных, перешитых и окровавленных тел, переживших опыт смерти. Эта традиция, опирающаяся на опыт фантастики, в момент своего подъема раскрывала талант самых многообещающих молодых американских режиссеров. Тим Бертон и его погребальные маски, Сэм Рэйми с трилогией «Зловещие мертвецы», кошмары Уэса Крэйвена, Роберт Земекис и «Смерть ей к лицу», Тодд Хэйнс и «Яд», М. Найт Шьямалан, одаренный «Шестым чувством», Гас Ван Сент и кроткие дьявольские убийцы из «Слона», Дэвид Линч с выводком своих созданий и Джеймс Кэмерон со своим патологическим и несокрушимым монстром — «Терминатором». Сегодня мертвое тело завладело кинопленкой, а одержимость смертью завладела воображением молодых американских режиссеров. Парадоксально, но именно внутри этого механизма, включенного в полный лазеек и расщелин голливудский рынок, можно отыскать телесные ресурсы нового авангарда, «Нового экспериментализма». Вокруг сущности тела разыгрывается церемония умирания и повторного появления, и ее ритуалы кажутся весьма захватывающими. Ведь эти молодые американские режиссеры не перестают выдумывать новые понятия, основываясь на тщательном изучении тел. Больше никакого реального мира, только тела как отражения, как метафоры, как места для экспериментов над репрезентацией[1122].
Почти все эти сущности носят на себе следы собственного радикального исчезновения, своей смерти. Для большинства эти наполовину животные, наполовину человеческие тела вернулись «с той стороны зеркала»: трупы из фильма «Бэтмен: возвращение», скелеты и существа с содранной кожей из «Армии тьмы» Сэма Рэйми, вечно живые мертвецы Земекиса, роботы–фантомы в «Терминаторе», навязчивые образы «Шоссе в никуда» или «Малхолланд–драйв» Дэвида Линча. Чаще всего речь идет об их «возвращении»: исчезнув, они способны жить, выживать лишь в повторении травматизма своей собственной смерти, именно в многозначном возобновлении этого момента состоит самое глубокое впечатление фильма. Во втором эпизоде своих приключений Бэтмен лишь «возвращается», неся за собой свои атрибуты или, скорее, своих alter ego: плесень разъедает лицо Пингвина, швы покрывают привычный костюм Женщины–Кошки, рубцы намекают на ее недавнюю смерть после падения с тридцатого этажа башни Шрека и впоследствии на ее окончательное превращение в живого мертвеца благодаря кошачьим когтям. Этот травматический опыт, смерть, которую можно «обратить вспять» благодаря фильму, необходимы режиссерам, поскольку они выявляют двойной принцип наслаждения и страха, лежащий в основе любой воображаемой конструкции[1123]. Каждое из этих невероятных существ (с равным успехом можно говорить о гремлинах, гниющих и смердящих как труп, как о вырождении первоначального плюшевого Гизмо) ведомо двойной линией свойств, заимствованных у самой смерти[1124] как испытание и как нечто таинственно–эфемерное. Мы видим одновременно секс–бомбу (Женщина–Кошка тут первая) и облик ужаса — разрезанный и склеенный. Исчезновение и возрождение тел позволяет этим фильмам соединить принцип страха и принцип удовольствия, бесконечно длить наслаждение страхом перед собственным телом. Рубцы, швы, зазоры, незавершенность, следы мутации в таких фильмах становятся символами, извращенными и отвратительными (но и зачаровывающими) следствиями всемогущества кино, способного склеивать картинки одну с другой. В конце концов, это кинематографическое тело не может умереть, оно может лишь исчезать и появляться снова, питаемое воспоминаниями, памятью, наследием образов, а также искажением этой памяти и этого наследия[1125].
Таким образом, кинематограф трупов заставляет помнить, что он не может исчезнуть, что он сопротивляется исчезновению с помощью замысловатых мутаций, удивительных трансформаций или упорных перевоплощений. Он обзавелся героем, которого можно назвать «бессмертным», буквально «не способным умереть»: человеком–животным или человеком–машиной, вынужденным вечно переносить испытания, которым подвергается его тело, для того и созданное[1126]. В этом смысле Терминатор Джеймса Кэмерона — самое интересное тело, выдуманное за последние двадцать лет[1127], — крутой гений бессмертия, созданный из первоначальной смерти, случившейся еще до начала фильма (Шварценеггер — это тело, собранное из мертвых органов и инертных объектов), и из финальной катастрофы (образы Страшного суда овладевают душами). Аналогично с помощью примитивизма (Бертон, Рэйми, Крэйвен, Джо Данте, Линч), кибернетики (Кэмерон), силы визуальных образов (Земекис, Шьямалан) или используемых до предела всех трех этих сил большая часть новых американских фильмов в конце концов приходит к следующему абсолютному принципу: тело не может умереть полностью, поскольку исторически ограниченную жизненную силу сегодня заменило полное осознание (и всемогущество) производства представлений. Базен определял сущность кинематографа как запись встречи хищника и его жертвы, как смерть за работой в кадре. Новое американское кино не может себя так определить, поскольку исчезновение немедленно вызывает воспроизводство и новое появление: смерть больше не является решающим испытанием кадра. Лишенный этого испытания, этого верховного судьи, он принужден верить постоянным виртуальным эффектам воспроизводства тел. Одна линия всегда вызывает другую, один образ постоянно прячет другой, и даже мертвое тело возрождается, как удивительный кибернетический Шварценеггер.
Если кинематограф обречен быть менее гуманным, возможно, он спасет себя, будучи более политическим. В конечном счете травматический опыт тел несет в себе политическую цель, соответствующую обществу, которое мечтает о стабильности социальной ткани. Кинематограф, работающий за счет расщепления, расчленения, разрушения, чтобы потом склеивать истории, образы и тела, оказывается троянским конем, которого Голливуд помещает в юношеский рассудок. То, что он разрезает и потом составляет заново, — это и есть социальная ткань, ставшая из–за этих ножниц и иголок глубоко нестабильной. С одной стороны, он питается знаками стабильности, поскольку на самом деле здесь все рождается из покоя и гармонии: приятные пастельные городки, с которых начинаются «Битлджюс» и «Эдвард Руки–ножницы», любимчик Гизмо у Данте, нормальный дом в начале «Людей под лестницей» у Крэйвена, блестки музыкальной комедии в «Смерть ей к лицу». Это нужно для того, чтобы отвлечь зрителя мирной обстановкой, сбить с толку гармонией. Мы быстро замечаем, что палитры маленьких городов Тима Бертона предназначены лишь для того, чтобы породить мрачного монстра, оживленного мертвеца, который придет позже, чтобы взбудоражить эти места, доставить им наслаждение, угрожая им. Точно так же дом у Уэса Крэйвена умудряется скрывать беспокойство и ужас под своими лестницами. Или гремлины, точное подобие плюшевых игрушек из комнат маленьких девочек (и связанные с ними сложным происхождением), изощряются в свершении социального зла, систематически нарушая запреты и разрушительно используя все, что попадает им в руки. Эти образы помещают чудовищное туда, где Америка хотела бы видеть образ покоя, они уничтожают гармонию, пожирая ее, переваривая, а потом сплевывая, — в злодейской и одновременно бурлескной манере. Это определяет отношение к миру, общее для всех антигероев данных режиссеров, — булимию знаков. Также это указывает их место: они располагаются между объектами коммуникации (телевидение, киномания, тела), чтобы поймать их сообщения и проявления и заснять их с противоположной точки, гротескной и устрашающей. Телевидение и кино пожираются изнутри. И наоборот, так же как они перехватывают обычные сообщения коммуницирующих машин, путают их и извращают, эти персонажи устанавливают связь с тем, что ранее могло сообщаться лишь при помощи установленных пристойных правил (политически корректного языка). Именно они через ряд мутаций смешивают различные народы, меньшинства, открывают пути перехода между детством и смертью, приличным и непристойным, гигиеной и тлением, между живыми и трупами. Спутывая привычные знаки гармонии, смешивая заведомо несовместимые части тел и культур, созданные мутациями разнородного, в результате эти фильмы предлагают в высшей степени подрывной политический сдвиг. Они заставляют окончательно исчезнуть саму форму американской мечты[1128]. Отчасти это подтверждает фильм Оливера Стоуна «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»[1129] — огромное паранойяльное полотно, автор которого не позабыл уроки своих дебютов — фильмов ужасов и тел, которые он превращал в зомби[1130].
ГЛАВА III Сцены. Танцующее тело: лаборатория восприятия
Анни Сюке
В 1892 году Лои Фуллер впервые представила в Париже «Танец Серпантин», за которым несколько лет спустя последовали «Светящиеся танцы». Интерес к американской артистке оказался не только мгновенным, но и продолжительным. В течение двух десятилетий художникам, писателям и зрителям будет казаться, что они ищут себя в «чуде непрерывных превращений»[1131], из которых Лои Фуллер тщательно выработала представление. Успех был широк настолько, насколько широки были ее возможности создания метафоры, и танец первооткрывательницы вскоре начал обретать навязчивые формы. В самом деле, Лои Фуллер затрагивает и собирает вместе многие самые живые и волнующие мотивы чувственного опыта рубежа XIX века.
I. От визуального к динамическому
Что же на вершине карьеры говорит о силе этой актрисы, вышедшей из пестрой традиции американского водевиля?[1132] Ее танец освещали электрические прожекторы[1133], свет которых преломлялся цветными фильтрами. Подвижное очертание кружилось на вращающейся платформе; настоящий «ураган тканей» — восхищался Эдмон де Гонкур[1134]. Танцовщица появлялась и исчезала в кипящих завитках парусов, которые взметались в пространство и опадали, вращаясь вокруг ее тела, будто стремились то в пустоту, то в вихрь. «Тело зачаровывало тем, что его было не найти», — говорил Жорж Роденбах в 1899 году. Как писал Жюль Лоррен, это был «низвергающийся водопад движущихся и угасающих оттенков»[1135], световая фантасмагория, чью гипнотическую силу не переставали восхвалять писатели. Вездесущность «серпантинной линии», спиральная волна, которая связывает все моменты танца в длительное движение, создает иллюзию изменчивого разгула, где каждая форма уничтожает предыдущую. Восприятие времени играло ключевую роль в выступлениях американки. Оно обостряло осознание мимолетности движений, их непостоянство, и это было новым для восприятия танца[1136]. По Стефану Малларме[1137], в этих «едва уловимых растрепанных видениях» Лои Фуллер порождала иллюзию, на которую зрители могли проецировать самые разные образы. Но здесь доминируют натуралистские отсылки. Искусство модерна бьет ключом, и Камиль Моклер излагает его основные мотивы, когда утверждает в 1900 году, что танцовщица «стала вся целиком волчок, эллипс, цветок, необыкновенная чаша, бабочка, огромная птица, многогранная стремительная зарисовка всех форм флоры и фауны»[1138].
Однако художественные намерения Лои Фуллер ограничивались случайным иллюзионизмом, и в этом не менее значительный парадокс ее танца. Если здесь и присутствует иллюзия, то она следует физическим процессам, и именно они требуют внимания художника. Вопросы, которые ставит танец американки, близки к исследованиям того времени о природе движения и наблюдения за ним. Поэтические эффекты являются здесь лишь далеким следствием или искажением. Лои Фуллер изучает свойства движения, пластики тел и света. С помощью взмахов ткани она стремится, в первую очередь, изобразить траекторию движения в пространстве. Она пытается сделать видимой саму подвижность вне тела — ее носителя. Некоторые хронофотографии Этьена–Жюля Маре стремятся лишь к тому, чтобы, записывая световые импульсы белых пятен в определенных точках траектории телесного движения, отражать «кинетическую мелодию» в отсутствие самого тела. Лои Фуллер занимается и динамическими свойствами цвета, его предполагаемым влиянием на организм, импульсами и восприятиями, которые он возбуждает[1139]. Увидев представление американки, футуристы Арнальдо Джина и Бруно Кора разрабатывают в 1913 году первые абстрактные фильмы, основанные на «хроматической музыке»[1140]. В итоге интерес танцовщицы к освещению, точнее ее исследования электричества как источника энергетического воодушевления, совпадают с опытами физиологов и первых психологов восприятия, которые в это же время стремятся точно описать моторные и тактильные эффекты визуальной рецепции.
Так танец Лои Фуллер объединяет все следствия изменений в представлениях о природе света, который все чаще описывали как электромагнетический феномен, сильно влияющий на человеческое тело[1141]. Освещение, скорость, цвет — средства ее искусства. Они заставляют танцовщицу двигаться, становятся частью той «неведомой силы», импульсы которой она стремится отобразить своим телом. Лои Фуллер понимает движение как «инструмент, с помощью которого танцовщица бросает в пространство вибрации и волны визуальной музыки»[1142]. Тело художницы — резонатор. Внутри него световые волны превращаются в кинетические в процессе непрерывного обмена, а танец должен задавать ритм этому процессу и преобразовывать его с помощью алхимии внутренних чувств в «скрытую музыку — музыку для глаз», — уточняет танцовщица[1143]. Благодаря Лои Фуллер появляется представление о танцующем теле как о теле мерцающем, объединяющем тончайшие действующие силы. Но это представление, столь характерное для будущего танца в XX веке, так сказать, свертывается в складках визуального опыта. Оно свидетельствует о глубокой переоценке ценностей XIX века — восприятие тела в движении становится совершенно иным.
II. Расцвет шестого чувства. Кинестезия
Вальтер Беньямин долгое время анализировал, какими способами вызванное модернизацией расщепление визуального поля способствовало преобразованию опыта зрения в XIX веке[1144]. Наблюдатель все активнее тренирует свои перцептивные способности в расчлененном городском пространстве, где сквозь него бежит неконтролируемый поток движений, знаков и образов. Всякая созерцательная дистанция более невозможна: горожанин является частью окружающей изменчивости, его внутренние представления раз и навсегда отмечены неустойчивостью форм. Отныне судорога и шок становятся первой формой чувственного опыта, разрушая всякую возможность совокупного понимания человеком своего тела и среды его передвижения. Если прерывистость становится обычной для современного восприятия, то она высвобождает и его другие формы.
Изучение инерции зрения[1145] прокладывает путь новой концепции этого чувства. Поскольку глаз может продолжать воспринимать цвета и образы даже после того, как исчезает внешний референт, то возникает заключение о физиологической способности тела создавать феномены, не имеющие соответствия в материальном мире. Далекое от того, чтобы быть нейтральной системой записи впечатлений, произведенных объектами внешнего мира, зрение начинает казаться активной способностью, зависимой от единичного тела, следовательно, необходимо субъективной. Таким образом, зрение постепенно «становится частью физиологии и шаткой временности человеческого тела»[1146]. Функционирование воспринимающего тела оказывается основной целью исследования экспериментальных наук. Если размывается граница между внутренними переживаниями и внешними признаками, то роль движения в системе восприятия вызывает растущий интерес.
Постепенно зрение утверждается как «физическая реальность, требующая постоянного приложения силы и движения»[1147]. Но зрение и движение оказываются нераздельны, поэтому появляется третий термин, который их связывает. Действие тела в перцептивном акте не является механическим, оно есть функция намерения, желания, проявляемого субъектом по отношению к миру. А значит, эмоциональная составляющая постоянно фильтрует процесс восприятия. Именно она расцвечивает и расшифровывает работу чувств, чтобы составить из нее панораму переживаний[1148]. В конце XIX века возникает новое понимание пространства внутри тела, оживленного разнообразием неврологических, органических, аффективных ритмов. Среди множества психофизических опытов особый интерес представляют эксперименты, проведенные Шарлем–Самсоном Фере, ассистентом Жана Мартена Шарко в больнице Сальпетриер в конце 1880‑х годов. Занимаясь феноменами «психомоторной индукции», ученый открывает, что всякое восприятие — перед самым осознанием чувства и, тем более, эмоции — вызывает «моторный выброс», чьи стимулирующие эффекты можно зафиксировать на уровнях мышечного тонуса, дыхания, сердечно–сосудистой системы[1149]. Восприятие и подвижность оказываются тесно связаны между собой.
Для швейцарского педагога и музыканта Эмиля Жак–Далькроза, вокруг которого собираются самые выдающиеся представители первого поколения немецкого танца–модерн, возможность движения восходит к «непрерывному обмену психических флюидов и чувственных отражений»[1150]. Однако это не проливает свет на природу восприятия движения, и этот вопрос становится все более настойчивым, пока танцоры ищут наощупь средства новой выразительности. Какие методы делают возможным восприятие движения и его организацию? Иными словами, в чем состоит «внутренний смысл движения»? Именно этот вопрос Василий Кандинский в 1912 году считал основным для «танца будущего»[1151]. Жак–Далькроз выдвигает следующее суждение: «Телесное движение — это мышечный опыт, и этот опыт определяется шестым чувством, „мышечным чувством”»[1152]. К нему восходит возможность чувствовать колебания напряжения мышечного тонуса, которые и составляют своеобразную палитру танцора. Но объяснение остается недостаточным. В 1906 году англичанин Чарльз Скотт Шеррингтон, один из отцов–основателей нейрофизиологии, объединяет множество перцептивных руководящих инстанций, совпадающих с шестым чувством, которое сегодня называют «чувством движения» или «кинестезией»[1153], под термином «проприоцепция». Здесь переплетается организующая информация, относящаяся к артикуляции, мускулам, тактильному восприятию, зрению, и все эти параметры постоянно перестраиваются менее ясной моторикой нейровегетативной системы, которая регулирует глубинные физиологические ритмы, дыхание, секрецию, кровоток и т. д. Область сознательной и бессознательной подвижности человеческого тела открывается исследованиям танцоров на пороге XX века. Здесь чувственное и воображаемое ведут свой бесконечно изысканный диалог, вызывая множественные интерпретации, перцептивные фикции, дающие жизнь множеству поэтических тел.
III. Непроизвольное движение
Среди тем, которые под разными масками появляются на всем протяжении истории нового и современного танца, тема непроизвольного движения занимает значительное место. Этот мотив присутствовал еще в конце XIX века, а потом стал главным интересом танца–модерн. Не случайно Лои Фуллер пользуется наибольшим успехом в эпоху, когда поводом для всеми любимого зрелища становится гипноз. В своей автобиографии танцовщица рассказывает о первых постановках танца с тканями в 1891 году. Она хотела изобразить молодую женщину, погруженную в гипнотический сон, — тема гипноза была очень популярна в американских водевилях того времени. В Европе эксперименты с гипнотическим сном проводились совсем не в лабораториях, где в то же время разрабатывались первые серьезные опыты психоанализа: они скорее были следствием моды на «оккультно–научные»[1154] представления. В этом контексте тело становилось сценой, привлекающей публику настолько, насколько удалось показать непроизвольное действие. Тело выявляло бессознательные механизмы психической и физической природы. С самого начала танец–модерн ищет вход в этот подземный мир, который, как кажется, заключает в себе источник всякой эмоциональной и телесной подвижности. После Лои Фуллер Айседора Дункан дает тому красноречивое свидетельство. В своей автобиографии она описывает первую мотивацию своего танца: «Я же, напротив, искала такой источник танцевального движения, который проникал бы во все поры тела. По прошествии многих месяцев, научившись сосредоточивать всю свою силу в этом единственном центре, я обнаружила, что когда я слушаю музыку, вибрации ее устремляются потоком к этому единственному источнику танца, находящемуся как бы внутри меня. Вслушиваясь в эти вибрации, я могла претворять их в танец». И немного выше: «Часами я простаивала совершенно безмолвно, скрестив руки на груди… и, наконец, нашла первоначало всякого движения, чашу движущей силы, единство, из которого рождены все разновидности движений, созидающие танец»[1155].
Следует напомнить, что Айседора Дункан стала одной из первых танцовщиц, отказавшихся от корсета. По ее словам, он вызывал «искажение прекрасного человеческого скелета, смещение внутренних органов, дегенерацию доброй части мышц в теле женщины», а также ухудшение дыхания[1156]. Значение, которое танцовщица уделяет туловищу как средоточию глубинных функций организма и их эмоциональных резонансов, находит отклик в современных открытиях физиологов в области автономной нервной системы, а именно в изучении рефлексов и в существовании «висцерального сплетения», работающего по принципу совместного действия[1157]. Вслед за Дункан первые поколения американских новых танцоров выражают представление о психоэмоциональном центре движения, который находится в туловище и предположительно является источником всех движений тела. В 1918 году Хелен Моллер, одна из первых преподавателей танца–модерн, решительно заявляет: «Производящий центр всякого подлинного физического выражения находится в области сердца… Все движения, исходящие из других источников, эстетически пусты»[1158]. Она определенно намекает на классический танец и его расположенность к периферическим движениям конечностей, рисующих некие фигуры в пространстве[1159]. Место «движущего очага» путешествует по туловищу, видоизменяются техники и фантазии танца. Для Марты Грэм начиная с 1930‑х годов источником движущих сил стал таз. Он, в самом деле, является «центром тяжести», то есть точкой сосредоточения массы целого тела и его перемещения. Туловище больше не могло на это претендовать, в глазах хореографии оно было частью тела, «где эмоция становилась зримой с помощью работы, сопрягающей телесную механику и химию, работу сердца, легких, желудка, позвоночника и других органов»[1160]. Движение в собственном смысле — это лишь обобщение внутренней подвижности (отчасти непроизвольной), на восприятие которой необходимо себя настроить.
Поэтому наблюдение за физиологическими ритмами с самого начала играет первостепенную роль в танце–модерн. Тишина и неподвижность — первые условия нового внимания к «ропоту бытия». «Послушаем стук нашего сердца, шепот и журчание нашей собственной крови»[1161], — проповедует Мэри Вигман, пионерка немецкого танца–модерн. Что касается дыхания, то «оно молчаливо управляет мышечными и артикуляционными функциями», — продолжает танцовщица. Размах и скорость движения танцора — это эффект «динамической мощи дыхания, которая обнаруживается на текущем уровне интенсивности и давления»[1162]. Чередование вдоха и выдоха задает танцорам основной принцип напряжения/расслабления, открытый толкованиям и разработке в течение всего XX века. Также дыхание открывает для понимания пластическое пространство внутри тела, одновременно объемное и направленное: с помощью дыхания тело расширяется и сжимается, растягивается и оседает. Оно производит непрерывное соединяющее отношение между внутренним и внешним пространством. Дыхание составляет остинато всякой подвижности. Его волновые колебания — это проявления непроизвольного движения. «Самопроизвольный танец» Айседоры Дункан стремится подражать независимым приливам и отливам волны. Она пишет в 1905 году: «Любая энергия выражается через это волнение. Все естественные и свободные движения согласуются с этим самым законом»[1163]. И танцовщица обобщает: «Я вижу, как волны покрывают всякую вещь. Посмотрим на деревья, подчиняющиеся капризам ветра, разве они не следуют направлению волн? <…> Разве звуки и свет не распространяются так же как волны? И полет птиц… и движение животных»[1164].
IV. Континуум живого
Пробуждение восприятия физиологических колебаний приводит к пониманию движения как континуума. Если ничто его не стесняет, то внутренняя подвижность тела и ее отражение в пространстве отвечают принципу распределения и реактивного заражения. Неподвижного не существует — только градации энергии, иногда бесконечно малые. С конца XIX века Женевьев Стеббинс разрабатывает упражнения для заострения восприятия этой энергетической гаммы, вплоть до скрытых и вовсе отсутствующих движений. На стыке театра, танца и терапии она развивает метод «психофизической культуры», который окажет на танец и театр существенное влияние[1165]. Одна из главных интуитивных идей Стеббинс заключалась в осознании важности того, с чего начинается движение. Она разрабатывает практику релаксации, основанную на сложной технике дыхания, под влиянием йоги и, косвенно, практики цигун[1166]. В 1902 году она писала: «Подлинная релаксация означает уход от тела к силе тяжести, от разума к природе и от внешней энергии к динамическому глубокому дыханию». Неподвижность указывает не на «отсутствие жизненной силы», а на «огромную потенциальную мощь»[1167]. Качество и выразительный заряд движения происходят из этой скрытой мощи. Из нее все разгорается, начиная с эмоциональной окраски действия, заканчивая масштабом его распространения в пространстве. Представление о центре невидимой организации телесного выражения лежит в основе многих процессов в театре и танце XX века[1168].
По мнению Женевьевы Стеббинс, энергия способна провоцировать бесчисленные изменения. С 1890‑х годов она проводит опыты посредством «упражнений расщепления». Ухватываемое центром кинестетического восприятия, любое постепенное движение каждой части тела влечет следующее согласно «принципу последовательности», который предшествует мотиву волны, столь ценимому Айседорой Дункан. Позвоночник делается осью и приводным ремнем этой кинетической передачи. Следовательно, решающим моментом стала разработка возможностей спины. Тед Шоун, основавший в 1914 году со своей супругой Рут Сен–Дени первую школу танца–модерн в Соединенных Штатах, писал: «Цель в том, чтобы сознательно заставить двигаться каждый позвонок по отдельности, освобождая позвоночник от всякой скованности, способной помешать движению чистой непрерывности»[1169]. Если позвоночник способен на опыт постепенности, удержания, то его можно использовать и для молниеносного перехода, для взрывного рывка. Позвоночник играет роль пружины. Ведь и Вацлав Нижинский, чьи прыжки имели колоссальный успех, признавался, что «прыгал с помощью спины».
Одно из самых исследованных и наиболее успешных выражений непрерывного движения в танце XX века — спираль. Движение как непрерывность, то есть метафора жизненного принципа, проявляет себя здесь в полной мере. Прежде чем рождается танец–модерн в чистом виде, Стеббинс предлагает различные виды спиралевидных спадов и подъемов, которые в ее глазах связаны с духовными практиками некоторых восточных ритуальных танцев[1170]. Вращающиеся соло Рут Сен–Дени вписываются в это течение. В 1906 году в Берлине американская танцовщица покорила поэта Гуго фон Гофмансталя, который восхвалял «пьянящую последовательность [ее] движений, ни одно из которых нельзя считать самостоятельной позой»[1171]. У Дорис Хамфри начиная с 1930‑х годов спиралевидная динамика принимает чуть ли не метафизическое значение. Техника, разработанная танцовщицей, основана на непрерывной игре потери и восстановления равновесия. Готовность к падению, передача тела действию законов гравитации воспринимаются здесь как условие отскока и отрыва от земли. Танец Дорис Хамфри весь выстроен из восходящих и нисходящих верчений, и в глазах хореографа этот круговорот воплощает движение самой жизни. «Танец создает мост между двумя смертями» — пишет хореограф. Танец и есть это бесконечно воспроизводящееся движение, с помощью которого живое существо ускользает от горизонтальной неподвижности трупа и такой же смертельной вертикальной неподвижности твердого выправленного тела[1172].
Спираль уподобляется жизни, поскольку движется видоизменяясь. Она непрерывно трансформирует полярности и параметры движения. Здесь постоянно сцепляются центр и периферия, восходящее и нисходящее, «вперед» и «назад». К тому же спираль — это элементарный принцип организации организмов и живых тканей. В человеческом теле, например, мышечные волокна устроены именно таким образом. В 1970‑е годы появился вихревой танец Триши Браун. Видимо плотность тела больше не может сопротивляться круговороту кинетического потока, который растекается, отражается, содрогается, свертывается и развертывается вокруг разнообразных осей, основных и второстепенных. Изучение этих качеств движения открывает в творчестве американского хореографа цикл, окрещенный критиком и писателем Клаусом Кертнессом «подвижной молекулярной структурой». Безусловно, тут налицо отсылка к броуновскому движению[1173], описывающему непрерывную блуждающую динамику микроскопических частиц во взвешенном состоянии в жидкостях и газах. От волны Дункан к молекулярной броуновской структуре — натуралистская метафора повторяется и действует на всем протяжении истории танца XX века.
В 1990‑е годы канадка Мари Шуинар привносит сюда еще несколько аспектов. Характерное движение хореографа — колебание позвоночника. По ее словам, это движение родилось у нее при занятиях плаванием. Под водой тело переживает внутриутробный опыт колебания позвоночника. Позвоночник, погруженный в амниотическую жидкость, «дышит» и движется в ритме постепенного притока и оттока спинномозговой жидкости[1174]. Но это колебание имеет и другие коннотации. Оно демонстрирует родство человека с рептилиями. Многие хореографические движения Мари Шуинар напоминают движения животных. Под влиянием теорий Бонни Бейнбридж Коэн[1175] хореограф приходит к выводу, что онтогенез повторяет филогенез. Моторное развитие человеческого существа в сжатом виде соответствует стадиям эволюции видов, начиная с одноклеточных организмов — через рыб, амфибий и рептилий — до млекопитающих. Каждой из этих стадий свойственен свой уровень созревания нейромоторной системы. Все эти системы активизируются к концу первого года жизни ребенка, чтобы обеспечить ему прямохождение. Танец Шуинар стремится расплести нити «моторной памяти». Когда Мари Шуинар сгибает руки и ноги вокруг туловища, она обращается к эмбриологическому опыту, точнее, к тому периоду внутриутробной жизни, когда зародыш перемещается вокруг пуповины и развивается в соприкосновении с ней. В животном царстве такой тип радиального развития представляет морская звезда. Однако хореограф стремится не столько к последовательному переходу по этапам филогенетического развития, сколько к тому, чтобы отделить кинетический мотив, свойственный каждому этапу, перенести его, создать иную последовательность, сделать каждый этап предметом телесной метаморфозы, воображаемой гибридизации, с помощью которых он обновляет свое тело, создавая новую интерпретацию действительности. Отслеживая малейшие пульсации собственного тела, танцор неизбежно приходит к новым ритмам, к новым состояниям материи.
V. Память материи
Для Рудольфа Лабана в середине 1910‑х первой задачей танцора, как и актера и мима, было «умение чувствовать»[1176], что не сводилось лишь к «биологическим факторам жизни»[1177]. Совершенствование восприятия должно погружать танцора в ритмические потоки современной жизни, ее вибрации. Лифт, кино и фотография, американские горки, технологии индустриальной эры порождают небывалый опыт восприятия[1178]. Пространственно–временные разрывы, рывки, ускорения приводят к новым кинестетическим ориентирам и видам отношений. Однако в глазах Лабана прерывистый режим современной жизни чреват угрозой: он стирает память, мешает опыту оседать в ней. Отсюда следует обеднение чувственной и эмоциональной жизни, все менее полные взаимоотношения с миром. Лабан обращается с телесностью современного человека как с палимпсестом. В теле закодирована вся эволюция материи, доступная для реактивации в форме следов и вибраций. В представлениях Лабана смешиваются эволюционистские теории[1179] и эзотерика. Тема вибрации приближает его к теософии, для которой «вибрация созидает всякую материальную форму»[1180]. Пульсирующая способность движения, на взгляд Лабана, — это царская дорога для пробуждения «непроизвольной памяти». Именно она вновь связывает танцора, актера и мима с разнообразием ее феноменов. Австро–венгерский теоретик оказал огромное влияние на развитие немецкого и американского танца, разработав искусство импровизации. Лабан изобрел к ней такой подход, который превращал забвение (усвоенные знания, автоматизм…) в необходимое условие всякого припоминания и творчества. Его метод стремится помешать телесным привычкам, чтобы добиться состояния восприимчивости, подобного измененным состояниям сознания, к которым стремятся восточные техники. Как дзенский лучник или актер театра но, импровизатор, по Лабану, развивает состояние «присутствия–отсутствия», чувствительное к тонким сенсорным потокам, на которые он мгновенно реагирует всем своим существом. Доведенная до предельных следствий, импровизация начинается с того, что нарушается ощущение целостности тела, наступает кинестетическое опьянение, в котором теряются ориентиры и оживляются спящие моторные способности. На пороге 1960‑х техники импровизации Анны Халприн, столь значительные для всего поколения американских постмодернистских танцоров, стремятся к похожей цели. Припоминание, на которое рассчитывал Лабан, не имеет отношения к личным воспоминаниям. По его мнению, если импровизация способна «показать прыжок животного, почувствовать неявное колебание растения и глубокое движение растущего кристалла»[1181], то она связывает танцора с пластическим опытом минувших поколений. Лабан в качестве ориентиров предполагает «сгущения телесной памяти»[1182]. Каждый объект сохраняет отпечаток не только жестов, сформировавших его, но и что–то вроде их энергетической частоты. Согласно Лабану, призвание танцора состоит в том, чтобы учиться воспринимать скрытую энергию и отражать ее в материальных очертаниях. Танец располагается, как выражался Рильке о поэзии, «на пересечении форм и творческих сил».
Даже если подобный взгляд исходит из некоего романтического эзотеризма, он отражает определенные интересы современной Лабану экспериментальной психологии. Вопрос о памяти тела действительно обсуждался. В 1912 году, когда исследования танцора идут полным ходом, Теодюль Рибо в своих работах выдвигает несколько гипотез по этой теме. Для этого ученого «моторные феномены сильнее других тяготеют к самоорганизации и устойчивости». «От состояний сознания, восприятий, эмоций остается их „кинестетическая составляющая“, их „моторное представление“». И состояния сознания, продолжает автор, «оживляются лишь благодаря действию моторных условий, которые являются субстратом этих состояний»[1183]. Отсюда следует, что непроизвольная память, путь к которой искал Лабан, имеет одновременно моторную и психическую природу. Освобождая движения и ритмы, танцор обязательно находит утраченные состояния сознания. Состояния материи, состояния тела и состояния сознания формируют одну и ту же ткань.
Однако главная заслуга Лабана в том, что он связал вопрос о памяти тела с законами гравитации. Ведь постольку–поскольку танцор перемещает свое тело (разве нельзя дать танцу такое элементарное определение, как «перемещение тела во времени и пространстве»?), он тем самым развивает и его особое отношение к памяти. С 1920‑х Лабан занимается вопросом веса тела и помещает его в центр своей концепции движения. Отношение к своему весу, то есть способ, которым мы задаем положение своего тела, чтобы стоять прямо и приспособиться к закону тяготения, чрезвычайно изменчиво. Оно зависит от механического сопротивления, от психологического опыта индивида, от эпохи и культуры, частью которой является. Согласно Лабану, это сложное управление вертикальностью, а значит, и отношение к силе тяжести зависят от «внутреннего положения (сознательного и бессознательного)», определяющего динамические качества движения[1184]. Вариации переноса веса тела определяют ритм движения и его стиль[1185]. Именно они придают каждому человеку с раннего детства его «телесный почерк», кинематическую фактуру его поступков. Не только материальные выражения цивилизации — архитектура, предметы, технологии — отражают весовой выбор: выбор этот производят и репрезентации тела, которые характеризуют эпоху.
Танец, поскольку он связан с весом, является мощным активатором прошлых состояний тела. Он приводит в действие глубинную память. Сегодня известно, что она записана «не в нервной системе, но в пластичном формировании тканей, порождающих плотное устройство тела»[1186]. Фасции, соединительные ткани, облегающие и объединяющие все системы тела (мышцы, органы…), «производят память» еще до всякого сознания. Их пути к вертикальному положению в буквальном смысле высечены рискованными случаями из истории. Фасции переводили их в телесную запись, формируя пластические особенности индивида[1187][1188]. В 1940‑е годы работающий в области психобиологии Анри Валлон показал, что первый обмен младенца информацией со своим окружением происходит через сокращение гравитационных мышц, называемых также тоническими мышцами[1189][1190]. Позже, в 1960‑е годы, эта теория привела к идее «тонического диалога»[1191]. Этот язык сокращений и расслаблений мышц с самого начала наделен эмоциональной окраской. Оказывается, что поступательное движение к вертикальному положению путем развития гравитационных мышц всегда связано с психологической историей индивида и его отношения к внешнему миру. Не может быть изменения напряжения мышц в теле без изменения эмоционального состояния и наоборот. Итак, тонические мышцы предвосхищают всякую возможность движения, а значит, и переноса веса, тогда как соединительная ткань приводит в движение целое телесной структуры.
Не только ощущение тяжести, аффект и движение перетекают друг в друга: малейшее движение задействует индивида во всей тотальности функций его организма. Иными словами, единственная нить бытия принимает вызов тяжести. Рудольфу Лабану было мало выдумать из этого средство припоминания состояний материи, одновременно рассеянное и всеобъемлющее. Он также увидел здесь возможность глубокой трансформации человека. Проникая в материю тела, активно работая с ней с помощью силы воображения, танцор преобразует свои перцептивные установки. Для него танец зависит лишь от формы выразительности. Ведь если движение неотделимо от эмоции, как оно может стать ее выражением? Танец не выражает никакого внутреннего душевного мира. Он есть, по мнению Лабана, «поэма напряжения»[1192], с помощью которой живое существо непрерывно изобретает свою собственную материю.
VI. «Воображение есть единственный предел изобретению движения» (Мерс Каннингем)
Мерс Каннингем рано убедился в том, что средства восприятия по сути своей очень гибки. Не сомневается он и в том, что они проявляют склонность к рутине. Годы обучения американского танцора были пропитаны культурным климатом, в котором господствовала мода на «автоматизм». Поиск непроизвольного образа действий, бывший на пороге века частью движения эмансипации, стал в 1940‑е годы общим местом на службе мифологии бессознательного[1193]. Но, как бы то ни было, подобным образом Мерс Каннингем и его коллега композитор Джон Кейдж восприняли не только практики автоматического письма и рисунка сюрреалистов, но также их продолжение в живописи абстрактных экспрессионистов. Человек, предоставленный «своим инстинктивным предпочтениям», производит, по мнению Кейджа и Каннингема, лишь уже известное, — ведь и это «естественное», то есть бессознательное, обусловлено культурой. В глазах хореографа возможности движения ограничены скорее тем, что мы полагаем осуществимым в ту или иную эпоху и в данном контексте (а значит, представлением о «естественности» тела), чем реальными анатомическими препятствиями. Каннингем настаивает, что движение — это прежде всего дело восприятия. Чтобы открыть неизвестные кинетические возможности, в первую очередь нужно перевернуть именно область восприятия.
Если Рудольф Лабан и немецкие танцоры–модернисты приблизились к этому перевороту через исследование кинестетического опьянения[1194], Каннингем прибегает к радикально иной стратегии — он обращается к случайным процессам. Сюрреалисты использовали этот подход до него, но Каннингем совсем не разделяет их концепцию «объективного случая», открывающего бессознательное желание субъекта. Внедрение случайного оказывается у американского хореографа по существу инструментальным жестом, необходимым из–за своей обезличенности. Каннингем использует принцип лотереи, чтобы разрушить «интуитивный метод, в котором тело сообразуется с движением»[1195]. Он подвергает «телесный почерк» испытанию, стремясь подорвать склонность движения к самоорганизации согласно одним и тем же бессознательным выборам. Современные науки о нервной системе подтверждают догадку Каннингема. Центральная нервная система пользуется лишь «ничтожно малым количеством моторных стратегий среди бесконечности стратегий, теоретически совместимых с геометрическими характеристиками» тела. Чтобы совершить то или иное движение, каждый человек выбирает «особую точно выделяемую комбинацию элементов движения». Приоритетные комплексы этих элементов всегда одни и те же, «нервная система стремится сократить число возможных уровней свободы, что упрощает ей контроль за сложными структурами»[1196]. Каннингем призывает игру случая, чтобы нарушить схемы восприятия. Речь идет о том, чтобы вынудить нервную систему черпать из скрытых «уровней свободы», чтобы реализовать незамеченные моторные возможности. Это требует большой точности. В одном соло, поставленном в 1953 году, хореограф разыгрывает «в кости» порядок сцепления элементов–фраз движения, задуманных заранее для каждой части тела по отдельности: голова, туловище, рука, кисть, нога, стопа… К прерывистости и сложности, вытекающим из предписаний случая, оказалось так трудно привыкнуть, что понадобилось много недель занятий, чтобы суметь станцевать соло в несколько минут. Но в конце этого испытания, рассказывает хореограф, «случилась полная реорганизация нервной координационной системы»[1197]. Невообразимые динамические переходы и связи стали доступны.
От одной постановки к другой Каннингем предается настоящей аскезе[1198] восприятия, прилагая все усилия, чтобы пробудить неисследованные аспекты телесной структуры и их кинетические возможности. В принципе эти аспекты бесконечны, коль скоро нервная система восприимчива к бесконечному переустройству. Художник не переставал этим заниматься, а танец развивал «пластичность разума и тела»[1199]. С 1991 года Каннингем начал работать с компьютерными программами симуляции движения в трехмерном формате, чтобы увеличить состав возможных переменных. Однако хореограф отмечал, что количество композиций, десять лет назад представлявшее почти непреодолимую трудность, сегодня легко усваивается танцорами. Он все сильнее убеждался, что «возможности движения безграничны»[1200]. И если сложность постановок Каннингема кажется неуклонно возрастающей, то каждый раз она оформляется вокруг определенного проприоцептивного выбора, отсюда их поэтическая связность. Постоянство вертикального положения и преобладание работы суставов[1201] сочетается с ощущением отдаленного света, несмотря на сложность композиции. Никаких отношений с тяжестью, никаких естественных аффектов. Ограненное, сверкающее, каннингемово тело — это чувственная архитектура, чьи силовые линии падают в пространство, растягивая его далеко за пределы тела[1202].
VII. Танец как «весовой диалог»
По Каннингему, танцор всегда управляет центром тяжести своего движения, из–за этого возникает впечатление его мастерства, самодостаточности. В ответ на эту «гравитационную автономию», доведенную до крайности, Стив Пэкстон, входивший в труппу Каннингема в начале 1960‑х, спустя десять лет разработал танец, основанный на обмене весом между партнерами: танец «гравитационного распределения». В средоточии этой техники, названной «контактной импровизацией» или «контактным танцем» (хотя ее создатель называл ее «формой восприятия»), лежало осязание. Из пяти традиционных чувств только осязание предполагает постоянное взаимное соответствие, обоюдное прикосновение. Контактный танец порождают как минимум двое, но количество участников не ограничено. Все части тела, кроме рук, могут касаться партнера: они перекладывают на него свой собственный вес или принимают вес другого. Рождается «весовой диалог», где «согласно самой сущности прикосновения… возникает взаимодействие, ведущее двух людей к совместной импровизации, как при разговоре»[1203]. От «множественных обменов в движении» происходят разнообразные воздействия и импульсные силы, которые, в свою очередь, регулируют ритмы, акценты, динамику движений. Конечные формы сложны, мимолетны, их невозможно предугадать, поскольку они рождаются в самом действии, — отсюда понятие «мгновенной композиции», на котором настаивал Пэкстон. Послушные необычным гравитационным завихрениям, контактные танцоры развивают новые адаптивные качества.
В основе этого танца лежит совместное чувство потери равновесия, чувство падения. Центр тяжести движений постоянно колеблется, а танцор мечется в пространственных конфигурациях, где вертикальное положение случается лишь на мгновение. В ситуациях быстрой потери ориентации происходит затмение сознания, управление переходит к рефлексам. Пэкстон стремился в контактном танце изменить направленность рефлекторной деятельности, связанной с механизмами выживания. Поэтому приручение падения — это умение не свернуть свое тело, а, напротив, расправить его, чтобы ухватить и горизонтально распределить шоковый заряд — базовое упражнение контактного танца[1204]. Если возможно «тренировать сознание, оставаясь открытым в критические моменты, то тогда запускается рефлекс»[1205], иными словами, если удается отделить рефлекс от страха, поведение человека, согласно Пэкстону, окажется полностью перестроено и обогащено небывалыми возможностями. Сознание учится быть «спокойным свидетелем» возникновения неизвестного вместо того, чтобы блокировать его, — вот почему безгранично возрастает способность к обучению. Контактный танец ищет новых сочетаний, новых переходов между сознательными и бессознательными уровнями, которые определяют возникновение движения.
Как мы выяснили выше, мобилизация веса неотделима от аффективной структуры человека, поскольку рефлекторное действие гравитационных мышц отвечает изменениям эмоционального состояния и наоборот. А значит, возможности контактного танца далеко не автономны. Они задействуют не только поэтический, но также и политический взгляд на отношение к другому. Осязание может быть с полным правом представлено здесь как «революционное чувство»[1206]. Контактный танец развивается одновременно с распространением американской контркультуры. Как и другие выражения американского танца 1960‑х — 1970‑х годов, он воодушевлен демократическими чаяниями[1207]. Осязание, очень примитивное и культурно обесцененное чувство[1208], становится в контактном танце вектором «перераспределения пространственных и социальных кодов дистанции между людьми»[1209]. Конечно же, речь идет о равном перераспределении, ведь контактный танец использует непрерывный обмен ролями: каждый партнер оказывает поддержку и получает ее. «Мышечный остов делается гибким, даже ткани тела расслабляются, — мы учимся принимать друг друга и быть такими, чтобы другие могли принять нас», — комментирует контактная танцовщица Карен Нельсон[1210]. Тело «контактного» танцовщика свидетельствует об отказе брать на себя власть над людьми и вещами, и эта позиция характерна для всех аспектов современного танца[1211].
Контактный танец так сильно резонирует с анархистскими утопиями 1960‑х годов именно потому, что приводит к подлинной трансформации телесного опыта. Это одна из форм танца XX века, глубоко преобразовавших сферу восприятия. В этом танце прикосновения самый большой «орган» тела — то есть кожа — развивает предельную чувствительность, которая не имеет ничего внешнего. Тактильные датчики под нашей кожей не только передают мозгу сообщения о весе, массе, давлении и напряжении, но, если необходимо, могут служить альтернативой зрению[1212]. Отчасти это происходит и в обменных практиках контактного танца, где зрительные ориентиры слишком стремительно меняются, чтобы служить опорой. В основном движения «контактера» ориентированы тактильными данными, возбужденными «чувством веса». Ни один другой танец в XX веке не отказывается столь радикально от культурного первенства взгляда. Только периферийное зрение остается важным, позволяя обозревать горизонт движущихся форм. Контактный танец усиливает эту разновидность зрения. Расширение периферийного зрения приводит к чувству «сферического» пространства, как это описывают «контактные» танцовщики[1213]. Слуховые сигналы, все же более стремительные, чем сигналы кинестетического восприятия[1214], обретают новую выразительность. Они проявляются в стимулирующих обменах контактной импровизации, как пространственно–временные локализаторы большой точности, позволяя оценить скорость и расстояние, синхронизировать взаимодействия. В конце концов, само «чувство времени» оттачивает контактный танец. «С какой скоростью мы воспринимаем нашу мысль?» — спрашивает себя Пэкстон[1215].
VIII. Перцептивные вымыслы
Контактная импровизация, влияние которой по–прежнему ощутимо в современном пространстве хореографии, объединяет смыслы современного танца. И в то же время она является их пределом. Форма и структура здесь радикально подчинены процессу. Контактная импровизация позволяет увидеть возникновение движения, опыт создает зрелище до всякой мысленной репрезентации и помимо нее. И, если контактный танец в этом смысле является пределом представления о хореографическом стиле, то он может показаться самой сущностью стремления освободить чувственные ресурсы личности, которое в разных формах создавало и пронизывало историю танца в XX веке. Исследование рефлекторного моторного поведения, сомнения, связанные с ним, страстное изучение проприоцепции достигли высшей точки в практиках импровизации. Они дали возможность современному танцу испытать и разработать большую часть своих техник.
На пути исследования тела как чувствующей и мыслящей материи танец XX века не переставал сдвигать и размывать границы между сознательным и бессознательным, собой и другим, внутренним и внешним. Он в полной мере участвовал в переопределении современного субъекта. На протяжении века танец содействовал расщеплению самого представления о «теле». Стало трудно видеть в танцующем теле замкнутую сущность, в которой тождество обретает форму. Трудно разделять представление о теле как о средстве выражения внутренней психической жизни, средстве, которое бы постепенно не переставало действовать, когда танец обнаруживает невозможность разделить аффект и движение. Современный танцор не сидит под «домашним арестом» в телесной оболочке, которая предопределяет его местоположение. Он переживает свою телесность как «разнонаправленную географию отношений с собой и миром»[1216], подвижную сеть чувственных сцеплений, которая создает панораму интенсивностей. Организация перцептивной сферы определяет события этой изменчивой, одновременно воображаемой и физической, географии. Разнообразные поэтические миры, к возникновению которых привел танец XX века, можно было бы описать как перцептивные вымыслы, а хореографическая организация в таком случае была бы лишь их пространственно–временным обобщением.
Если в танце танцор сочиняет себя, не перестает производить свою собственную «материю», то он работает также и как созерцатель тела. «Зрительная информация порождает у наблюдателя мгновенный кинестетический опыт (внутреннее чувство движения его собственного тела), изменения и напряженность телесного пространства танцора находят отклик в теле зрителя», — резюмирует кинезиолог Юбер Годар[1217]. Перцептивный вымысел, созданный танцором, задевает зрителя, чье телесное состояние оказывается иным. И здесь тоже поднимается вопрос веса. Годар продолжает: «В танцевальном зрелище субъективное расстояние, разделяющее наблюдателя и танцора, может сильно меняться (кто в действительности движется?), вызывая определенный эффект «перемещения». Перемещенный танцем, потерявший уверенность в своем собственном весе, зритель становится частью веса другого. <…> Это явление можно назвать кинестетической эмпатией или гравитационным заражением»[1218]. Это понятие лучше подходит для объяснения танцующего тела, чем то, что современные науки о нервной системе говорят о «зеркальных нейронах» — согласно этой теории, смотрим ли мы на действие или совершаем его, в обоих случаях задействованы одни и те же мозговые структуры[1219]. Воображать действие или готовиться к его исполнению — оба процесса производят сопоставимые эффекты на уровне нервной системы. Многие телесные методики, в которых сочетаются достижения современного танца, наконец обогащаются сведениями о том, что мысль о движении может активизировать и преобразовывать нервно–мышечные схемы[1220].
Намерение, планирование обнаруживают ментальный аспект действия. Вот как они соединяются с материей танца. С 1999 года Мириам Гурфинк делает постановки, отражающие траекторию движения мысли внутри тела. Разработанные на основе компьютерной программы, в которой используются категории анализа движения Лабана (вес, направление и т. д.), хореографические партии французской танцовщицы прочерчивают маршруты мысли, путешествия сосредоточенного ума внутрь тела. «Хореограф предлагает сосредоточить внимание на ногте большого пальца, найти маршрут с помощью руки, переместиться в точку чуть выше головы, найти маршрут в теле и снова пуститься туда… чтобы войти в самую плоть, внутрь таза, а оттуда устремиться к потолку. <…> Понять, как скользить вниманием по поверхностям и точкам. Почувствовать, какое возбуждение это дарит материи тела, как она трепещет, когда обретает желание двигаться в заданном направлении»[1221]. Этот минималистичный танец творится бесконечно медленно, что позволяет продвигаться «миллиметр за миллиметром», чувствуя малейшее изменение телесной и психической текстуры. Сопоставляя себя с этим танцем ниже порога возбуждения, зритель соглашается воспринимать свое собственное восприятие.
Пока одни танцоры ищут с помощью цифровых технологий средство гибридизации чувств, которое направило бы к «постчеловеческому» горизонту «кибертела»[1222], другие деятели современного танца занимаются усовершенствованием восприятия, ограничиваясь лишь ресурсами собственного присутствия. Часто используются тишина, медлительность, кажущаяся неподвижность. От Мириам Гурфинк и Веры Монтеро до Мэг Стюарт и Ксавье Ле Руа хореографы стремятся не столько к демонстрации новых кинетических композиций, сколько к тому, чтобы создать условия для осознания зрителем работы восприятия. От такого зрителя требуется взыскательность — настолько изменчивы и тонки затронутые чувственные уровни. Поток проприоцептивного самонаблюдения продолжает прокладывать себе путь в современном танце, который все полнее и непринужденнее будет увлекать за собой зрителей.
ГЛАВА IV Изображения. Тело и визуальные искусства
Ив Мишо
Со времен Возрождения воспроизведение тела основывалось на морфологии, которая, в свою очередь, строилась на анатомии и опытах анатомирования тела, еще практиковавшихся в школах искусств конца XIX века и даже в самом начале XX. Рисовать, писать красками, лепить тела означало запечатлевать их обнаженными в их анатомической истине, а потом одевать их так, как укажут обстоятельства сцены или действия.
I. Значение технических устройств
1. Фотографический сдвиг
С 1840‑х — 1860‑х годов фотография начинает серию технических сдвигов, которые продолжаются до сих пор и переворачивают отношение к телу.
Первое замечание, которое нам надлежит вспоминать на протяжении этого экскурса: искусство XX века показывает нам в теле то, что позволяет увидеть последовательность техник визуализации.
Фотография в первую очередь позволила показать модель не обращаясь к машинерии художественной мастерской с ее блоками, ремнями и крючками. Это преобразовало позу, сделало ее более естественной и позволило создавать более сложные композиции.
Фотография также позволяет выделить деталь, и это открывает область крупного плана. Она почти сразу овладевает мгновением, а значит, и движением, которое она разбивает на части со все более и более тонким восприятием неуловимого и мимолетного.
С этой точки зрения процесс разложения и формального воссоединения в последние годы XIX века характеризует стремление таких разных художников, как Сезанн и Пюви де Шаванн, к исследованию научной и документальной фотографии Мейбриджа и Маре. Было бы ошибкой приписывать происхождение кубистических искривлений только интеллектуальной и визуальной рефлексии Сезанна, открытию африканской скульптуры или даже модным в конце века рассуждениям о четвертом измерении. Нужно учитывать также хронофотографию и рождение кино. Между 1907 и 1912 годами, между «Авиньонскими девицами» Пикассо и «Обнаженной, спускающейся с лестницы» Дюшана, между кубизмом и кубофутуризмом все эти факторы совмещаются, чтобы стали возможными новые способы репрезентации. Новая логика репрезентации раскалывает изображение, которое почти сразу будет восстановлено в непрерывности движущихся форм. Это снова ставит вопрос о тождестве вещей и, еще глубже, предмета как такового. Субстанциальный характер тел отражается в постоянстве репрезентации. Отныне нет больше субстанции, но лишь обломки и последовательности. В 1912 году в «Обнаженной» Марсель Дюшан изображает тело, чья идентичность состоит в последовательном переходе цветовых пятен.
Таким образом, фактор визуальной новизны играет решающую роль в процессе потери влияния и скором обесценивании живописи. С двадцатых годов у Дюшана и его последователей живопись, соотносящаяся с «сетчаткой», уступает место новому фотографическому и кинематографическому принципу. В конце XX века эти новые медиа станут насаждаться повсеместно, а живопись останется лишь старым жанром, к которому иногда возвращаются, чтобы пересмотреть традицию.
2. Познание, исследование, наблюдение
Было бы иллюзией считать, что эти новые наблюдательные способности в первую очередь помогают искусству. Как и всякая техника, они служат познанию и пользе. Они оказались в центре научного изучения человеческой деятельности, чтобы рационализировать и совершенствовать ее, а также способствовать исследованию болезней и усовершенствованию методов медицинского обслуживания.
Здесь приобретается двойное знание о теле. Речь идет об эффективности производственной деятельности (которую мы в то же время обнаруживаем в тейлоризме и фордизме), эффективности спортивной деятельности и силе действия болезней, их симптомов и лекарственных препаратов для избавления от них.
Но искусство тоже завладевает этими новыми способностями и находит возможность воспользоваться ими для собственного развития в двух направлениях.
Первое направление касается совершенства машины: мы обнаруживаем его в достаточно разнородных произведениях футуризма, конструктивизма, немного позже в Баухаусе, с их продолжением в тоталитарном искусстве и дизайне (танцор, акробат, человек–машина, рабочий, атлет, человек из мрамора, чистый представитель расы).
Второе направление касается болезни и стигмы, каково бы ни было их возможное символическое значение (символы разрушительных последствий войны, знаки вырождения, провозглашение последних дней жизни человечества).
После 1910 года это новое визуальное познание еще только зарождается. Впоследствии оно будет развиваться в разных направлениях. Многие из них можно было предвидеть, но некоторые оказались неожиданными.
Помимо своей познавательной функции, механическое расщепление движений имеет комическое значение, которое было сразу использовано в кино, например у Ллойда, Китона, Чаплина, чьи немые фильмы находят свое истинное место рядом с «Механическим балетом» Леже[1223], фильмами Рене Клера, Пикабиа и Дюшана[1224] или рядом с конструктивистскими произведениями, например декорациями, балетными костюмами и сценографией Баухауса[1225]. С этой точки зрения было бы ошибкой по–прежнему отделять кино от визуальных и пластических искусств в общем смысле, ведь в нем проявляется та же самая визуальность.
Одновременно с моментальной репортажной фотосъемкой начинается эра новостей и ужасных образов, мастером которых с конца двадцатых стал американский фотограф Виджи[1226]. Наступает время фотожурналистики и малоформатной газеты: их влияние будет огромным не только в повседневной жизни, но и в искусстве. От использования хроники происшествий сюрреалистами до преобразования пошлости в поп–арте, в том числе в его европейских изводах. Не стоит забывать и о популистском реализме социалистического и фашистского искусства, и о европейском фигуративном искусстве 1960‑х — 1970‑х годов.
Рентгеновские лучи, крупный план на фотографиях, макросъемка будут так же быстро привлечены на службу искусству. Получаемые через прямой контакт объекта или органа с чувствительной бумагой шадографии были изобретены художником–реалистом Кристианом Шадом, а рэйограммы — сюрреалистом Ман Рэем. Инструкции по поводу положения тела для медицинской рентгенографии, фотодокументы, демонстрирующие заболевания кожи, лица, рта, врожденные уродства и отклонения в развитии, — также использовались художниками[1227]: немецкими представителями школы «новой вещности» в 1920‑е годы, Эйзенштейном в фильме «Броненосец Потемкин» — и так далее, вплоть до Фрэнсиса Бэкона тридцать лет спустя.
Что касается метода внешнего наблюдения, здесь будут использованы все возможности кино и фотографии: продуманные позы и постановки, крупный план, монтаж, подделки и комбинированные съемки и, напротив, — попытка поймать тело в его естественном, спонтанном состоянии. Ман Рэй, Луис Бунюэль, Флоранс Анри, Ингмар Бергман, Энди Уорхол, Джон Кассаветис, Джон Копланс, Роберт Мэпплторп, Нан Голдин представляют некоторые позиции в этом диапазоне возможностей.
Оставаясь в регистре внешнего наблюдения, нужно подчеркнуть недавний вклад видео, его важные и даже одно время революционные следствия, множество его форм: от любительского видео до изображений с камеры слежения и средств биометрической идентификации. Видео открывает новую область наблюдения, захвата тел, простых характеров, обычных лиц, незначительных действий, перемещения множеств, а также нарциссического или депрессивного самонаблюдения. Оно делает привычной размытую дрожащую картинку с зеленым или серым оттенком, которая стала частью нашего визуального мира.
В области внутренних исследований тела тоже были заметны изменения, особенно в последние годы.
Тело, ставшее почти прозрачным благодаря рентгену, теперь доступно для непосредственного внутреннего наблюдения с помощью медицинского микроисследования (миниатюрные зонды) и с помощью непроникающих сканеров, в виде изображения (магнитно–резонансная или компьютерная томография) — через передачу позитронов. Путешествие внутрь тела становится возможным, и мы «видим», как функционируют органы, включая орган мысли, даже если «настоящие изображения» под вопросом, и мы имеем дело лишь с конвенциональными (в частности это касается цветовой гаммы) изображениями абстрактных цифровых данных.
Этот беглый взгляд на перцептивные техники ничего не говорит об основных идеях, но зато выявляет фундаментальное значение оборудования: фотографических и кинематографических устройств, видеоустройств (камеры, соединенные мониторы), устройств для осмотра внутренностей. Эти машины заставляют увидеть новые аспекты тела. Они значительны, ведь они распространяют прежде редкие изображения (медицинские, порнографические, криминальные, спортивные), становятся новыми приращениями, протезами или органами тела, в том числе и социального тела. Фотоаппарат и видеокамера, предназначенные прежде для репортера или работника кино, сначала переходят в руки туриста, а затем и в чьи угодно. К тому же это и глаза, с помощью которых можно смотреть вокруг и на самого себя. В конце XX века круг замкнется. Видящий и видимое постоянно находятся в зеркальном взаимоотношении, нет почти ничего, что происходит само по себе и не получает тотчас же своего изображения.
Если рассматривать этот вопрос максимально широко, применительно не только к живописи, но и к фотографии, экспериментальному кино, короткометражным фильмам, которые в итоге тоже оседают в музеях, если говорить в целом о визуальных искусствах, развивавшихся на протяжении XX века, то поражает огромная техническая изобретательность, тестирование и использование всех возможных устройств визуализации тела и человека. Конечно, как мы еще увидим, есть идейные константы, но есть также способы видения, обновленные развитием научно–технической аппаратуры. Художники или, как говорил Дюшан, свидетели–окулисты[1228] пускают в ход все средства.
По мере того как эти техники визуализации становятся более влиятельными и безболезненными, парадоксальным образом они приобретают в то же время более инвазивный и резкий характер. Они оставляют тело голым в прямом и переносном смысле, включая то, что у него внутри. Они добиваются от него выдачи самого сокровенного. Они преследуют, разоблачают и выставляют напоказ то, что было невидимо, спрятано или скрыто. Реальность оставлена во власти влечения взгляда — без прикрытия и без возможности отступить. Эти образы тела, которые поначалу считались просто чем–то «новым», на самом деле преобразовали само отношение к телу.
II. Механизированное тело, искаженное тело, тело красоты
Что проявляется с помощью этих устройств, которые не перестают увлекать художников?
Кажется, что образ тела в искусстве XX века организован согласно трем крупным регистрам: механизированное тело, искаженное тело, тело красоты. Нужно ли добавлять, что значение тела в художественной образности и в художественных практиках выросло настолько, что оно стало навязчивой мыслью последних лет XX века?
1. Рабочие, спортсмены, танцоры, машины
Образ механизированного тела отражает культуру спорта и гимнастики, рационализацию рабочего процесса конца XIX века, политику народной гигиены, и вообще политику с ее организованными массами и парадами.
Несмотря на насилие I Мировой войны, этот образ продолжает доминировать в 1930‑е годы, как если бы никакого пересмотра понятий не произошло. Механизированное тело вновь появляется в последние двадцать лет XX века в своей фантазматической версии с техническими протезами и биотехнологиями.
С этой точки зрения искусство продолжает работать со старыми динамическими и оптимистическими социальными представлениями о теле, и оно снова способствует их распространению, более того, их вездесущности — с помощью рекламы и мира зрелищ, с которым его все больше ассоциируют.
Мы видим настоящую одержимость механизированным телом, способным на любые достижения. Она становится заметной начиная еще с великолепного символа XX века, «Механической головы» (1919) Рауля Османна, которую также называют «Дух нашего времени». Речь идет о голове деревянного манекена с различными механическими протезами, линейкой и серийным номером на лбу — это еще не татуировка концентрационного лагеря и не товарный штрих–код, но может ими стать. Футуризм, конструктивизм, Дада, фотография и хореография Баухауса с их монтажом, совмещающим тело и детали машин, осветленными фотографиями, рабочей формой и сценическими костюмами в духе продуктивизма, прославляют тело как норму и эталон, тело цивилизации рабочих и производителей. Отныне новый индивид — это механизированный, стандартизированный человек, человек Родченко и Шлеммера, танцор механического балета, инженер мира и строитель будущего.
Эта одержимость ясно представлена в самом центре изображений нового человека в искусстве немецкого нацизма и итальянского фашизма, в советском сталинистском искусстве. Однако в то же время мы находим ее в мексиканской монументальной настенной живописи с ее мускулистыми героями, атлетами свободы, восстающими, чтобы сорвать свои цепи.
Акцент все чаще ставится на прославлении и достаточно редко на критике. Даже дадаизм двойственен в оценке механического человека, и мы не знаем, осуждает он его или воспевает (например у Пикабиа). Фактически на рубеже 1920‑х — 1930‑х годов мы видим распространение вопроса о новом человеке и приспособленном для его функционирования рае (аде) технических сообществ. Рассуждения об этом новом человеке, порожденном наукой и промышленностью, слишком часто подпитывались надеждами на советскую революцию и были далеки от негативности. Люди действительно ждали благоприятного будущего, лучшего из миров, мира рабочих, атлетов и полубогов организованного технократического общества. С этой точки зрения продукция тоталитарного искусства продолжает волюнтаристскую мечту об идеальном городе, добавляя к ней стереотипы мифологизированного прошлого и каноны академизма, особенно в нацистском искусстве.
2. Ужас, эстетизация, фантазмы
В противовес позитивному взгляду на тело ужасы войны 1914–1918 годов и последовавших за ней революций и гражданских войн иначе отозвались в художественной образности. Дадаистские коллажи (особенно коллажи берлинских дадаистов, сильнее всего отмеченные политическим и военным насилием), военная живопись, иконография немецких художников Новой вещественности, рисунки и фотомонтаж 1920‑х годов показывают расчлененные, вывихнутые, искаженные тела, изуродованные и искалеченные лица.
Однако смущает то, что отражения этих ужасов в искусстве не пропорциональны пушечному мясу ни по количеству, ни по интенсивности. Искусство не вышло на уровень катастрофы.
Тому было несколько причин.
С одной стороны, существуют границы эстетизации ужаса, пределы, которые мы различаем через двадцать лет в феномене концентрационных лагерей. Ужас никогда не принимается искусством легко, особенно когда оно не стремится быть документальным[1229]. Военная фотография, обремененная тяжестью аппаратуры, по–настоящему не свидетельствовала об ужасе траншей, а когда ей это удавалось, ее запрещали как по политическим причинам, так и из сочувствия жертвам. Что касается «новостных лент», которые показывали во время I Мировой войны и русской революции, то по техническим или пропагандистским причинам это всегда была кинематографическая реконструкция, монтаж: никто не снимал на передовой, а если бы такие съемки и велись, вряд ли их результаты разрешили бы показывать. Может быть, только несколько художников в рамках официальной традиции батальной живописи оставили сильные свидетельства о войне, практически не существующей в искусстве.
Тем не менее насилие над телами оказалось представлено косвенным образом — через воображение, метафору, эстетизацию в маниях сюрреализма, у Дали, Браунера, Беллмера и еще сильнее у раскольников «Ацефала», особенно у Массона[1230].
Ужасы II Мировой войны не намного сильнее проявились в искусстве, за исключением нескольких американских фотографий, ставших символами бойни и ужаса[1231]. Понадобилось ждать кинематографических работ последнего времени, создатели которых попытались показать ужас бойни («Спасти рядового Райана» Спилберга, 1998), но тут остается лишь кинематографическая стилизация. Еще меньше существует художественных документов на тему депортации и лагерей смерти (случай Зорана Музича — исключение[1232]). И это не удивительно, ведь не разрешен вопрос о том, уместна ли эстетизация, когда речь идет об Освенциме и Дахау.
Если жестокость по отношению к телам и изображалась, то не прямо, вне контекста, на уровне воображаемых образов и в любом случае эстетизированно.
Говоря о скорби, не следует забывать о свидетельствах реализма (часто аллегорических), непопулярного у историков искусства XX века. Но направление это было весьма живучим на протяжении 1920‑х, 1930‑х и вплоть до 1950‑х годов — и далее от немецкой «Новой вещественности» до Бена Шана, от Фужерона и Таслицкого до Грюбера и Бюффе, от Джорджа Сигала и Люсьена Фрейда до Леона Голуба и Эрика Фишля.
Гораздо чаще ужас и насилие оказываются вписаны в символический контекст внеисторических ритуалов. Именно таким образом можно интерпретировать «насилие» послевоенного искусства, а именно хэппенингов, акции радикальных художников венского акционизма 1960‑х и 1970‑х годов или фетишистские и садомазохистские произведения 1980‑х и 1990‑х (например, американского фотографа Роберта Мэпплторпа).
Разумеется, существует прямой взгляд на ужас, в частности у Френсиса Бэкона, художника великой традиции Страстей и Распятий, чье послание «в духе Гойи» состоит в том, что мир — это скотобойня. В 1946 году в продолжение своих Распятий он пишет искаженную человеческую фигуру, смеющуюся над самой собой, на фоне туши быка, подвешенной к скотобойному крюку.
Но чаще всего насилие над телом остается в искусстве лишенным политического значения. Оно является самонасилием в рамках религиозного ритуала или в порядке утверждения человеческого существования.
3. Бодибилдеры, киборги, мутанты
С началом развития пластической хирургии, практик преобразования тела (от диет и бодибилдинга до допинга) — всего того, что мы обычно называем «биотехнологической инженерией», — тема механического человека возникает снова, но теперь в форме «постчеловеческого»[1233]. Трансплантация, хирургическая смена пола, репродуктивные операции, увеличение своей эффективности с помощью допинга, перспективы генной инженерии и клонирования, биотехнологические операции — все это заставляет ожидать появления мутированного человека, сына собственного выбора и собственных технологий. Тут есть двойственность, потому что никто не знает, идет ли речь о нечеловеческом как следствии дегуманизации, или о сверхчеловеке, превосходящем человечество, возносящим его дальше и выше, завершающем его. Трансплантируют сердца, почки, печень и легкие. Имплантируют пластиковые артерии, бедренные протезы, пришивают отсеченные руки, думают о возможности пересадки частей лица[1234]. Диагностируют генетические заболевания на уровне эмбриона и оперируют их. Цифровые технологии позволяют визуализировать буквально невидимые феномены и управлять движениями хирурга в мире, где он действует как Гулливер в стране лилипутов. Оперируют и диагностируют дистанционно. Цифровые технологии позволяют создавать виртуальных клонов лица или тела. С помощью нескольких визуальных и тактильных протезов мы можем путешествовать в виртуальные миры, в том числе те, где мы можем дистанционно, с помощью «теледильдоники»[1235], попользоваться какой–нибудь блондинкой Барби, такой реальной, будто бы она живая.
И, не впадая в научную фантастику, мы чувствуем, что наши тела уже не имеют тех же очертаний, что раньше. Мы не можем точно сказать, где их граница, что возможно и что правомерно, что можно изменить в теле без того, чтобы вместе с этим не изменилась сама наша личность.
Несколько художников решились работать в этих новых областях. Некоторые представляют себе мир, в котором средства коммуникации напрямую имплантированы в тело и сообщают ему информацию и новые возможности. Некоторые, например Мэтью Барни, работают над кибертелом, монтируя протезы с помощью новых технологий. Например, Стеларк способен приводить в движение роботизированную управляемую третью руку. Следуя той же логике виртуальной реальности, Орлан, занимавшаяся боди–артом в 1970‑е[1236], занялась изменением своего тела и в 1990 году решила провести серию пластических операций, снятых на видео в прямом эфире: в ходе этих операций ее тело должно было обрести законченную форму согласно эстетическим нормам великих мастеров — да Винчи и Тициана. Эти действия не соприкасаются с «большим» искусством. Бодибилдеры, перформеры или маргинальные художники андеграунда, мира порнографии и искусства осуществляют эти художественные практики, более или менее радикальные телесные модификации, от татуажа и пирсинга до транссексуализма, создания уродств и аномалий[1237]. Кажется, что механический человек 1930‑х годов вновь появился на свет, но в иных формах и в контексте другого временем, когда нормы спортивной и управленческой эффективности исчезли и господствует одна только логика зрелища и индивидуального фантазма. Чудовищное становится манифестацией совершенства без нормы.
4. Ежедневная красота, возбужденно–спокойная
Помимо выверенных образов чудовищных, деформированных тел, искусство XX века непрерывно гналось за привлекательностью и было одержимо красотой.
Это утверждение может удивить. Из–за того, что историки искусства по большей части сосредотачиваются на деформации тела в общепризнанном музейном искусстве, они в самом деле не заметили неотвязное присутствие красоты на всем протяжении века. Увлеченные трансгрессией авангардов, они без конца повторяют общее место современного искусства, которое будто бы «более не является прекрасным» (Х.–Р. Яусс)[1238]. Действительно, если мы ограничимся Пикассо, де Кунингом или Бэконом, то сразу задумаемся, есть ли еще место красоте в XX веке. Однако в течение этого века демонстрация красоты занимает такое же, если не более важное место, как демонстрация ужаса или эффективности.
Казалось, красота исчезла вместе с разложением изображения в начале века, но она возвращается в центр искусства с 1920‑х годов — это не только время возврата норм, но и сюрреалистической красоты. Известна заповедь Андре Бретона из «Безумной любви»: «Конвульсивная красота будет невинноэротичной, возбужденно–спокойной, волшебно–будничной — или ее не будет вовсе»[1239]. Потом красота будет безгранично транслироваться в воображение людей через популярную культуру и искусство, голливудскую мечту, пин–ап–иллюстрации, фотографии звезд, через разнообразные вложения и распространение рекламы косметики, макияжа и моды, вообще через все то, что заставляет блестеть мир мечты.
Одержимость красотой тем труднее распознать, чем больше она проявляет в тех областях, которые долгое время считали запредельными и пограничными для искусства, хотя потом они стремительно стали его центром. Например, у фотографов этот процесс начинается со Стиглица и Стайхена, проходит через творчество Каллахана и Пенна и приходит к Аведону. Существует роскошный мир кино, мир гламура, соблазна и мечты. Современная красота раскрывается в сердцевине искажений в духе Пикассо, рядом с обезображенными войной лицами и модернистскими абстракциями. Столь отличная от красоты «изящных искусств», она оказывается отрезанной от академических канонов, не считая области тоталитарного искусства. С помощью фотографических и кинематографических устройств и их искусства она занимает место рядом с фантазмом и мечтой.
Еще удивительнее то, что она все сильнее и сильнее отстраняется от желания, вплоть до некоторой бесчувственности, как у фотографа Хельмута Ньютона, который в конце XX века стилизует и эстетизирует условности порнографии.
После II Мировой войны поп–арт вносит свой вклад в эстетику в двух направлениях. Он внедряет популярную иконографию красоты (звезды, дизайн интерьера, современные символы роскоши и комфорта) в мир «большого» искусства, но взамен вводит «большое» искусство в царство обыкновенного и повседневного. Это движение продолжается и усиливается с приходом воплощений нео–попа 1980‑х годов и со сближением искусства и рекламы. В конце концов, мы больше не знаем, является ли Мэрилин Монро символом кино, рекламы или искусства: зато она есть Красота «волшебно–будничная», торжествующая и хрупкая.
5. Демонстрация интимного и обыкновенная порнография
Другой аспект, который нужно иметь в виду при разговоре об этих переменах, — популяризация и даже демократизация порнографии, эксгибиционизма и вуайеризма.
С 1980‑х годов изобилие технических средств для создания изображений и частный характер их реализации (если сравнивать с моделями более раннего поколения, простым цифровым воспроизводением и тем более многочисленными средствами распространения) делают возможной «народную» порнографию, которая прежде была ограничена не столько законом, сколько сложностью воспроизведения и обязательным присутствием посредника в ее распространении. По выражению Лоры Малви[1240], влечение взгляда — один из важнейших параметров как создания, так и потребления искусства, — усиленное полароидом, находит новые возможности удовлетворения. Даже женщины наделяются вуайеристским даром. В свою очередь, художники заимствуют эти практики и могут теперь привить авангардистские трансгрессивные чаяния в поле более приземленного социального воображаемого.
Порнография, стоявшая у истока художественного модернизма в форме скандала (Курбе, Бодлер, Мане), побывавшая признаком антибуржуазной трансгрессии (в частности, у сюрреалистов), в конце концов оказывается оправдана и банализирована как в искусстве, так и в обществе. Она становится художественной формой и формой демонстрации интимного[1241].
Оценить значение «возвращения» красоты, которая на самом деле никогда полностыо не исчезала, еще не так просто потому, что прошло слишком мало времени.
Очевидно, что можно говорить о ностальгии по красоте как общем принципе искусства, о возвращении этой униженной красоты с помощью бунта в духе Рембо[1242].
Стоит также рассмотреть эффект присутствия скрытого постоянного желания внутри искусства, теоретически движимого понятийной холодностью. С этой точки зрения творчество Дюшана — великолепный пример сохранения влечения взгляда и эротического влечения, но в то же время нейтрализации или по крайней мере развоплощения желания.
Другие гипотезы возможны при условии более широкого рассмотрения перемен, их происхождения и текущего состояния.
В своем исследовании этических источников современного «Я» канадский философ Чарльз Тейлор подчеркнул рост филантропии и благожелательности в течение второй половины XX века[1243] — теперь они составляют костяк нашего этического идеала. Историк и социолог Ричард Сеннетт диагностировал закат, а потом и смерть публичного человека[1244]. Чтобы объяснить эту длящуюся одержимость красотой и ее отделение от желания, которое часто доводит до бесстыдных демонстраций, вероятно, следует помнить о подобных процессах.
Моральные ценности и наказание постепенно перешли в эстетику. В последние годы XX века эти эстетические ценности становятся центром социальной жизни и вновь приобретают этический характер. Прекрасное принимает дополнительное значение «хорошего», в том числе в форме ценностей, соотносящихся с гедонизмом. «Хорошее», чтобы быть признанным и доказанным, должно принять форму прекрасного — вид политической и моральной «коррекции».
Необходимо также осознать поначалу постепенные, а потом резко ускорившиеся эффекты смещения границ между публичной и личной жизнью, а также замещение интимной жизни жизнью личной.
В старом смысле слова «личное» составляло понятийную пару с «публичным». Стать публичным лицом было возможно лишь с помощью скандальных преступлений или продуманной программы с оговоркой на справедливость. Когда личное требует осмысления в категориях интимного, то у него больше нет пределов. Это все или ничего: оно либо скрывается, либо привлекает всеобщее внимание. И когда оно его получает, то становится новым зрелищем, к которому привели вездесущие и всемогущие визуальные средства.
В конце XX века совмещаются два «перехода»: эстетика торжествует в то время, как интимность выставляется на всеобщее обозрение с беспристрастным спокойствием (cool). В 1987 году американский представитель нео–попа, истинный cool–xудожник Джефф Кунс выставляет серию фотографических панно и скульптур «Сделано на небесах», где изображается, как они с женой, бывшей итальянской порнозвездой и политической активисткой Чиччолиной, занимаются любовью. Дешевый религиозный декор заставляет порнографию принять эстетический, сентиментальный и похабный характер.
III. Тело–медиум, тело–произведение
Эти три значительные визуальные категории, непрерывно вторгающиеся в искусство XX века, — техническое тело, поврежденное тело и тело красоты — уже очень много говорят о современном опыте и испытаниях телесности, включая собственные противоречия. Но следует вспомнить и о еще одной важной стороне предмета. О том, что делает искусство XX века с телесностью не с точки зрения возможностей репрезентации, но с точки зрения возможностей производства.
Основное новшество состоит в том, что в искусстве XX века тело само становится художественным медиумом: оно меняет статус объекта искусства на статус действующего субъекта и опоры художественной деятельности. Возникает переход от реальности произведений к телу как среде искусства и художественных экспериментов.
Это движение начинается после 1910 года. Оно полностью меняет ландшафт искусства и является знаком значительных социальных изменений.
1. Художник как тело
Присутствие художника как живого тела долгое время оставалось незаметным и второстепенным. Каковы бы ни были сила и яркость экспрессии, величие гения или амбиции работы, тело художника не успевало за произведением и оставалось в его тени. Оно могло стать темой, но не материалом и не проявляло себя как тело производительное. Художник был бесплотным существом, предназначенным для того, чтобы однажды его прославили биографы. Никто не представлял себе, что художник мог быть развратным самцом–вуайеристом, и именно это могло руководить темами его творчества и предпочтениями. Вспомним Курбе и женские гениталии из «Происхождения мира»; Мане и его «Бал–маскарад в парижской Опере» — на самом деле это рынок свежего мяса; Родена с его порнографическими рисунками.
Конечно, уже у Бодлера и Кьеркегора возникает мысль о том, что образ жизни тоже может быть объектом искусства. С 1840‑х годов Кьеркегор говорит об эстетической стадии существования, а Бодлер пишет о денди. Замещение жизни искусством находит первое воплощение в дендизме конца века, но сама природа дендизма придает ему некоторое искушенное легкомыслие, которое задает свою собственную траекторию.
После 1910 года все меняется решительно и поразительно интенсивно. Все стороны проблемы одновременно затрагиваются с радикальностью, которая будет только расти, разрабатываться, расширяться на всем протяжении века.
Русский авангард не ограничивался живописью — здесь ставили спектакли, развивали сценографию, практиковали звуковую поэзию[1245], хореографию, занимались костюма и моды. Искусство держалось за людей, за их движения, голос, одежду.
Дадаисты добавляют к этому резкость, жестокость и несравнимую напряженность. Кабаре, кричащая декламация звуковой поэзии, открытые судебные разбирательства над знаменитостями, необычные костюмы, фрагментированные танцы — все это тоже искусство. Вспомним о Рауле Османне, Хуго Балле, Швиттерсе, о Дада в Берлине и в Париже в конце 1910‑х годов[1246].
В этой области форму задает Дюшан, он ее, так сказать, систематизирует, при этом кажется, что он не обращается ко всему множеству рассеянных практик. «Rrose Sélavy»[1247] — это одновременно портрет и двойник травестийного художника. Сам Дюшан носил «художественную» тонзуру, образ творчества, которое имеет свое собственное двойное значение («With My Tongue in My Cheek»[1248]), создавая одновременно фальшивую монету и подлинное произведение. Сама его жизнь, как ведущий игрок в шахматы, — это искусство, то самое искусство, которое неохотно производит художник в форме объектов, «не оправдавших надежд».
2. Искусство как акция
Фовизм и экспрессионизм и без иронического интеллектуализма стали в начале XX века формами искусства, где нарушается равновесие между предметом и художником. Это до сих пор картина, сосредотачивающая экспрессию, но сама экспрессия одушевляет картину, сообщает ей дикость, первобытность, невинность.
Как и Дада, экспрессионизм имеет значительных последователей. Их становится больше, если принять во внимание сюрреалистический автоматизм с его призывом к бессознательному или открытие примитивного искусства (в частности искусства индейцев) американскими художниками.
С 1940‑х годов американские абстрактные экспрессионисты начинают понимать свою живопись как акцию, и даже не столько как уникальное экзистенциальное действие, сколько как поиск древней коллективной памяти и символов мифа. Однако в комментариях Гарольда Розенберга[1249] возникает экзистенциальная интерпретация их живописи как action painting, «живописи действия», где сам живописный акт оценивается выше, чем конечные результаты работы, где произведенные действия важнее законченного произведения.
В 1950‑е — 1970‑е годы на пересечении экспрессионизма и неодадаизма происходит заметное развитие телесных практик. Воскрешение духа Дада прочитывается в хеппенингах и телесных акциях, которые позже стали называть боди–артом, в слиянии поэзии (Флуксус), хореографии (Каннингем, Браун, Райнер) и музыки (Кейдж) в произведениях, которые зависят от исполнения больше, чем от «прочного» объекта[1250]. В 1970‑е годы этот тип выступления овладевает миром рок–музыки благодаря таким музыкантам, как Игги Поп.
Влияние экспрессионизма сильнее чувствуется в Европе, а именно в традиции венских «акционистов» 1960‑х и 1970‑х годов (Мюль, Брус, Шварцкоглер, Райнер). Они призывали вернуть значение разгулу, бесчинствам и трансгрессии искусства, организуя дионисийские церемонии, где царили насилие, секс, упадничество и разрушение[1251].
Однако у многих художников этот возврат к Дада имел смысл протеста против театральных излишеств экспрессионизма и против всякого пафоса вообще. На первый план в искусстве встает не выразительное тело, но тело механическое и автоматическое.
Уорхол хотел быть холодной бесчувственной машиной[1252]. В то же время такие авторы, как Пино–Галицио или Мандзони, превращали себя в производящие машины, доходившие до производства «дерьма художника». Бюрен, Моссе, Пармантье, Торони, Вьяла, Опалка в конце 1960‑х превращались в механические устройства, выполняющие взаимозаменяемую или бесконечно повторяемую работу[1253].
В последние двадцать лет XX века никто не отказывался от примата телесного медиума. Совпадение волны сексуального раскрепощения 1970‑х годов и ее отток, вызванный СПИДом, порождает произведения, где смешиваются одержимость сексуальностью и ужас смерти. Работы Мэпплторпа — пример такой экзистенциальной двойственности. Это, по названию одной выставки 1994 года, «зима любви»[1254]. Глухой ужас плотно стиснул мир красоты, которая оберегает себя еще большим легкомыслием или провокацией.
В то же время развитие медицинских, хирургических, генетических, а также цифровых технологий позволяет прибегать к новым приемам. Уже ставился вопрос о человеке постгуманизма, который изображает себя в искусстве. Пост–гуманистическая перспектива провоцирует упадок, ставит под сомнение достоверность оснований самоидентификации и уверенности в себе. Кроме того, они расшатываются после открытия других способов существования и телесных сборок — благодаря работам художников–феминисток (Нэнси Сперо, Джуди Чикаго, Синди Шерман, Барбара Крюгер), а также вкладу художников–гомосексуалов и квир–движения.
3. Тело, субъект и объект искусства
В результате этих изменений тело «конца века» стало теперь и субъектом и объектом художественного акта. И прежде всего оно вездесуще в фотографиях и видеоизображениях. Начиная с 1990‑х годов 80%, если не 90% произведений искусства выбирают своим предметом тело. Когда искусство не демонстрирует тело, оно все равно использует его, поскольку ему доступно тело художника или перформансиста: оно само стало произведением и товарным знаком в большей мере, чем создатель произведения. Упомянутый синтез был завершен такими художниками, как Брюс Науман, Роман Опалка или Синди Шерман, которые выступали как субъекты и объекты собственных работ, причем в данном случае проблема идентификации носит одновременно социальный и художественный характер.
Это признак сложных изменений.
С одной стороны, в последние тридцать лет в искусстве интенсивно менялись режимы производства и периоды. Специфически современное значение искусства как практики, почти заменяющей религию и основанной на великих произведениях, ушло в прошлое. Модерн закончился. Он уступил место искусству, более не являющемуся ни пророческим, ни визионерским, но становящемуся лишь частью бесконечных механизмов социальной рефлексии (как отражения, так и осмысления) и документации, через которые общество как система воспринимает и обдумывает то, что происходит у него внутри.
С другой стороны, что неудивительно, это движение обобщающей рефлексивности сопровождается многочисленными сомнениями по поводу идентичности, которая сама стала множественной или, в любом случае, достаточно нестабильной и пластичной.
Визуальные устройства стали вездесущими и всепроникающими, они ничего не оставляют «вне поля зрения». Скрытого больше нет.
Заключение. Душа, ставшая телом, и жизнь без жизни
В этих условиях тело кажется последней опорой, за которую можно ухватиться.
Это последняя точка, с которой соотносят себя, чтобы воспринимать себя как «Я», распоряжаться собой, влиять на себя, изменяться, выделять себя как личность и индивидуальность среди других — будь то с помощью хирургии, терапии, наркотиков или стоической силы характера.
Это также свидетельство, которое позволяет утверждать, записывать и измерять с трезвой, мрачной, безразличной объективностью изменения, трансформации и трудности, порожденные социальной рефлексией, и время, продолжающее утекать в вечность настоящего момента.
Но речь здесь больше не идет о новых репрезентациях тела (если учесть то, что сама идея репрезентации предполагает некоторую дистанцию) по той простой причине, что не существует больше никакой репрезентации. Изображения резко сталкивают нас лицом к лицу с голой реальностью, которую нам больше не удается присвоить, поскольку символическое и метафорическое измерение, позволявшее нам это сделать, испарилось. Тело в некотором роде совпадает с самим собой, притом что его больше нельзя субъективировать или объективировать. Оно выступает здесь как кусок мяса, кривляющаяся рожа, фигура, без причин посаженная туда, где она есть. Вот откуда это странное явление: с одной стороны, вездесущность секса, а с другой, отсутствие желания, фантазма и страсти. Эта перемена равным образом касается визуальных искусств, театра и танца.
Мишель Фуко писал в 1976 году в конце «Воли к знанию», что секс стал «воображаемой точкой, через которую должен пройти каждый, дабы получить доступ к своей собственной интеллигибельности, к целостности своего тела, к своей идентичности»[1255]. Интеллигибельность, целостность, идентичность — сколько гуманистических понятий у мыслителя, который считал себя антигуманистом, понятий, свидетельствующих о классическом проекте репрезентации.
С тех пор прошло около тридцати лет. Теперь мы существуем непосредственно «перед» телом и сексом, которые весьма загадочно проявляют себя — одновременно навязчивые и фригидные, резкие и привычные, обнаженные и безразличные. Леденящий материализм одержал победу: там, где были сознание, души, фантазм и желание, остались только тела и их метки.
«Наедине с собой» превратилось в «наедине с телом», от которого нельзя отстраниться.
Фуко писал в той же работе: «Секс стал важнее нашей души, разве что не важнее нашей жизни».
Чтобы описать современную ситуацию, нужно лишь заменить «секс» на «тело» и вычеркнуть «разве что не»: тело стало важнее нашей души, оно стало важнее нашей жизни.
Об авторах
Стефан Одуан–Рузо — политолог, агреже по истории. Учился в университетах Клермон–Феррана и Амьена, в настоящее время глава учебного отдела Высшей школы социальных наук в Париже. С 1989 года совместно с Аннет Беккер возглавляет Исследовательский центр при Музее I Мировой войны в Перонне. Важнейшие публикации: «14–18. Новое обретение войны» (14–18. Retrouver la guerre, 2000, совместно с А. Беккер); «Пять скорбей войны. 1914–1918» (Cinq deuils de guerre, 1914–1918, 2001); «Энциклопедия I Мировой войны, 1914–1918» (Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914–1918, 2004, совместно с Ж. — Ж. Беккером), «Сражаться: историческая антропология современной войны. XIX–XXI века» (Combattre: une anthropologie historique de la guerre moderne (XIXe‑XXIe siècle), 2008). Кавалер Ордена Почетного легиона (2010).
Антуан де Бек — критик, историк. Занимался культурой эпохи Просвещения и Великой французской революции: см. работы: «Тело истории. Метафоры и политика» (Le Corps de l’histoire. Métaphores et politique, 1993); «Слава и ужас. Трупы во время террора» (La Gloire et l’Effroi. Des cadavres sous la Terreur, 1996); «Осколки смеха. Смеховая культура XVIII столетия» (Les Éclats du rire. La culture des rieurs au XVIIIe siècle, 2000). Соавтор «Истории культуры Франции» (Histoire culturelle de la France, 2005, глава o 1715–1815 годах). Также специализируется по истории французского кино, Новой волне и синефилии, опубликовал «Историю Cahiers du cinéma» (Histoire des Cahiers du cinéma, 1991), биографию Франсуа Трюффо (1996, совместно с С. Тубиана), книги «Новая волна. Портрет молодости» (La Nouvelle Vague: Portrait d’une jeunesse, 1996), «Синефилия. Изобретение взгляда, история культуры» (La Cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture, 2003), «Тим Бертон» (Tim Burton, 2005), «История кино» (Histoire et cinéma, 2008) и др. Составитель «Словаря Трюффо» (Dictionnaire Truffaut, 2004). Преподает историю визуальности в университете Версаль Сен–Кантен–ан-Ивелин, был главным редактором журнала Cahiers du cinéma, с 2001 года редактор раздела культуры газеты Libération.
Аннетт Беккер — профессор современной истории в университете Париж X — Нантер, директриса Центра Пьера Франкастеля, совместно со Стефаном Одуаном–Рузо возглавляет Исследовательский центр при Музее I Мировой войны в Перонне. Изучала воспоминания о I Мировой войне, проявления в них дискурсов патриотизма, смерти, насилия, скорби. Труды: «Памятники павшим: воспоминания о I Мировой войне» (Les Monuments aux morts: Mémoire de la Grande Guerre, 1988); «Верить» (Croire, 1996); «Красные шрамы 1914–1918: Франция и Бельгия под оккупацией» (Les cicatrices rouges 1914–1918, France et Belgique occupées, 2010) и др. Готовя совместные со Стефаном Одуаном–Рузо монографии «I Мировая война» (La Grand Guerre, 1998) и «14–18. Новое обретение войны», Аннетт Беккер ориентировала свои изыскания в двух направлениях: изучение мирных жителей на войне и перенесенных ими страданий особенно в концентрационных лагерях («Забытые в дни I Мировой. Люди и культура войны: жители оккупированных территорий, депортированные граждане, военнопленные» — Oubliés de la Grande Guerre: humanitaire et culture de guerre: populations occupées, déportés civils, prisonniers de guerre, 1998), и изучение отображения войны в литературеи искусстве. Беккер сопоставляет две мировых войны в книге «Морис Хальбвакс, интеллектуал на двух мировых войнах: 1914–1945» (Maurice Halbwachs, un intellectuel en guerres mondiales, 2003).
Жан–Жак Куртин — профессор культурной антропологии Университета Париж III Новая Сорбонна, более 15 лет преподавал в США, в том числе в Калифорнийском университете в Санта–Барбаре. Автор многочисленных работ по лингвистике и речевому анализу, в том числе книги «Анализ политической речи» (Analyse de discours politique, 1981), и по исторической антропологии тела, в том числе «История лица. Как выражали и скрывали свои эмоции в XVI — начале XIX века» (Histoire du visage: Exprimer et taire ses emotions du XVIe au debut du XIXe siecle, 1998, в соавторстве с Клодиной Арош), «Сумерки уродств. Ученые, зеваки и любопытные, XVI–XX века» (Le crepuscule des monstres. Savants, voyeurs et curieux XVIe‑XXe siecles, 2006); «Дешифровка тела. Думать вместе с Фуко» (Dechiff rer le corps: penser avec Foucault, 2011). B 2002 году переиздал «Историю уродств» (L’histoire des monstres) Эрнеста Мартена (1880). Соавтор трехтомной «Истории мужественности» (Histoire de la virilité, 2011), подготовленной редакторским коллективом «Истории тела».
Фредерик Кек — выпускник Высшей нормальной школы, агреже по философии, изучал антропологию в университете Беркли (Калифорния), перевел на французский книгу Пола Рабинова «Французская ДНК» (French DNA, 1999). Автор диссертации об истории французской антропологии, вышедшей в 2008 году в виде монографии «Люсьен Леви–Брюль: между философией и антропологией» (Lucien Lévy–Bruhl: entre philosophie et anthropologie). Также опубликовал работы «Леви–Стросс и неприрученная мысль» (Lévi–Strauss et la pensée sauvage, 2004), «Введение в Леви–Стросса» (Claude Lévi–Strauss, une introduction, 2005), «Мир, больной гриппом» (Un monde grippé, 2010). Исследует этнографию продовольственной безопасности в Национальном центре научных исследований (НЦНИ) Франции.
Ив Мишо — член Университетского института Франции, профессор философии в Руанском университете. С 1989 по 1996 годы руководил Национальной высшей школой изящных искусств в Париже. Публикации: «Газообразное искусство, эссе о триумфе эстетики» (Stock, 2003, Livre de Poche, 2004), «Эстетические критерии и суждения вкуса» (Chambon, 1999 и 2002), «Кризис современного искусства» (PUF, 1997, «Quadrige», 2005), «Современное искусство после 1945 года» (La Documentation française, 1998), «Что такое достоинство?» (Qu’est-ce que le mérite?, 2009), «Нарцисс и его аватары» (Narcisse et ses avatars, 2014), a также ряда публикаций по философии современной политики.
Анн Мари Мулен — Выпускница Высшей нормальной школы, профессор философии Мулен также строила карьеру врача и историка науки во Франции и за ее пределами: в Германии, Швейцарии, США и арабских странах. Публикации: «Последний язык медицины» (Le Dernier Langage de la médecine, 1991), «Приключение вакцинации» (L’Aventure de la vaccination, 1996); в качестве соавтора: «Ислам, опасный для женщин» (L’Islam au péril des femmes) «Наука и империи» (Sciences and Empires), «Медицина и здоровье» (Médecine et santé), «Единственные ,,я“» (Singular Selves). Будучи специалистом по тропической медицине и экспертом по общественному здоровью, она возглавила исследовательский отдел Института исследования развития (IRD). В настоящее время она директор исследовательского отдела Национального центра научных исследований в Центре по изучению документации, экономики и права (Каир) и председатель правления Агентства исследования СПИДа.
Паскаль Ори — профессор современной истории в Сорбонне (Париж I). Он автор многочисленных трудов о политической и культурной истории современных западных обществ: «Коллаборанты» (Les Collaborateurs, 1976); «Интеллектуалы во Франции: от дела Дрейфуса до наших дней» (Les Intellectuels en France de l’affaire Dreyfus a nos jours, 1986, совместно с Ж.–Ф. Сиринелли); «Красивая иллюзия. Культура и политика под знаменем Народного фронта (La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire, 1994); «Французское культурное приключение, 1945–1989» (L’Aventure culturelle française, 1945–1989, 1989); «О фашизме» (Du fascisme, 2003); «История культуры» (L’Histoire culturelle, 2004); «Изобретение загара» (L’invention du bronzage, 2008).
Пол Рабинов — профессор антропологии университета Калифорнии в Беркли. Под его редакцией выходили переводы работ Мишеля Фуко в США. Соавтор книги «Философский путь Мишеля Фуко» (Michel Foucault, un parcours philosophique, 1984, совместно с Юбером Дрейфусом). В настоящее время занимается антропологией современности, уделяя особое внимание проблемам биотехнологий и генетики. Публикации по этим вопросам: «Статьи об антропологии смысла» (Essays on the Anthropology of Reason, Princeton, 1996), «Делая ПЦР. История биотехнологии» (Making PCR. A Story of Biotechnology. Chicago, 1996); «Французская ДНК. Неприятность в Чистилище» (French DNA. Trouble in the Purgatory, 1999); «Антропос сегодня. Размышления о современной технике» (Anthropos Today. Reflections on Modern Equipment, 2003), «Машина для будущего: хроники биотехнологии» (A Machine to Make a Future: Biotech Chronicle, 2006, совместно с Талией Дан–Коэн), «Придумывать человеческие практики: эксперимент в синтетической биологии» (Design Human Practices: An Experiment in Synthetic Biology, 2012, совместно с Гэймоном Беннеттом) и др.
Анн–Мари Зон — профессор современной истории в Высшей нормальной школе словесности и гуманитарных наук. Специалист по истории женщин и по истории частной жизни. Среди публикаций: «Куколки бабочек. Женщины в частной жизни (XIX–XX века)» (Chrysalides. Femmes dans la vie privée (XIXe‑XXe siècle), 1996), «От первого поцелуя до постели. Повседневная сексуальность французов (1850–1950)» (Du premier baiser à l’alcôve: La sexualité des Français au quotidien (1850–1950), 1996), «Нежный возраст и пустая голова. История молодежи 1960‑х» (Âge tendre et tête de bois. Histoire des jeunes des années 1960, 2001), «Сто лет соблазна. История любовных историй» («Cent ans de séduction. Histoire des histoires d’amour», 2003).
Анни Сюке — историк танца. В течение трех лет занимала пост исследователя при Фонде танца Мерса Каннингема в Нью–Йорке, сотрудничала с гарвардским журналом RES: Anthropology and Aesthetics. Впоследствии преподавала курсы по эстетике танца модерн и его связям с визуальным искусством в Школе изящных искусств Женевы, а таже историю и эстетику танца модерн и американского танца постмодерн в университете Париж VIII. Как независимый ученый сотрудничает с отделом хореографических исследований Национального центра танца в Пантене.
Жорж Вигарелло — профессор Университета Париж V, руководитель исследовательского направления в Высшей школе социальных наук, член Университетского института Франции. Автор работ о репрезентации тела, в том числе «Исправленное тело» (Le Corps redresse, 1978), «Чистое и грязное: гигиена тела от Средневековья до наших дней» (Le Propre et le Sale. L’hygiene du corps depuis le Moyen Age, 1993), «Здоровое и больное. Здоровье и хорошее самочувствие от Средневековья до наших дней» (Le Sain et le Malsain. Santé et mieuxetre depuis le Moyen Age, 1993), «История изнасилований в XVI–XX веках» (Histoire du viol. XVIe‑XXe siecle, 1998), «От древней игры и спортивному шоу. Рождение мифа» (Du jeu ancien au show sportif. La naissance d’un mythe, 2002), «Искусство привлекательности» (Histoire de la beaute, 2004, рус. изд. 2013), «Саркози: тело и душа президента» (Sarkozy: Corps et ame d’un president, 2008), «Метаморфозы жира» (Les metamorphoses du gras, 2010) и др. Один из редакторов «Истории тела», соавтор трехтомной «Истории мужественности», подготовленной редакторским коллективом «Истории тела» (Histoire de la virilité, 2011).
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Вакцинация от таких заболеваний, как полиомиелит и оспа, позволила практически искоренить их. Если раньше риск умереть был примерно равным для любого возраста, то в XX столетии он стал увеличиваться только к старости. Тем не менее, история медицины XX века оказалась далека от мечтаний о полной победе над болезнями.
На снимке: вакцинация от брюшного тифа в американской школе, 1943 год.
Паралимпийские игры, проводящиеся с 1960 года, — яркое свидетельство того, что больное тело, ранее стигматизированное, в XX веке заявляет о своей включенности в общий контекст, в том числе спортивный. Парадоксально, что для того, чтобы быть нормальными, людям с ограниченными возможностями приходится совершать подвиги.
Первый в истории рентгеновский снимок — рука жены Вильгельма Рентгена Анны Берты Людвиг. Новые технологии поначалу вызывали испуг Посмотрев на снимок, жена Рентгена воскликнула: «Я увидела мою смерть!»
Томография, эхография — новые, появившиеся в XX веке методы медицинского обследования. Недоверие к ним сменилось их вхождением в моду.
Сегодня при беременности УЗИ не просто сообщает родителям о состоянии плода, но является важным событием в жизни семьи, потому что позволяет заранее определить пол ребенка.
Пляж в XX веке превращается из места, где люди кратковременно купаются в полном облачении, прикрывающем все «неприличные» участки тела, в место одновременной естественной открытости и приватности: границы устанавливаются сами, принимая все более откровенную пляжную моду.
В течение XX века порог толерантности к порнографии постоянно повышался. В 1970‑е в области порнографического кино, до того остававшегося маргинальным жанром, наступил свой «Золотой век». Фильм 1972 года «Глубокая глотка» — один из главных его представителей.
Обсуждение сексуальности в пожилом возрасте в конце XX — начале XXI века остается одним из последних табу, которое постепенно снимается. Фотография Марри Бот (2001), часто обращающейся к табуированным темам. From book Timeless Love © Marrie Bot
Нан Голдин — одна из самых известных американских фотографов, чьи произведения балансируют на грани документалистики и эротики. Персонажи ее снимков — ее друзья и родные, люди, присутствующие в ее жизни, будь то гетеросексуалы, гомосексуалы, трансвеститы или транссексуалы. В ее фотографиях постулируется новый подход к красоте, для которого характерна размытость границ — сексуальных, гендерных, расовых.
Гей–парады начинаются как акции немногочисленных смелых геев и лесбиянок, протестующих против дискриминации, и сталкиваются с негативной реакцией окружающих.
К рубежу веков они превращаются в Европе и Америке в красочные и многолюдные шествия, в которых в знак солидарности принимают участие и гетеросексуалы.
Развившаяся в XX веке эстетическая пластическая хирургия не служит никаким иным целям, кроме достижения (в глазах пациента) телесного совершенства, соответствия идеальному образу себя. Сегодня пластическая хирургия — многомиллиардный бизнес, прочно вошедший в повседневность: операции вроде лифтинга или увеличения груди стали рутиной.
Еще один способ достижения желанного телесного облика — физические упражнения, доходящие до крайности в практике бодибилдинга, в которой читается желание довести тело до состояния идеального и мощного механизма.
Татуировки выходят из маргинальной зоны и становятся явлением поп–культуры в 1970‑е годы. Ремесло татуировщика все больше претендует на статус самостоятельного искусства.
Некоторые в погоне за совершенством стремятся покрыть татуировками как можно большую площадь тела — как, например, Лаки Даймонд Рич, включенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый татуированный человек в мире.
Расслаблять и укреплять тело в практике йоги, тесно связанной с медитацией и другими восточными духовными искусствами, или подвергать его огромному риску в практиках экстремального спорта, часто выполняемых без страховки, — выбор, предоставляемый современному западному человеку, ставшему в большей степени хозяином своего тела, чем когда–либо.
Начало XX века — время последнего всплеска публичного интереса к телесным уродствам и порокам развития, интереса, унаследованного от века XIX-го. Далее из цирков и с ярмарок люди с аномалиями тела перемещаются в кино, где вызывают такой же живой интерес.
На фото: сиамские близнецы Точчи, пик популярности которых пришелся на 1880‑е (распространялись даже их фотоснимки в обнаженном виде), и знаменитая в 1920‑е годы бородатая женщина Клементина Делайт.
Типы преступников, описанные Чезаре Ломброзо во второй половине XX века на основании его антропометрических изысканий, долгое время продолжали будоражить умы криминалистов, пока от них не отказались.
Антропометрия Бертильона (бертильонаж). Первоначально осмеянная криминалистами, эта система стала первым научным подходом к идентификации преступников.
Страница из английского «Руководства по идентификации с помощью отпечатков пальцев», 1905 год. Дактилоскопия позволила идентифицировать человека не по косвенным описаниям, а по неотчуждаемому элементу тела и легла в основу биометрии.
Как лишний раз доказал XX век, дегуманизация противника становится рядовым явлением на «тотальной» войне. Знаменитая фотография, помещенная в 1944 году в журнале Life, озаглавлена «Аризонская труженица тыла пишет письмо своему бойфренду–моряку, благодаря его за присланный ей череп японца».
Геноцид — слово, обретшее в XX веке богатую и страшную жизнь. Нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц), в котором было уничтожено около миллиона евреев, теперь превращен в мемориал.
Здесь можно увидеть горы обуви и протезов, навсегда разлученных с телами своих владельцев, — свидетельство массовости насильственной смерти, поражающее едва ли не больше, чем фотографии трупов.
Убийство мирных жителей американскими солдатами в Сонгми (Вьетнам) — пример военного преступления после II Мировой войны. Погибло от 347 до 504 человек, среди них было много женщин и детей. Особенность этого события в том, что оно не просто было тщательно задокументировано, но и быстро стало достоянием общественности: наступала эпоха, когда мертвые тела становятся моментальными свидетельствами обвинения.
Геноцид в Руанде, прошедший «под боком» у мировых СМИ и унесший жизни от 500 000 до 1 000 000 человек — представителей этнического меньшинства тутси, — доказал, что преступления такого масштаба вполне возможны и в послегитлеровскую эпоху.
Увидев семью лилипутов Овиц, привезенную в Освенцим, доктор Менгеле воскликнул: «Теперь у меня работы лет на двадцать!» Все члены семьи чудом выжили в ходе бесчеловечных экспериментов Менгеле и после освобождения из Освенцима поставили музыкальный спектакль «Пляска смерти». На этом фото они в Тель–Авиве в 1949 году.
Тела убитых заключенных в нацистском концлагере вскоре после его освобождения. Непосредственный контакт немцев с изможденными телами убитых впоследствии станет частью программы денацификации.
Заключенные «Особлага Вайгач» на добыче свинцовоцинковой руды, начало 1930‑х. Неимоверные трудовые нагрузки были повседневностью ГУЛАГа.
Страница из рукописных воспоминаний Евфросинии Керсновской — одной из свидетельниц ГУЛАГа, проведшей в лагерях двенадцать лет. Текст и иллюстрация повествуют о «куриной слепоте» — следствии лагерного авитаминоза.
Финал женских парных соревнований на Уимблдонском турнире, 1906 год. И позы, и одежда, и трибуны со зрителями еще далеки от современных стандартов: спортивное тело еще не стало зрелищным. Впрочем, одиночные теннисные матчи в это время уже собирают довольно большую публику.
С распространением автомобильного и велосипедного спорта в поле общественного внимания появляются новые «звезды». На фото: победитель Гран–при Франции 1913 года Жорж Буалло.
Американский бегун и прыгун Джесси Оуэнс завоевал четыре золотых медали на Олимпиаде 1936 года в Берлине. По словам Альберта Шпеера, Гитлер был крайне недоволен победами чернокожего атлета, о котором говорили, что он «в одиночку опроверг нацистские мифы о превосходстве арийской расы».
Самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр — пловец Майкл Фелпс, 2009. Тело Фелпса часто привлекает внимание спортивных журналистов: пишут, что его ноги непропорционально коротки, торс непропорционально длинен, а размах рук превышает его рост.
Перформанс современного французского танцора Ксавье ле Руа, 1998 год. Танец во второй половине XX века проходит через бурный период поиска новой выразительности, позволяющей «выйти за рамки» тела. X. Le Roy, © Katrin Schoof
Тереза Дункан, приемная дочь Айседоры Дункан, танцует на развалинах Акрополя, 1921. Фотограф Эдвард Штайхен назвал свою модель «реинкарнацией греческой нимфы».
Один из величайших танцоров XX века — Мерс Каннингем.
Теда Бара — секс–символ немого кино 1910‑х, первая звезда, созданная только силами кино и ради кино, раннее воплощение «роковой женщины», «женщины–вамп». На снимке — Бара в роли Клеопатры.
Лон Чейни, умевший перевоплощаться в сложных, гротескных, порой увечных персонажей, — один из самых узнаваемых киноактеров 1910‑х — 1920‑х, «Человек с тысячью лиц». Он много сотрудничал с известнейшим режиссером раннего хоррора Тодом Браунингом.
Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер — два экстремальных идеала мужской красоты и силы, утвержденные спортом и кино. Сталлоне принесла слава роль боксера Рокки, Шварценеггер до карьеры в кино и политике уже был знаменитым культуристом и носил титул «Мистер Вселенная» (1967).
Хуан Грис. Портрет Пабло Пикассо, 1912. Чикагский институт искусств. Один кубист пишет портрет другого кубиста: тело человека разделено на плоскости, на фрагменты, что сигнализирует о конце цельного восприятия тела. Идеи кубистов, поначалу возмущающие общество, открывают дорогу новым художественным взглядам на человека.
Редактор серии Л. Оборин
В оформлении обложки использован фрагмент картины Пьера–Поля Прюдона (Académie d’homme, Pierre–Paul Prud’hon, ca. 1800).
© Éditions du Seuil, 2006
© А. Гордеева, Ю. Романова, Д. Николаев, Д. Жуков, перевод, 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016
УДК 930.85:611.9(4)
ББК 71.061.1
И90
И90 История тела: В 3 т. Под редакцией Алена Корбена, Жан–Жака Куртина, Жоржа Вигарелло. Т. 3: Перемена взгляда: XX век. Перевод с французского А. Гордеевой (введение, части 2.2, 2.3, 3), Ю. Романовой (часть 1.1,2.1), Д. Николаева (части 1.2, 4), Д. Жукова (часть 5). — М.: Новое литературное обозрение, 2016. — 464 с.: ил. (Серия «Культура повседневности»)
ISBN 978–5-4448–0536–7 (т.З)
ISBN 978–5-4448–0027–0
Трехтомная «История тела», написанная французскими, британскими и американскими антропологами и историками культуры, всесторонне рассматривает телесные практики и репрезентацию тела в Европе — от Ренессанса до нашего времени. Третий том охватывает XX век, в котором человеческое тело стало едва ли не главным объектом, претерпевающим беспрецедентные страдания и вместе с тем пользующимся небывалым вниманием. Происходят параллельные процессы: вытеснение и в то же время приятие телесных аномалий, превращение индивидуального, неповторимого тела в незначительный элемент массы, в пищу войны и политических репрессий — и наряду с этим сексуальное и творческое раскрепощение, «профессионализация» спортивного и кинематографического тела, создающая его культ. Этот том рассказывает, как XX век радикально изменил восприятие тела.
Примечания
1
Merleau–Ponty М. Signes. Paris: Gallimard, 1960. P. 287 (рус. пер. цит. по: Мерло–Понти М. Знаки / Пер. с фр., коммент. и послесловие И. С. Вдовиной. М.: Искусство, 2001. С. 261).
(обратно)2
Сальпетриер — старинная французская больница в Париже, в которую с конца XVIII века стали помещать душевнобольных. В XIX веке — крупнейшая женская парижская больница. Здесь в 1885 году Зигмунд Фрейд проходил стажировку у Жана Шарко, знаменитого врача–психиатра, специалиста по неврологическим болезням.
(обратно)3
«Я-кожа» — концепт французского психоаналитика Дидье Анзье, понимаемый как воплощение в различных модальностях функций «я», проявляющихся на границе внутреннего и внешнего. Суть теории изложена в монографии: Anzieu D. Le moi–peau. Paris: Dunod, 1985 (рус. изд.: Анзье Д. Я — кожа / Пер. с фр. под науч. ред. С. Ф. Сироткина, М. Л. Мельниковой. Ижевск: ERGO, 2012). — Прим. nepeв.
(обратно)4
Merleau–Ponty М. Phénoménologie de la perception. Paris: Gallimard, 1945. P. 97 (рус. пер. цит. по: Мерло–Понти М. Феноменология восприятия / Пер. с фр. под ред. И. С. Вдовиной, С. Л. Фокина. М.: Ювента; Наука, 1999. С. 119).
(обратно)5
Mauss М. Les techniques du corps // Sociologie et anthropologie. Paris: PUF, 1950. P. 365 (pyc. пер. цит. по: Мосс М. Общества. Обмен. Личность. Труды по социальной антропологии / сост., пер. с фр., предисл., вступ. ст., комм. А. Б. Гофмана. М.: КДХ 2011. С. 304). Данное сообщение было представлено Психологическому обществу 17 мая 1934 года.
(обратно)6
Femmes en mouvement: hier, aujourd’hui, demain // Le Débat. No. 59. Mars - avril 1990. P. 126.
(обратно)7
Ibid. P. 127.
(обратно)8
Levi P. Si c’est un homme. Paris: Julliard / Presses–Pocket. 1987 (рус. пер. цит. по: Леви П. Человек ли это? М.: Текст, 2001. С. 43).
(обратно)9
«Право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья» было признано в 12‑й статье Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (МПЭСКП), который был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 году и вступил в силу в 1976‑м.
(обратно)10
Beaune J.–C. Ouverture: savoir être malade // Cahiers de la Villa Gillet: Maladie et images de la maladie, 1790–1990. Lyon, Circé, 1995. P. 6.
(обратно)11
Ferro M. Les Sociétés malades du progrès. Paris: Pion, 1998.
(обратно)12
Canguilhem G. La santé, vérité du corps // L’Homme et la Santé. Paris: Éd. du Seuil, 1992. P. 99–108.
(обратно)13
Kickbush I. Cinquante années d’évolution des concepts de santé à l’OMS: d’une définition à sa reformulation // Prévenir. 1996. No. 30. P. 43–54.
(обратно)14
Faure O. Le regard des médecins // Histoire du corps. T. II. De la Révolution a la Grande Guerre. Paris: Éd. du Seuil, 2005 (рус. пер.: История тела: В 3 т. / Под ред. А. Корбена, Ж.–Ж. Куртина, Ж. Вигарелло. Т. 2: От Великой французской революции до Первой мировой войны / Пер. с фр. О. Аверьянова. М.: Новое литературное обозрение, 2014).
(обратно)15
Corvol P., Postel–Vinay N. Le Retour du Dr Knock. Essai sur le risque cardio–vasculaire. Paris: Odile Jacob, 1999.
(обратно)16
См.: Zafran М. Écrire, soigner // Agora. 1995. No. 34. P. 74; Foucault M. et al. Les Machines a guérir. Aux origines de l’hôpital moderne. Bruxelles: Pierre Mardaga, 1979; Goubert J.–P. La Conquête de l’eau. L’avènement de la santé a l’âge industriel. Paris: Robert Laffont, 1986; Léonard J. Archives du corps. La santé au XIXe siècle. Rennes: Ouest France, 1986.
(обратно)17
Население Земли в конце 1980‑х. Сегодня автор написал бы «7 миллиардов». — Прим. ред.
(обратно)18
Berlivet L. Controverses en épidémiologie. Production et circulation de statistiques médicales. Rennes: Rapport MIRE, 1995. P. 24.
(обратно)19
Речь идет о французском термине–неологизме «gouvernementalité», подразумевающем игру слов «gouvernement» (правительство, правление, управление) и «mentalité» (мышление, менталитет, психология). Мишель Фуко придумал его и разрабатывал в трудах, посвященных современному государству и либерализму. Точного русского эквивалента для этого термина в научной традиции до сих пор не существует. — Прим. перев.
(обратно)20
Augé М., Herzlich C. Le Sens du mal. Anthropologie, histoire, sociologie de la maladie. Paris: Éd. des Archives contemporaines, 1990.
(обратно)21
Цит. по: Sontag S. La Maladie comme métaphore. Le sida et ses métaphores. Paris: Christian Bourgois, 1989. P. 189.
(обратно)22
Caselli G. France Meslé et Jacques Vallin, Le Triomphe de la médecine. Évolution de la mortalité en Europe depuis le début du siècle. Paris: Institut d’études démographiques, 1995.
(обратно)23
Moulin A. M. L’Aventure de la vaccination. Paris: Fayard, 1994.
(обратно)24
См., к примеру: Miquel A. Le Fils interrompu. Paris: Flammarion, 1971.
(обратно)25
Broca A. de. Mort subite du nourrisson // Dictionnaire de la pensée médicale / dir. par D. Lecour. Paris: PUF, 2004. P. 757–762.
(обратно)26
Французский путешественник Рене Кайе (1799–1838) был одним из первых исследователей южной части Африки. Он участвовал в экспедиции в город Тимбукту (совр. Мали) в южной части Сахары, представлявший для государства экономический и культурный интерес. На обратном пути он болел лихорадкой, все его спутники умерли. Вернувшись в Париж, Кайе получил заслуженную премию, которая полагалась тому, кто первым достигнет Тимбукту. Однако вскоре путешественник скончался от лихорадки, подхваченной в Африке. — Прим. перев.
(обратно)27
Gide A. Voyage au Congo. Paris: Gallimard, 1927 (рус. пер.: Жид A. Собр. соч.: В 7 т. T. 5: Путешествие в Конго. Возвращение с озера Чад. М.: Терра — Книжный клуб, 2002. С. 5–220).
(обратно)28
Moulin A. M. Cent ans d’histoire de la santé. La santé des voyageurs et des expatriés // Bulletin de la Société de pathologie exotique. 1997. Vol. 90. No. 4.
(обратно)29
Illich I. Némésis médicale. Paris: Éd. du Seuil, 1975; McKeown T. The Role of Medicine: Dream, Mirage or Nemesis? Oxford: Blackwell, 1979 (фрагменты книги «Немезида медицины» Ивана Иллича вышли на русском языке в кн.: Иллич И. Освобождение от школ. Пропорциональность и современный мир. М.: Просвещение, 2006).
(обратно)30
Coluzzi М., Bradley D. The Malaria Challenges After One Hundred Years of Malariology // Parassitologia. 1999. Vol. 41. No. 1–3.
(обратно)31
Morse S. Emerging Viruses. N.Y.: Oxford University Press, 1993.
(обратно)32
Navarre Y. Ce sont amis que vent emporte. Paris: Flammarion, 1991; Jean–Noël Pancrazi J.–N. Les Quartiers d’hiver. Paris: Gallimard, 1990; Barbedette G. Mémoires d’un jeune homme devenu vieux. Paris: Gallimard, 1993; Dreuilhe A.–E. Corps a corps. Journal de sida. Paris: Gallimard, 1987; De Duve P. Cargo vie. Paris: Jean–Claude Lattès, 1992; Detrez C. La Mélancolie du voyeur. Paris: Denoël, 1986; Camus R. Élégies pour quelques–uns. Paris: P.O.L., 1988; a также: Guibert H. A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie. Paris: Gallimard, 1990; Le Protocole compassionnel. Paris: Gallimard, 1991; Cytomégalovirus. Paris: Éd. du Seuil, 1992; L’Homme au chapeau rouge et Le Paradis. Paris: Gallimard, 1992. Cm.: Lévy J. Nouss A. Sida–fiction. Essais d’anthropologie romanesque. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1994.
(обратно)33
О гипотезе африканского происхождения СПИДа см.: Western Medicine as Contested Knowledge / ed. by A. Cunningham, B. Andrews. N.Y.: Manchester University Press, 1997.
(обратно)34
Garrett L. The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World out of Balance. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 1994.
(обратно)35
В конце 2013 года в Африке началась самая массовая из отмеченных эпидемия лихорадки Эбола, и несколько случаев заболевания были впервые зафиксированы в Европе и США. — Прим. ред.
(обратно)36
Самый высокий, последний уровень биологической безопасности. — Прим. перев.
(обратно)37
Une épidémie politique. La lutte contre le sida en France, 1981–1996 / dir. par P. Pinell. Paris: PUF, 2002.
(обратно)38
Garrett L. Betrayal of Trust: The Collapse of Global Public Health. N.Y.: Hyperion, 2000.
(обратно)39
Mastorak M. Zazie pas beau (авторская рукопись). 1997.
(обратно)40
Rozenbaum W. SIDA: réalités et fantasmes. Paris: P.O.L., 1984.
(обратно)41
Epstein S. G. Impure Science, AIDS, Activism and the Politics of Knowledge, Ph.D. Berkeley: University of California, 1993.
(обратно)42
Aïach P., Kaufmann A. E., Waissman R. Vivre une maladie grave. Paris: Méridiens–Klincksieck, 1989.
(обратно)43
Carricaburu D. L’Hémophilie au risque de la médecine. Paris: Anthropos, 2000.
(обратно)44
Bachimont J. Entre soins spécialisés et soins profanes, gérer une maladie infantile chronique a domicile. Le cas de la mucoviscidose. Villeneuve-d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 2002.
(обратно)45
Descartes R. Traité de l’Homme // Descartes R. Œuvres complètes / éd. par C. Adam et P. Tannery. T. XI. Paris: L. Cerf, 1910. P. 119 (рус. пер. цит. по: Декарт P. Человек. М.: Праксис, 2012. С. 6).
(обратно)46
Medawar Р. В. Memoir of a Thinking Radish: An Autobiography. Oxford: Oxford University Press, 1986.
(обратно)47
Имеется в виду аппарат искусственного дыхания, созданный британским ученым Филипом Дринкером. — Прим. перев.
(обратно)48
Lederer S. Subjected to Science. Human Experimentation in America before the Second World War. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1995.
(обратно)49
Lederer S. The Tuskegee Syphilis Study in the Context of American Medical Research // Sigerist Circle Newsletter. 1994. No. 6. P. 2–4.
(обратно)50
Этот случай вошел в историю как пример того, что от противотуберкулезной вакцины можно случайно заразиться, а не как пример проявления классовой несправедливости. См.: La Médecine expérimentale au tribunal / dir. par C. Bonah, É. Lepicard, V. Roelcke. Paris: Éd. des Archives contemporaines, 2004.
(обратно)51
Lorde A. de, Binet A. L’Horrible Expérience [Paris: Grand–Guignol, 29 novembre 1909]. Paris: G. Ondet et M. Viterbo, 1910.
(обратно)52
Desrosières A. La Politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique. Paris: La Découverte, 1993.
(обратно)53
Marks H. La Médecine des preuves. Histoire et anthropologie des essais cliniques. Le Plessis–Robinson: Synthélabo, 1999; Portes L. A la recherche d’une éthique médicale. Paris: Masson, 1954.
(обратно)54
Duhamel G. La Pesée des âmes. Paris: Mercure de France, 1949. P. 47.
(обратно)55
Французский писатель Жорж Дюамель (1884–1966) участвовал в I Мировой войне в качестве военного врача. Успех на литературном поприще пришел к нему благодаря военной прозе, где он с состраданием описывал жизнь жертв войны, своих пациентов. — Прим. перев.
(обратно)56
Faure J.–L. L’Âme du chirurgien. Paris: Jean Crès, 1935. P. 57.
(обратно)57
Note adressée par M. Laugier, chirurgien de Beaujon, dans laquelle il décrit avoir réalisé une amputation d’une jeune femme sous éther // Bulletin de l’Académie de médecine. 25 janvier 1847.
(обратно)58
François Magendie à l’Académie des sciences du 1er février 1847 // Gazette médicale de Paris. 1847. 3e série. T. II. No 6.6 février 1847. P. 111.
(обратно)59
Baszanger I. Douleur et médecine, la fin d’un oubli. Paris: Éd. du Seuil, 1995.
(обратно)60
Durkheim E. Les Formes élémentaires de la vie religieuse. Paris: PUF, 1968. P. 386.
(обратно)61
Husserl E. La Crise des sciences européennes et la Phénoménologie transcendantale [1954]. Paris: Gallimard, 1976.
(обратно)62
Leenhardt M. Do Kamo. La personne et le mythe dans le monde mélanésien. Paris: Gallimard, 1947.
(обратно)63
Четвертая группа крови была описана позже чешским ученым Яном Янским. Он же дал группам цифровое обозначение, которое используется по сей день. — Прим. перев.
(обратно)64
Клонирование в целях получения потомства. — Прим. перев.
(обратно)65
Elias N. La Solitude des mourants. Paris: Christian Bourgois, 1987.
(обратно)66
Термин, придуманный социологом Жаном Фурастье для обозначения 1946–1975 годов в Западной Европе и Америке. — Прим. ред.
(обратно)67
Эссе было опубликовано Нью–Йоркским издательством Pantheon Books.
(обратно)68
Hermitte M.–A. Le Sang et le Droit. Paris: Éd. du Seuil, 1996.
(обратно)69
Degos L. Le Don reçu. Greffe d’organe et compatibilité. Paris: Pion, 1990. P. 40.
(обратно)70
Erny P., Bourdallé–Badie Ch. Émergence d’une technique médicale, la ventilation assistée mécanique // Culture technique. 1985. No. 15. P. 321–329.
(обратно)71
Mollaret P., Goulon M. Le coma dépassé // Revue neurologique. 1959. No. 11. P. 3–15.
(обратно)72
Oppenheim–Gluckman H., Fermanian J., Derouesné C. Coma et vie psychique inconsciente // Revue internationale de psychopathologie. 1993. No. 11. P. 425–450.
(обратно)73
Ad Hoc Committee of the Harvard Medical School. A Definition of Irreversible Coma // JAMA. 1968. No. 205. P. 337.
(обратно)74
Richardson D. Death, Dissection and the Destitute. N.Y.: Routledge & Kegan Paul, 1987.
(обратно)75
Pouchelle M.–C. Transports hospitaliers, extra–vagances de l’âme // Gestions religieuses de la santé / dir. par F. Lautman, J. Maître. Paris: L’Harmattan, 1995.
(обратно)76
Bacon F. L’Art de l’impossible. Entretiens avec David Sylvester. Genève: Skira, 1976. P. 52.
(обратно)77
Ariès P. L’Homme devant la mort. Paris: Éd. du Seuil, 1977 (см. в рус. пер.: Арьес Ф. Человек перед лицом смерти. М.: Прогресс — Прогресс–Академия, 1992).
(обратно)78
Machado N. The Swedish Transplant Act. Sociological Considerations on Bodies and Giving // Social Sciences and Medicine. 1996. No. 42. P. 159–168.
(обратно)79
Moulin A. M. La crise éthique de la transplantation d’organes. À la recherche de la compatibilité culturelle // Diogène. 1995. No. 172. P. 76–96.
(обратно)80
Dagognet F. Corps réfléchis. Paris: Odile Jacob, 1989. P. 84–85.
(обратно)81
Анэнцефалы — дети, рождающиеся с частичным или полным отсутствием головного мозга. Как правило, они живут не больше нескольких часов, но девочка Стефани Кин прожила два с половиной года; этот случай породил крупную биоэтическую дискуссию. — Прим. ред.
(обратно)82
Gabolde М., Moulin A. M. French Response to «Innovation». The Return of the Living Donor in Organ Transplantation // Innovations in Health and Medicine / ed. by J. Stanton. London: Routledge, 2002. P. 188–208.
(обратно)83
Renard M. Les Mains d’Orlac. Paris: Nilsson, 1920.
(обратно)84
Selzer R. La Chair et le Couteau. Confessions d’un chirurgien. Paris: Éd. du Seuil, 1987. P. 17.
(обратно)85
Hoerni B. Histoire de l’examen clinique. D’Hippocrate a nos jours. Paris: Imhotep, 1996.
(обратно)86
Raimbault G., Zygouris R. Corps de souffrance, corps de savoir. Lausanne: L’Âge d’homme, 1976.
(обратно)87
Foucault M. Naissance de la clinique. Paris: PUF, 1960 (см. в рус. пер.: Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998).
(обратно)88
Pasveer В. The Knowledge of Shadows. The Introduction of X Rays in Medicine // Sociology of Health and Illness. 1989. No. 11. P. 360–381.
(обратно)89
Roentgen W. C. Eine Neue Art von Strahlen. Würzburg: Stahel, 1896.
(обратно)90
Сама рука выглядит уродливо из–за своего гигантизма, вызванного опухолью мозга.
(обратно)91
Picard J.–D. Bertha Rôntgen ou la transparence de la main // Bulletin de l’Académie de médecine. 1996.,No. 180. P. 36.
(обратно)92
Bédère A. Grandeurs et servitudes de la radiologie // Journal de la radiologie. 1936.
(обратно)93
Lalanne C., Coussement A. Histoire du radiodiagnostic // Histoire de la médecine, de la pharmacie, de l’art dentaire et de l’art vétérinaire / dir. par J. Poulet, J.–C. Sournia, M. Martiny. T. VI. Paris: Albin Michel–Robert Laffont–Tchou, 1979. P. 202–226.
(обратно)94
Mouret A. Essor et déclin d’un modèle de prévention. Le radiodépistage pulmonaire systématique en France (1897–1984) // Culture technique. 1985. No. 15. P. 260–273.
(обратно)95
Bariéty М., Coury C. Le rendement médical de primodépistage radiologique systématique de la tuberculose pulmonaire // Semaine des hôpitaux. 6 décembre 1950. P. 4649–4659.
(обратно)96
One Hundred Years of Radioactivity (1896–1996) // Seminars in Nuclear Medicine. No. 26,1996.
(обратно)97
Planiol T. La médecine nucléaire: souvenirs d’une longue histoire // Journal de médecine nucléaire et de biophysique. 1990. No. 14. P. 3–5.
(обратно)98
От scintiller (фр.) — блестеть, мерцать, искриться.
(обратно)99
Но никто не знает о других показаниях, при которых назначается это обследование, например в целях выявления множественных переломов у детей, с которыми жестоко обращались!
(обратно)100
Ricoeur P., Changeux J.–P. La Nature et la Règle. Paris: Éd. du Seuil, 1998. P. 31.
(обратно)101
Эта камера излучает позитроны, положительные электроны, являющиеся античастицами по отношению к электронам. При встрече с электронами в теле они рассеиваются, превращаясь в противоположно направленные фотоны, которые способна отслеживать классическая аппаратура.
(обратно)102
Koch E. B. In the Image of Science? Negotiating the Development of Diagnostic Ultrasound in the Cultures of Surgery and Radiology // Technology and Culture. 1993. No. 34. P. 858.
(обратно)103
В 2015 году политика «Одна семья — один ребенок» была в Китае отменена. — Прим. ред.
(обратно)104
Речь идет о французском слове «fœtus». — Прим. перев.
(обратно)105
Barbara Duden. Visualizing «Life» // Science as Culture. 1989. No. 3. P. 562–599.
(обратно)106
Iacub M. Penser les droits de la naissance. Paris: PUF, 2002.
(обратно)107
По решению Высшего апелляционного суда Франции умственно отсталый мальчик получил денежную компенсацию за то, что его мать в свое время не сделала аборт. — Прим. перев.
(обратно)108
Durif C. Résistances de la population a l’information médicale. Cancer du sein, 20 ans de progrès. Paris: Publications médicales internationales, 1994. P. 19.
(обратно)109
Valéry P. Séance inaugurale du Congrès national de chirurgie. 17 octobre 1938.
(обратно)110
Marescaux J. Mutter D. Télémédecine // Dictionnaire de la pensée médicale. P. 1122–1126.
(обратно)111
Meneghelli V., Macchi C., Lupi G., Pierazzoli F. Dal tavolo anatomico all’anatomia per immagini // Medicina nei secoli. 1997. No. 9. P. 121–139.
(обратно)112
Thouvenin D. Le Secret médical et l’Information du malade. Lyon: Presses universitaires de Lyon, 1982.
(обратно)113
Anzieu D. Le Moi–peau. Paris: Dunod, 1985.
(обратно)114
Corbin J., Strauss A. Accompaniments of Chronic Illness: Changes in Body, Self, Biography and Biographical Times // Research and Sociology of Health Care. 1987. No. 6. P. 249–281.
(обратно)115
Aziza–Shuster É. Le Médecin de soi–même. Paris: PUF, 1972.
(обратно)116
Цит. по: Auffray Ch. Le Génome humain. Paris: Flammarion, 1996. P. 111.
(обратно)117
Эти группы были описаны Полом Рабиновым в кн.: Le Déchiffrage du génome. L’anventure française. Paris: Odile Jacob, 2000.
(обратно)118
См.: Canguilhem G. Le tout et la partie dans la pensée biologique // Études d’histoire et de philosophie des sciences concernant le vivant et la vie. Paris: Vrin, 1994.
(обратно)119
Ср.: «Три миллиона генетических последовательностей можно уместить на один CD; можно будет достать его из кармана и сказать: «Смотрите, это человек, это я!» (Gilbert W. Vision of the Grail // Kevles D. J., Hood L. The Code of Codes, Scientific and Social Issues in the Human Genome Project. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1992. P. 84).
(обратно)120
Живой театр (англ.). — Прим. ред.
(обратно)121
См.: Fox–Keller E. Le Siècle du gène. Paris: Gallimard, 2002.
(обратно)122
См.: Jacob F. La Logique du vivant, Une histoire de l’hérédité. Paris: Gallimard, 1970.
(обратно)123
Ср.: «На вопрос о том, сколько генов необходимо, чтобы создать бактериофаг, или бактерию, или муху, или мышь, нет ответа» (Brenner S. The End of the Beginning // Science. Vol. 287. P. 2173). Поэтому Бреннер предлагает заменить слово «ген» словосочетанием «генетический локус».
(обратно)124
См.: Prochiantz A. Les Stratégies de l’embryon. Paris: PUF, 1988.
(обратно)125
См. Jacob F. La Souris, la Mouche et l’Homme. Paris: Odile Jacob, 1997.
(обратно)126
Эстетические и политические аспекты создания трансгенных животных были отражены в кн.: Haraway D. J. Modest_Witness@Second_Millenium.FemaleMan©_Meets_OncoMouse ™. N.Y.: Routledge, 1997.
(обратно)127
Morange M. La Part des gènes. Paris: Odile Jacob, 1998. P. 61ff.
(обратно)128
Maladie de Huntington. Journal d’une victorire // Libération. 30 nov. 2000. P. 7.
(обратно)129
См.: Wexler A. Mapping Fate. A Memoir of Family, Risk and Genetic Research. Berkeley: University of California Press, 1996.
(обратно)130
См.: Moulin A. M. Le Dernier Langage de la médecine. Histoire de l’immunologie de Pasteur au sida. Paris: PUF, 1991.
(обратно)131
Barataud B. Au nom de nos enfants. Paris: Éditions no. 1,1992. P. 9.
(обратно)132
См.: Callon M., Rabehariosa V. Le Pouvoir des malades. L’Association française contre les myopathies et la recherche. Paris: Presses de l’École des mines, 1999.
(обратно)133
См.: Delaporte F., Pinell P. Histoire des myopathies. Paris: Payot, 1998.
(обратно)134
От orphan — «сирота». — Прим. ред.
(обратно)135
Ср.: «Выставление себя напоказ в форме нарративного упражнения или физического обнажения (хотя одно не исключает другого) является одной из современных форм управления. <…> Больное или страдающее тело получает своего рода общественное признание в последней инстанции в ситуации, когда все остальные основания для легитимности были истощены» (Fassin D. Le corps exposé. Essai d’économie morale de l’illégitimité // Fassin D., Memmi D. Le Gouvernement des corps. Paris: EHESS, 2004. P. 240).
(обратно)136
Cohen D. Les Gènes de l’espoir. À la découverte du génome humain. Paris: Robert Laffont, 1993. P. 19.
(обратно)137
Barataud B. Au nom… P. 9.
(обратно)138
См. Nouvel P. La thérapie génique // Debru C., Nouvel P. Le Possible et les Biotechnologies. Paris: PUF, 2003.
(обратно)139
В 2006 году Уилмут признался, что главная роль в клонировании Долли принадлежала его коллеге Киту Кэмпбеллу. — Прим. ред.
(обратно)140
См.: Rabinow P. Artificially and enlightenment: from sociobiology to biosociality // Essays on the Anthropology of Reason. Princeton (New Jersey): Princeton University Press, 1994.
(обратно)141
См.: Dawkins R. Le Gène égoïste. Paris: Odile Jacob, 1996 (рус. пер.: Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: ACT; Corpus, 2013. Первое изд.: Dawkins R. The Selfish Gene. Oxford: Oxfrod University Press, 1976).
(обратно)142
См.: Castel R. La Gestion des risques: de l’anti-psychiatrie à l’apres-psychanalyse. Paris: Éd. de Minuit, 1981.
(обратно)143
Ср.: «Правила поведения, которым должен следовать человек и совокупность которых обычно носит название „превентивной” медицины, являются проявлением определенной философии и требуют от тех, кто им следует, определенного отношения к жизни, и в первую очередь — к времени. Превентивная медицина требует от социальных субъектов принятия рационального отношения к болезни, которая оказывается встроена в виде возможности в человеческую жизнь и которая при этом может быть поставлена под контроль или преодолена» (Boltanski L. Les usages sociaux du corps // Annales E.SC. 1971. Vol. 26. No. 1. P. 221).
(обратно)144
См.: Lock M. The Alienation of Body Tissue and the Biopolitics of Immortalized Cell Lines // Commodifying Bodies / ed. by N. Scheper–Hughes, L. Wacquant. London: SAGE Publications, 2002. P. 63–91 (перепечатка из Body and Society. 2001. Vol. 7. No. 2–3).
(обратно)145
Pâlsson G., Rabinow P. Iceland: the Case of a National Human Genome Project // Anthropology Today. Vol. 15. No. 5. P. 14–18.
(обратно)146
Crignon–De Oliveira C., Gaille–Nikodimow M. À qui appartient le corps humain? Médecine, politique et droit. Paris: Les Belles Lettres, 2004.
(обратно)147
См.: Hermitte M.–A., Edelman B. L’Homme, la Nature et le Droit. Paris: Christian Bourgois, 1998.
(обратно)148
См.: Rabinow P. Severing the Ties. Fragmentation and Redemption in Late Modernity // Essays on the Anthropology of Reason… P. 129–152.
(обратно)149
Baud J.–P. LAffaire de la main volée: une histoire juridique du corps. Paris: Éd. du Seuil. 1993. P. 20.
(обратно)150
Memmi D. Les Gardiens du corps: dix and de magistère bioéthique. Paris: EHESS, 1996. P. 18.
(обратно)151
Bellivier F., Boudouard–Brunet L. Les ressources génétiques et le concept juridique de patrimoine // Le Droit saisi par la biologie: des juristes au laboratoire / ed. par C. Labrusse–Rious. Paris: LGDJ, 1996.
(обратно)152
См.: Ost F. La Nature hors la loi: l’écologie à l’épreuve du droit. Paris: La Découverte, 1995.
(обратно)153
См.: Mauss M. Une catégorie de l’esprit humain: la notion de personne, celle de moi // Sociologie et anthropologie. Paris: PUF, 1950 (рус. пер.: Мосс М. Об одной категории человеческого духа: понятие личности, понятие «я» // Мосс М. Общества. Обмен. Личность: Труды по социальной антропологии. М.: Восточная литература, 1996. С. 264–292). Подобная концепция была предложена Ж.–К. Каллу в «Опыте определения юридического положения генетического материала»: «Генетический материал создает маску, на основе которой общество и право определяет индивида; это не маска, состоящая из семейных черт, подверженных капризам времени, но стабильная маска, внутренний отпечаток, точный и неизменяемый» (Calloux J.–C. Essai de définition d’un statut juridique sur le matériel génétique. Thèse. Bordeaux, 1988. P. 54). Возможно, однако, поставить под сомнение «стабильный» характер этой маски. См.: Thomas Y. Le sujet de droit, la personne et la nature. Sur la critique contemporaine du sujet de droit // Le Débat. No. 100. Maie–août 1998. P. 85–107.
(обратно)154
Итал. «far niente» — «ничегонеделание». — Прим. перев.
(обратно)155
См., среди прочего: Gabriel Désert. La Vie quotidienne sur les plages normandes du second Empire aux Années folles. Paris: Hachette, 1983, a также: Jean–Didier Urbain. Sur la plage. Moeurs et coutumes balnéaires, XIX–XXe siècle. Paris: Payot, 1994.
(обратно)156
Boltanski L. Les usages sociaux du corps // Annales E. S. C. 1971. Vol. 26. No. 1.
(обратно)157
Kaufmann J.–C. Corps de femmes, regards d’hommes. Sociologie des seins nus. Paris: Nathan, 1995.
(обратно)158
Само слово «секс» появилось в языке не ранее 1830 года.
(обратно)159
Stora–Lamarre A. L’Enfer de la IIIe République. Censeurs et pornographes, 1881–1914. Paris: Imago, 1989; Kraakman D. Pornography in Western European culture // Sexual Cultures in Europe. Themes in Sexuality (1700–1996) / ed. by F. X. Eder, L. A. Hall, G. Hekma. Manchester: Manchester University Press, 1999.
(обратно)160
Роман был опубликован писательницей Марайей Ролле–Андриан под псевдонимом Эммануэль Арсан в 1959 году. — Прим. перев.
(обратно)161
Уилл Хейс (1879–1954) был первым президентом американской Ассоциации производителей и прокатчиков кинофильмов (The Motion Picture Producers and Distributors of America, Inc.), которая подготовила «Кодекс производства звуковых и немых кинофильмов». Он получил название «Кодекс Хейса» и действовал с 1934 по 1966 год. — Прим. перев.
(обратно)162
В начале 1970‑х годов немецкий режиссер Эрнст Хофбауэр (1925–1984) снял целую серию фильмов под названием «Доклад о школьницах», где в жанре «легкого порно» рассказывалось о подростковом либидо. В свое время фильмы снискали широкую популярность. — Прим. перев.
(обратно)163
Этот эротический фильм был снят режиссером Жюстом Жакеном по одноименному роману «Эммануэль» в 1974 году. — Прим. перев.
(обратно)164
Baudry P. La Pornographie et ses Images. Paris: Armand Colin, 1997. Baudry P. Le spectacle de la pornographie // Ethnologie française. 1996. No. 2.
(обратно)165
В 2015 году Playboy объявил, что перестает печатать фотографии обнаженных женщин, объяснив этот шаг бессмысленностью конкуренции с порнографией в Интернете. — Прим. ред.
(обратно)166
Bas F., Germa A. Montrez ce sexe que l’on ne saurait voir. Le cinéma français i l’épreuve du sexe (1992–2002) // Le Temps des médias. Automne 2003. No. 1.
(обратно)167
См.: Foucault M. Histoire de la sexualité. T. I, La Volonté de savoir. Paris: Gallimard, 1976; a также: Corbin A. La rencontre des corps // Histoire du corps / dir. par A. Corbin, J.–J. Courtine, G. Vigarello. T. II. De la Révolution a la Grande Guerre. Paris: Éd. du Seuil, 2005 (рус. пер.: Kopбен A. Тела встречаются // История тела: В 3 т. / под ред. А. Корбена, Ж.–Ж. Куртина, Ж. Вигарелло. Т. 2: От Великой французской революции до Первой мировой войны / Пер. с фр. О. Аверьянова. М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 119–176).
(обратно)168
Но есть и некоторые исключения, о чем свидетельствуют ранние работы Огюста–Амбруаза Тардье, посвященные преступлениям против нравственности и абортам. См.: Tardieu А. Étude médico–légale sur les attentats aux moeurs. Paris: J.–B. Baillière, 1857 (переизд.: Les Attentats aux moeurs, avec une préface de Georges Vigarello. Grenoble: Jérôme Millon, 1995).
(обратно)169
Работа Крафт–Эбинга была переведена на французский язык только в 1931 году и вышла с предисловием Пьера Жане. Труд Хэвлока Эллиса публиковался с 1904 года в Mercure de France. Магнус Хиршфельд, который начиная с 1896 года опубликовал более тридцати книг, увидел первый перевод своих работ на французский лишь в 1908 году: Les Homosexuels de Berlin. Le troisième sexe (переизд.: Lille: Association Gai–Kitsch–Camp, 1990). На эту тему см. статью А. Корбена «Тела встречаются» во втором томе «Истории тела».
(обратно)170
Письма, полученные Марией Стопе (60 папок), а также ее ответы и заметки к письмам хранятся в Институте истории медицины (Уэлком, Великобритания). Они были использованы в исследовании о мужской сексуальности: Hall L. A. Hidden Anxieties. Male Sexuality, 1900-1950. Cambridge: Polity Press, 1991.
(обратно)171
Wanrooij B. P. F. Storia del pudore. La questione sessuale in Italia, 1860–1940. Venise, Marsilio, 1990.
(обратно)172
В 1867 году английский термин «sexology» впервые был использован в работе: Willard E. O. G. Sexology as the Philosophy of Life. Chicago: J. Walsh, 1867. См.: Béjin A. Le nouveau Tempérament sexuel. Essai sur la rationalisation et la démocratisation de la sexualité. Paris: Kimé, 1990.
(обратно)173
Laqueur T. La Fabrique du sexe. Essai sur le corps et le genre en Occident. Paris: Gallimard, 1992.
(обратно)174
Книга «Функция оргазма», опубликованная в 1942 году, стала доступна на французском лишь в 1970 году.
(обратно)175
См.: Brenot P. La Sexologie. Paris: PUF, 1994; Béjin A. Op. cit.; a также: Giami A. De Kinsey au sida: l’évolution de la construction du comportement sexuel dans les enquêtes quantitatives // Sciences sociales et santé. 1991. No. 4. Numéro spécial: Sexualité et santé.
(обратно)176
В отличие от первых работ по сексологии, эти книги были быстро переведены на французский язык. «Сексуальное поведение самца человека» было переведено в год публикации, в 1948 году, и вышло в издательстве Éditions du Pavois. «Сексуальное поведение самки человека» было опубликовано во Франции в 1954 году в издательстве Éditions du Livre contemporain. О восприятии книги во Франции см.: Chaperon S. Kinsey: les sexualités féminine et masculine en débat // Le Mouvement social. Janvier–mars 2002. No. 198. Numéro spécial: Féminin/masculin.
(обратно)177
В некоторых штатах половое сношение, после которого не последовало брака, наказывалось двадцатью годами тюрьмы.
(обратно)178
Измена считалась правонарушением во всех, за исключением четырех, штатах.
(обратно)179
У женщин показатели не столь высокие: от 6 до 14% имели гомосексуальную связь.
(обратно)180
Rapport Simon sur le comportement sexuel des Français. Paris: P. Charra et R. Julliard, 1972.
(обратно)181
Masters W. Johnson V. Les Réactions sexuelles. Paris: Robert Laffont, 1967, a также: Masters W., Johnson V. Les Mésententes sexuelles et leur Traitement. Paris: Robert Laffont, 1971.
(обратно)182
Giami A., Colomby P. de. Profession sexologue? // Sociétés contemporaines. 2001. No. 41–42. Numéro spécial: Les Cadres sociaux de la sexualité. B 1999 году авторы провели опрос среди 1000 сексологов.
(обратно)183
Доктор Меньян, помимо прочего, участвовал в переводе трудов Мастерса и Джонсон.
(обратно)184
Cardon D. Droit au plaisir et devoir d’orgasme dans l’émission de Menie Grégoire // Le Temps des médias. Automne 2003. No. 1.
(обратно)185
Giami A. La médicalisation de la société. Aspects sociologiques et historiques // Andrologie. 1998. No. 4; Giami A. Médicalisation de la sexualité et médicalisation de la société // Progrès thérapeutiques. La médicalisation de la sexualité en question / dir. par A. Jardin, P. Queneau, F. Giulano. Paris: John Libbey Eurotext, 2000.
(обратно)186
См.: Gardey D., Lôwy I. L’Invention du naturel. Les sciences et la fabrication du féminin et du masculin. Paris: Éd. des Archives contemporaines, 2000.
(обратно)187
Gonzalès J. Histoire naturelle et artificielle de la procréation. Paris: Bordas, 1996.
(обратно)188
О беременности и УЗИ см. статью Анны Марии Мулен в части I настоящего издания.
(обратно)189
См.: Clio. 1999. No. 10. Numéro spécial: Femmes travesties. Un «mauvais genre»?; Chilard C. Changer de sexe. Paris: Odile Jacob, 1997; Mercader P. L’Illusion transsexuelle. Paris: L’Harmattan, 1994; Castel P.–H. La Métamorphose impensable. Essai sur le transsexualisme et l’identité personnelle. Paris: Gallimard, 2003. В последней работе предлагается практически исчерпывающая библиография и хронология по теме.
(обратно)190
Первые операции по фаллопластике проводились в 1916 году британским военным врачом среди увечных солдат.
(обратно)191
Половые гормоны также использовались в межвоенный период для лечения психических заболеваний и гомосексуальности. Женские контрацептивы используются и для того, чтобы сделать транссексуалов более женственными.
(обратно)192
Coccinelle (франц.) — божья коровка. — Прим. перев.
(обратно)193
Bajos N., Bozon M. La sexualité à l’épreuve de la médicalisation: le Viagra // Actes de la recherche en sciences sociales. Juin 1999; a также: Bozon M. Sociologie de la sexualité. Paris: Nathan, 2002.
(обратно)194
Письмо, s.d. (между 1899 и 1903), написанное замужней женщиной, давней прихожанкой Церкви Доброго Пастыря в Нанси; письмо хранится в архиве епархии (Archives départementales, Meurthe–et–Moselle, 50JI 65 / 32). Оно было любезно предоставлено нам Лорансом Давидом, автором дипломного сочинения о Добром Пастыре (université Paris 1,1994).
(обратно)195
О флирте, в том числе применительно к Франции, см.: Sohn. А.–М. Âge tendre et tête de bois. Histoire des jeunes des années 1960. Paris: Hachette, 2001; a также: Casta–Rosaz F. Histoire du flirt. Paris: Grasset, 2000.
(обратно)196
Тиссо С.–А. (1728–1797) — французский врач, практиковавший в Лозанне и снискавший известность своей диссертацией, в русском переводе озаглавленной как «Онанизм, или Разсуждение о болезнях, произходящих от противуестественнаго семяниизвержения» («L’onanisme ou dissertation sur les maladies produites par la masturbation»). — Прим. перев.
(обратно)197
Dictionnaire Larousse de 1924, cité par Jean Stengers et Anne Van Neck. Histoire d’une grande peur, la masturbation. Bruxelles: Université de Bruxelles, 1984.
(обратно)198
В 1970 году 73% мужчин и 19% женщин сообщили о том, что занимались мастурбацией. В 1992 году цифры изменились: 84% мужчин и 42% женщин.
(обратно)199
В 1970 году 19% мужчин и 14% женщин пробовали заниматься анальным сексом.
(обратно)200
Bardet J.–P., Dupâquier J. Contraception, les Français, les premiers, pourquoi? // Communications. 1986. No. 44.
(обратно)201
Согласно теории мальтузианства, разработанной в XVIII веке Т. Р. Мальтусом, быстрый рост населения значительно превышает рост производства средств к существованию, что приводит к голоду и другим социальным проблемам. Популяционисты были противниками этой теории и выступали против ограничения рождаемости. — Прим. перев.
(обратно)202
См.: Ronsin F. La Grève des ventres. Propagande néomalthusienne et baisse de la natalité en France, XIXe‑XXe siècle. Paris: Aubier, 1980.
(обратно)203
О ситуации в Англии и контроле над рождаемостью см.: Sohn А.–М. Entre deux guerres, les rôles féminins en France et en Angleterre // dir. par G. Duby, M. Perrot. Histoire des femmes. T. V. Le XXe siècle. Paris: Pion, 1992, a также: McLaren A. Histoire de la contraception. Paris: Noêsis, 1996.
(обратно)204
Stengers J. Les pratiques anticonceptionnelles dans le mariage aux XIXe et XXe siècles // Revue belge de philologie et d’histoire, nos 2 et 4, 1971.
(обратно)205
Согласно сравнению, проведенному между информантами доктора Бертийона (La Dépopulation de la France. Ses conséquences. Ses causes. Mesures a prendre pour la combattre. Paris: F. Alcan, 1911) и на основании данных, которые я собрала для своей диссертации (Chrysalides. Femmes dans la vie privée (XIXe‑XXe siècle). Paris: Publications de la Sorbonne, 1996).
(обратно)206
Годовой доход от продажи спермицидов составляет в 1930‑е годы 250 миллионов долларов.
(обратно)207
Dupâquier J. Combien d’avortements en France avant 1914? // Communications. 1986. No. 44; Sohn A.–M. Op. cit.
(обратно)208
44,1% делавших аборт не замужем, 37% — замужем, 11,2% вдовы, 3,8% разведены, 2,4% живут в гражданском браке. 34,4% живут за городом, 44% в городе с низкой или средней численностью населения 21,6% в большом городе. Эти цифры основаны на данных о 778 абортах, сделанных в период Третьей Республики, в 81,4% случаев — после 1890 года. Об абортах см.: Sohn А.–М. Chrysalides. Р. 828–908.
(обратно)209
Лекарства или растения, вызывающие отслойку эндометрия и сокращение матки, что провоцирует менструальные кровотечения либо выкидыш при беременности. — Прим. перев.
(обратно)210
В 45,1% случаев помощь оказывается профессиональными медиками и в первую очередь (в двух из трех случаев) акушерками; реже — «мастерицами делать ангелочков» (один на три случая) или кем–то из членов семьи (16,4% случаев).
(обратно)211
McLaren A. Sexuality and Social Order. The Debate on the Fertility of Women and Workers. N.Y., London: Homes and Meier, 1983.
(обратно)212
О ходе легализации добровольного прерывания беременности во Франции см.: Mossuz–Lavau J. Les Lois de l’amour. Les politiques de la sexualité en France, 1950–1990. Paris: Payot, 1991.
(обратно)213
О проблеме супружеской измены см.: Sohn А.–М. Chrysalides, а также: Sohn А.–М. The Golden Age of Male Adultery: The Third Republic // Journal of Social History. 1995. Vol. 28. No. 3. P. 469.
(обратно)214
Изначально Уголовный кодекс предполагал для женщины наказание — от трех месяцев до двух лет тюремного заключения.
(обратно)215
Если неверная жена и ее сообщник были застигнуты и убиты на месте преступления, эти обстоятельства считались смягчающими.
(обратно)216
Конечно, количество внебрачных связей увеличивается и от XVIII к XIX веку, о чем косвенно свидетельствует рост числа незаконнорожденных детей: с 1760‑го по 1860‑й их количество увеличилось в пять раз, во Франции 1760–1769 годов их было 1,8%, а в 1860 году — 7%. См.: Sohn А.–М. Concubinage and Illegitimacy // Encyclopedia of European Social History / ed. by Peter N. Stearns. N.Y.: Charles Scribner’s Sons, 2001.
(обратно)217
Цифры взяты из опроса 1972 года, на который ссылается Mossuz–Lavau J. Op. cit.
(обратно)218
Цифры взяты из отчета Rapport Simon sur le comportement sexuel des Français, a также анализа CAnalyse des comportements sexuels en France (ACSF), проводившегося в 1992 году. См.: Bajos N., Bozon М., Ferrand A., Giami A., Spira A. La Sexualité aux temps du sida. Paris: PUF, 1998.
(обратно)219
Les 16–24 ans. Ce qu’ils sont, ce qu’ils pensent d’après une enquête de l’IFOP. Lyon: Centurion, sxL [1961].
(обратно)220
Если порядок незаконных отношений остается одинаковым с 1840 по 1960 год — около 3,4–5,4%, то процент добрачных зачатий более высокий, чем во Франции, он никогда не опускается ниже 16%.
(обратно)221
См.: Sohn A.–M. Âge tendre et tête de bois.
(обратно)222
Delbès C., Gaymu J. L’automne de l’amour. La vie sexuelle après cinquante ans. Population. 1997. No. 6.
(обратно)223
Welzer–Lang D. L’échangisme. Une multisexualité commerciale à forte domination masculine // Sociétés contemporaines. 2001. No. 41–42.
(обратно)224
Tamagne T. Histoire de l’homosexualité en Europe. Berlin, Londres, Paris. 1919–1939. Paris: Éd. du Seuil, 2000, a также: Chauncey G. Gay New York (1890–1940). Paris: Fayard, 2003.
(обратно)225
Блумсберийский кружок — группа английских интеллектуалов, в которую входили среди прочих Вирджиния Вулф, Эдвард Форстер, Джон Кейнс, Бертран Рассел и другие.
(обратно)226
Хотя 20% по–прежнему настаивают, что это извращение.
(обратно)227
18 мая 2013 года во Франции были легализованы однополые браки. — Прим. ред.
(обратно)228
См.: Mathieu L. Le fantasme de la prostituée dans le désir masculin // Panoramiques. 1998. Numéro spécial: Le Coeur, le Sexe, et toi et moi.
(обратно)229
См.: Bourcier M.–T. Des «femmes travesties» aux pratiques transgenres: repenser et queeriser le travestissement // Clio. 1999. No. 10. Numéro spécial: Femmes travesties: un «mauvais genre»?
(обратно)230
Libération. 10 avril 1979. Цит. по: Ambroise–Rendu A.–C. Un siècle de pédophiüe dans la presse // Le Temps des médias. Automne 2003. No. 1.
(обратно)231
Vigarello G. Histoire du viol, XVIe‑XXe siècle. Paris: Éd. du Seuil, 1998.
(обратно)232
Welzer–Lang D., Mathieu L., Faure M. Sexualités et violences en prison. Lyon: Aléas, 1996. Эти авторы были первыми, кто коснулся этой темы во Франции.
(обратно)233
Марк Дютру был арестован в 1996 году в Бельгии, когда в подвале его дома обнаружили похищенных девочек–подростков, позже были найдены трупы других несовершеннолетних девочек. Прокуратура обвинила Дютру в похищении и изнасиловании шести девочек (младшей из которых было восемь лет), а также в убийстве четырех из них. В 2004 году он был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. После дела Марка Дютру в Бельгии было раскрыто еще множество аналогичных преступлений. — Прим. перев.
(обратно)234
Pagès М. Corporéités sexuées: jeux et enjeux // La Dialectique des rapports hommes–femmes / dir. par Thierry Blöss. Paris: PUF, 2001.
(обратно)235
См.: Sohn A. –M. Âge tendre et tête de bois. Ch. V: Les voies sexuées du bonheur. Об Англии см.: Rolland J., Ramaznoglu C., Sharpe S., Thompson R. Le mâle dans la tète. Réputation sexuelle, genre et pouvoir // Mouvements. Mars–avril 2002. Numéro spécial: Sexe. Sous la révolution, les normes.
(обратно)236
Goubert J.–P. La Conquête de l’eau: l’avènement de la santé à l’âge industriel. Paris: Robert Laffont, 1986; Guerrand R.–H. Les Lieux: histoire des commodités. Paris: La Découverte, 1985; Pizon C. Le Service d’eau potable en France de 1850 à 1995. Paris: CNAM, 2000.
(обратно)237
В 1936 году одно из структурных нововведений французского правительства Народного фронта, руководимого Леоном Блюмом, состояло в выделении должности заместителя государственного секретаря по досугу и спорту и в создании «Организации досуга» (формулировка жестко оспаривалась), возникшей из дискуссии между реформистским синдикализмом и Международной организацией труда, подконтрольной Лиге Наций.
(обратно)238
Досуг, свободное время (лат.). — Прим. перев.
(обратно)239
Формулировка предложена в 1962 году социологом и борцом за народное образование Жофром Дюмазедье: Dumazedier J. Vers une civilization du loisir? Paris: Éd. Du Seuil, 1962.
(обратно)240
Latour B. Pasteur: guerre et paix des microbe. Продолжение: Latour B. Irréduction. Paris: La Découverte, 2001. Большое междисциплинарное исследование, проведенное в коммуне Плозеве, подтвердило важность этой революции проточной воды для сельского общества (см. обзор: Burguière A. Bretons de Plozevet. Paris: Flammarion, 1975, и документы самого исследования).
(обратно)241
Во Франции журнал Guérir, появившийся в 1931 году, был монополистом в этой области на протяжении почти двух поколений, пока не закрылся в 1986 году под напором конкуренции со стороны новых средств информации, имеющих отношение к медицинской тематике.
(обратно)242
Drouard С. Mythiques cosmétiques. Paris: Hachette, 2004.
(обратно)243
См. «исследования рынков сбыта» французской косметической продукции в США, проведенные Французским центром внешней торговли в 1987, 1992, 1994 и 2003 годах.
(обратно)244
Deslandres Y. Poiret. Paris: Éd. Du Regard, 1986; Charles–Roux E. Le Temps Chanel. Paris: Chêne/ Grasset, 1979; Gidel H. Coco Chanel. Paris: Flammarion, 1999.
(обратно)245
Само слово «маникюр» появилось лишь в конце XIX века, в рамках процесса профессионализации деятельности, которая до того момента осуществлялась только на дому: эта фундаментальная социоэкономическая тенденция свойственна всей современной эпохе, особенно в том, что касается «телесных ремесел» — от магазинов готового платья до ресторанов.
(обратно)246
Leveau–Fernandez M. Helena Rubinstein. Paris: Flammation, 2003.
(обратно)247
Введение в обиход этого слова и самого средства, произошедшее во французском обществе в 1970‑е годы, стало показателем тенденции, отмечавшейся современниками: английская мода как вектор гигиенической озабоченности.
(обратно)248
Dalle F. L’Aventure L’Oréal. Paris: Odile Jacob, 2001. Об идеологических масштабах вышеупомянутой империи в эпоху ее основателя: Bar–Zohar М. Une histoire sans fard: L’Oréal des années sombres au boycott arabe. Paris: Fayard, 1996.
(обратно)249
Сторонник медицины, учитывающей «темпераменты», Поль Картон ссылается как на Пифагора, так и на Сенеку, борется за графологию, гелиотерапию — и оккультизм.
(обратно)250
Boutet de Monvel A., Bringuier J.–C., Dufresne J., Héraud G. et al. Jean Trémolières. Paris: Société TEST, 1980. Примечательное отличие: сам Картон был близок Леону Блуа.
(обратно)251
Успех того или иного режима питания следует рассматривать в соотношении с социальными ориентирами общества в конкретный момент. Так, «метод Монтиньяка», расцвет которого пришелся на 1990‑е годы (Montignac М. Je mange, dons je maigris. Paris: Artulen, 1987), был адресован в первую очередь двум стратегическим аудиториям: женщинам и «менеджерам» («Как похудеть во время бизнес–ланча?» и т. д.).
(обратно)252
Cassel D. K. The Encyclopaedia of Obesity and Eating Disorders. N.Y.: Facts on File, 1994; A Pan-EU Survey on Consumer Attitudes to Physical Activity, Body Weight and Health. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1999; Bray G. A. An Atlas of Obesity ans Weight Control. Boca Raton: Parthenon, 2002.
(обратно)253
См. работы Наташи Фро о диетологических рубриках в вышеупомянутых журналах.
(обратно)254
См. работы Мариан Дебузи о происхождении — немецком, игривом, для взрослых — куклы, которая, став американской и «детской», начала завоевание мира.
(обратно)255
Об истории манекенщиц: Quick Н. Catwalking. A History of the Fashion Model (фр. пер.: Défilés de mode. Courbevoie: Soline, 1997).
(обратно)256
Romm S. The Changing Face of Beauty. St Louis: Mosby Year Book, 1992; Halken E. Venus Envy: A History of Cosmetic Surgery. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997; Gilman S. L. Making the Body Beautiful: A Cultural History of Aesthetic Surgery. Princeton: Princeton University Press, 1999.
(обратно)257
Miller C.–C. Cosmetic Surgery. The Correction of Featural Imperfection. Chicago: Oak Printing Co, 1907.
(обратно)258
Goffman E. La Mise en scène de la vie quotidienne. T. I. La Présentation de soi. T. II. Les Relations avec le public. Paris: Éd. De Minuit, 1973.
(обратно)259
Benjamin W. L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. Paris: Allia, 2003.
(обратно)260
Le Film de famille: usage privé, usage public / dir. par R. Odin. Paris: Méridiens–Klincksieck, 1995; Le Cinéma en amateur / dir. par R. Odin. Paris: Éd. du Seuil, 1999.
(обратно)261
Эту эволюцию имеет смысл связать с гипотезами Мишеля Фуко (1970‑е) и Томаса Лакера (1990‑е).
(обратно)262
Studeny C. L’Invention de la vitesse. Paris: Gallimard, 1995.
(обратно)263
Courtine J.–J., Haroche C. Histoire du visage: exprimer et taire ses émotions du XVIe au début du XIXe siècle. Paris: Rivahes, 1988.
(обратно)264
Культура хипстеров конца 2000‑х — начала 2010‑х годов вернула в западное общество моду на бороду. — Прим. ред.
(обратно)265
Vigarello G. Le Propre et le Sale: l’hygiène du corps depuis le Moyen Âge. Paris: Éd. du Seuil, 1987.
(обратно)266
Corbin A. Le Miasme et la Jonquille: l’odorat et l’imaginaire social, XVIIIe‑XIXe siècle. Paris: Aubier, 1982.
(обратно)267
Ory P. L’invention du bronzage // Autrement. 1987. No. 97. P. 146–152.
(обратно)268
Magdeleine P. de La. Les Dangers de quelques modes actuelles. Nice: Chez l’auteur, 1949.
(обратно)269
Marie–Claire. 17 sept. 1937.
(обратно)270
Toepfer K. Empire of Ecstasy: Nudity and Movement in German Body Culture, 1910–1935. Berkeley: University of California Press, 1997; Baubérot A. Histoire du naturisme. Le myth du retour à la nature. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2004.
(обратно)271
Breton D. Le. Signes d’identité: tatouages, piercings et autres marques corporelles. Paris: Métailié, 2002; Zbinden V. Piercing: rites ethniques, pratique moderne. Paris: Favre, 1997; Gilbert S. Tatoo History: A Source Book… N.Y.: Juno Books, 2000.
(обратно)272
Автор ошибается: журнал появился через два года, в 1977 году. — Прим. ред.
(обратно)273
Ben Ytzhak L. Petite histoire du maquillage. Paris: Stock, 2000.
(обратно)274
Amiot P. Coiffeur: histoire, publicités, traditions, collections. Dinan: P. Amiot, 1992; Gerbod P. Histoire de la coiffure et des coiffeurs. Paris: Larousse, 1995.
(обратно)275
Jones D. Haircuts: Forty Years of Style and Cuts (фр. пер.: Coupes et looks: 50 ans de cheveaux passes au peigne fin. Paris: Robert Laffont, 1990). О парикмахере, олицетворяющем 1960‑е годы, см.: Sassoon V. Vidal Sassoon: art, coiffure et liberté. Paris: Plume / Calmann–Lévy, 1992.
(обратно)276
О женском белье см.: Simon М. Les Dessous. Paris: Éd. du Chêne, 1998.
(обратно)277
Фест–ноз (букв, «ночной праздник») — традиционный бретонский танцевальный фестиваль, сопровождаемый пением и инструментальной музыкой. — Прим. перев.
(обратно)278
Malnig J. Dancing till Dawn: A Century of Exhibition Ballroom Dance. N.Y.; London: Greenwood Press, 1992; Danses «latines» et identités, d’une rive à l’aitre / dir. par É. Dorier–Apprill Paris: L’Harnattan, 2000.
(обратно)279
Анаис Флеше и Софи Жакото исследуют восприятие «экзотических» танцев во Франции в период между двумя войнами.
(обратно)280
Ордалии — в средневековом праве способ выяснения правоты или виновности истца и ответчика путем «суда Божьего» (испытание огнем, водой и т. п.). — Прим. перев.
(обратно)281
Breton D. Le. Passion du risque. Paris: Métailié, 1991; Breton D. Le. Conduites à risque: des jeux de mort au jeu de vivre. Paris: PUF, 2002.
(обратно)282
Courtine J.–J. Les stakhanovistes du narcissisme. Body–building et puritanisme ostentoire dans la culture américaine du corps // Communications. 1993. No. 56. P. 225–251.
(обратно)283
Появление термина «биометрия» свидетельствует об этой эволюции. Но его необходимо рассматривать в контексте долгой истории идентификации индивидов — или «субъектов», во всех смыслах этого слова. Вспомним, что возник он еще раньше бертильонажа.
(обратно)284
Le Taylorisme / dir. par M. de Montmollin, O. Pastré. Paris: La Découverte, 1984. Взлет тейлористсткой модели в Западной Европе пришелся на 1920‑е годы (во Франции сочинение Анри Ле Шателье «Наука и промышленность» было издано в 1925 году).
(обратно)285
См. «эссе о контролируемой биосоциологии» Полетт Бернеж: Bernège P. Explication, essai de biosociologie dirigée. Toulouse: Didier, 1943. Отметим, что с 1918 года работа Кристин Фредерик (Frederick С. La Tenue scientifique de la maison. Paris: H. Dunod, E. Pinat) издается с предисловием Анри Ле Шателье. О культурной истории электробытовой техники см.: Delaunay Q. Société industrielle et travail domestique: l’éléctroménager en France, XIX'-XX' siècle. Paris: L’Harmattan, 2003.
(обратно)286
Относительно вопросов эпистемологического характера см.: Le Travail domestique: essai de quantification. Paris: INSEE, 1981. Устные свидетельства см. в: Doan D. et al. Des femmes dans la maison: anatomie de la vie domestique. Paris: Nathan, 1981.
(обратно)287
См.: Cowan R. S. More Work for Mother: The Ironies of Household Technology from the Open Hearth to the Microwave. N.Y.: Basic Books, 1983.
(обратно)288
Аксидентология — наука об авариях, их причинах, последствиях и предотвращении. — Прим. перев.
(обратно)289
Valentin M. Travail des hommes et savants oubliés: histoire de la médecine du travail, de la sécurité et de l’ergonomie. Paris: Docis, 1978; Boisselier J. Naissance et évolution de l’idée de prévention des risques professionnels. Paris: Institut national de recherche et de sécurité, 2004.
(обратно)290
О восприятии в Веймарской Германии см.: Raehlmann I. Interdisziplinâre Arbeitswissenschaft in der Weimarer Republik. Opladen: West–deutscher Verlag, 1988. О техническом и экономическом аспектах истории понятия «дизайн», в их столкновении с эстетической точкой зрения, см.: Razman D. S. A History of Modern Design: Graphics and Products since the Industrial Revolution. London: Laurence King, 2003.
(обратно)291
Жан–Морис Лаи, руководитель лаборатории экспериментальной психологии в Высшей практической школе, где с 1922 года экспериментальная психология превозносилась как «основа профессиональной ориентации» (Медицинский бюллетень, 24–27 мая 1922 года), в 1916 году издал новаторское сочинение: Lahy J.–M. Le Système Taylor et la Physiologie du travail professionnel. Paris: Masson.
(обратно)292
Lhermitte J. L’Image de notre corps. Paris: Éd. de la Nouvelle Revue crituque, 1939.
(обратно)293
«История с большой буквы» — игра на фонетическом совпадении: восьмая буква французского алфавита Н и существительное hache (топор) произносятся одинаково. «L’Histoire avec sa grande hache» можно перевести как «История с большим топором». — Прим. перев.
(обратно)294
Относительно междисциплинарного изучения см. исследования, собранные Мишелем Порре в издании: Porret М. Le Corps violenté: du geste à la parole. Genève: Droz, 1998.
(обратно)295
Davidenkoff E., Junghans P. Du bizutage, des grandes écoles et de l’élite. Paris: Pion, 1993; Corbière M. Le Bizutage dans les écoles d’ingénieurs. Paris: L’Harmattan, 2003; Randall P. Bullying in Adulthood: Assessing the Bullies and their Victims. Hove / N.Y.: Brunner–Routledge, 2001; Elias M. J., Zins J. E. Bullyng, Harassment and Victimization in the Schools: the Next Generation of Prevention. N.Y.: The Haworth Press, 2003.
(обратно)296
Vigarello G. Histoire du viol, XVIe‑XXe siècle. Paris: Éd. du Seuil, 2000.
(обратно)297
Lasch С. The Culture of Natcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. N.Y.: W. W. Norton, 1979. Второе фр. изд.: La Culture du narcissisme: la vie américaine à un âge de déclin des espérance. Castelnau–le–Lez: Climats, 2000.
(обратно)298
К созданному в середине XIX века понятию «алкоголизм» уже к 1891 году присоединилось понятие «табагизм» (злоупотребление курением). См.: Nourrisson D. Le Tabac en son temps: de la séduction à la répulsion. Rennes: ENSP, 1999; Gately I. Tobacco: A Cultural History of How an Exotic Plant Seduced Civilization. N.Y.: Grove Press, 2001.
(обратно)299
Игра слов: l’entraînement значит одновременно «тренировка» и «приведение в движение, привод». — Прим. перев.
(обратно)300
Le Véloce–Sport. 1885. P. 57.
(обратно)301
Hébert G. Leçon–type d’entraînement. Paris: Vuibert, 1913. P. 1.
(обратно)302
Moll–Weiss A. Le Livre du foyer. Paris: Armand Colin, 1910. P. 390.
(обратно)303
См.: Travaillot Y., Tabory M. Histoire de l’éducation physique: genèse d’une discipline scolaire. 2002. P. 91.
(обратно)304
Hébert G. Op. cit. P. 1.
(обратно)305
Desbonnet G. Comment on devient arhlète. Paris: Berger–Levrault, 1911. P. 36.
(обратно)306
Coubertin P. de. Amélioration et développement de l’éducation physique, Rapport présenté à S.E.M. le Ministre de l’Instruction publique. Lausanne, 1915 / éd. par Müller N., Scantz O. Textes choisis. T. III. Zurich: Weidman, 1986. P. 418.
(обратно)307
Laisné N.–A. Dictionnaire de gymnastique. Paris: Picard–Bernheim, 1882. P. 56. См. также: Pearson N. Dictionnaire du sport français. Paris: O. Lorenz, 1872: «Слово „entraînement” (тренировка) применимо исключительно к скаковым лошадям» (Р. 254).
(обратно)308
Tissié P. La Fatique et l’Entraînement physique. Paris: Alcan, 1897. P. 3.
(обратно)309
Hébert G. Le Code de la force. Paris: L. Laveur, 1911. P. 53.
(обратно)310
См.: Les Athlètes des la République. Gymnastique, sport et idéologie républicaine, 1870–1914 / dir. par P. Arnaud. Toulousse: Privât, 1987. См. также: Vigarello G. Le gymnaste ou le sportif? // Histoire du corps. T. II. P. 372–373 (рус. изд.: Вигарелло Ж. Гимнаст или спортсмен? // История тела: В 3 т. Т. 2. С. 307–311).
(обратно)311
См.: Garrigou A. La naissance du mouvement associatif sportif sous la IIIe République en Dordogne // La Naissance du mouvement sportif associatif en France / dir. par P. Arnaud, J. Camy. Lyon: Presse universitaires de Lyon, 1986. P. 248.
(обратно)312
Ibid.
(обратно)313
Об этом см.: Thiesse A.–M. Organisation des loisirs des travailleurs et temps dérobés (1880–1930) Il LAvènement des loisirs / dir. par Corbin A. Paris: Aubier, 1995.
(обратно)314
См.: Roy G. Le. Éducation physique gymnastique. Paris: P. Lafitte, 1914. P. 361.
(обратно)315
См.: Chovaux O. Origine et enracinement du football–association dans le Pas–de–Calais (fin XIXe‑1914) // Revue du Nord. Avril–juin 2004. Vol. 86. P. 346. См. также: Tichit Ph. Politiques sportives municipales. Genèse, structuration et enjeux, 1900–1980 // Le Sport dans la ville / dir. par J.–F. Loudcher, Ch. Vivier. Paris: L’Harmattan, 1998.
(обратно)316
Fabens R. Les Sports pour tous. Paris: Armand Colin, 1905. P. 27.
(обратно)317
Annuaire général des sports illustré (commerce et industries sportives). Paris, 1904–1905.
(обратно)318
Agathon [псевдоним: Tardes A. de, Massis H.]. Les Jeunes Gens d’aujourd’hui. Le goût de l’action. La foi patriotique. Une renaissance catholique, Le réalisme politique. Paris: Plon–Nourrit et Cie, 1913.
(обратно)319
См.: Weber E. La Fin des terroirs. La modernisation de la France rurale, 1870–1914. Paris: Fayard, 1983. P. 337, 499.
(обратно)320
Coubertin P. de. L’apport de la VII' olympiade // La Revue sportive illustrée. 1920.
(обратно)321
См.: Rauch A. La notion de training // Études et recherches. Annales de l’INSEP. 1980.
(обратно)322
Desbonnet E. La Force physique, culture rationnelle. Paris: Berger–Levrault, 1901. P. 67.
(обратно)323
Desbonnet E. Comment on devient athlète. P. 121.
(обратно)324
L’hygiène des sports // Annuaire général des sports illustré. Op. cit. P. 127.
(обратно)325
La Vie au grand air. 14 mars 1914. См. также на эту тему: Les Archivés du football: sport et société en France, 1880–1980 / dir. par A. Wahl. Paris: Gallimard, 1989. P. 140–141.
(обратно)326
Parmi les athlètes // L’Illustration. 20 septembre 1913.
(обратно)327
См.: Modèles des leçons d’éducation physique («Образовые модели проведения уроков по физическому воспитанию») // Congrès international de l’éducation physique. Paris. 17–20 mars 1913. Paris: J.–B. Baillière, 1913. T. III. P. 299 sq.
(обратно)328
Coubertin P. de. Amélioration et développement de l’éducation physique. T. III. P. 417.
(обратно)329
См.: Defrance J. L’Excellence corporelle. La formation des activités physiques et sportives modernes, 1770–1914. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 1987. P. 135. Речь идет о книге: Müller J. P. Mon système, 15 minutes de travail par jour pour la santé. Copenhague: H. Tillge, 1905. См. также данные, указанные в издании: Müller J. P. Le Livre du plein air. Copenhague: H. Tillge, 1909. P. 1.
(обратно)330
Genoé, Comptesse de [псевдоним Pouyollon M.] // Encyclopédie de la vie pratique. Paris: Librairie des Beaux–Arts, 1910. T. II. P. 268–390.
(обратно)331
Fleurigand Ch. Jeux, sports et grands matchs. Paris: Firmin–Didot, 1903. P. 7–8.
(обратно)332
Les Sports modernes illustrés / dir. par P. Moreu, G. Voulquin. Paris: Larousse, 1905. P. 127.
(обратно)333
Rozet G. Défense et illustration de la race française. Paris: Alcan, 1911. P. 95.
(обратно)334
Giffard P., главный редактор Vélo. Цит. по: Marchand J. Pour le Tour de France. Paris: Gonthier, 1967. P. 31.
(обратно)335
Colette. Dans la foule. 1918 // Œuvres complètes. T. IV. Paris: Flammarion, 1949. P. 443.
(обратно)336
Manifeste futuriste, 1913.
(обратно)337
Desgrange H. // L’Auto. 9 juillet 1903.
(обратно)338
Les Sports modernes illustrés. P. 208–216.
(обратно)339
Howard H. C. Earl of Suffolk and Berkshire, Peek H., Aflalo F. G. The Encyclopedia of Sports. T. II. London: Lawrence and Bullen, 1898. P. 371.
(обратно)340
Withington P. The Book of Athletics. Boston: Lothrop, Lee & Shepard Co., 1914. См. «Техника барьерного бега» (P. 189) и «Техника vs ловкость в бейсболе» (Р. 253).
(обратно)341
Bonnefont G. Les Exercices du corps. Paris: Jouvet, 1890. P. 186.
(обратно)342
См.: Marey É.–J. La Machine animale. Paris: G. Baillière, 1873.
(обратно)343
См. «спирометрические опыты», о которых говорится в: Lévy М. Traité d’hygiène publique et privée. Paris: J.–B. Baillière, 1873.
(обратно)344
Прибор для графической регистрации контура грудной клетки в горизонтальной плоскости и его изменении при дыхании. — Прим. перев.
(обратно)345
О последних аппаратах см. в: La préparation physique // La Vie au grand air. Juin 1907. Planche centrale. (Центральная вкладка.)
(обратно)346
Modèles de leçons d’éducation physique et résultats des mensurations sur les élèves ayant suivi les cours et comparaison avec des élèves servant de témoins // Congrès international de l’éducation physique. P. 299.
(обратно)347
Цит. по: Fleurigand C. Op. cit. P. 27.
(обратно)348
Müller J. P. Op. cit. P. 107.
(обратно)349
Coste É. L’Êduction physique en France, ce qu’elle est, ce qu’elle devrait être. Paris: H. Charles–Lavauzelle, 1907. P. 50.
(обратно)350
Moll–Weiss A. Op. cit. P. 390.
(обратно)351
Desbonnet E. La Force physique, culture rationnelle. P. 32.
(обратно)352
Demenÿ G. Bases scientifiques de l’éducation physique. Paris: Alcan, 1902.
(обратно)353
Sigaud C., Vincent L. Les Origines de la maladie: essai sur l’évolution des figures du corps humain. Paris: Maloine, 1910. Тоорис заимствует классификацию Сиго и применяет ее к «физической культуре». См.: Thooris A. Les application de la «morphologie humaine» à l’éducation physique // Congrès international de l’éducation physique. T. III. P. 132.
(обратно)354
См.: Mérillon D. Concours internationaux d’exercices physiques et de sports. Rapports. Paris, 1902. T. II. Section XIII. «Comité d’hygiène et de physiologie». P. 387.
(обратно)355
Retterer É. Anatomie et physiologie animales. Paris: Hachette, 1896. P. 235.
(обратно)356
Lagrange F. Physiologie des exercices du corps. Paris: Alcan, 1888. P. 19.
(обратно)357
Demenÿ G. Bases scientifiques. Op. cit. P. 258.
(обратно)358
Tissié P. L’esprit clinique en éducation physique // Congrès international de l’éducation physique. Op. cit. P. 66.
(обратно)359
Amar J. Le Travail humain. Paris: Pion; Nourrit et Cie, 1923.
(обратно)360
Rauh F., Allonnes G. R. d’. Phychologie appliquée à la morale et i l’éducation. Paris: Éducation de la volonté, 1900. P. 303.
(обратно)361
Gebhardt W. L’Attitude qui en impose et comment l’aquérir. Paris: Librairie de nouveautés médicales, 1900.
(обратно)362
Loti P., предисловие к книге: Desbonnet E. Comment on devient athlète. P. X.
(обратно)363
«Sandow’s anatomical chart» («Анатомическая хартия Сандоу»), см.: Sandow Е. Strength and How to Obtain It. London: Gale & Polden, 1900. P. 38.
(обратно)364
Desbonnet E. La Force physique, culture rationnelle.
(обратно)365
Macfadden B. Muscular Power and Beauty. N.Y.: Physical Culture Publishing Co., 1906. «Previous Investigations in the Field of Body Building», реклама в конце издания.
(обратно)366
Bonnet G. Précis d’auto-suggestion volontaire. Paris: J. Rousset, 1910. P. 11.
(обратно)367
Macfadden B. Op. cit. Реклама в конце издания.
(обратно)368
Gebhardt W. Op. cit. P. 3.
(обратно)369
Müller J. P. Op. cit. P. 138–139.
(обратно)370
Lequin Y. Les chances inégales d’une nouvelle société // Histoire des Français, XIXe‑XXe siècle / dir. par Y. Lequin T. II. La Société. Paris: Armand Colin, 1983. P. 329.
(обратно)371
Первое издание такого плана появилось в Америке. Недавно оно было переведено на фр. яз.: Emerson R. W. La Confiance en soi et autres essais. Paris: Payot–Rivages, 2000 (1‑е амер. изд., 1844).
(обратно)372
Lerne J. de. Comment devenir fort. Paris: J.–B. Baillière et fils, 1902.
(обратно)373
Roudès S. Pour faire son chemin dans la vie. Paris: Bibliothèque des ouvrages pratique, 1902.
(обратно)374
Vignes Rouges J. de. La Gymnastique de la volonté. Paris: J. Oliven, 1935. P. 34.
(обратно)375
См.: Baubérot A. Histoire du naturisme. Le mythe du retour à la nature. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2004. P. 286.
(обратно)376
Vogue. Juliet 1934.
(обратно)377
Votre beauté, журнал, пришедший в 1933 году на смену журналу La Coiffure et le Modes, в этом отношении весьма показателен: фотографии демонстрировали одновременно как бегающих и прыгающих людей, так и тела, растянувшиеся на пляже или на траве в окружении сельского пейзажа.
(обратно)378
Montherlant H. de. Coups de soleil [написано между 1925 и 1930 годами]. Paris: Gallimard, 1950.
(обратно)379
Votre beauté. Janvier 1936.
(обратно)380
Ibid.
(обратно)381
Marie–Claire. 6 mai 1938.
(обратно)382
Это продолжает тему великого гигиенического крестового похода в отношении каникул, вновь поднятую после I Мировой войны. См.: Héricourt J. La question des vacances // Hygiène moderne. Paris: Flammarion, 1919. P. 204.
(обратно)383
О тематике «солнечного удара» см.: Votre beauté. Juillet 1937.
(обратно)384
Marie–Claire. 5 août 1938.
(обратно)385
Реклама Элены Рубинштейн: Femina. 1928.
(обратно)386
См.: Kergoat J. La France du Front populaire. Paris: La Découverte, 1986. P. 336.
(обратно)387
Léo–Lagrange M. tan 1 du bonheur // Janus. La Révolution du loisir. Juin–août 1965. No. 7. P. 83.
(обратно)388
Помимо каникул, см. также развитие темы «уикенда», получившей особую важность в 1930‑е годы: Rybczynski W. Les pionniers du week–end // Histoire du week–end. Paris: Liana Levi, 1992. P. 123.
(обратно)389
Femina. 1931.
(обратно)390
Vogue. 1935.
(обратно)391
Femina. 1931.
(обратно)392
Mac–Orlan P. Cété // Vogue. 1935.
(обратно)393
Vogue. Juillet 1925.
(обратно)394
Durvile A., G. Fais ron corps. Paris: Éd. du Naturisme, 1936.
(обратно)395
Votre beauté. Mars 1937.
(обратно)396
Ibid. См. также: Vigouroux H.–D. Le pronostic est sérieux // Traité complet de médecine pratique. Paris: Letouzey et Ané, 1937. T. III. P. 633.
(обратно)397
См.: Stearns P. N. Fat History. Bodies and Beauty in the Modern West. N.Y.: New York University Press, 1997. В особенности «Fat as a Turn–Of–The–Century Target: Why?» («Жир как мишень рубежа веков: почему?»). Р. 48.
(обратно)398
Richer P. Nouvelle anatomie artistique du corps humain. T. III. Morphologie, la femme. Paris: Plon–Nourrit et Cie, 1920.
(обратно)399
Hébert G. Muscle et beauté plastique féminine. Paris: Vuibert, 1919.
(обратно)400
Ibid. P. 197.
(обратно)401
Ibid. P. 198.
(обратно)402
Ibid. P. 211.
(обратно)403
См. выше. C. 153.
(обратно)404
См.: Viard M. La Maîtrise de soi. Paris: Éd. de «VivTe», 1930.
(обратно)405
Respirez la santé // Marie–Claire. 1939.
(обратно)406
Votre beauté. Janvier 1934.
(обратно)407
Vogue. 1930.
(обратно)408
Votre beauté. Septembre 1934.
(обратно)409
Votre bonheure. 27 mars 1938.
(обратно)410
Votre beauté. Janvier 1934.
(обратно)411
Prévost J. Plaisir des sports. Paris: Gallimard, 1925. P. 25
(обратно)412
Braga D. 5 000 m. Paris: Gallimard, 1924. P. 46.
(обратно)413
См.: Charreton P. Le Fêtes du corps. Histoire et tendances de la littérature à thème sportif en France, 1870–1970. Saint–Étienne: CIEREC, 1985. P. 120.
(обратно)414
См.: Beaunis H.–É. Les Sensations internes. Paris: Alcan, 1889; Féré Ch.[-S.] Sensation et mouvement. Études expérimentales de psycho–mécanique. Paris: Alcan, 1887; Claparède É. Avons–nous des sensations spécifiques de position des memebres? Paris: Schleicher frères, 1901.
(обратно)415
См.: L’Encyclopédie de la jeunesse. Qui? Pourquoi? Comment? Paris, 1914–1919. T. I (1914). P. 313; T. VI (1919). P. 1,9, 17, 25.
(обратно)416
Grand mémento encyclopédique Larousse/ dir. par Augé P. Paris: Larousse, 1937. T. II. P. 975.
(обратно)417
Garrigou A. La naissance du mouvement associatif sportif sous la IIIe République en Dordogne. Цит. статья. P. 44.
(обратно)418
Manneville P. Créations d’associations sportives en Seine–Inférieure (fin XIXe — première moitié du XXe siècle) // Jeux et sport dans l’histoire. Actes du 116e congrès national des cociétés savantes. Chambéry, 1991. Paris: CTHS, 1992. T. I. P. 133.
(обратно)419
Désert G. Les activités sportives en Normandie, 1900–1940 // Jeux et sport dans l’histoire. P. 123.
(обратно)420
См. серию иллюстраций «Общей энциклопедии видов спорта и спортивных обществ», изданную под редакцией Жоржа Дени: Encyclopédie générale des sports et sociétés sportives / dir. par G. Denis. Paris: Ardo, 1946.
(обратно)421
Plein air // L’Illustration. 10 juillet 1920.
(обратно)422
Germain É. Le. Le paysage sportif associatif à Lyon (1905–1929) // Le Sport dans la ville. P. 49.
(обратно)423
Mougin N. Développement des installations sportives et politique municipale i Besançon (1900–1939) // Le Sport dans la ville. P. 65.
(обратно)424
Среди различных работ по социологии спорта см.: Clément J.–P., Lacaze L. Contribution à l’histoire de la lutte en France // Histoire sociale des pratiques sportives, Travaux et recherches en E.P.S. Décembre 1985. No. 1.
(обратно)425
Цит. по: Les Archives du football: sport et société en France (1880–1980). P. 209.
(обратно)426
См.: L’Encyclopédie de la jeunesse. Qui? Pourquoi? Comment? Juillet 1919.
(обратно)427
Boigey M. Manuel scientifique d’éducation physique. Paris: Payot et Cie, 1922. P. 218.
(обратно)428
Le cross féminin de Saint–Cloud // L’Illustration. 22 fév. 1930.
(обратно)429
Цит. по: Arnaud P. Le genre ou le sexe? Sport féminin et changement social (XIXe‑XXe siècle) // Histoire du sport féminin / dir. par P. M. Arnaud, Th. Terret. Paris: L’Harmattan, 1996. T. II. P. 164.
(обратно)430
Thibault J. Itinéraire d;un professeur d’éducation pgysique. Un demi–siècled’histoire de l’éducation physique en France. Paris: AFRAPS, 1992. Цит. по: Travailllot Y., Tabory M. Histoire de l’éducation physique. Op. cit. P. 158.
(обратно)431
Abdré L. Les rapport de la culture physique et du sport // Le Miroir des sports. 19 mai 1921.
(обратно)432
См.: L’Encyclopédie de la jeunesse. Qui? Pourquoi? Comment? 1 oct. 1919.
(обратно)433
Boigey M. Physiologie de l’éducation physique // Encyclopédie des sports. T. I. Paris: Librairie de France, 1924. P. 290.
(обратно)434
См. выше. C. 150, 153.
(обратно)435
Hébert G. Le Sport contre réduction physique. 1925. P. 88.
(обратно)436
См. выше. С. 150, 153. Собственно говоря, чтобы стать «педагогическим», методу Эбера хватало и строгости, и технических требований. «Естественные» движения были столь же четкими, сколь и закодированными. Как можно избежать влияния времени?
(обратно)437
От греческого названия школ физического воспитания для мальчиков и юношей в Древней Греции. — Прим. перев.
(обратно)438
См. выше. C. 151–153.
(обратно)439
Coteau M. B. du. La valorisation humaine // Traité d’éducation physique / dir. par M. Labbé Paris: Gaston Doin et Cie, 1930. T. II. P. 544.
(обратно)440
См.: Travaillot Y., Tabory M. Op. cit. P. 164.
(обратно)441
Цит. по: Ibid.
(обратно)442
Coteau M. B. du. La méthode sportive, gymnastiques et sports // Traité d’éducation physique. T. II. P. 305.
(обратно)443
См.: Solchany J. La jeunesse embrigadée, enthousiasme et rejet // L’Allemagne au XXe siècle. Paris: PUF, 2003. P. 250.
(обратно)444
Муссолини, цит. по: Gentile E. L’«homme nouveau» du fascisme. Réflexions sur une expérience de révolution anthropologique // L’Homme nouveau dans l’Europe fasciste (1922–1945), entre dictature et totalitarisme / dir. par M.–A. Matard–Bonucci, P. Milza Paris: Fayard, 2004. P. 49.
(обратно)445
Scorza C. Brevi note sul fascismo, sui capi, sui gregari. Florence: Bemporad. P. 49.
(обратно)446
См.: Taschen A. Leni Reifenstahl. Cinq vies. N.Y.: Taschen, 2000, и фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли» (Берлин, 1935).
(обратно)447
См.: Gauchet М., Azouvi F., Piron S. La Condition historique. Entretien. Paris: Stock, 2003: «Это станет безрассудным стремлением тоталитарных режимов: запихнуть демократического беса в религиозную бутыль» (Р. 292).
(обратно)448
См.: Burrin P. Fascisme, nazisme, autoritarisme. Paris: Éd. du Seuil, 2000. P. 42.
(обратно)449
Mànnliche Literatur / ed. par M. Diersch Kritik in der Zeit. Halle, Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1985. P. 249. Цит. по: Mosse G. L. L’Image de l’homme, L’invention de la vetilité moderne. Пер. на фр.: Hechter M. Paris: Abbeville, 1997. P. 64.
(обратно)450
См.: Mosse G. L. L’Image de l’homme, L’invention de la vetilité moderne. Глава «Le nouvel homme fasciste» («Новый человек–фашист»). P. 177.
(обратно)451
Народ, нация (нем.).
(обратно)452
Kluhn F. J. Von Sinn des SA-Wehrabzeichens // Nationalsozialistiche Monatshefte. Vol. 108. Mars 1939. No. 10. P. 189.
(обратно)453
Riefenstahl L. Цит. по: Mosse G. L. De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes. Paris: Hachette, 1999. P. 135.
(обратно)454
См. фильм Лени Рифеншталь «Олимпия» (Берлин, 1936).
(обратно)455
Zavrel B. J. Arno Breker. The Divine Beauty in Art. N.Y.: West Art Pub, 1986.
(обратно)456
См.: Kracauer S. Die Angestellten. Frankfurt am Main: Frankf. Societat–Druckerei, 1930. К служащим выдвигается требование заниматься гимнастикой и блюсти красоту.
(обратно)457
Mosse G. L. De la Grande Guerre au totalitarisme. P. 211.
(обратно)458
La jeunesse américaine // France Illustration. 9 fév. 1946.
(обратно)459
См.: Seurin P. L’éducation physique et le sport // L’Homme sain. 1956. No. 1 et 2. Цит. по: Travaillot Y., Tabory M. Op. cit. P. 184.
(обратно)460
Baquet M. Esquisse d’une doctrine d’éducation sportive // INS. 1947. P. 4.
(обратно)461
Auriol V. Discours de réception des champions olympiques à l’Élysée. 13 novembre 1952 // Revue EPS. 1952. No. 13. P. 44.
(обратно)462
Данные о численности спортсменов до 1950 года см. в: l’Encyclopédie générale des sports. Данные о численности спортсменов после 1950 года см. в: Herr L. Quelques indications chifrées sur les fédérations sportives françaises // Sports et société. Approche socio–culturelle des pratiques / dir. par Pociello Ch. Paris: Vigot, 1981.
(обратно)463
См.: Travaillot Y., Tabory M. Op. cit. P. 188.
(обратно)464
Lequin Y. De la croissance à la crise, commerçants, ouvriers, employés // Histoire des Français, XIXe‑XXe siècle. T. II. P. 583.
(обратно)465
Марсель Сердан — французский боксер, чемпион мира в среднем весе 1948 года. — Прим. ред.
(обратно)466
См.: Amar M. Néa pour courir: sport, pouvoirs et rébellions, 1944–1958. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble. 1987. P. 77.
(обратно)467
Французский католический священник, основавший международную благотворительную организацию «Эммаус». — Прим. перев.
(обратно)468
Французский государственный и политический деятель, лидер партии радикалов и радикал–социалистов, писатель, историк, публицист, академик. — Прим. перев.
(обратно)469
Ibid.
(обратно)470
Ibid. P. 75.
(обратно)471
Jameux D. Fausto Coppi: l’échapée belle, Italie 1945–1960. Paris: Éd. Austral / Arte, 1996. 4‑я стр.обложки.
(обратно)472
The Book of British Sporting Heroes / ed. by J. Huntington–Whiteley. London: National Portrait Gallery, 1998. P. 164.
(обратно)473
Dumazedier J. Le sport devient–il un fléau social? // La Vie de la FSGT. 1 fév. 1952. P. 3.
(обратно)474
Queval J. Le sport et les athlètes // Jeux et sports / dir. par R. Caillois. Paris: Gallimard, 1967. P. 1225.
(обратно)475
Manceron L. Les effets physiologiques du sport // Dauven J. Encyclopédie des sports. Paris: Larousse, 1961. P. 15.
(обратно)476
Dumazedier J. La Civilisation des loisirs. Paris: Éd. du Seuil, 1964.
(обратно)477
Amar M. Op. cit. P. 81.
(обратно)478
Le Figaro. 1 sept. 1960.
(обратно)479
L’Équipe. 31 août 1960.
(обратно)480
L’Équipe. 19–20 sept. 1960.
(обратно)481
Постановление от 13 декабря 1960 года (Bulletin officiel de l’éducation nationale [BOEN]), изданное Национальным спортивным советом.
(обратно)482
См.: Les activités physiques et le sport face à l’État // Clément J.–P., Defrance J., Pociello Ch. Sport et pouvoirs au XXe siècle. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 1994. P. 33 sq.
(обратно)483
См., в частности, закон от 28 июля 1961 года (BOEN).
(обратно)484
См., в частности, циркуляр от 21 августа 1962 года (BOEN), содержащий «инструкции по организации спортивной деятельности».
(обратно)485
Combeau–Mari É. Les années Herzog et la sportivisation de l’éducation physique (1958–1966) // Spirales. 1998. No. 13–14.
(обратно)486
См.: Sports et société. P. 100.
(обратно)487
Thiriez F. Cinq vérités sur le «foot–business» // Le Monde. 27–28 fév. 2005.
(обратно)488
См.: Les Cultures sportives / dir. par Pociello C. Paris: PUF, 1995. Esquisse d’une anthropologie des gestes sportifs. P. 89 sq.
(обратно)489
См.: Les Pratiques sportives en France. Résultats de l’enquête menée en 2000 par le ministère des Sports et l’Institut national du sport et de l’éducation physique. Paris: INSEP, 2002. P. 105n.
(обратно)490
См.: Ibid. P. 109.
(обратно)491
Clément J.–P. L’aïkido et le karaté // Esprit. Avr. 1987. Le Nouvel Âge du sport. P. 114.
(обратно)492
См.: Bozonnet J.–J. L’apparition de nouvelles pratiques // Sports et société. Paris: Le Monde, 1996. P. 41.
(обратно)493
Фанбординг — серфинг на короткой доске. Каньонинг — вид альпинизма, связанный с покорением каньонов. Фрирайд — велосипедный спуск с естественных возвышенностей и гор по неподготовленным трассам. Ривербординг — спуск по течению реки на доске для серфинга. Ультрамарафон — бег на дистанцию, превышающую марафонские 42 195 метров. Роллерблейдинг — экстремальное катание на роликовых коньках. — Прим. перев.
(обратно)494
Soultrait G. de. Le surf et l’autre // Surf Atlantique, les territoires de l’éphémère / dir. par J.–P. Augustin. Bordeau: Éd. de la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 1994. P. 220.
(обратно)495
Le Monde. 28 avr. 2000.
(обратно)496
Waser A.–M. Les randonnés parisiennes: la rue comme lieu d’expression du changement? // Glisse urbaine, l’esprit roller: liberté, apesanteur, tolérance / dir. par Loret A., Waser A.–M. Paris: Autrement, 2001. P. 85.
(обратно)497
Pociello C. Les éléments contre la matière, sportifs glisseur et sportifs rugueux // Esprit. Fév. 1982. P. 30.
(обратно)498
Introduction // Glisse urbaine, l’ésprit roller. Op. cit. / dir. par Loret A., Waser A.–M. P. 20.
(обратно)499
См. интервью с бегуном в: Le Point. 6 juillet 1981.
(обратно)500
Цит. по: Crossman S. ô corps, mon amours… / Autrement. Novembre 1981. Californie. P. 93.
(обратно)501
Des semelles intelligentes pour chaussures de course // Le Monde. 29 mars 2005.
(обратно)502
См. интервью Мориса Грина, бывшего чемпиона Сиднея, данное им «Libération» 25 февраля 2005 года: «Я устал, это правда, но я снова обрел свои ощущения. Мое тело вернулось, и я опять чувствую себя в форме».
(обратно)503
Feldenkrais М. La Conscience du corps. Paris: Robert Laffont, 1971. P. 57.
(обратно)504
См. здесь же: Le corps du dedans. P. 178.
(обратно)505
Aucouturier В. La relaxation en rééducation de l’altitude // Éducation physique et sport. 1966. No. 83. P. 39.
(обратно)506
Picq L., Vayer P. Éducation physique et arriération mentale. Paris: Doin, 1968. P. 24.
(обратно)507
Feldenkrais M. Op. cit. P. 57.
(обратно)508
Ramain S. Structuration mentale par les exercices Ramain. Paris: Épi, 1975. P. 95.
(обратно)509
Syer J., Connolly C. La Préparation physique du sportif. Le mental pour gagner. Paris: Robert Laffont, 1988. P. 57.
(обратно)510
Ibid. P. 70.
(обратно)511
Orlic M.–L. L’Éducation gestuelle, méthode de rééducation phychomotrice. Paris: ESF, 1967. P. 5.
(обратно)512
Syer J., Connolly Ch. Op. cit. P. 34.
(обратно)513
Boulch J. Le. L’Éducation par le mouvement. Paris: ESF, 1966. P. 18.
(обратно)514
Первые подобные исследования проводил Эдмунд Якобсон в 1930‑х годах. См.: Progressive Relaxation. A Physiological and Clinical Investigation of Muscular States and Their Significance in Psychology and Medical Practice. Chicago: The University of Chicago Press, 1929.
(обратно)515
L’Équipe–magazine. Numéro spécial: Sport et techno. 8 mai 1993. P. 38.
(обратно)516
Wilmore J. H., Costill D. L. Physiologie du sport et de l’exercice. Bruxelles: De Boeck, 2002. P. 77.
(обратно)517
См.: Durand M. Traitement de l’information dans l’acquisition des habilités motrices / L’Identité de l’éducation physique scolaire au XX' siècle / dir. par J.–P. Clément, M. Herr. Clermont–Ferrand: AFRAPS, 1993. P. 293.
(обратно)518
Ehrenfried L. De l’éducation du corps à l’équilibre de l’esprit. Paris: Aubier, 1956. P. 28.
(обратно)519
См.: Meyer G., Laget S. Le Livre d’or du sport français, 1845–1945. Paris: Chêne, 1978. P. 189.
(обратно)520
См.: сборная Франции по регби. L’Équipe. 4 juillet 1994.
(обратно)521
Houareau M.–J. Les techniques du corps // L’Encyclopédie pour mieux vivre. Paris: Retz, 1978. P. 405.
(обратно)522
Dreyfus C. Les Groupes de rencontre. Paris: Retz‑C.E.P.L., 1975. P. 127.
(обратно)523
Bertherat T., Bernstein C. Le corps a ses raisons: autoguérison et anti–gymnastique. Paris: Éd. du Seuil, 1976. P. 71.
(обратно)524
См.: Pianta J.–P. La Révolution du mieux–être. Paris: Ramsay, 1998.
(обратно)525
См.: Bertin S., Machet B. Forme santé beauté. Paris: Aubanel, 2003.
(обратно)526
См.: Mon corps, adversaire au partenaire? // Phychologies magazine. Novembre 2000.
(обратно)527
См. выше. C. 152.
(обратно)528
Реклама клубов Vitatop в 1981 году, см.: Bessy О. Les salles de gymnastique, un marchédu corps et de la forme // Esprit. Avril 1987. Le Nouvel Âge du sport.
(обратно)529
См.: Ibid. P. 82. Только в клубах Gymnase Clubs количество посетителей выросло в десять раз в период с 1980 по 1985 год: в 1985 году их посещало более 50 000 человек.
(обратно)530
Vital. Oct. 1981.
(обратно)531
Реклама Ken Clubs в 1981 году, см.: Bessy О. Op. cit.
(обратно)532
Vital. Nov. 1981.
(обратно)533
Реклама Gymnase Clubs в 1981 году, см.: Bessy О. Op. cit.
(обратно)534
Vital. Oct. 1981.
(обратно)535
Реклама Vitatop, 1981.
(обратно)536
Bessy O. Op. cit. P. 85.
(обратно)537
Top santé. Juin 1992. P. 81.
(обратно)538
Divertissez–vous avec nos jeux santé // Le Journal des Français, santé. Septembre–octobre 1992. P. 25.
(обратно)539
Gagnez des séjours dans des écoles du dos // Santé magazine. Août 1992. P. 38.
(обратно)540
Ibid. P. 70.
(обратно)541
Santé magazine. Sept. 1992. P. 16.
(обратно)542
Santé magazine. Fév. 1992. P. 99.
(обратно)543
Vrai santé. 1992. No. 3.
(обратно)544
Vital. Nov. 1981.
(обратно)545
Mieux être en 1000 questions / dir. par J. Rousselet–Blanc. Paris: Flammarion, 1992. P. 344.
(обратно)546
Carrier C. Le Champion, sa vie, sa mort, phychanalyse de l’exploit. Paris: Bayard, 2002. P. 321.
(обратно)547
Ibid. P. 320.
(обратно)548
Интервью с Кристин Аррон: Le Monde. 6–7 mars. 2005.
(обратно)549
См. классическую работу: Bell D. Les Contradictions culturelles du capitalisme. Paris: PUF, 1979.
(обратно)550
Coubertin P. de. La bataille continue… // Bulletin du Bureau international de pédagogie sportive. Lausanne, 1935. P. 7.
(обратно)551
См.: Queval I. S’accomplir ou de dépasser. Essai sur le sport contemporain. Paris: Gallimard, 2004. P. 243.
(обратно)552
Wadler G. I., Hainline B. L’Athlète et le Dopage. Drogues et médicaments. Paris: Vigot, 1993.
(обратно)553
300 médicaments pour se surpasser physiquement et intellectuellement. Paris: Balland, 1988. P. 18.
(обратно)554
О той же наивности говорит Ирен Тери в отношении «чувства десимволизации» понятий рода и родства: Théry I. Le Contrat d’union sociale en question. Paris: Note de la fondation Saint–Simon. Oct. 1997. P. 22.
(обратно)555
Ehrenberg A. Tous dopés! // Le Nouvel Observateur. 19–25 nov. 1998.
(обратно)556
Архив префектуры полиции Парижа (Archives de la préfecture de police de Paris [APP]). DA 127. Дело: Exhibition de la femme–singe (Claessen).
(обратно)557
APP. DA 127. Дело: Tocci, pièce 1.
(обратно)558
Муниципальный архив Лиона (Archives municipales de Lyon [AML]). 1129 WP 13. Дело: Boudou, Eugène.
(обратно)559
Treves F. The Elephant Man and Other Reminiscences. London: Cassel, 1926. P. 4; медицинское описание данного случая, того же автора: Treves F. A case of congenial deformity // Transactions of the Pathological Society. 1886. Vol. XXXVI. P. 494–498. См. также: Montagu A. The Elephant Man. A Study in Human Dignity. N.Y.: Ballantine Books, 1971; Dimmer F. Very Special People. The Struggles, Loves and Triumphs of Human Oddities. N.Y.: Amjon, 1973; Fielder L. Freaks. Myth and Images of the Secret Self. N.Y.: Simon & Schuster, 1978.
(обратно)560
В книге Тривза Меррик по ошибке назван Джоном (вместо Джозефа), что привело к распространенному заблуждению по поводу имени Меррика. — Прим. перев.
(обратно)561
Тератология — раздел медицины, изучающий уродства и аномалии. — Прим. перев.
(обратно)562
Старейшая и крупнейшая французская ярмарка. — Прим. перев.
(обратно)563
Vallès J. La Rue // Vallès J. Œuvres complètes. Paris: Livre Club Diderot, 1969. T. I. P. 459. Произведения Жюля Валлеса представляют собой важный источник информации о мире ярмарочных монстров второй половины XIX века. Описания, часто носящие почти этнографический характер, посвященные ярмаркам, можно найти в разных статьях, публиковавшихся в Le Figaro, La Parodie, Le Cri du people, Gil Bias, L’Épopée, L’Événement и т. д. Больше всего их в следующих текстах: «Les saltimbanques» («Ярмарочный актер») (Vallès J. La Rue), «Le bachelier géant» («Бакалавр–гигант») (Les Réfractaires // Vallès J. Œuvres complètes. T. I. Paris: Gallimard, 1975. P. 264–310) и Vallès J. Le Tableau de Paris. Paris: Éditeurs français réunis, 1971. P. 83–103.
(обратно)564
Свидетельств этому можно найти бесчисленное множество. Так, например, Флобер, в числе многих, пишет о своей поездке в Бретань: «Среди прочего там были заспиртованные в бутылке два поросенка, сросшиеся животами. Будто встав на задние ноги, подняв хвостики и прищурив, глаза, право же, они казались весьма забавными» (Flaubert G. Par les champs et les grèves. Paris: Pocket, 2002. P. 69).
(обратно)565
Рус. пер. цит. по: Фуко М. Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–75 учебном году. СПб.: Наука, 2005. С. 80–81.
(обратно)566
Zoos humains. De la Vénus Hottentote aux reality shows. Paris: La Découverte, 2002.
(обратно)567
Fournel V. Ce qu’on voit dans les rues de Paris. Paris: A. Delahays, 1858. P. 171.
(обратно)568
Debay A. Histoire des métamorphoses humaines et des monstruosités. Paris: Moquet, 1845. P. 50–51.
(обратно)569
Об анатомических музеях восковых фигур см.: Ру С., Vidart С. Les musées anatomiques des champs de foire // Actes de la recherches en sciences sociales. Novembre 1985. No. 60. P. 3–10; Lemire M. Artistes et mortels. Bayonne: Chabaud, 1990; Fortunes et infortunes des préparations anatomiques, naturelles et artificielles / dir. par Chair J. L’Âme au corps. Arts et sciences, 1773–1993. Paris: Réunion des Musées nationaux, Gallimard / Electa, 1993. P. 70–101. См. также: Catalogue de le vente Spritzner. Paris: Hôtel Drouot. 10 juin 1985. О музее Гревен: Saëz–Guérif N. La Musée Grévin, 1882–2001. Cires, histoire et loisir parisien. Диссертация. Université Paris I, 2002 год.
(обратно)570
Перечисление уродливых черт мужчин и женщин, совершивших преступления, практически безгранично в работах по криминальной антропологии конца XIX века, особенно вдохновленных трудами Чезаре Ломброзо. Среди чрезвычайно богатой критической литературы по данному вопросу ограничимся упоминанием недавнего и полного обзора, представленного в диссертации Сильви Шаль–Куртин: Châles–Courtine S. Le Corps criminel. Approche socio–historique des representations du corps criminel. Paris: EHESS. 28 fév. 2003.
(обратно)571
Среди множества критических работ, затрагивающих данную тему, нужно отметить: Kalifa D. L’Encre et le Sang. Récits de crime et société à la Belle Époque. Paris: Fayasrd, 1995; Kalifa D. Crime et culture au XIXe siècle. Paris: Perrin, 2005; Chauvaud F. Les Experts du crime. La medicine légale en France au XIXe siècle. Paris: Aubier, 2000; Demartini A.–E. L’Affaire Lacenaire. Paris: Aubier, 2001; Les Ombres de l’histoire. Crime et châtiment au XIXe siècle / ed. par M. Perrot. Paris: Flammarion, 2001; Renneville M. Crime et folie. Deux siècles d’enquête judicaire. Paris: Fayard, 2003.
(обратно)572
См. предисловие Жан–Жака Куртина «La désenchantement des monstres» («Разочарование монстров») к кн.: Martin E. Histoire des monstres, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Grenoble: Jérôme Million, 2002.
(обратно)573
Цит. по: Фуко М. Указ. соч. С. 81. Курсив автора.
(обратно)574
«Возникновение власти нормализации, то, каким образом она сложилась, то, каким образом она сумела установиться, никогда не опираясь на один–единственный институт, но вводя в игру разные институты, и то, каким образом она распространила в нашем обществе свое господство, — вот что я хочу рассмотреть» (цит. по: Фуко М. Указ. соч. С. 48).
(обратно)575
Canguilhem G. La Connaissance de la vie. Paris: Vrin, 1965. P. 228.
(обратно)576
В работе Тони Беннета можно найти исследование роли этих демонстрационных механизмов для контроля за поведением толпы в рамках Всемирных выставок и музеев: The exhibitionary complex // Culture/Power/History / A Reader in Contemporary Social Theory / ed. by N. B. Dirks, G. Eley, S. B. Ortner. Princeton: Princeton University Press, 1994. P. 123–154; см. также: The Birth of the Museum. History, Theory, Politics. N.Y.: Routledge, 1995. В работе Ванессы Шварц можно найти анализ становления массовой зрительной культуры, приведшей к формированию общества зрителей, воспринимающих как правду реалистичные фикции: Schwartz V. Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin–de–siècle Paris. Berkeley: University of California Press, 1998.
(обратно)577
Будучи чрезвычайно плодовитой в последние три десятилетия столетия, она представляет собой важный источник информации о столичных зрелищах. Слишком внушительный список, чтобы привести его здесь целиком, дополняет основное содержание статьи Вальтера Беньямина «Париж, столица девятнадцатого столетия». Кроме того, весьма полный обзор можно найти в библиографическом разделе превосходной работы Жан–Пьера Артюра Бернара: Bernard J.–P. A. Les Deux Paris. Les représentation de Paris sans la seconde moitié du XIXe siècle. Seyssel: Champ Vallon, 2001.
(обратно)578
Fournel V. Les Vieux Paris: fêtes, jeux et spectacles. Tours: Alfred Marne et fils, 1887. P. 361–362.
(обратно)579
APP. DB 202. Учет произведен в 1900 году Э. Греаром, представителем префектуры полиции, ответственным за контроль над ярмарками.
(обратно)580
La foire aux pains dèpices // Le Réveil. 12 janvier 1880.
(обратно)581
О старых лондонских ярмарках см., в частности: Morley Н. Memoirs of Bartholomew Fair. London: Chapman and Hall, 1859.
(обратно)582
Относительно демонстрации человеческих монстров в Лондоне в XVIII и XIX веках, см. незаменимую работу: Altick R. The Shows of London. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, Londron, Belknap, 1978. О городских развлечениях в Англии XIX века см.: Meller Н.Е. Leisure and the Changing City, 1870–1914, London: Routledge & Kegan Paul, 1976; Walvin J. Leisure and Society, 1830–1950. London, N.Y.: Longman, 1978; Bailey P. Leisure and Class in Victorian England. London: Routledge & Kegan Paul, 1978; Cunningham H. Leisure in the Insdustrial Revolution, 1780–1880. London: Croom Helm, 1980; Leisure in Britain. 1780–1939 / ed. by J. K. Walton, J. Walvin. Manchester: Manchester University Press, 1983; Stallybrass P., White A. The Politics of Transgression. Ithaca: Cornell University Press, 1986. О формировании сферы городских развлечений в XIX и XX веках см.: L’Avènement des loisirs / dir. par A. Corbin. Paris: Aubier, 1995.
(обратно)583
См.: Altick R. Op. cit. P. 235–267.
(обратно)584
См. книги Барнума: Barnum P. T. The Life of P. T. Barnum, Written by Himself. N.Y.: Redfield, 1855; Barnum P. T. Struggles and Triumphs, or Forty Years’ Recollections of P. T. Barnum Written by Himself. N.Y.: American News Company, 1871; и Selected Letters of P. T. Barnum / ed. by A. H. Saxon. N.Y.: Columbia University Press, 1983. О Барнуме см., в частности, Harris N. Humburg. The Art of P. T. Barnum. Chicago: The University of Chicago Press, 1973; Saxon A. H. P. T. Barnum. The Legend and the Man. N.Y.: Columbia University Press, 1989; Mermaids, Mummies and Mastodons. The Emergence of the American Museum/ ed. by Alderson W. T. Washington, D.C.: American Association of Museums, 1992; Kunhardt P. B. III, Kunhardt P. W. P. T. Barnum. America’s Greatest Showman. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1995; Dennett A. S. Weird and Wonderful. The Dime Museum in America. N.Y.: New York University Press, 1997; Adams В. E Pluribus Barnum. The Great Showman and Making of US Popular Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997; Reiss B. The Showman and the Slave. Race, Death and Memory in Barnum’s America. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2001; а также: Courtine J.–J., De Barnum à Disney // Cahiers de médiologie. 1996. No. 1. P. 72–81.
(обратно)585
Barnum P. T. Barnum’s Own Story. Gloucester: Peter Smith, 1972. P. 120.
(обратно)586
Об истории freak shows в США см. прежде всего фундаментальную работу: Bogdan R. Freak Show. Presenting Human Oddities for Amusement and Profit. Chicago: The University of Chicago Press, 1988; а также: Freakery. Cultural Imagination / ed. by R. G. Thompson. Chicago: The University of Chicago Press, 2001. О репертуаре шоу монстров, представлявшемся некогда на североамериканских сценах и в англоговорящем мире в целом, см.: Steelcroft F. Some peculiar entertainements // Strand Magazine. Mars–mai 1896. Vol. 6. P. 328–335, 466–474; FitzGerald W. G. Side–Shows // Strand Magazine. Mars–déc. 1897. Vol. 13–14. P. 320–328, 407416, 521–528, 776–780, 91–97, 152–157; Gould G. M., Pyle W. L. Anomalies and Curiosities of Medicine. Philadelphie: W. B. Saunders, 1897; Odell G. C. Annals of the New York Stage [1801–1894]. 15 vol. N.Y.: Columbia University Press, 1927–1949; Thompson Ch.J. S. The Mystery and Lore of Monsters. With Accounts of Some Giants, Dwarfs and Prodigies. London: Williams & Norgate, 1930 (переизд.: London: Senate Books, 1996). Из недавних исследований: Howard М. Victorian Grotesque. London: Jupiter Books, 1977; Jay R. Learned Pigs & Fireproof Women. N.Y.: Villard Books, 1986.
(обратно)587
За исключением, однако, «цветных людей», лишь однажды до 1860‑х годов допущенных на специально организованный для них сеанс (анонс появился в номере газеты New York Tribune от 27 февраля 1849 года).
(обратно)588
О френологии в народной культуре и науке США см., например: Colbert С. A Measure of Perfection. Phrenology and Fine Arts in America. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1997.
(обратно)589
Об изобретении Барнумом baby shows (шоу младенцев) см.: Diapers and Dimples // US Democratic Review. April 1855; The Baby Show // New York Times. June 18, 1855; The Baby Bazaar // Vanity Fair. June 14, 1862; Adams B. Op. cit.
(обратно)590
«Это изменение значительно. До того, как их приютили музеи, человеческие диковинки вели шаткое, неукорененное существование. Примкнув к музеям, а затем к циркам, демонстраторы и их диковинки влились в активно развивающуюся индустрию, индустрию массовых развлечений» (Bogdan R. Freak Show. Presenting Human Oddities for Amusement and Profit. Chicago: The University of Chicago Press, 1988. P. 34).
(обратно)591
Barnum P. T. Barnum’s Own Story. P. 47–67; см. также: Reiss B. Op. cit.; Bondeson J. The Feejee mermaid // The Feejee Mermaid ans Other Essays in Natural and Unnatural History. Ithaca: Cornell University Press, 1999; Cook J. W. The Feejee mermaid and the market revolution // The Art of Deception. Playing with Fraud in the Age of Barnum. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2000.
(обратно)592
«Под „способом демонстрации” я подразумеваю стандартизированную совокупность техник, стратегий и стилистических приемов, которую антрепренеры спектаклей используют для создания монстров» (Bogdan R. Op. cit. P. 104–105).
(обратно)593
Attraction (фр.) — привлечение, приманка. Divertissement — отвлечение от дела, distraction — рассеянность. — Прим. перев.
(обратно)594
APP. DA 127. Дело: Tocci, pièce 2.
(обратно)595
Vallès J. Les Réfractaires. P. 264.
(обратно)596
«Ученики назначали встречи в бараке, там происходили тайные сборища, заключались пари, обсуждались любовные темы и внешний облик… Большая Штучка говорил, что его кузен видел его обнаженным, и мы едва переводили дыхание в ожидании рассказа о его визите. Ах! Мысли о его ноге вертелись у нас в голове; его подбородок и грудь вызывали у второгодников любовь и ревность. Я, единственный, видимо, алчный до правды, делал записи и ждал, когда же придет тот час, когда я смогу приспустить уверенным движением кальсоны, скрывавшие его тайну» (Vallès J. La Rue // Vallès J. Œuvres complètes. Paris: Livre Club Diderot, 1969. T. I. P. 489).
(обратно)597
Vallès J. La Rue. P. 488–489. Курсив и прописные буквы — Валлеса.
(обратно)598
Treves F. The Elephant Man. P. 13.
(обратно)599
Fournel V. Ce qu’on voit. P. 158–159.
(обратно)600
«…монстр — это по сути своей гибрид. <…> Следовательно, мы имеем дело с нарушением природных границ, с нарушением классификаций, с нарушением таблицы, закона как таблицы: действительно, именно это имеет в виду понятие монструозности». (цит. по: Фуко М. Указ. соч. С. 87–88).
(обратно)601
Canguilhem G. La mostruosité et les monstrueux // Canguilhem G. La Connaissance de la vie. P. 171–172. Кроме того, обращение к понятию монструозности у Кангилема можно найти в работах: Canguilhem G. Le Normal et le Pathologique. Paris: PUF, 1991. 2e partie. II. P. 77–117 (впервые издана под заголовком: Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, 1943), и Canguilhem G. Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie. Paris: Vrin, 1981. 2e éd. 2e partie. III. P. 121–139.
(обратно)602
См.: Courtine J.–J. Le désenchantement des monstres; Куртин Ж.–Ж. Нечеловеческое тело // История тела: В 3 т. T. I: От Ренессанса до эпохи Просвещения / пер. с фр. М. С. Неклюдовой, А. В. Стоговой. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 286–296.
(обратно)603
По выражению Жоржа Кангилема (Canguilhem G. La mostruosité et les monstrueux. P. 221).
(обратно)604
Детально об этой взаимосвязи речь уже шла (см. главу «Нечеловеческое тело» в томе I настоящего издания). Неровная речь, дрожащий взгляд, нестабильное перцептивное восприятие — результаты неожиданной встречи с уродливым телом — говорят о том, что монстр является чем–то из области реального, а не умозрительного. Монструозность же является результатом дискуссий, тиражирования образов, внимательного и пытливого восприятия знаков, помещения монстра в определенную область воображаемого.
(обратно)605
Традиция, берущая свое начало в ярмарочном театре, восходит к предыдущему веку (см.: Courtine J.–J. Le théâtre des monstres. Les exhibitions tératologique au XVIII' siècle // Cahiers de la Comédie–Française. Automne 1999. No. 33. P. 49–59). Задействование монстров в театральных постановках получило распространение в XIX веке: Клод–Амбруаз Сера, «живой скелет», вдохновляет в 1825 году в Лондоне авторов на создание эпонимичной пьесы; Харви Лич, «муха–гном», с успехом играет роли гнома, бабуина и мухи в театре Бауэри в 1840 году, тогда как Том Там, некоторое время спустя, с успехом выступает на парижских сценах в образе Мальчика–с–пальчик.
(обратно)606
См.: Bogdan R. Freak Show. Op. cit. P. 104.
(обратно)607
Среди обширной литературы о первых сиамских близнецах особенно см.: Wallace I. A. The Two. N.Y.: Simon & Schuster, 1978; в художественной форме: Strauss D. Chang and Eng. A Novel. N.Y.: Plume Books, 2001.
(обратно)608
См.: Barnum Р.Т. Barnum’s Own Story. Gloucester: Peter Smith, 1972. P. 133–190. Том Там один раз был принят при бельгийском дворе, трижды — при французском дворе, трижды — в Букингемском дворце. Английская королевская семья, видимо, ностальгировавшая по тем далеким временам, когда короли держали при дворе карликов, в скором времени принимала также двух сестер Маккинли, шотландских карлиц, а затем «ацтекских лилипутов», придуманных Барнумом в 1853 году.
(обратно)609
О представлении на сцене «людей–обрубков» см.: Courtine J.–J. Curiosités humaines, curiosité populaire. Le spectacle de la monstruosité au XVIII' siècle // Curiosité et libido sciendi de la Renaissance aux Lumières / dir. par N. Jacques– Chaquin, S. Houdad. Fontenay–aux–Roses: ENS Éd., 1998. T. II. P. 499–515.
(обратно)610
Guyot–Daubès N.–W. Kobelkoff ou l’homme-tronc // La Nature. 23 jan. 1886. No. 660. P. 113–115.
(обратно)611
Здесь мы опираемся на работы Пауля Шильдера об образе тела: «Единство образа тела отражает, таким образом, жизненное стремление к биологическому единству» (Shilder P. L’Image du corps. Étude des forces constructives de la psyché. Paris: Gallimard, 1968. P. 207 (1‑е изд., 1950). В этом отношении стоит указать на важность последующей затем работы Дидье Анзье: Anzieu D. Le Moi–peau. Paris: Dunod, 1985 (рус. изд.: Анзье Д. Я-кожа / пер. с фр. под науч. ред. С. Ф. Сироткина, М. Л. Мельниковой. Ижевск: ERGO, 2011. 302 с.). Основную задачу своего диссертационного исследования Пьер Ансе видит в умении включить в описание феноменологического механизма восприятия вопрос об обыденном и научном представлении о монструозности (Représentations communs et scientifiques i l’époque de la tératologie positive, these de doctorat de philosophie, université de Bourgogne. 10 décembre 2002; готовится к изданию под тем же названием: Paris: PUF, 2005).
(обратно)612
Помимо Брэди, другим выдающимся фотографом монстров в Америке двух последних десятилетий XIX века был Чарльз Эйзенманн; его студию на Бауэри, находившуюся в эпицентре театра уродов в столице монстров, коей являлся тогда Нью–Йорк, посещала целая плеяда самых известных «уродцев» (freaks) (см.: Mitchell М. Monsters of the Gilded Age. Toronto: Gage, 1979; и Bogdan R. Op. cit. P. 12–16).
(обратно)613
Эта серия была столь многочисленна и популярна, что и сегодня множество ее экземпляров можно наити на блошином рынке. Отпечатанные в Нанси, они были подписаны следующим образом: «Требуйте печать Мадам Делайт».
(обратно)614
Вот что сообщает в 1878 году один путешественник по возвращении из поездки в Бургундию: «Путешественник, будучи мало знаком с Купером или Густавом Эмаром, пересекая Морван всего несколько лет назад, был вправе задаться вопросом при виде „вигвамов”, из которых состояли эти деревни: не забросила ли его судьба в какое–нибудь индейское племя, затерявшееся на просторах Франции? Какой–нибудь воинственный команч или апач, выходящий из такой хижины, вооруженный и в полном боевом раскрасе, не слишком бы его удивил» (цит. по: Urbain J.–D. L'Iaiot du voyage: histoire de tourists. Paris: Payot, 1993. P. 210).
(обратно)615
О парижских Всемирных выставках см., в частности: Ory P. Les Exposition universelles de Paris. Paris: Ramsay, 1982.
(обратно)616
О Точчи см.: Martin E. Histoire des monstres; его же статья в Scientific American (Dec. 12,1892); Martin E. A View of Human Nature. Tocci, The Two–Headed Boy (Giovanni and Giacomo). Hie Greatest Human Phenomenon Ever Seen Alive. Boston: Chardes F. Libbie, 1892; Martin E. Some Human Freaks: The Tocci // The Million. London. Oct. 22, 1892; Odell G. C. The Tocci Twins // Annals of the New York Stage, 1801–1894. N.Y.: AMS Press. 1891–1894. Vol. XV.; Drimmer F. Very Special People. The Struggles, Loves and Triumphs of Human Oddities. N.Y.: Amjon, 1973; Monestier M. Les Monstres. Le fabuleux univers des oubliés de Dieu. Paris: Tchou, 1978. См. также написанный под впечатлением от них роман Марка Твена «Простофиля Вильсон»: Twain М. Pudd’nhead Wilson and Those Extraordinary Twins. N.Y.: Bantam, 1984. Точчи отправились искать счастья в Новом Свете, куда они прибыли в 1892 году. Сделав состояние в империи Барнума, они, в конце концов, обосновались недалеко от Венеции, где, согласно легенде, женились на двух сестрах и отошли от мира, чтобы проводить счастливые дни в стороне от любопытных глаз.
(обратно)617
Пантин расположен в 8 км на северо–восток от Парижа. — Прим. перев.
(обратно)618
«В общих чертах, ужасу и монструозности не свойственно вписываться в демонстрационные рамки. Они сопротивляются тем категориям, по которым принято отличать живое существо от вещи. <…> И монструозность является той формой, которая задает свои правила появления» (Pujade R. La catastrophe et le phénomène // A corps et à raison. Photographies médicales, 1840–1920/ dir. par R. Pujade, M. Sicard, D. Wallach. Paris: Marval, 1995. P. 92).
(обратно)619
См.: Burains A. Application de la photographie à la medicine. Paris: Gauthier–Villars, 1896; Londe A. La Photographie médicale, applications aux sciences médicales et physiologiques. Paris: Gauthier–Villars, 1893; Didi–Huberman G. Invention de l’hystérie. Charcot et l'iconographie photographique de la Salpêtrière. Paris: Macula, 1982; Burns S. B. Early Medical Photography in America (18391883). N.Y.: The Burns Archive, 1983; Histoire de la photographie / dir. par J.–C. Lemagny, A. Rouillé Paris: Bordas, 1986; Rouillé A., Marbot B. Le Corps et son Image. Photographies du XIX' siècle. Paris: Contrejour, Bibliothèque nationale, 1986; Fox D. M., Lawrence C. Phorographing Medicine. Image and Power in Britain and America since 1840. N.Y.: Greenwood Press, 1988; L’Àme au corps. Arts et science, 1793–1993; Pujade R., Sicard M., Wallach D. Op. cit.
(обратно)620
Canguilhem G. La monstruosité et le monstrueux. P. 178.
(обратно)621
Именно в присутствии в изображении зафиксированного на зрителе взгляда и натуралистического фокусирования на половых органах Эбигейл Соломон–Годо видит признаки модернизации порнографических методов, демонстрирующих женское тело: «Но если один из полюсов изображения касается полного устранения всего, что не имеет отношения к женскому полу, другой отдает преимущество специфике взгляда. Эти фотографии — на них женщина–модель смотрит прямо в объектив камеры, встречаясь таким образом со взглядом зрителя, — наглядно демонстрируют освобождение от традиционных методов порногоафии» (Solomon–Godeau A. The Legs of tne Countess // Fetishism as Cultural Discourse / ed. by Ё. Apter, W. Pietz. Ithaca: Cornell University Press, 1993. P. 297). Разве что пример тератологических демонстраций показывает, что данный метод касался далеко не только женского пола.
(обратно)622
APP. DA 127. Дело: Tocci, pièce 5.
(обратно)623
Treves F. The Elephant Man. P. 15.
(обратно)624
Saint–Hilaire É.G. Philosophie anatomique des monstruosités humaines. Paris, 1822; Saint–Hilaire I. G. Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation chez les animaux, ou Traité de tératologie. Paris: Baillière, 1832–1836. О Жоффруа Сент–Илере и контексте его работ см., в частности: Cahn T. La Vie et l’Œuvre d’Étienne Geoffroy Saint–Hilaire. Paris: PUF, 1962; Appel T. The Cuvier–Geoffroy Debate: French Biologie in the Decades before Darwin. Oxford: Oxford University Press, 1987; Balan B. L’Ordre et le Temps: l’anatomie comparée et l’histoire des vivants au XIXe siècle. Paris: Vrin, 1979; Russell E. S. Form and Function. A Contribution toi the History of Animal Morphology. London, Murray, 1916; Desmond A. The Politics of Evolution. Morphology, Medicine, and Reform in Radical London. Chicago: The University of Chicago Press, 1989; Guyader H. Le. Geoffroy Saint–Hilaire, 1772–1844. Un naturaliste visionnaire. Paris: Belin, 1998.
(обратно)625
Об истории тератологии в XIX и XX веках см., в частности: Martin E. Histoire des monstres; Wolff É. La Science des monstres. Paris: Gallimard, 1965; Fischer J.–L. Monstres. Histoire du corps et de ses défauts. Paris: Syros / Alternatives, 1991; Ancet P. Monstres // Dictionnaire de la pensée médicale / dir. par D. Lecourt. Paris: PUF, 2004; Ancet P. Représentations communes et scientifiques.; Ancet P., Courtine J.–J. Le désenchantement des monstres (термины этой статьи частично используются в данном разделе); La Vie et la Mort des monstres / dir. par. J.–C. Beaune. Seyssel: Champ Vallon, 2004; Leroi A. M. Mutants. On Genetic Variety and the Human Body. N.Y.: Viking, 2003.
(обратно)626
Saint–Hillaire I. G. Histoire générale et particulière des anomalies. P. 18.
(обратно)627
«Законы анормальности являются лишь следствием более общих законов организации» (Ibid. P. XI).
(обратно)628
Ibid. Р. 18.
(обратно)629
Dareste С. Recherches sur la production artificielle des monstruosités, ou Essai de tératogénie expérimentale. Paris: Reinwald, 1891.
(обратно)630
Ibid. P. 376. Об этом вопросе и об истории тератологии до 1950‑х годов см.: Fischer J.–L. Op. cit. P. 102–110.
(обратно)631
Wolff É. Op. cit. P. 13.
(обратно)632
«Они учитывают большинство существующих врожденных уродств; они все еще отвечают, в общих чертах, современным потребностям» (Wolff É. La Science des monstres. Paris: Gallimard, 1965. P. 17).
(обратно)633
«В данной работе я намерен последовать примеру этих… анатомистов и буду вслед за ними отличать… монструозность от иных видов специфических отклонений… так как я разделяю их отвращение к тому, чтобы называть „монстрами” существ, чье состояние лишь незначительно отличается от нормального» (Saint–Hilaire I. G. Histoire générale et particulière des anomalies de l’organisation chez les animaux, ou Traité de tératologie. Paris: Baillière, 1832–1836. P. 30–31).
(обратно)634
Об этом см. исследование Анри–Жака Стикера: Stiker H.–J. Nouvelle perception du corps infirme // Histoire du corps. T. II. De la Révolution à la Grande Guerre. P. 237–239 (рус. изд.: Стикер А.–Ж. Новое восприятие увечного тела // История тела: В 3 т. Т. 2: От Великой французской революции до Первой мировой войны. С. 230–245.
(обратно)635
Saint–Hillaire I. G. Histoire générale et particulière des anomalies. P. 8.
(обратно)636
APP. DA 202. Рекламный проспект цирка Барнума и Бейли, 1903.
(обратно)637
Saint–Hillaire I. G. Histoire générale et particulière des anomalies. P. 36–37.
(обратно)638
См., в частности: Poter R. Les Anglais et les loisirs // L’Avènement des loisirs. P. 19–54.
(обратно)639
Illustrated London News. Apr. 3,1847.
(обратно)640
The Nation. July 27, 1865.
(обратно)641
Это был первый пожар музея Барнума. Следующий его музей сгорел в 1868 году (см. выше). — Прим. ред.
(обратно)642
Ibid.
(обратно)643
The Nation. Aug. 10,1865.
(обратно)644
Цит. по: Фуко М. Указ. соч. С. 88–89.
(обратно)645
Цит. по: Там же. С. 80.
(обратно)646
См.: Courtine J. J. Le désenchantement des monstres. P. 16–22.
(обратно)647
См.: Martin E. Histoire des monstres. P. 144–171.
(обратно)648
Eschbach P.–L.–A. Notes sur les prétendus monstres conservés dans quelques ouvrages de droit // Revue de legislation et de jurisprudence [Revue Woloski]. Fév. 1847. Nouvelle série. VII. P. 167–172.
(обратно)649
Martin E. Histoire des monstres. P. 158.
(обратно)650
Письмо в «Таймс»: The Times. Dec. 4, 1886.
(обратно)651
Здесь мы затрагиваем современные источники того, о чем пишет Люк Болтански в работе: Boltanski L. La Suffrance à distance. Morale humanitaire, médias et politique. Paris: Métailié, 1993.
(обратно)652
Gautier T. Les nains de la sale Hertz // Le Moniteur universel. 9 janvier 1860. No. 9. P. 37.
(обратно)653
Так, в одном только Париже документы (постановления от 28 февраля 1863 года, от 21 февраля 1906 года, от 10 августа 1908 года, от 6 декабря 1912 года, от 13 января 1919 года; циркуляры префекта полиции от 31 мая 1859 года, от 21 марта 1860 года, от 9 апреля 1914 года и т. д.), безостановочно выходившие вплоть до 1940‑х, полностью регламентировали деятельность организаторов ярмарочных развлечений. В них предписывалось обязательное ведение антропометрического реестра и обладание разрешениями на демонстрацию, регулировался детский труд, запрещалась практика зазывания перед балаганами, ограничивались или запрещались «непристойные» моменты в демонстрации человеческих диковинок, особое внимание обращалось на анатомические музеи.
(обратно)654
APP. DB 202. Communications du préfet de police aux commissaries de quartier sur la Foire aux pains d’épice (Предписания префекта полиции, адресованные комиссарам кварталов относительно Пряничной ярмарки), 1892–1929. Р. 1509.
(обратно)655
Ibid.
(обратно)656
Разрешения предоставлялись в рутинном порядке, и попустительства были частым явлением. Так, например, при анализе всех запросов на демонстрацию, поступивших в префектуру Роны во второй половине XIX века, не было обнаружено ни одного отказа (Архив департамента Роны [ADR]. II 248).
(обратно)657
APP. DB 202. Circulaire No. 13, du 9 avril 1914, du préfet de police de Paris (Циркуляр No. 13 префекта полиции Парижа от 9 апреля 1914 года).
(обратно)658
AML. 1273 WP 027. Surveillance des fêtes foraines. Arrêté du maire de Lyon du 19 avril 1920 sur les spectacles forains (Надзор за ярмарочными праздниками. Постановление мэра Лиона о ярмарочных зрелищах от 19 апреля 1920 года).
(обратно)659
Ibid.
(обратно)660
Charcot J.–M., Richer P. Les Difformes et les Malades dans l’arts. Paris: Lecrosnier & Babé, 1889.
(обратно)661
См. об этом: Nye R. A. The medical origin of sexual fetishism // Fetishism as Cultural Discourse / ed. by E. Apter, W. Pietz. Ithaca: Cornell University Press, 1993. P. 13–30; а также: Matlock J. Masquareding Women, Pathologized Men. Cross–dressing, Fetishism and the Theory of Perversion, 1882–1935 // Ibid. P. 31–61. В более общих чертах см.: Nye R. A. Crime, Madness and Politics in Modern France.The Medical Concept of National Decline. Princeton: Princeton University Pree, 1984. Обобщение см. в работе: Corbin A. Risques et dommages de la visibilité du corps // Histoire du corps. T. II. P. 206–210.
(обратно)662
Обо всем этом см. подробнее в работе: Stiker H.–J. Nouvelle perception du corps infirme. P. 279–298.
(обратно)663
См. об этом здесь же исследование Стефана Одуана–Рузо (часть IV, глава I) и приведенные в нем библиографические ссылки.
(обратно)664
В этих вопросах, а также в том, что касается вопросов инвалидности и понятия «ограничения трудоспособности», мы опираемся на новаторское исследование Анри–Жака Стикера: Stiker H.–J. Corps infirmes et société. Paris: Dunod, 1997. Здесь представлена его точка зрения на историю понятия «ограничение трудоспособности», иллюстрируемую, в частности во Франции, в его работах, а также в работах Зины Вейганд. В англоговорящем мире также получило развитие важное течение disability studies (изучение нетрудоспособности), основные темы и некоторые из используемых принципов которого можно найти в работе: Handbook of Disability Studies / ed. by G. L. Albrecht, K. D. Seelman, M. Bury. Thousand Oaks (Calif.), London: Sage, 2001.
(обратно)665
Создание национального бюро инвалидов войны (2 марта 1916 года), закон о профессиональной переподготовке инвалидов войны и лиц, досрочно уволенных с военной службы в связи с заболеваниями (2 января 1918 года), закон о помощи в профессиональной переквалификации (март 1919 года, апрель 1924 года), закон, открывающий доступ инвалидам труда в школы переподготовки, предназначенные для инвалидов войны (5 мая 1924 года, 14 мая 1930 года) и т. д. В других странах Европы и Северной Америки происходят похожие процессы. Так, например, в 1917 году в США Красный Крест основывает Institute for Cripples and Disabled Men (Институт увечных и искалеченных людей).
(обратно)666
Stiker H.–J. Corps infirmes. P. 128.
(обратно)667
Накануне II Мировой войны в Европе около 1500 карликов были задействованы в индустрии зрелищ. Число их антрепренеров составляло 71 человек. Среди них некто Лео Сингер, один из наиболее преуспевающих дельцов, нанявший 25 агентов, которые прочесывали города и деревни центральной Европы в поисках лилипутов (Koven Y., Negev Е. Nous étions des géants. L’incroyable survie d’une famille juive de lilliputiens. Paris: Payot–Rivages, 2004. P. 46).
(обратно)668
Вот список «дегенеративных типов» 1882 года: «микроцефалы, карлики, закоренелые алкоголики, слабоумные, крипторхиды, кретины, больные зобом, больные малярией, эпилептики, больные золотухой, больные туберкулезом, рахитики» (Dally Е. Dégénérescence [biologie anthropologique] // Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales / dir. par A. Dechambre T. XXVI. Paris: G. Masson, P. Asselin, 1882. P. 225; цит. по: Carol A. Histoire de l’eugénisme en France. Les médecins et la procréation, XIX–XX' siècle. Paris: Éd. Du Seuil, 1995. Именно этим изданием мы руководствовались при описании евгеники во Франции).
(обратно)669
Binet–Sanglé C. Le Haras humain: Paris: Albin Michel, 1918; Richet С., La Sélection humaine. Paris: Alcan, 1912; Carrel A. L’Homme, cet inconnu. Paris: Pion, 1935.
(обратно)670
Richet C. L’Homme stupide. Paris: Flammarion, 1918. P. 18.
(обратно)671
Carrel A. L’Homme, cet inconnu. P. 359.
(обратно)672
Carol A. Histoire de l’eugénisme en France. P. 149–150.
(обратно)673
Так, около 47000 стерилизаций людей, страдающих различными заболеваниями или умственной неполноценностью, было совершено в США с 1907 по 1949 год, чему способствовало одобрение этой практики Верховным судом в законе от 1927 года (решение по делу «Бак против Белла» (Buck versus Bell); об этом см.: Reilly P. R. The Surgical Solution. A History of Involuntary Sterilization in the US. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1991. Об истории евгеники, в частности нацистской, см. многочисленные работы: Proctor R. Racial Hygiene. Medicine under the Nazis. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1989; Weindling P. Health, Race and German Politics between National Unification and Nazism, 1870–1945. Cambridge: Cambridge University Press, 1989; Schneider W. H. Quality and Quantity. The Quest for Biological Regeneration in 20th Century France. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; Barkan E. The Retreat of Scientific Racism. Changing Concepts of Rce in Britain and the US between the World Wars. Cambridge: Cambridge University Press, 1992; Götz A., Chroust P., Pross C. Cleansing the Fatherland. Nazi Medicine and Racial Hygiene. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994; Conte É., Essner C. La Quête de la race. Une anthropologie du nazisme. Paris: Hachette, 1995; Kevles D. J. Au nom de l’eugénisme. Génétique et politique dans le monde anglo–saxon. Paris: PUF, 1995; Pichot A. La Société pure. De Darwin à Hitler. Paris: Flammarion, 2000; Burrin P. Ressentiment et apocalypse. Essai sur l’antisémitisme nazi. Paris: Éd. Du Seuil, 2004; Schafft G. E. From Racism to Genocide. Anthropology in the Third Reich. Urbana: University of Illinois Press, 2004.
(обратно)674
Carol A. Histoire de l’eugénisme en France. P. 177. Не столь широко известно то, что нацистский закон основывался на модели программы штата Калифорнии.
(обратно)675
В 400000 оценивается число немецких граждан, попавших под действие данного законодательства.
(обратно)676
См.: Leroi А.М. Mutants. P. 149.
(обратно)677
О Менгеле и Овицах в Освенциме см.: Klee E. La Médecine nazie et ses Victimes. Arles: Solin–Actes Sud, 1998. P. 325–356; Leroi A. M. Mutants. P. 147–153; Koven Y., Negev E. Nous étions des géants.
(обратно)678
Пар близнецов было, по–видимому, 350. Из них до эвакуации дожило 72. См.: Klee E. La Médecine nazie et ses Victimes. Klee E. La Médecine nazie et ses Victimes. Arles: Solin–Actes Sud, 1998. P. 354.
(обратно)679
Свидетельские показания Миклоша Нисли, ассистента Менгеле, ответственного за препарирование трупов (Klee E. Op. cit. Р. 354).
(обратно)680
Levi P. Si c’est un homme. Paris: Julliard / Presses–Pocket, 1987. P. 102–105 (рус. изд.: Леви П. Человек ли это? / Пер. с ит. М.: Текст, 2001. С. 114–117).
(обратно)681
À la fête de Neuilly // Comoedia. 15 juin 1910.
(обратно)682
Ibid.
(обратно)683
Comoedia. 5 avril 1920.
(обратно)684
Ibid.
(обратно)685
Clarétie L. // Revue générale, littéraire, poétique et artistique. 1 sept. 1877. No. 92. P. 379.
(обратно)686
C 2424 в 1880‑м до 667 в 1899‑м. APP. DB 202: Recensement effectué en 1900 par E. Gréard, chargé du contrôle des foires à la préfecture de police (учет, произведенный в 1900 году Э. Греаром, представителем префектуры полиции, ответственным за контроль над ярмарками).
(обратно)687
Céline L.–F. Voyage au bout de la nuit, Paris, Denoël–Steele, 1932. P. 590. С конца XIX века паровые карусели и русские горки, а затем движущиеся тротуары, «центрифуги», гусеничные ленты, фантастические поезда, «автодромы» и, наконец, с конца 1920‑х годов автородео становятся основными ярмарочными развлечениями, меняя саму шкалу ощущений и задавая новую гамму удовольствий.
(обратно)688
Paris Forain. 1 oct. 1920. No. 1.
(обратно)689
AML. 343 WP 006.
(обратно)690
AML. 1140 WP 083, дело 20.
(обратно)691
AML. 806 WP 001, документ 13039.
(обратно)692
AML. 806 WP 001, разные документы.
(обратно)693
AML. 806 WP 001, документ 5778.
(обратно)694
Liaisons (журнал префектуры полиции). 14 décembre 1964.
(обратно)695
AML. 807 WP 002.
(обратно)696
AML. 806 WP 001. Correspondance du maire de Lyon du 20 juillet 1971 (сообщение мэра Лиона от 20 июля 1971 года).
(обратно)697
AML. 806 WP 001. Quelques remarques sur les vogues de Lyon (2 décembre 1954). (Несколько заметок о ярмарочных гуляньях в Лионе от 2 декабря 1954 года).
(обратно)698
Bogdan R. Op. cit. P. 62–68.
(обратно)699
Taylor D. Joy Ride. N.Y.: G. P. Putnam’s Sons, 1969. P. 247–248. См.: Skal D. J. The Monster Show. A Cultural History of Horror. N.Y.: W. W. Norton, 1993. P. 145–159.
(обратно)700
См.: Manonni L. Le Grand Art de la lumière et de l’ombre. Archéologie de cinema. Paris: Nathan, 1994.
(обратно)701
La Nature. 21 sept. 1895. No. 1164.
(обратно)702
L’Illustration. 10 août 1897; La Nature. 12 juin 1897. См. об этом диссертацию Анн Руже на соискание степени DEA «Распространенные способы популяризации науки: рентгеновские лучи и радиоактивность» (Rougé A. Les forms populaires de vulgarization des sciences: rayons X et radioactivité. Mémoire de DEA. Université de Paris XI-Orsay, 2001).
(обратно)703
La science foraine: les décapités parlants // La Nature. 11 novembre 1882. No. 493. P. 379–382.
(обратно)704
О технике создания оптических иллюзий в это время см.: Alber. Les Grands Trucs de la prestidigitation décrits et expliqués. Paris: Mazo, 1904; Hopkins A. A. Magic Stage Illusions and Scientific Diversions, Including Trick Photography. N.Y.: Munn & Co., Scientific American Office, 1898.
(обратно)705
См.: Alber. Les Grands Trues. P. 128–130; La Nature. 12 mars 1898. No. 1293. P. 239–240.
(обратно)706
La science foraine: la femme i trois têtes // La Nature. 9 septembre 1882. No. 484. P. 357–358.
(обратно)707
Дело Гуффэ — уголовный процесс по делу об убийстве в 1889 году судебного исполнителя Туссена–Огюстена Гуффэ, чье тело убийца уложил в сундук и отправил из Парижа в Лион. Один из самых знаменитых судебных процессов своего времени. — Прим. перев.
(обратно)708
См. наст. изд. о вкладе Антуана де Баэка, часть V, глава 2.
(обратно)709
Для создания кинематографического образа Тод Браунинг использовал два основных элемента. С одной стороны, это side show и участвующие в нем монстры. С другой — фигура Лона Чейни, способного сыграть любое необходимое Браунингу уродство, благодаря чему в период с 1919 по 1929 год он снялся в десяти фильмах: он сыграл безногого калеку в «Наказании» («The Penalty», 1920), горбуна в фильме «Горбун из Нотр–Дама» («The Hunchback of Notre Dame», 1923), человека с обезображенным лицом в «Призраке Оперы» («The Phantom of the Opera», 1925), переодетого в старушку чревовещателя в «Несвятой троице» («The Unholy Three», 1925), калеку в «Дрозде» («The Blackbird», 1926) и «Дороге на Мандалай» (The Road to Mandalay, 1926), безрукого в «Неизвестном» («The Unknown», 1927), немощного мстителя, волочащего свое полупарализованное тело из кадра в кадр в «Западе Занзибара» («West of Zanzibar», 1928)… Не исключено, что впечатляющий миметический талант Чеини отсрочил появление в фильмах Браунинга настоящих монстров, целое нашествие которых началось с фильмом «Уродцы», то есть после смерти Чейни в 1930 году.
(обратно)710
О кинематографе Браунинга см.: Werner A. Freaks. Cinema of the Bizarre. London: Lorrimer, 1976; Catalogo do ciclo Tod Browning. Lisboa: Cinemateca Portuguese, 1984; Skal D. J. The Monster Show; Skal D. J., Savada E. Dark Carnival. The Secret World of Tod Browning. N.Y.: Doubleday, 1995; Norden M. F. The Cinema of Isolation. A History of Physical Disability in the Movies. New Brunswick (N.J.): Rutgers University Press, 1994; Bocchi P. M., Bruni A. Freakshow. II cinema della difformité. Bologne: Puntozero, 1998; см. также: Les Cahiers du cinema. Mars 1969. No. 210; Mai 1978. No. 288; Juin 1978. No. 289; Oct. 1990. No. 436; Oct. 2000. No. 550.
(обратно)711
Skal D. J. The Monster Show. P. 148.
(обратно)712
Браунингу пришлось предложить эту роль Ольге Баклановой, женщине–вамп немого кино на закате карьеры. Она так вспоминала день, когда режиссер представил ей ее партнеров по фильму: «Так, он представил мне девушку, которая походила на орангутанга; затем человека, у которого была голова, но не было ног, только голова и туловище, как яйцо… Он показывал мне их одного за другим, но я не могла смотреть, я готова была потерять сознание, я хотела плакать» (Kobal J. People Will Talk. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1985. P. 52; цит. по: Skal D. J. The Monster Show. P. 152).
(обратно)713
Freaks. DVD-издание, Turner Entertainment Co. and Warner Bros Entertainment, 2005.
(обратно)714
Cansas City Star. July 15,1932.
(обратно)715
Бродвейский кинотеатр. — Прим. ред.
(обратно)716
The New York Times. July 13,1932.
(обратно)717
Variety. July 12,1932.
(обратно)718
Это был первый фильм, премьера которого прошла одновременно в двух самых больших кинотеатрах города — New Roxy Radio и City Music Hall, причем в обоих случаях зал был переполнен. Ему сопутствовал невероятный финансовый успех, позволивший разом покрыть все долги создавшей его кинокомпании RKO. Его появление было подготовлено двумя предшествовавшими ему фильмами Уиллиса О’Брайена, которые выводили на экран динозавров и гигантских обезьян. Они вышли в 1915‑м («Динозавр и недостающее звено»), а затем в 1925 («Затерянный мир») годах. О «Кинг–Конге» см., в частности: Glut D. F. Classic Movie Monstres. Metucnen (N.J.). London: Scarecrow Press, 1978. P. 282–371.
(обратно)719
«Никогда больше подобная история не будет снята, потому что современная наука и тератология вскоре уберут с земной поверхности подобные ошибки природы».
(обратно)720
Об этом см.: Skal D. J. Screams of Reason. Mad Science ans Modern Culture. N.Y.; London: W. W. Norton, 1998.
(обратно)721
Со слов Дино Де Лаурентиса, цит. по: Glut D. F. Classic Movie Monstres. Metuchen (N.J.). London: Scarecrow Press, 1978. P. 347.
(обратно)722
Цит. по: Skal D. J. The Monster Show. P. 175.
(обратно)723
Почти сразу же, в год своего выхода, фильм получает приторное продолжение «Сын Кинг–Конга» (1933). Когда оригинальная версия выпускается повторно в 1938 году, цензура смягчает первоначальную свирепость (сцены, где Кинг–Конг затаптывает туземца, жует людей…), устраняет стойкий образ человеческого зоопарка, сквозящий в эпизодах с «туземцами», и маскирует эротическую двусмысленность (сцены, где Зверь раздевает Красавицу). Ремейк Джона Гиллермина в 1976 году еще сильнее обнажит человеческую природу, скрывающуюся под шкурой гориллы, чтобы сделать из нее, по словам продюсера, «романтического любовника» (см.: Glut D. F. Op. cit. P. 349).
(обратно)724
В оригинале гномы называются dwarfs, то есть «карлики». — Прим. ред.
(обратно)725
Sadoul G. Histoire du cinema mondial. Paris: Flammarion, 1949. P. 296.
(обратно)726
«Одомашнивание» монстров в детской литературе является частью более глобального и более древнего процесса уменьшения нарративного насилия в народных сказках (см.: Darnton R. Peasants tell tales. The meaning of Mother Goose // The Great Cat Massacre. N.Y.: Vintage Books, 1985. P. 9–71).
(обратно)727
Bergren E., Vore C. De., Lynch D. The Elephant Man. Screenplay. Hollywood: Script City, 1980. P. 54.
(обратно)728
Ibid. P. 90.
(обратно)729
Так, во Франции ряд мер, включенных в законы–декреты о социальном обеспечении и касающихся реабилитации и профессиональной переквалификации определенных категорий больных и инвалидов, в 1950‑е годы был продолжен изданием многочисленных законов, предписывавших создание специализированных учреждений, которые должны были определять меры поддержки лиц с умственными или физическими отклонениями и регулировать обязательства предприятий перед ними. Та же тенденция наблюдалась и в Америке, где после войны активизировались усилия по профессиональной реабилитации (Закон о профессиональной реабилитации (Vocational Réabilitation Act), 1954), а также активно создавались ассоциации по поддержке инвалидов, родителей детей–инвалидов, в том числе уже на международном уровне. См.: Stiker H.–J. Corps infirmes et société. Paris: Dunod, 1997. P. 203–208; Braddock D. L., Parich S. L. An Institutional History of Disability // Handbook of Disability Studies / ed. by G. L. Albrecht, K. D. Seelman, M. Bury. N.Y.: SAGE Publications, 2003. P. 69–96.
(обратно)730
Во Франции согласно закону от 23 ноября 1957 года дается определение работнику с ограниченной трудоспособностью, создается Совет по профессиональной и социальной переподготовке, определяется квота рабочих мест для трудоустройства инвалидов для предприятий; в 1970‑е годы (законы от 1971 и 1975 годов) увеличивают финансовую поддержку и степень государственного участия в данном вопросе, что в начале 1980‑х годов приведет к созданию международной классификации инвалидности. В то же время в США прогрессирует признание прав инвалидов (раздел 504 Закона о реабилитации (Rehabilitation Act) 1973 года) и получают развитие образовательные меры (Закон об образовании детей–инвалидов (Education of All Handicapped Children Act) 1973 года).
(обратно)731
Закон об американцах–инвалидах (Americans with Disabilities Act), изданный в 1990 году в США; похожий закон 1995 года выходит в Англии (Закон о мерах по пресечению дискриминации инвалидов (Disability Discrimination Act)), в ООН в 1994 году выпущен похожий закон (Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities)), продолжающий Всемирную программу действий в отношении инвалидов (Word Program of Action Concerning Disabled Persons, 1982), близкую той, что была принята Европейским союзом в 1996 году; французский закон 2005 года об ограниченной трудоспособности.
(обратно)732
Goffman E. Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice Hall, 1963 (неполный рус. пер.: Гоффман И. Стигма: заметки об управлении испорченной идентичностью [Электронный ресурс] / Пер. М. С. Добряковой. (дата обращения: 15.10.2014).
(обратно)733
Bosworth P. Diane Arbus. A Biography. N.Y.: Knopf, 1984. P. 189.
(обратно)734
«…термин „стигма” будет использоваться для обозначения качества, выдающего какое–то постыдное свойство индивида; <…> речь идет не о всех нежелательных качествах, а только о тех, которые не соответствуют нашим стереотипным представлениям о том, каким должен быть данный тип индивида».
(обратно)735
Здесь и далее цит. по: Гоффман И. Стигма / пер.М. С. Добряковой. (дата обращения: 15.10.2014). С. 3.
(обратно)736
Цит. по: Гоффман И. Указ. соч. С. 10.
(обратно)737
Цит. по: Там же. С. 14.
(обратно)738
«…индивид, который мог бы легко участвовать в обычном социальном взаимодействии, обладает некой особенностью, которая навязчиво привлекает к себе внимание и отвращает от него собеседников, — тем самым перекрывая путь и другим качествам» («Стигма» И. Гоффмана).
(обратно)739
Цит. по: Там же. С. 2.
(обратно)740
Цит. по: Там же. С. 4.
(обратно)741
Goffman E. Op. cit. Р. 154.
(обратно)742
Ibid. Р. 152.
(обратно)743
Об этом см. замечательное исследование Клодин Арош, разбирающее представления, в частности, Зиммеля и Гоффмана о «способе смотреть» в современном демократическом обществе: Simmel G. Sociologié. Étude sur les forms de la socialisation [1908]. Paris: PUF, 1999; Goffman E. Les Rites d’interaction. Paris: Éd. De Minuit, 1974; Haroche C. Façons de voir, manières de regarder dans les sociétés démocratique contemporaines. Communications. Janvier 2004. No. 75. P. 147–148.
(обратно)744
Об американском опыте см.: Bogdan R. Op. cit. P. 279–281.
(обратно)745
См. об этом: Interdit de vol («Запрещенный полет») // Libération. 4 décembre 1996, о «летающем карлике» Мануэле Вакенгейме. В 1990–1991 годах он принял участие в шести десятках спектаклей. В ноябре 1991 года министр иностранных дел рекомендовал отменить эти зрелища. В 1996 году Государственный совет утвердил этот запрет. По тому же вопросу см.: Haroche С. Remarques sur les incertitudes et les ambiguïtés du droit à la dignité // Le Préambule de la Constitution de 1946. Antinomies juridiques et contradictions politiques / Geneviève Koubi et al. Parif: PUF, 1996.
(обратно)746
По этому вопросу см. дискуссию в: Prejudicial appearences. The Logic of American Antidiscrimination Law / ed. by R. C. Post. Durham: Duke University Press, 2001.
(обратно)747
См.: Courtine J.–J. La prohibition des mots: la réécriture des manuels scolaires aux États–Unis // Cahiers de linguistique slave. Université de Lausanne, 2004. No. 17. P. 19–32.
(обратно)748
Здесь начинается сюжет, выходящий за пределы данного исследования и касающийся трансформации дискурсивных способов референции по отношению к человеческому уродству. В его рамках будут меняться слова и постепенно, в течение более века, терять свою силу отрицательные префиксы и термины, имеющие пренебрежительный семантический оттенок по отношению к телесным аномалиям. Лежащее в основе дискурсивного строя понятие «монструозность» постепенно уступит место понятию «увечье», на смену ему уже придут понятия «инвалидность» и «неприспособленность», которые, наконец, растворятся в широком лексическом пласте, описывающем разнообразные различия.
(обратно)749
Анри–Жак Стикер обращает внимание на этот парадокс: «Коротко говоря, инвалид оказывается включен в общественную жизнь — реадаптирован, как принято говорить, — только в том случае, если его увечье носит вторичный характер, в той же степени что рост, цвет волос или вес. Инвалид включается в общественную жизнь, только когда его увечье незаметно. И все равно на нем стоит клеймо. <… > На тех, кто оказался в такой ситуации, оказывается двойное давление: на них показывают, тычут в них пальцем…, а они должны вести себя так, будто ничего не происходит» (Stiker H. J. Corps infirmes. P. 156).
(обратно)750
Hold the Slurs — Fat is Not a Four–Letter word // The Los Angeles Times. Mar. 4,1990.
(обратно)751
Цит. по: Гоффман И. Указ. соч. С. 7.
(обратно)752
Leroi A. M. Op. cit. P. 13–15.
(обратно)753
Среди многочисленных примеров: Miracle Twins Go Home as National Heroines. Guatemala Greets Once–Conjoined Girls Who Were Separated at UCLA // Los Angeles Times. Jan. 14, 2003. О двух сестрах — сиамских близнецах из Гватемалы, разделенных в Лос–Анджелесе: «Они покинули Гватемалу семь месяцев назад — соединенные головами маленькие пациентки, родившиеся в нищете и вынужденные оказаться лицом к лицу с переменчивой судьбой. В понедельник они вернулись из США к себе домой, с высокими тиарами на забинтованных головах. Благодаря упорству молодых родителей и помощи доброжелателей из двух стран их будущее больше не представляется мрачным». Юг предоставил монстров и страдания, Север — медицинский осмотр и сострадание, а компания Federal Express — самолет, чтобы вернуться домой.
(обратно)754
См.: Blum V. L. Flesh Wounds. The Culture of Cosmetic Surgery. Berkeley: University of California Press, 2003.
(обратно)755
См.: Philips K. A. The Broken Mirror. Understanding and Treating Body Dysmorphic Disorder. N.Y.; Oxford: Oxford University Press, 1996. Это патологическое отношение к собственному телу иногда приводит к требованию ампутировать нормальную и здоровую конечность. См.: Bayne Т., Levy N. Amputees by choice. Body integrity disorder and the ethics of amputation // Journal of Applied Philosophy. Vol. 22. No. 1. 2005. P. 75–86.
(обратно)756
The Final Stop for the Side Show // The Los Angeles Times. June 24, 1997; In a Politically Correct World, Midway Attractions Endure // The Los Angeles Times. September 8, 2000; The Strange and Wondrous Case of the Lobster Boy // GQ. May 2002. P. 96–100.
(обратно)757
Эктродактилия — врожденное отсутствие или недоразвитие пальцев. — Прим. перев.
(обратно)758
Gall F. J., Spurzheim J. G. Anatomie et physiologie du système nervex en général et du cerveau en particulier. T. III. Paris, 1818. P. 488. О Голле см.: Renneville M. Le Langage des crânes. Une histoire de la phrénologie. Paris: Synthélabo, coll. «Les Empêcheurs de penser en rond», 2000.
(обратно)759
22 февраля 1826 года Gazette des tribunaux упорно настаивала на необходимости исследовать череп человека, осужденного в седьмой раз.
(обратно)760
Broussais F.–J.V. De l’irritation et de la folie. Paris: J.–B. Baillière, 1839. Цит. по: Labadie J.–M. Corps et crime // Histoire des savoirs sur le crime et la peine / dir. par Ch. Debruyst et al. Bruxelles: De Boeck, 1995. T. II. P. 309.
(обратно)761
Bruyères H. La Phrénologie, le Geste et la Physionomie. Paris: Aubert, 1847. P. 67.
(обратно)762
Ibid. P. 30. См. также диссертацию: Châles–Courtin. Le Corps criminel. Approche socio–historique des représentations du corps des criminels. Paris: EHESS, 28 fév. 2003.
(обратно)763
Lauvergne H. Les Forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, observés au bagne de Toulon. Grenoble: Jérôme Millon, 1991. P. 421.
(обратно)764
Ibid. P. 175.
(обратно)765
См.: Labadie J.–M. Op. cit. P. 313.
(обратно)766
См., в частности, проект Жоржа Кювье: «предложить зоологическую систему, способную служить проводником и гидом в области анатомии» (Le Régne animal distribué d’aprés son organisation. T. I. Paris: Fortin, Masson et Cie, 1816. P. 11).
(обратно)767
Bouillet M.–N. Dictionnaire des sciences, des lettres et des arts. Paris: Hachette, 1861. P. 1871.
(обратно)768
Nysten P.–H. Phrénologie // Littré É. Robin Ch.–Ph. Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accessoires et de l’art vétérinaire. Paris: J.–B. Baillière, 1855.
(обратно)769
Encyclopédie moderne. Dictionnaire abrégé des sciences, des lettres et de arts, de l’industrie, de l’agriculture et du commerce / dir. par L. Renier T. XXIII. Paris: Firmin Didot, 1864. P. 751.
(обратно)770
Kaluzynski M. Aux origines de la criminologie: l’anthropologie criminelle // Frénésie. Histoire, phychiatrie, phychanalyse. Printemps 1988. No. 5. P. 19.
(обратно)771
Lombroso C. L’Anthropologie et ses Récents Progrès. Paris: Alcan, 1891. P. 125.
(обратно)772
Lombroso C. L’Uomo deliquente, studiato in rapporto alla antropologia, alla medicina legale ed aile discipline carcerarie. Milan: U. Hoepli, 1876.
(обратно)773
Zola É. La Bête humaine. Paris: Le Livre de Poche, 1984. P. 49.
(обратно)774
Ibid. См. также: Koeppel B. Les crimes de la «bête humaine» // Frénésie. Histoire, phychiatrie, psychanalyse. Printemps 1988. No. 5. P. 57.
(обратно)775
Zola É. Op. cit. P. 73.
(обратно)776
Ibid. P. 274.
(обратно)777
См. также: Leps М.–Ch. Apprehemding the Criminal. The Product of Deviance in Nineteenth Century Discourse. Durham: Duke University, 1992. Особенно: The production of proofs. P. 44 sq.
(обратно)778
Létourneau Ch. Docteur. Préface (à Cesare Lombroso) // L’Homme criminel. Paris: Alcan, 1887.
(обратно)779
См. диссертацию: Cuého Ch. Les Archives de l’anthropologie criminelle de 1886 à 1900. Paris: Université Paris II, 1996.
(обратно)780
Lacassagne A. Le cerveau de Vacher // Archives de l’anthropologie criminelle. 1899. P. 25.
(обратно)781
Compte rendu des séances du IIIe Congrès d’anthropologie criminelle (Bruxelles, 1892) // Archives de l’anthropologie criminelle. 1892. P. 485.
(обратно)782
Compte rendu des séances du IVe Congrès d’anthropologie criminelle (Genève, 1896) // Archives de l’anthropologie criminelle. 1897. P. 18.
(обратно)783
См.: Létourneau Ch. Op. cit. P. VI.
(обратно)784
Darmon P. Médecins et assassins à Belle Époque. Paris: Éd. du Seuil, 1898.; работа: Histoire de la criminologie française / dir. par L. Mucchielli. Paris: L’Harmattan, 1995; и диссертация: Cuého Ch. Op. cit. — особо отмечают непоправимое падение престижа Ломброзо и доверия к нему начиная с 1890‑х годов.
(обратно)785
Congrès d’anthropologie criminelle de Rome // Archives de l’anthropologie criminelle. 1886. P. 182.
(обратно)786
См.: Cole S. A. Suspect Identities. A History of Fingerprinting and Criminal Identificatin. Crimes of mobility. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2002. P. 9.
(обратно)787
Reinach J. Les Récidivistes. Paris: G. Charpentier, 1882. P. 6.
(обратно)788
Ibid. P. 20.
(обратно)789
Закон о рецидиве от 27 мая 1885 года: Bulletin des lois. 12е série. В. 931. No. 15503.
(обратно)790
См.: Kalifa D. Crime et culture au XIXe siècle. Paris: Perrin, 2005.
(обратно)791
Bertillon S. Vie d’Alphonse Bertillon, inventeur de l’antropométrie. Paris: Gallimard, 1941. P. 85. См. также: Denis V. Des corps de papier. Fortune et infortunes du signalement, de Marc René d’Argenson à Eugène François Vidocq // Hypothèses 2002. Travaux de l’École doctorale d’histoire. Paris: Publications de la Sorbonne, 2003. P. 27.
(обратно)792
Gazette des tribunaux. 18 déc. 1826.
(обратно)793
Bertillon A. Identification anthropométrique, instructions signalétique. Melun: Impr. administrative, 1893. P. XVI.
(обратно)794
См.: Bertillon S. Vie d’Alphonse Bertillon. P. 88. См. также: Quételet A. La loi de dictribution des écarts // La physique sociale. T. II. Bruxelles: C. Muquardt, 1869. P. 38 (первая часть этого сочинения переведена на русский язык: Кетле А. Социальная физика, или Опыт исследования о развитии человеческих способностей: В 2 т. / Под ред. [и с предисл.] А. Русова. Киев: [Киевск. коммерч. ин-т], 1911–1913).
(обратно)795
О задачах статистики и роли Кетле см.: Brian É. Lbeil de la science incessamment ouvert, trois variantes de l’objectivisme statistique // Communication. Les Débus de la science de l'homme. 1992. No. 54.
(обратно)796
Луи–Адольф Бертильон принимал участие в издании «Dictionnaire d’anthropologie» («Антропологического словаря») 1886 года в качестве одного из главных редакторов.
(обратно)797
См.: Bertillon A. Identification anthropométrique.
(обратно)798
См.: Bertillon S. Vie d’Alphonse Bertillon. P. 112.
(обратно)799
См.: Ibid. P. 117.
(обратно)800
О происхождении и начале использования отпечатков пальцев см.: Hershel W. J. The Origin of Finger–Printing. London: Oxford University Press, 1916; Berry J. The history and development of fingerprinting // Advances in Fingerprint Technology / ed. by H. C. Lee, R. E. Gaensslen. N.Y.: Elsevier, 1991. P. 16–19; Cole S. A. Op. cit.; и, конечно, Ginzburg С. Traces. Racine d’un paradigme indiciaire // Mythes, emblèmes, traces. Morphologie et histoire. Paris: Flammarion, 1989. P. 139–180.
(обратно)801
Внук знаменитого астронома Уильяма Гершеля. — Прим. ред.
(обратно)802
Об Аргентине см.: Rodriguez J. E. Encoding the Criminal. Criminology and the Science of «Social Defense» // Modernizing Argentina (1881–1920). Докторская диссертация. Колумбийский университет, 2000; о Калифорнии см.: Saxton A. The Indispensable Enemy. Labor and the Anti–Chinese Movement in California. Berkeley: University of California Press, 1971; Daniels R. Coming to America: A History of Immigration and Ethnicity in American Life. N.Y.: Harper 8t Collins, 1990.
(обратно)803
Это ставит вопрос о снабжении граждан документами, которого мы здесь не касаемся. О французском опыте, в частности, см.: Piazza P. Hisoire de la carte nationale d’identité. Paris: Odile Jacob, 2004; L’Encartement des individues. Histoire et sociologie d’une pratique d’État / dir. par X. Crettez, P. Piazza. Paris: La Documentation française / INHES, 2005.
(обратно)804
Galton F. Finger Prints. London: Macmillan & Co., 1892. P. 152.
(обратно)805
См.: Cole S. A. Op. cit. P. 96. Здесь мы приводим рассуждения, заимствованные из этого исследования.
(обратно)806
Ibid. Р. 167.
(обратно)807
Ibid.
(обратно)808
«Он питал в этом отношении «великие надежды, которым не суждено было сбыться, научиться использовать [отпечатки пальцев] для определения рас и нравов» (Ibid. Р. 12). Этот отрывок цитируется Полем Рабиноу, которому мы обязаны идеей о «сожалении Гальтона»: Rabinow Р. Galton’s regret Of types and individuals // DNA on Trial. Genetic Identification and Criminal Justice/ dir. par Billings P. R. Plainview. N.Y.: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1992. P. 5–18.
(обратно)809
Об этом см.: Cole S. A. Op. cit. P. 97–118 («Degenerate fingerprints»).
(обратно)810
Scheck B., Neufeld P., Dwyer J. Actual Innocence. Five Days to Execution and Other Dispatches From the Wrongly Convicted. N.Y.: Doubleday, 2000.
(обратно)811
Что весьма показательно иллюстрирует процесс над О.Дж. Симпсоном в Лос–Анджелесе; см., например: Morrison T., Bronsky Lacour С. Birth of a Nation’hood. Gaze, Script and Spectacle in the Simpson Case. N.Y.: Pantheon, 2000.
(обратно)812
См.: Rafter N. H. Creating Born Criminals. Urbana: University of Illinois Press, 1997.
(обратно)813
Термин Зигмунта Баумана. См.: Бауман 3. Текучая современность. СПб.: Питер, 2008. Прим. перев.
(обратно)814
Об этом см. «Записки о безопасности»: Cahiers de la sécurité. Paris: INHES, 2005. No. 56, в частности, исследование: Ceyhan A. La biométrie: une technologie pour gérer les incertitudes de la modernité contemporaine. Applications américaines. Во Франции см. также дискуссию о проектах удостоверений личности и электронных паспортов INES (Identité national électronique sécurisée — Национальное электронное защищенное удостоверение личности): Le Monde. 16 juin 2005.
(обратно)815
В начале I Мировой пехотинцы составляли 70% от всех солдат, а к концу войны их доля снизилась до 50%. Двадцать восемь лет спустя только 700 000 американских солдат из 8,8 миллиона призванных к 1945 году были в боевых дивизиях и меньше 40% американских солдат в Тихом океане действительно сражались, причем большинство — по случайности.
(обратно)816
Dufour J.–L., Vaïsse М. La Guerre au XXe siècle. Paris: Hachette, 1993. См. главу III.
(обратно)817
Мы используем здесь выражение Жоржа Вигарелло, которое он поместил в заглавие своей книги: Vigarello G. Le Corps redressé. Histoire d’un pouvoir pédagogique. Paris: Jean–Pierre Delarge, 1978.
(обратно)818
Mauss M. Les techniques du corps // Sociologie et anthropologie. Paris: PUF, 1997. P. 365–386.
(обратно)819
Coignet J.–R. Souvenirs de J. R. Coignet. Tours: Mame, 1965. P. 22.
(обратно)820
Bachelard G. L’Air et les Songes. Paris: José Corti, 1943. P. 43. Цит. по: Vigarello G. Le Corps redressé. P. 9.
(обратно)821
Цитата приведена в: Keegan J. Anatomie de la bataille. Azincourt 1415. Waterloo 1815. La Somme 1916. Paris: Robert Laffont, 1993. P. 130.
(обратно)822
Roynette O. Bons pour le service. Inexpérience de la caserne en France à la fin du XIXe siècle. Paris: Belin, 2000. P. 273.
(обратно)823
См.: Histoire du corps. T. II. De la Révolution à la Grande Guerre. P. 363.
(обратно)824
Цит. по: Roynette O. Bons pour le service. P. 300.
(обратно)825
Ibid. P. 312.
(обратно)826
Циркуляр генерала Андре, военного министра, от 30 ноября 1901 года. Цит. по: Ibid. Р. 289. Настоящий раздел многим обязан главе V этого труда.
(обратно)827
Cosson О. Expériences de guerre du début du XXe siècle (guerre des Boers, guerre de Mandchourie, guerre des Balkans) // Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914–1918 / dir. par S. Audoin–Rouzeau, J.–J. Becker. Paris: Bayard, 2004. P. 97–107.
(обратно)828
Ferraton M. Sur les blessures de guerre par les armes modernes // Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie de Paris, 1913.
(обратно)829
Пример немецкой армии и особенно механизмы «отражения опыта» были проанализированы Анной Дюмениль: Duménil A. Le Soldat allemand de la Grande Guerre: institution militaire et expérience du combat. Vol. 2. Thèse de doctorat. Amiens, décembre 2000.
(обратно)830
В качестве примера можно взять рассказ о подготовке, которую проходили бойцы дивизии Gross Deutschland начиная с весны 1943 года, приведенный в Sajer G. Le Soldat oublié. Paris: Robert Laffont, 1967.
(обратно)831
В качестве свидетельства суровости подготовки морских пехотинцев в начале 1943 года можно прочесть примечательный рассказ Юджина Б. Следжа: Sledge Е.В. With the Old Breed at Peleliu and Okinawa. N.Y.; Oxford: Oxford University Press, 1981.
(обратно)832
Masson P. L’Homme en guerre, 1901–2001. Monaco: Éd. Du Rocher, 1997. P. 30.
(обратно)833
Benjamin W. Le Conteur. Réflexions sur l’œuvre de Nicolas Leskov // Œuvres. T. III. Paris: Gallimard. P. 115–116. Цит. по: Becker A. Maurice Halbwachs. Un intellectuel en guerres mondiales, 1914–1945. Paris: Agnès Viénot, 2003. P. 153.
(обратно)834
Serres M. Variations sur le corps. Paris: Le Pommier–Fayard, 1999. P. 30.
(обратно)835
Chevallier G. La Peur. Paris: Stock, 1930. P. 54.
(обратно)836
Six War Years, 1939–1945. Memories of Canadians at Home and Abroad / ed. by Broadfoot B. Toronto: Doubleday Canada, 1974. P. 234. Цит. по: Fussell P. À la guerre. Psychologie et comportements pendant la Seconde Guerre mondiale. Paris: Éd. du Seuil, 1992. P. 389.
(обратно)837
Hanson V. D. Le Modèle occidental de la guerre. La bataille d’infanterie dans la Grèce classique. Paris: Les Belles Lettres, 1990.
(обратно)838
Masson P. Op. cit. P. 30.
(обратно)839
Bruge R. Les Hommes de Diên Biên Phu. Paris: Perrin, 1999.
(обратно)840
«Черпалка» — предложенная генералом Петеном стратегия максимально частой смены войск на передовой. — Прим. ред.
(обратно)841
Количество паразитов на II Мировой войне было существенно ниже, чем во время предыдущего конфликта благодаря использованию ДДТ, также эффективно защищавшего от вшей.
(обратно)842
L’Écho des marmites. 29 fév. 1916. Цит. по: Audoin–Rouzeau S. À travers leurs journaux: 14–18. Les combattants des tranchées. Paris: Armand Colin, 1986. P. 43.
(обратно)843
Bloch M. L’Étrange Défaite. Paris: Gallimard, 1990. P. 87.
(обратно)844
Bellamy D. Stress et traumatismes du combat de char: l’exemple de la 4e DCR à la bataille d’Abbeville (mai 1940) // La Bataille en Picardie. Combattre de l’Antiquité au XXe siècle / dir. par P. Nivet. Amiens: Encrage, 2000. P. 239–248.
(обратно)845
Обо всем этом см.: Delaporte S. Les Gueules cassées. Les blessés de la face de la Grande Guerre. Paris: Noêsis, 1996, и Les Médecins dans la Grande Guerre, 1914–1918. Paris: Bayard, 2003.
(обратно)846
Masson P. Op. cit. P. 118.
(обратно)847
В американской армии, где ситуация была самой благополучной, количество солдат, умерших от ран, в 1941–1945 годах не превосходит 4,5% — ср. с 15–20% во второй половине XIX века. Кроме того, три четверти ранении позволяли считать пациентов «подлежащими восстановлению».
(обратно)848
Дебрифинг — беседа психолога с человеком, пережившим экстремальную ситуацию. — Прим. ред.
(обратно)849
Lebigot F. Névroses de guerre chez les casques bleus en ex-Yougoslavie // Synapse. Vol. 110. Novembre 1994. P. 23–27.
(обратно)850
Bloch M. Op. cit. P. 88.
(обратно)851
Caputo P. Le Bruit de la guerre. Paris: Albin Michel, 1975. P. 131.
(обратно)852
Ibid. P. 172.
(обратно)853
Я благодарю Франсуа Лебиго, психиатра военного госпиталя Перси, за все сведения, которые он сообщил мне об этой проблеме. См.: Lebigot F. La névrose traumatique, la mort réelle et la faute originelle // Annales médico–psychologiques. Vol. 155. 1997. No. 8. P. 522–526.
(обратно)854
Cabanes B. La Victoire endeuillée. La sortie de guerre des soldats français (1914–1918). Paris: Éd. du Seuil, 2004.
(обратно)855
Fussell P. Op. cit. P. 133, 129.
(обратно)856
Ibid. P. 150.
(обратно)857
Tacatacteuteuf. Март 1918. Цит. по: Audoin–Rouzeau S. Les Combattants des tranchées. P. 150.
(обратно)858
Le Naour J.–Y. Misères et tourments de la chair durant la Grande Guerre. Les mœurs sexuelles des Français, 1914–1918. Paris: Aubier, 2002.
(обратно)859
См. в первую очередь: Bourke J. Dismembering the Male. Men’s Bodies, Britain and the Great War. London: Reaktion Books, 1996.
(обратно)860
Mosse G. L. L’Image de l’homme. L’invention de la virilité moderne. Paris: Abbeville, 1997. P. 215.
(обратно)861
См. об этом: Mosse G. L. De la Grande Guerre au totalitarisme. La brutalisation des sociétés européennes. Paris: Hachette, 1999.
(обратно)862
Mosse G. L. L’Image de l’homme. P. 193.
(обратно)863
Horne J., Kramer A. German Atrocities, 1914: A History of a Denial. New Haven: Yale University Press, 2001.
(обратно)864
Bartov O. L’Armée d’Hitler. La Wehrmacht, les nazis et la guerre. Paris: Hachette, 1999.
(обратно)865
Белоруссия была эпицентром массовых убийств на Восточном фронте. Из 9,2 миллиона человек, живших там в 1939 году, к 1944 году в живых осталось не больше 7 миллионов. Было убито 700 000 военнопленных и от 500 000 до 550 000 евреев, 340 000 крестьян и беженцев были убиты в ходе борьбы с партизанами; также было убито 100 000 представителей других социальных групп. Кроме того, 380 000 человек были отправлены на принудительные работы в Рейх. См. об этом: Gerlach Ch. Les intérêts économiques allemands, la politique d’occupation et l’assassinat des juifs en Biélorussie de 1941 à 1943 // Dumenil A., Beaupré N., Ingrao Ch. 1914–1945. L’Ère de la guerre. T. II. 1939–1945. Nazisme, occupations, pratiques génocides. Paris: Agnès Viénot, 2004. P. 37–70.
(обратно)866
Цит. по: Ingrao Ch. Violence de guerre, violence génocide. Les pratiques d’agression des Einsatz–gruppen // Audoin–Rouzeau S., Becker A., Ingrao Ch., Rousso H. La Violence de guerre, 1914–1945. Paris: Complexe, 2002. P. 231. Настоящий раздел многим обязан работам Инграо. См. также статьи из кн.: Vemichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht / herausgeben von H. Heer, K. Naumann. Hamburg, 1995, переведенные в: Duménil A., Beaupré N., Ingrao Ch. 1914–1945. L’Ère de la guerre. T. II. 1939–1945.
(обратно)867
Browning Ch. Des hommes ordinaires. Le 101e bataillon de réserve de la police allemande et la solution finale en Pologne. Paris: Les Belles Lettres, 1994. P. 177.
(обратно)868
Bilton M., Sim K. Four Hours in My Lai. N.Y.: Penguin Books, 1992.
(обратно)869
Это различение было выявлено в работах Вероники Наум–Грапп. См. в первую очередь: Nahoum–Grappe V. L’usage politique de la cruauté: l’épuration ethnique (ex-Yougoslavie, 1991— 1995) // De la violence / séminaire de F. Héritier Paris: Odile Jacob, 1996. P. 273–323.
(обратно)870
Мы не будем упоминать здесь японские практики, чтобы оставаться в рамках западного мира. Однако очевидно, что в действиях американских военных присутствовала мотивация ответного насилия. Ограничимся ссылкой на кн.: Dower J. War without Mercy. Race and Power in the Pacific War. N.Y.: Pantheon Books, 1987, где параллельно рассматриваются военные преступления обеих сторон.
(обратно)871
Обезглавливание мечом или штыком (мечом для бедных в японской армии) было местью за аналогичную практику японских солдат в отношении западных пленных (Dower J. Op. cit.).
(обратно)872
См.: Sledge E. B. Op. cit.
(обратно)873
Life Goes to War. Phoenix, 1977. P. 137.
(обратно)874
Sledge E. B. Op. cit.
(обратно)875
Life Goes to War. P. 138.
(обратно)876
Dower J. War without Mercy. Race and Power in the Pacific War. N.Y.: Pantheon Books, 1987. P. 65.
(обратно)877
Fussel P. Op. cit. P. 163.
(обратно)878
Branche R. La Torture et l’Armée pendant la guerre d’Algérie, 1954–1962. Paris: Gallimard, 2001. P. 325.
(обратно)879
Amery J. Par–delà le crime et le châtiment. Essai pour surmonter l’insurmontable. Arles: Actes Sud, 1995. P. 60.
(обратно)880
Branche R. Op. cit. P. 331.
(обратно)881
Ibid. P. 335.
(обратно)882
Ibid.
(обратно)883
Audoin–Rouzeau S. L’Enfant de l’ennemi, 1914–1918: viol, avortement, infanticide pendant la Grande Guerre. Paris: Aubier, 1995. Об изнасилованиях в более широком плане см. также.: Vigarello G. Histoire du viol, XVIe‑XXe siècle. Paris: Éd. du Seuil, 1998.
(обратно)884
Ripa Y. Armes d’hommes contre femmes désarmées: de la dimension sexuée de la violence dans la guerre civile espagnole // De la violence et des femmes / dir. par C. Dauphin, A. Farge. Paris: Albin Michel, 1997.
(обратно)885
Naimark N. M. The Russians in Germany: a History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949. Cambridge: Belknap, 1995. Глава 2.
(обратно)886
Beevor A. La Chute de Berlin. Paris: Éd. de Fallois, 2002.
(обратно)887
Lilly R. J. La Face cachée des GI’s. Les viols commis par les soldats américains en France, en Angleterre et en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Paris: Payot, 2003. По подсчетам автора, было совершено более 17000 изнасилований, из которых 11000 приходятся на Германию, 3620 на Францию и больше 2400 на Англию.
(обратно)888
Nahoum–Grappe V. Guerre et différence des sexes: les viols systématiques (ex-Yougoslavie, 1991–1995) // De la violence et des femmes / dir. par Dauphin C., Farge A. Paris: Albin Michel, 1997. P. 159–184.
(обратно)889
При этом мы считаем, что частое и хорошо засвидетельствованное вырывание при помощи ножей золотых зубов у мертвых и даже раненых японских солдат не является практикой жестокости, несмотря на экстремальное насилие в отношении живых жертв. Здесь, скорее, идет речь о грабеже на поле боя — практике, которая, с нашей точки зрения, относится к другой области.
(обратно)890
Ingrao Ch. Chasse, sauvagerie, cruauté. La Sondereinheit Dirlewanger en Biélorussie // XXe siècle, revue d’histoire. В печати.
(обратно)891
Browning Ch. Op. cit. P. 177.
(обратно)892
Capdevila L., Voldman D. Nos morts. Les sociétés occidentales face aux tués de la guerre (XIXe‑XXe siècle). Paris: Payot, 2002. P. 95.
(обратно)893
Литература по этим вопросам весьма обширна. См., например: Mosse G. L. De la Grande Guerre au totalitarisme и обзор работ Аннет Беккер в Audoin–Rouzeau S., Becker А. 14–18. Retrouver la guerre. Paris: Gallimard, 2000. Глава 3. Обзор всего XX века см. в: Capdevila L., Voldman D. Nos morts.
(обратно)894
Цит. по: Pourcher Y. Les Jours de guerre. La vie des Français au jour le jour entre 1914 et 1918. Paris: Plon, 1994. P. 469–470. О важности индентификации и репатриации тел. см. также: Audoin–Rouzeau S. Cinq deuils de guerre, 1914–1918. Paris: Noêsis, 2001.
(обратно)895
Meridale C. War, Death, and Remembrance in Soviet Russia // War and Remembrance in the Twentieth Century / ed. by J. Winter, E. Sivan. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 78–79.
(обратно)896
Jauffret J.–Ch. La question des transferts des corps, 1915–1934 // Les Oubliés de la Grande Guerre, Supplément d’âmes. HS No. 3. P. 67–89.
(обратно)897
Capdevila L., Voldman D. Op. cit. P. 109
(обратно)898
Meridale C. Op. cit.
(обратно)899
Blondet–Bisch Th., Frank R., Gervereau L. et al Voir, ne pas voir la guerre. Paris: Somogy / BDIC, 2001.
(обратно)900
У нас нет возможности обсуждать здесь вопросы, связанные с этой универсалией. Об антропологическом измерении проблемы см. в первую очередь: Héritier F. Masculin–féminin. La pensée de la différence. Paris: Odile Jacob, 1996.
(обратно)901
Пресса много писала об этих инновациях. См., например: Le Monde. 12.09.2001. P. 23, и 06.03.2003. P. 14.
(обратно)902
Kertész I. Le vingtième siècle est une machine à liquider permanente // Parler des camps, penser le génocide, textes réunis par Catherine Coquio. Paris: Albin Michel, 1999. P. 87.
(обратно)903
ГУЛАГ (Главное управление лагерей) был административным органом, заведовавшим лагерями с 1930 по 1953 год. Были и лагеря, не относившиеся к ГУЛАГу, вроде монастыря на Соловецких островах, но вся советская лагерная система получила свое имя от этого управления. См.: Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. 1918–1956. Опыт художественного исследования. Paris: YMCA Press, 1973.
(обратно)904
Случай палаточных концентрационных лагерей, где армяне содержались во время их уничтожения в годы I Мировой войны, разумеется, отдельный. Это массовое убийство — парадигматический пример того, как насилие войны превращается в насилие во время войны, пример перехода от военного преступления к «преступлению против человечества» и геноцида еще до того, как международное право создало эти термины, и перед тем, как слово «геноцид» было придумано в 1944 году американским юристом Рафаэлем Лемкином как попытка описать уничтожение европейских евреев.
(обратно)905
Неблагоприятный и изолированный регион на северо–востоке Сибири, ставший символом ГУЛАГа из–за особенно суровых местных условий.
(обратно)906
Цит. по: Conquest R. La Grande Terreur. Les purges staliniennes des années trente. Paris: Stock, 1970. P. 326 (рус. пер. цит. по: Конквест P. Большой террор: В 2 т. / Пер. с англ. Л. Владимирского. Т. 2. Рига: Ракстниекс, 1991).
(обратно)907
Haffner D. Aspects pathologiques du camp de concentration d’Auschwitz–Birkenau, thèse soutenue à Paris en 1946. Tours: Imprimerie Union coopérative, 1946. Я благодарю Яэль Даган, которая добыла для меня этот поразительный документ.
(обратно)908
Отчет Эрика Вуда об освобождении лагеря в Бухенвальде. Washington. National Archives. P. 47637.
(обратно)909
Rossi J. Le Manuel du Goulag, Paris: Le Cherche midi, 1997. P. 113.
(обратно)910
В Биркенау также уничтожали цыган любых возрастов и пленных с Восточного фронта.
(обратно)911
Levi P. Les Naufragés et les Rescapés, quarante ans après Auschwitz. Paris: Gallimard, 1989. P. 13. (рус. пер. цит. по: Леви П. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010).
(обратно)912
Levi P. Si c’est un homme. Paris: Julliard / Presses Pocket, 1987. P. 37.
(обратно)913
Цит. по: Шаламов В. Плотники // Шаламов В. Собрание сочинений в шести томах. Том 1. Рассказы 30‑х годов. Колымские рассказы. М.: Терра — Книжный клуб, 2004. С. 57.
(обратно)914
Antelme R. L’Espèce humaine, Paris: Gallimard, 1957. P. 83.
(обратно)915
«…кому только нужна эта поправка? Выйдете отсюда — сразу на общие. За неделю опять превратитесь в тот же труп…» (Гинзбург Е. С. Крутой маршрут. N.Y.: POSSEV-USA, 1985.)
(обратно)916
Werth N., Moullec G. Rapports secrets soviétiques, 1921–1991. Paris: Gallimard, 1994. P. 347.
(обратно)917
Гинзбург E.C. Крутой маршрут. N.Y.: POSSEV-USA, 1985. C. 325.
(обратно)918
Kertész I. Être sans destin. Arles: Actes Sud, 1998. P. 148–149 (рус. пер. здесь и далее цит. по: Кертес И. Без судьбы. М.: Текст, 2004).
(обратно)919
Haffner D. Op. cit. P. 12.
(обратно)920
Цит. по: Шаламов В. Перчатка // Шаламов В. Избранное. СПб.: Азбука–Классика, 2002. С. 671.
(обратно)921
Гинзбург Е. С. Указ. соч. С. 205.
(обратно)922
Rossi J. Le Manuel du Goulag. P. 59.
(обратно)923
Petit G. Retour à Langenstein. Une expérience de la déportation. Paris: Belin, 2001. P. 28.
(обратно)924
Conquest R. Op. cit. P. 318. Поразительное физическое насилие, применявшееся блатными к другим заключенным, в том числе антропофагия, описана в нескольких романах Жака Росси, см., например: Rossi J. La Vache. Fragments de vies. Paris: Elikia, 1995.
(обратно)925
Goulag, le peuple des zeks / dir. par G. Piron Gollion: Infolio / Musée d’ethnographie de Genève, 2004. P. 40.
(обратно)926
Гинзбург E.C. Указ. соч. С. 63.
(обратно)927
Laks S. Mélodies d’Auschwitz. Paris: Éd. du Cerf, 1991.
(обратно)928
Название первой части «Архипелага ГУЛАГ».
(обратно)929
В нацистских лагерях, так же как и в ГУЛАГе, от заключенных также требовали выполнения многочисленных других повинностей — некоторые были связаны с профессиональным опытом узников. Тысячи мини–команд могли выполнять разные промышленные, сельскохозяйственные, даже научные работы, мимикрировавшие под экономическую деятельность страны в целом.
(обратно)930
Гинзбург Е. С. Указ. соч. С. 277.
(обратно)931
Как, например, Маргарет Бубер–Нойман, описавшая обе системы.
(обратно)932
Там же. С. 197.
(обратно)933
Rousset D. L’Univers concentrationnaire. Éd. du Pavois, 1946. P. 27. Gummi — название дубинок.
(обратно)934
IMEC, HBW2.B2–04.2, «Quelques faits sur Buchenwald et la mort de MM. Halbwachs et Maspero, par M. Mandelbrojt».
(обратно)935
Точные нормативы в граммах и поразительные процентные ограничения по сравнению с нормой см. в кн.: Applebaum A. Gulag: A History. N.Y.: Doubleday, 2003. P. 206–215 (рус. изд.: Эпплбаум Э. ГУЛАГ. М.: ACT; Corpus, 2015). «Убивает не работа, убивает норма», — писал Росси, который насчитал тридцать шесть видов нормы в кн.: Rossi J. Le Manuel du Goulag. P. 187, 229.
(обратно)936
Levi P. Si c’est un homme. P. 79. См. также: Antelme R. Op. cit. P. 92.
(обратно)937
Rossi J. Le Manuel du Goulag. P. 87.
(обратно)938
Такие случаи описаны у Евгении Гинзбург и Варлама Шаламова.
(обратно)939
Хотя иногда туалет становился местом освобождения, где можно скрыться от охраны и рассказать друг другу сны о свободе, и в первую очередь о еде.
(обратно)940
Rousset D. Op. cit. P. 13.
(обратно)941
Реификация — превращение в вещь. — Прим. ред.
(обратно)942
Цит. по: Шаламов В. Домино // Шаламов В. Избранное. С. 137.
(обратно)943
Цит. по: Керсновская Е. «…беззакония наши свидетельствуют против нас…»: наскальная живопись. М.: Квадрат, 1991. С. 225.
(обратно)944
Rossi J. Op. cit. P. 119.
(обратно)945
Kertész I. Être sans destin. P. 143.
(обратно)946
В Советском Союзе утеря номера наказывалась заключением в карцер. Неспособность произнести свой номер могла стоить узнику нацистских лагерей в Германии жизни или по меньшей мере жестокого избиения.
(обратно)947
В ГУЛАГе это позволяло отрезать руки пойманным и казненным беглецам, чтобы уточнять их личность в центральном бюро.
(обратно)948
Гинзбург E.C. Указ. соч. С. 273.
(обратно)949
Отчет о Бухенвальде, сделанный по прибытии в лагерь 3‑й американской армии 11 апреля 1945 года. Washington. National Archives. P. 47628.
(обратно)950
Le Verbe et le Mirador. La poésie au Goulag / textes réunis et présentés par E. Balzamo, M.–L. Bonaque, J.–M. Négrignat Paris: Éd. de Paris, 1998. P. 141. Siniavski A. Matérial à débiter, introduction à Varlam Chalamov // Chalamov V. Récits de la Kolyma. Paris: Fayard, 1986.
(обратно)951
Я сердечно благодарю Жоржа Снайдерса, который согласился поговорить со мной о своем пребывании в Освенциме и рассказал мне этот случай.
(обратно)952
Гинзбург E.C. Крутой маршрут. Милан: Arnoldo Mondadori, 1977. С. 267.
(обратно)953
Michelet E. Rue de la Liberté. Paris: Éd. du Seuil, 1955. P. 103.
(обратно)954
Segre L. Un infanzia perduta. Voci délia Shoah. Florence, 1996. P. 60.
(обратно)955
Guinzbourg E. S. Le Vertige. Chronique des temps du culte de la personnalité, 2 vol. Paris: Éd. du Seuil, 1997. T. I. P. 440, 448 (в оригинале «Крутого маршрута» соответствующий отрывок не обнаруживается. — Прим. ред.).
(обратно)956
См. свидетельства, собранные в: Commission internationale contre le régime concentrationnaire. T. I. Livre blanc sur les camps de concentration soviétiques. Paris: Éd. du Pavois, 1951.
(обратно)957
Женские лагеря превратились в настоящие «ясли» в 1947–1949 годах, когда случился значительный приток «воровок» (вдов погибших на войне колхозников, вынужденных красть и приговоренных к семи или восьми годам по закону от 4 июня 1947, предполагавшему от шести до пятнадцати лет лагерей за «воровство социалистической собственности»). В ГУЛАГе было почти 20000 детей младше четырех лет (в этом возрасте их отнимали у матерей). См.: Courtois S., Werth N., Panné J.–L. Le Livre noir du communisme. Paris: Robert Laffont, 1997.
(обратно)958
Kertész I. Être sans destin. P. 228.
(обратно)959
Гинзбург E.C. Указ. соч. С. 279.
(обратно)960
Там же. С. 51.
(обратно)961
Отчет о посещении лагеря в Бухенвальде, 25 апреля 1945 года. Washington. National Archives. P. 47602.
(обратно)962
Гинзбург E.C. Указ. соч. С. 22.
(обратно)963
См. прочувствованное философское осмысление «мусульман» в: Agamben G. Ce qui reste d’Auschwitz. L’archive et le témoin. Paris: Payot–Rivages, 1999, где порой, однако, упускается из виду, что за этим понятием стояли живые люди.
(обратно)964
Jurgenson L. Iixpérience concentrationnaire est–elle indicible? Monaco: Éd. du Rocher, 2003. P. 345.
(обратно)965
Antelme R. Op. cit. P. 97.
(обратно)966
Отчет об осмотре лагеря в Бухенвальде, 16 апреля 1945 года. Washington. National Archives. P. 47. No. 616–617.
(обратно)967
Mémoire des camps, photographies des camps de concentration et d’extermination nazis (1933-1999) / dir. par C. Chéroux. Paris: Marval, 2001.
(обратно)968
Из более чем обильной литературы на эту тему внимания заслуживает впечатляющий обзор Филиппа Буррена: Burrin Ph. Ressentiment et apocalypse. Essai sur l’antisémitisme nazi. Paris: Éd. du Seuil, 2004.
(обратно)969
Ibid. P. 47.
(обратно)970
Lifton R. J. Les Médecins nazis. Le meurtre médical et la psychologie du génocide. Paris: Robert Laffont, 1989.
(обратно)971
Grossman V., Ehrenbourg I. Le Livre noir. Arles: Solin / Actes Sud, 1995. P. 80 (первое рус. изд. «Черной книги» — 1944–1945 годы; в новейшем издании цитата не обнаруживается. — Прим. ред.).
(обратно)972
Одна из них выставлена в музее Яд–Вашем в Иерусалиме, другая — в Мемориале Холокоста в Париже.
(обратно)973
Aaron S. Le Non de Klara. Paris: Pocket, 2004.
(обратно)974
Michelet E. Op. cit. P. 246–247.
(обратно)975
L’Illustration. 8 mars 1890.
(обратно)976
L’Illustration. 22 sept. 1902.
(обратно)977
Coubertin P. de. Les spectateurs // Revue Olimpique. 1910. P. 28.
(обратно)978
См. Lequin Y. Les espaces de la société citadine // Histoire des Français, XIXe‑XXe siècle / dir. par Yves Lequin. T. II. La Société. Paris: Armand Colin,1983.
(обратно)979
Coubertin P. de. Les spectateurs. 1910. P. 28.
(обратно)980
Ibid. См. также: MacAloon J. This Great Symbol: Pierre de Coubertin and the Origins of the Modern Olympic Games. Chicago: The University of Chicago Press. 1981. P. 195.
(обратно)981
Coubertin P. de. Souvenirs d’Amérique et de Grèce. Paris: Hachette, 1897. P. 155.
(обратно)982
См.: Revue olympique. Brochure spéciale. Décoration, pyrotechnie, harmonie, cortèges — Essai de ruskinianisme sportif. Paris, 1912.
(обратно)983
См. L’Illustration. 14 juin 1913,11 juin 1921, 6 août 1932.
(обратно)984
Revue olympique. 1908.
(обратно)985
L’Illustration. 11 avr. 1925.
(обратно)986
L’Illustration. 23 fév. 1924.
(обратно)987
См. Paris–Guide: le guide de la vie à Paris. 1926. P. 295.
(обратно)988
Guyot–Daubès. Les Hommes phénomènes. Paris: Masson, 1885. P. 1.
(обратно)989
Coubertin P. de. La psychologie du sport // Revue des Deux Mondes. 1900. 1er juillet. P. 67.
(обратно)990
Müller J. P. Le Livre du plein air. Copenhague. H. Tillge. 1909. P. 110. На тему самопреодоления см. фундаментальный труд Queval I. S’accomplir ou se dépasser. Essai sur le sport contemporain. Paris: Gallimard, 2004.
(обратно)991
См.: Rauch A. Les vacances et la nature revisitée // L’Avènement des loisirs, 1850–1960 / dir. par Alain Corbin. Paris: Aubier, 1995. P. 100.
(обратно)992
Les Jeux Olympiques de 1896. Rapport officiel. 2-e partie. P. 1.
(обратно)993
L’Auto в 1920‑е годы предлагает «абонементы» на крупные соревнования: путевку, билет на стадион, включая плату за проживание.
(обратно)994
Coubertin P. de. Souvenirs d’Amérique et de Grèce. P. 150.
(обратно)995
Mérillon D. Exposition universelle de 1900. Rapport sur les concours internationaux d’exercices physiques et de sport. Paris: Imprimerie nationale, 1901. T. I. P. 65.
(обратно)996
Под «древними» играми подразумеваются дореволюционные игры. См.: Вигарелло Ж. Упражнения и игры // История тела: В 3 томах / Под ред. Корбена А., Куртина Ж.–Ж., Вигарелло Ж. Том 1: От Ренессанса до эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
(обратно)997
См.: La Vie au grand air. 1904.
(обратно)998
L’Auto. 27 juil. 1904.
(обратно)999
Ibid.
(обратно)1000
L’Auto. 15 juil. 1903.
(обратно)1001
L’Auto. 13 juil. 1910.
(обратно)1002
См.: Ehrenberg A. Des stades sans dieux // Le Débat. Mai–sept. 1986.
(обратно)1003
La Vie au grand air. 1904. P. 165.
(обратно)1004
Ibid. P. 284.
(обратно)1005
L’Auto. 27 juil. 1904.
(обратно)1006
Calvet J. Le Mythe des géants de la route. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 1981. P. 164.
(обратно)1007
Нет ничего удивительного в том, что историк велосипеда Эжен Вебер становится также историком «конца провинциального духа». Ср.: Weber Eu. La Fin des terroirs. Paris: Fayard, 1983.
(обратно)1008
Coubertin P. de. Conférence // Les Sports athlétiques. 13 juil. 1893. P. 3.
(обратно)1009
Ibid.
(обратно)1010
Charte de L’amateurisme. Art. VI // Revue olympique. Jan. 1902. P. 15.
(обратно)1011
L’Auto. 4 juil. 1907.
(обратно)1012
Ibid.
(обратно)1013
Coubertin P. de. Question d’amateurisme// Revue olympique. Fév. 1907. P. 218.
(обратно)1014
Coubertin P. de. Nouveaux aspects du problème// Revue olympique. Nov. 1913. P. 178.
(обратно)1015
Ibid.
(обратно)1016
Rauch A. Boxe, violence du XXe siècle. Paris: Aubier, 1992. P. 125. Анализ, предложенный в этой книге, очень важен для нас.
(обратно)1017
Le Temps. 1 juil. 1921.
(обратно)1018
См. также: Holt R. Introduction // The Book of British Sporting Heroes / ed. by J. Huntington–Whiteley. London: National Portrait Gallery, 1998.
(обратно)1019
La Vie au grand air. 1900.
(обратно)1020
Книга Rauch A. Boxe, violence du XXe siècle предоставляет наиболее точную информацию по этому вопросу.
(обратно)1021
См.: Durry J. Un champion populaire: André Leducq, vainqueur du Tour de France cycliste // Sport Histoire. 1988. No. 1.
(обратно)1022
L’Illustration. 11 juil. 1925.
(обратно)1023
Цит. по: Coubertin P. de. Souvenirs d’Amérique et de Grèce. P. 156.
(обратно)1024
Цит. по: Blaizeau J.–M. Les Jeux défigurés: Berlin 1936. Biarritz: Atlantica, 2000. P. 120.
(обратно)1025
См.: Ibid. Распорядок дня для немецких команд, начавших тренироваться «полный рабочий день» уже за год до игр.
(обратно)1026
См.: Hache A. Jeux Olympiques: la flamme et Lexploit. Paris: Gallimard, 1992.
(обратно)1027
Цит. по: Hubert Ch. 50 ans de Coupe du monde. Paris: Arts et voyages, 1978. P. 34.
(обратно)1028
Ibid.
(обратно)1029
См.: Boulongne Y.–P. Pierre de Coubertin. Humanisme et pédagogie. Dix leçons sur L’olympisme. Lausanne: CIO, 1999. P. 106.
(обратно)1030
См.: Hache A. Jeux Olympiques: la flamme et Lèxploit. P. 74.
(обратно)1031
Chany P. La Fabuleuse Histoire du Tour de France. Paris: ODIL, 1983. P. 245.
(обратно)1032
По поводу праздничного аспекта см.: Gaboriau Ph. Le Tour de France et le Vélo: histoire sociale d’une épopée contemporaine. Paris: L’Harmattan, 1995, и Sansot P. Tour de France: une forme de liturgie nationale // Cahiers internationaux de sociologie. 1989. No. 86.
(обратно)1033
L’Auto. 20juil.l938.
(обратно)1034
Les six jours cyclistes de Paris // L’Illustration. 9 avr. 1932.
(обратно)1035
Ibid.
(обратно)1036
На тему пересечения спорта, досуга и зрелища между двух воин см.: Walker Н. The Popularization of the Outdoor Movement, 1900–1940 // The British Journal of Sports History. 1985. No. 2. P. 140.
(обратно)1037
См.: Rauch A. Boxe, violence du XXe siècle. P. 145.
(обратно)1038
См.: Rauch A. Lbreille et Lioeil du sport, de la radio à la télévision (1920–1995) // Communication. Le Spectacle du sport. 1998. No. 67.
(обратно)1039
См.: Andreff W. La télévision et le sport // L’Esprit sportif aujourd’hui: des valeurs en conflit / dir. par G. Vigarello. Paris: Universalis, Coll. «Le tour du sujet», 2004. P. 171.
(обратно)1040
Thiriez F. Cinq vérités sur le «foot–business» // Le Monde. 27–28 fév. 2005.
(обратно)1041
Филипп Верно анализирует динамику «рынка» десятилетие за десятилетием с 1960 года. См.: Verneaux Ph. L’Argent dans le sport. Paris: Flammarion, 2005. P. 121–284.
(обратно)1042
Maitrot É. Sport et télé, les liaisons secrètes. Paris: Flammarion, 1995. P. 358.
(обратно)1043
Le mariage de L’argent, du sport et de la télévision… // Le Monde. 8 fév. 2000.
(обратно)1044
Maitrot É. Sport et télé, les liaisons secrètes. P. 284.
(обратно)1045
См.: Andreff W., Nys J.–F. Le Sport et la Télévision, relations économiques: pluralité d’intérêts et sources d’ambiguïté. Paris: Dalloz, 1987. P. 116, и Le mariage de L’argent, du sport et de la télévision… По поводу Олимпийских игр и «рыночного феномена» см.: Jennings A. The New Lords of the Ring. Olympic Corruption and How to Buy Medals. London: Simon & Schuster. 1996.
(обратно)1046
См.: Andreff W. La télévision et le sport. P. 172.
(обратно)1047
Джон Сагден и Алан Томлинсон говорят о «всемирном рынке». Sugden J., Tomlinson A. FIFA and the Contest for World Football. Cambridge: Polity Press, 1998. P. 98.
(обратно)1048
Le mariage de L’argent, du sport et de la télévision…
(обратно)1049
См.: Poiseuil B. Canal+, L’aventure du sport: entretiens avec Bernard Poiseuil. Paris: Éditoria, 1996. P. 274.
(обратно)1050
Le mariage de L’argent, du sport et de la télévision…
(обратно)1051
Maitrot É. Sport et télé, les liaisons secrètes. P. 284.
(обратно)1052
Ces villes que le ballon chavire // Le Nouvel Observateur. 10–16 fév. 2000.
(обратно)1053
Ibid.
(обратно)1054
Entretien de Gérard Collomb, maire de Lyon // Le Monde. 23 fév. 2005.
(обратно)1055
Paris veut démontrer sa flamme olympique // Libération. 8 mars 2005.
(обратно)1056
L’impact économique des JO fait rêver // Libération. 11 mars 2005.
(обратно)1057
Andreff W. L’athlète et le marché // Sport et télévision. Actes du colloque de Valence. Valence: CRAC, 1992. P. 60.
(обратно)1058
См.: Nys J.–F. Une logique capitaliste. P. 65.
(обратно)1059
Poiseuil B. Canal+, L’aventure du sport. P. 274.
(обратно)1060
Le «sport–biz» s’engouffre dans la course au profit // Le Monde. 8 fév. 2000.
(обратно)1061
Les équipes de D1 ne bénéficient pas toutes de la même couverture télévisuelle // Le Monde. 9 mars 2000.
(обратно)1062
После двадцати пяти дней чемпионата матчи «Марселя» транслировались двадцать три раза, хотя клуб занимал тринадцатое место, «Монако» транслировали четырнадцать раз, хотя клуб в тот момент был первым (см.: Les équipes de D1 ne bénéficient pas toutes de la mime couverture télévisuelle // Le Monde. 9 mars 2000).
(обратно)1063
Maitrot É. Sport et télé, les liaisons secrètes. P. 329.
(обратно)1064
По поводу мыслей вокруг множества церемоний открытия Олимпийских игр см.: 1896–2004, d’Athènes à Athènes. 2 vol. Paris. L’Équipe.; Lausanne. Musée olympique. 2004.
(обратно)1065
Interview d’un spectateur. Le Monde. 29–30 août 2004.
(обратно)1066
Le Monde. 31 août 2004.
(обратно)1067
Ibid.
(обратно)1068
См.: Viallon Ph. La télévision comme accélérateur du mouvement // Communication. Le Spectacle du sport. 1998. No. 67.
(обратно)1069
Bertrand C.–J. Sports et médias aux États–Unis // Esprit. Vol. 55. Le Nouvel Âge du sport. Août 1987. No. 4. P. 221.
(обратно)1070
Ibid.
(обратно)1071
Andreff W. La télévision et le sport. P. 187.
(обратно)1072
Thibert J. La horde de la mort // L’Équipe. 30 mai 1985.
(обратно)1073
См.: Chany C. Op. cit.
(обратно)1074
См.: Garcia H. La Fabuleuse Histoire du rugby. Paris: ODIL. 1974.
(обратно)1075
См.: Mondenard J.–P. de. Drogues et dopages. Paris: Chiron. 1987. P. 67.
(обратно)1076
См.: Queval I. S’accomplir ou se dépasser. Или также в специальном номере Le Monde, посвященном «21 вопросу XXI века»: Dalloni М. Plus haut, plus vite, plus fort? Les sportifs ivres de records et d’argent // Le Monde. Dec. 1999.
(обратно)1077
См. выше.
(обратно)1078
Le Monde. 16 juin 1998.
(обратно)1079
См.: Mignon P. Le hooliganisme: problème social et panique morale // La Passion du football. Paris: Odile Jacob, 1998. P. 141.
(обратно)1080
Libération. 17 jan. 1999.
(обратно)1081
Le Monde. 19 mars 1999. Несколько членов МОК были особо поощрены вследствие голосования, которое привело к победе Солт–Лейк–Сити с подавляющим большинством голосов на 104‑й сессии 16 июня 1995 года в Будапеште. См.: Sunday Morning Herald. Nov. 8, 1998.
(обратно)1082
Foot Opération mains propres // Le Point. 24 fév. 2005.
(обратно)1083
Ibid.
(обратно)1084
Science et vie. Nov. 1968.
(обратно)1085
Sciences et avenir. Août 2002.
(обратно)1086
Dopage, L’Amérique s’en va–t–en guerre // L’Express. 14 mars 2005.
(обратно)1087
Cahiers du cinéma. Août 1958. No. 86.
(обратно)1088
Amiel V. Le Corps au cinéma. Paris: PUF, 1998. См. также: Vertigo. Le Corps exposé/ dir. par A. de Baecque, C.–M. Bosséno. Juil. 1996. No. 15.
(обратно)1089
Florescu R. In Search of Frankenstein. Boston: Graphic Society, 1975; Spark M. Mary Shelley. N.Y.: E. P. Dutton, 1987.; Mellor A. K. Mary Shelley: Her Life, Her Fiction, Her Monsters. N.Y.: Routledge, 1988.
(обратно)1090
Adrien P. Le Cirque au cinéma; le cinéma au cirque. Paris: Éd. Science illustrée, 1984; Rittaud–Hutinet J. Le Cinéma des origines. Seyssel: Champ Vallon, 1985; DalLAsta M. Un cinéma musclé. Le surhomme dans le cinéma muet, 1913–1926. Liège: Yellow Now, 1992; Showalter E. Sexual Anarchy: Gender and Culture in Fin–de–Siède France. N.Y.: Viking, 1990. Porn Studies / ed. by L. Williams. Durham: Duke University Press, 2004.
(обратно)1091
Schwartz V. Spectacular Realities. Early Mass Culture in Fin–de–siède. Paris, Berkeley: University of California Press, 1998 / Cinema and the Invention of Modern Life / ed. by L. Charney, V. Schwartz. Berkeley: University of California Press, 1996.
(обратно)1092
Skal D. J. The Monster Show. A Cultural History of Horror. N.Y.: W. W. Norton, 1993.
(обратно)1093
Leutrat J.–L. Vie des fantômes. Le fantastique au cinéma. Paris: Cahiers du cinéma, 1995.
(обратно)1094
Forry S. E. Hideous Progenies: Dramatizations of Frankenstein from the 19th Century to the Present. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1990; Mank G. W. «It’s Alive!» The Classic Cinema Saga of Frankenstein. N.Y.: Barnes, 1981.
(обратно)1095
9. Skal D. J. Hollywood Gothic: The Tangled Web of Dracula from Novel to Screen. N.Y.: W. W. Norton, 1996.; Skal D. J., Auerbach N. Dracula: A Norton Critical Edition. N.Y.: W. W. Norton, 1991; Frayling Ch. Vampyres. London: Faber and Faber, 1991; Leatherdale C. Dracula. The Novel and the Legend. London: Desert Island Book, 1993; Beck C.Th. Heroes of the Horrors. London: McMillan, 1975.
(обратно)1096
Skal D. J., Savada E. Dark Carnival. The Secret World of Tod Browning. N.Y.: Doubleday, 1995; Bogdan R. Freak Show. Presenting Human Oddities for Amusement and Profit. Chicago: The University of Chicago Press, 1988; Jensen P. M. The Men who Made the Monsters. N.Y.: Twayne Publishers, 1996; Ofshe R., Watters E. Making Monsters. N.Y.: Scribner’s Sons, 1994; Werner A. Freaks. Cinema of the Bizarre. London: Lorrimer, 1976; Bilger N. Anomie vampirique, anémie sociale. Paris: L’Harmattan, 1999; Oddos Ch. Le Cinéma fantastique. Paris: Guy Authier, 1977.
(обратно)1097
Coursodon J.–P. Keaton et Cie: les burlesques américains du «muet». Paris: Seghers, 1964; Krai P. Le Burlesque, ou Morale de la tarte à la crème. Paris: Stock, 1984; Kral P. Les Burlesques, ou Parade des somnambules. Paris: Stock, 1986; Le Burlesque, une aventure moderne. Art press, Numéro spécial. Oct. 2003. No. 24; Miller B. American Silent Film Comedies. London: McFarland, 1995.
(обратно)1098
Lacassin F. À la recherche de Jean Durand. Paris: Éd. de L’AFRHC, 2004.
(обратно)1099
L’Horreur comique. Esthétique du Slapstick / dir. par Michaud Ph.–A., Ribadeau Dumas I. Paris: Centre Georges–Pompidou, 2004; Sikov E. Laughing Hysterically. American Screen Comedy. N.Y.: Columbia University Press, 1994; Sennett T. Lunatics and Lovers. The Years of the Screwball Movie Comedy. N.Y.: Arlington House, 1973.
(обратно)1100
Gardner G. The Censorship Papers: Movie Censorship Letters from the Hays Office, 1934–1968. N.Y.: Dodd, Mead, 1987; Paglia C. Sexual Personae. Art, Glamour and Decadence in Hollywood. New Haven: Yale University Press, 1990; Douin J.–L. Les Écrans du désir. Paris: Éd. du Chêne, 2000; Mordden E. Broadway Babies. The People Who Made the American Musical. N.Y.: Oxford University Press, 1983.
(обратно)1101
Цит. по: Lo Duca J.–M. Cahiers du cinéma. Noël, 1953; Kyrou A. Amours, érotisme et cinéma. Paris: Éric Losfeld, 1966; Lo Duca J.–M. L’Érotisme au cinéma. Paris: Jean–Jacques Pauvert, 1957; Benayoun R. Érotique du surréalisme au cinéma. Paris: Jean–Jacques Pauvert, 1965; Bergala A., Déniel J., Leboutte P. Une encyclopédie du nu au cinéma. Crisnée. Yellow Now. Dunkerque. Studio 43.1994.
(обратно)1102
Billard P. Vamps. Paris: Éd. de L’Art du siècle, 1958.
(обратно)1103
Почти все фильмы с участием Бары были утрачены в 1937 году: они сгорели в пожаре на складе кинокомпании Fox. — Прим. ред.
(обратно)1104
Azzopardi M. Le Temps des vamps. 1915–1965. 50 ans de sex appeal. Paris: L’Harmattan, 1997.
(обратно)1105
Siclier J. Le Mythe de la femme dans le cinéma américain. Paris: Éd. du Cerf, 1956; Brion P. La Comédie américaine. Paris: La Martinière, 1998; Gardner G. Op. cit.
(обратно)1106
Bazin A. // L’Écran français. Sept. 1946. No. 77.
(обратно)1107
Morin E. Les Stars. Paris: Éd. du Seuil, 1957.
(обратно)1108
Tesson Ch. Photogénie de la série B. Paris: Cahiers du cinéma, 1997; Paglia C. Sexual Personae. Op. cit.
(обратно)1109
Le Corps exposé // Vertigo. Numéro spécial. Juil. 1996. No. 15; MacCabe C. The Eloquence of the Vulgar. London: BFI Publishing, 1999; Esquenazi J.–P. Godard et la société française des années 1960. Paris: Armand Colin, 2004.
(обратно)1110
Bounoure G. Alain Resnais. Paris: Seghers, 1962; Thomas F. L’Atelier d’Alain Resnais. Paris: Flammarion, 1989.
(обратно)1111
Rossellini R. Le Cinéma révélé. Paris: Cahiers du cinéma, 1984. Rondolino G. Roberto Rossellini. Turin: UTET, 1989; Roberto Rossellini / dir. par Bergala A., Narboni J. Paris: Cahiers du cinéma, 1989.
(обратно)1112
Kawin B. F. Mindscreen: Bergman, Godard, and First–Person Film. Princeton (N.J.): Princeton University Press, 1978; Cowie P. Ingmar Bergman. Paris: Seghers, 1986; Assayas O., Bjorkman St. Conversations avec Bergman. Paris: Cahiers du cinéma, 1990.
(обратно)1113
Brenez N.. Lebrat Ch. Jeune, dure et pure! Une histoire du cinéma expérimental et d'avant-garde en France. Paris; Milan: Cinémathèque française, Mazzotta, 2001.
(обратно)1114
Lindeperg S. Clio de 5 à 7. Les actualités filmées de la Libération. Paris: CNRS Éditions, 2000.
(обратно)1115
Avisar I. Screening the Holocaust. Cinema and Images of the Unimaginable, Indianapolis: Midland Book, 1988; Insdorf A. L’Holocauste à L’écran. Paris: Éd. du Cerf, 1990; Le Siècle du cinéma / Cahiers du cinéma. Nov. 2000. Numéro spécial.
(обратно)1116
Brassait A. Les Jeunes Premiers dans le cinéma français des années 1960. Paris: Éd. du Cerf, 2004; Baecque A. de. La Nouvelle Vague. Portrait d’une jeunesse. Paris: Flammarion, 1998; Esquenazi J.– P. Godard et la société française des années 1960. Paris: Armand Colin, 2004.
(обратно)1117
Bergala A. Déniel J. Leboutte P. Une encyclopédie du nu au cinéma. Op. cit.
(обратно)1118
«Младотурки» (jeunes turcs) — термин, употреблявшийся в прессе по отношению к режиссерам «Новой волны». — Прим. ред.
(обратно)1119
Baecque A. de, Toubiana S. François Truffaut. Paris: Gallimard, 1996; Baecque A. de. La Cinéphilie. Invention d’un regard, histoire d’une culture, 1944–1968. Paris: Fayard, 2003.
(обратно)1120
MacCabe C. Godard. A Portrait of the Artist at 70. London: Bloomsbury, 2003; For Ever Godard / ed. by Temple М., Williams J. S., Witt M. London: Black Dog Publishing, 2004; Esquenazi J.–P. Godard et la société française… Op. cit.; Baecque A. de. La Cinéphilie. Op. cit.
(обратно)1121
Amiel V. Le Corps au cinéma. Paris: PUF, 1998; см. также: Le Corps exposé / Vertigo. Numéro spécial. Juil. 1996. No. 15.
(обратно)1122
Arroyo J. Action / Spectacle / Cinema. Londres: BFI Publishing, 2000; Baddeley G. Gothic. La culture des ténèbres. Paris: Denoël, 2004; Atkins T. R. Graphie Violence on the Screen. N.Y.: Monarch Press, 1986; Le Goût de L’Amérique, anthologie des Cahiers du cinéma. T. I. Paris, 2001; Cahiers de la Villa Gillet. Numéro spécial. Maladie et images de la maladie, 1790–1990. Lyon: Circé, 1995.
(обратно)1123
Salisbury M. Tim Burton par Tim Burton. Paris: Éd. du Cinéphage, 1999; Merschmann H. Tim Burton. The Life and Films of a Visionary Director. London: Titan Books, 2000; Baecque A. de. Tim Burton. Paris: Cahiers du cinéma, 2005.
(обратно)1124
Krohn B. Joe Dante, des Gremlins à Hollywood. Paris: Cahiers du cinéma, 1999.
(обратно)1125
Godin M. Gore. Autopsie d’un cinéma. Paris: Éd. du Collectionneur, 1994; Gunden K. Von. Flights of Fancy. London: McFarland, 1989; Prawer S. S. Caligari’s Children. N.Y.: Oxford University Press, 1990.
(обратно)1126
Skal D. J. Screams of Reason. Mad Science and Modern Culture. N.Y.: W. W. Norton, 1998; De beaux lendemains? Histoire, société et politique dans la science–fiction au cinéma / dir. par Haver G., Gyger P. J. Lausanne: Antipodes, 2002; Dekkers M., Dearest Pet. On Bestiality in Films. London: Verso, 1994; Yablonsky L. Robopaths. People as Machines. Indianapolis: Bobbs–Merrill, 1972.
(обратно)1127
Telotte J.–P. Replications. A Robotic History of the Science Fiction Film. Urbana: University of Illinois Press, 1995.
(обратно)1128
Legrand D. Brian De Palma. Le rebelle manipulateur. Paris: Éd. du Cerf, 1995.
(обратно)1129
Kagan N. The Cinema of Oliver Stone. London: Taylor Trade Publishing, 2001.
(обратно)1130
Atkins T. R. Op. cit.
(обратно)1131
Rodenbach G. M. Jules Chéret // L’Élite. Paris: Charpentier, 1899. P. 251.
(обратно)1132
Появившийся около 1880 года, водевиль в Соединенных Штатах означал жанр представления, перемешивающий разнородные номера: чечетку, пение, классический танец, театр, а также чревовещание, выступления с дрессированными собаками и т. д.
(обратно)1133
Она использовала их до ста штук. В театре электричество вытеснило газ только после 1880 года. Когда Лои Фуллер создает «Серпантин», эффекты, порождаемые электричеством, еще очень новы, в частности то, что публика сидит в темноте, в то время как направленный свет освещает сцену.
(обратно)1134
См.: Goncourt J. de, Goncourt E. de. Journal. Paris: Robert Laffont, 1989. T. III. P. 1006 (рус. пер.: Гонкур Э. де, Гонкур Ж. де. Дневник. Т. 2. М.: Художественная литература, 1964. С. 581).
(обратно)1135
См.: Loïe Fuller // Femmes de 1900. Paris: Éd. de la Madeleine, 1932. Изначально опубликовано в 1897 году в L’Écho de Paris. По поводу анализа рецепции Лои Фуллер писателями см.: Ducrey G. Loïe Fuller ou le règne de l’ambivalence // La Danse, art du XXe siècle? Actes du colloque organisé par l’université de Lausanne les 18 et 19 janvier 1990. Lausanne: Payot, 1990. P. 98 sq.
(обратно)1136
Тема танца как эфемерного искусства совпадает по времени с началом романтического балета. См.: Faget J. De la danse et particulièrement de la danse de société. Paris: L’Imprimerie de Pillet, 1825. P. 17. См.: также: Siegmund G. Vers une histoire alternative de la danse: le visuel dans le Ballet de cour, le Ballet d’action et le Ballet romantique // Communication dans le cadre du colloque «Trans–formes», CND. 15 jan. 2005.
(обратно)1137
Mallarmé S. Crayonné au théâtre // Œuvres complètes. Paris: Gallimard, Coll. Bibliothèque de la Pléiade, 1945. P. 309.
(обратно)1138
См.: Mauclair C. Sada Yacco et Loïe Fuller // La Revue blanche. 1900. Vol. XXIII. P. 277.
(обратно)1139
Танцовщица всю жизнь остается в курсе научных открытий. Она посещает Камиля Фламмариона, Пьера и Марию Кюри. В 1898 году она открывает собственную лабораторию в Париже, где проводит исследования электрического света.
(обратно)1140
См.: Giovanni Lista в: Loïe Fuller, danseuse de l’art nouveau, catalogue d’exposition. Paris: Réunion des musées nationaux, 2002. P. 81
(обратно)1141
Согласно Джонатану Крэри, переход от эмиссионной и корпускулярной теории света к волновой оказал значительное влияние на культуру XIX века. Изучение света отделяется от оптики (с которой оно было связано в XVII и XVIII веках) и соединяется с областью физики, изучением электричества и магнетизма. См.: Crary J. L’Art de l’observateur. Vision et modernité au XIXe siècle. Nîmes: Jacqueline Chambon, 1994. P. 128–130. Первое англ. изд. — 1990. Рус. пер.: Крэри Дж. Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX веке. М.: VAC-press, 2014.
(обратно)1142
Fuller L. Ma vie et la danse, suivie de Écrits sur la danse. Paris: Éd. de l’Œil d’or, 2002. P. 172.
(обратно)1143
Ibid. P. 178.
(обратно)1144
См.: Benjamin W. Paris, capitale du XIXe siècle: le livre des passages. Paris: Éd. du Cerf, 1989 // Benjamin W. Surl’art et la photographie; Benjamin W. Lloeuvre d’art à 1ère de sa reproductibilité technique // Ibid. (pyc. пер: Беньямин В. Париж. Столица XIX столетия // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Мартис, 1996; Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Там же).
(обратно)1145
Гете был одним из первых, кто занимался этим в своем «Трактате о цвете» (1810). Об истории опытов по сохранению следа на сетчатке глаза см.: Crary J. Op. cit. Р. 105 sq.
(обратно)1146
Ibid. P. 109.
(обратно)1147
Ibid. P. 112.
(обратно)1148
Понятие либидинозного влечения в психоанализе, понятие интенциональности в феноменологии продолжают линию вопросов, которые психологи XIX века ставили об отношениях между эмоцией и движением и о том, как они регулируют восприятие. Сегодня в области нейрофизиологии действие и восприятие кажутся неотделимыми. Согласно Жану Бертозу, восприятие направляется и организуется действием, которое должно осуществиться. См. Les Neurosciences et la Philosophie de l’action / dir. par J.–L. Petit. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1997.
(обратно)1149
Féré Ch.–S. Sensation et mouvement. Études expérimentales de psycho–mécanique. Paris: Alcan, 1887. Описанием других экспериментов по «психомоторной индукции» см. в: Pierre A. La musique des gestes. Sens du mouvement et images motrices dans les débuts de l’abstraction // Aux origines de l’abstraction, 1800–1914. Catalogue d’exposition. Paris: Réunion des musées nationaux, 2003. P. 96–97.
(обратно)1150
Jaques–Dalcroze É. Le Rythme, la Musique et l’Éducation. Paris: Fischbacher, Rouart & Cie; Lausanne. Jobin 8c Cie, 1920. P. 99. Эта книга объединяет тексты, написанные педагогом между 1898 и 1919 годами. Эмиль Жак–Далькроз основал метод «эуритмики».
(обратно)1151
См.: Кандинский В. В. О духовном в искусстве. М.: Архимед, 1993. С. 92.
(обратно)1152
Jaques–Dalcroze É. Op. cit. P. 164.
(обратно)1153
См.: Berthoz A. Le Sens du mouvement. Paris: Odile Jacob, 1997. P. 31–59. Работа Шеррингтона, где развивается понятие «проприоцепция»: Sherrington Ch.S. The Integrative Action of the Nervous System. New Haven: Yale University Press, 1906.
(обратно)1154
Именно так Арно Пьер обозначает представления полковника Альбера де Роша около 1900 года. Полковник весьма знаменит своими опытами музыкального гипноза, погружавшими в сон профессиональную модель, танцовщицу Лину: «Звуковые волны входят в нее и заставляют бессознательно работать мышцы и нервы этой статуи из дрожащей плоти. Перемещенная в область мистического, она совершала мистические поступки, на которые была неспособна в часы сознательной жизни» (Rochas A. de. Les Sentiments, la Musique et le Geste. Цит. по: Pierre A. La musique des gestes. Sens du mouvement et images motrices dans les debuts de l’abstraction // Aux origines de l’abstraction, 1800–1914. Catalogue d’exposition. Paris: Reunion des musees nationaux, 2003. P. 98). В области психиатрии Жан Мартен Шарко в Сальпетриере организует публичные демонстрации больных истерией в состоянии гипноза. Он интересовался также феноменами «амбулаторного автоматизма» и иногда описывал истерию как состояние «постоянного полусомнамбулизма». Эта концепция станет отправной точкой для дальнейшего теоретического развития у Пьера Жане, Йозефа Брейера, Зигмунда Фрейда… См.: Ellenberger Н.F. Histoire de la découverte de l’inconscient. Paris: Fayard, 1994. P. 154,177 (рус. пер.: Элленбергер Г. Ф. Открытие бессознательного. История и эволюция динамической психиатрии: В 2 т. СПб.: Информационный центр психоаналитической культуры, 2001).
(обратно)1155
Цит. по: Дункан А. Моя жизнь. К.: Мистецтво, 1989. С. 70–71.
(обратно)1156
Цит. по: Daly A. Done into Dance. Middletown (Conn.): Wesleyan University Press, 1995. P. 31. Айседора Дункан была активным участником движения dress reform в конце XIX века. Тогда множество врачей предоставляли доказательства вредного влияния корсетов на физическое и моральное здоровье женщин. По поводу истории реформы одежды и ее связи с танцем в Соединенных Штатах см.: Thomas Н. Dance, Modernity and Culture. Explorations in the Sociology of Dance. London; N.Y.: Routledge, 1995.
(обратно)1157
См.: Sherrington Ch.S. Op. cit. См. также: Talbott R. E. Ferrier, The Synergy Concept, and the Study of Posture and Movement // Posture and Movement / ed. by R. E. Talbott, D. R. Humphrey. N.Y.: Raven Press, 1977. P. 1–12.
(обратно)1158
Цит. по: Schwartz H. Torque: the New Kinaesthetics of the Twentieth Century // Incorporations, Zone 6 / ed. by J. Crary, S. Kwinter. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1992. P. 73.
(обратно)1159
Это постоянный упрек, адресуемый новыми танцорами классическому танцу. Это демонстрируется кодификацией па и движений руками: классическая техника поддерживала работу (сегментарную) рук и ног в ущерб туловищу (которое полагается целым). Таким образом, классический танец производил стилизованные, каллиграфические формы там, где танец–модерн занимается в первую очередь движением на уровне его возникновения, а значит, вне всякой формы.
(обратно)1160
Цит. по: DeMille A. Martha Graham: The Life and Work of Martha Graham. N.Y.: Vintage Books, 1991. P. 72. См.: также: Helpern A. The Technique of Martha Graham. N.Y.: Morgan 8t Morgan, 1994. P. 24–25.
(обратно)1161
Wigman M. Le Langage de la danse / trad. fr. de Robinson J. Paris: Chiron, 1990. P. 17.
(обратно)1162
Ibid. P. 16. Прекрасный и тонкий анализ танца Мэри Вигман см. в кн.: Launay I. A la recherche d’une danse moderne, Rudolf Laban–Mary Wigman. Paris: Chiron, 1996.
(обратно)1163
Duncan I. Le danseur et la nature // La Danse de l’avenir / trad. fr. par S. Schoonejans. Bruxelles: Complexe, 2003. P. 64.
(обратно)1164
Ibid.
(обратно)1165
Происходящий из воспринятых в США теорий французского певца Франсуа Дельсарта, метод Женевьевы Стеббинс подчеркивает значение принципа психотелесной обратной связи в области выразительной практики. Понятие транзитивности между действием и эмоцией стало ключевым для реформ в подготовке актеров в XX веке. См.: Les Fondements du mouvement scénique‑Delsarte, Laban, Meyerhold, Vakhtangov, Taïrov, Grotowski, Barba, la Ç.N.V., actes du colloque tenu à Saintes les 5, 6 et 7 avril 1991. La Rochelle et Saintes: Rumeur des Âges et Maison de Polichinelle, 1993.
(обратно)1166
Женевьев Стеббинс вводит цигун в свою технику через «шведскую гимнастику», которой живо интересовалась. Основатель этой системы физического воспитания, швед Пер Хенрик Линг в начале XIX века заинтересовался работами Жана Амио, французского иезуита XVIII века, по медицинскому аспекту цигун, китайского искусства работы с Ци, то есть энергией или жизненным потоком. См.: Pradier J.–M. La Scène et la Fabrique des corps, Ethnoscénologie du spectacle vivant en Occident (Ve siècle av. J. — C. — XVIIIe siècle). Bordeaux: Presses universitaires de Bordeaux, 1997. P. 320. Более или менее прямые влияния восточных телесных методик играют очень важную роль в некоторых течениях и техниках нового и современного танца. Женевьев Стеббинс сама оказала определяющее влияние на развитие кинезиологии и методов так называемого «соматического воспитания» в Европе и Соединенных Штатах.
(обратно)1167
Stebbins G. The Delsarte System of Expression. N.Y.: Edgar S. Werner, 1902. P. 401,407. См. также: Dynamic Breathing and Harmonic Gymnastics. N.Y.: Edgar S. Werner, 1893.
(обратно)1168
В области театра это представление весьма отчетливо осмыслено, например, у Эудженио Барба под термином «преэкспрессивность». См.: Barba Eu. Une amulette faite de mémoire. La signification des exercices dans la dramaturgie de l’acteur // Pezin P. Le Livre des exercices à l’usage des comédiens. Saussan: L’Entretemps, 1999. В области танца Юбер Годар разработал понятие «пред–действие». См.: Godard H. Le geste et sa perception // La Danse au XXe siècle / dir. par Michel M., Ginot I. Paris: Bordas, 1995.
(обратно)1169
Shawn T. Every Little Movement: A Book about François Delsarte. N.Y.: Dance Horizons, 1963.
(обратно)1170
Ruyter N. L. Ch. The Cultivation of Body and Mind in Nineteenth–Century American Delsartism. Wesport; London: Greenwood Press, 1999. P. 105,108.
(обратно)1171
Hoffmanstahl H. von. La danseuse incomparable // Io, revue internationale de psychanalyse. 1994. No. 5. P. 13–17.
(обратно)1172
См.: Humphrey D. The Art of Making Dances. N.Y.: Grove Weindenfield, 1959. P. 106.
(обратно)1173
По имени английского ботаника Роберта Брауна (1773–1859), впервые наблюдавшего феномен.
(обратно)1174
Во многих остеопатических теориях это движение называется «первичное дыхание». Оно появляется на третьем месяце внутриутробной жизни. «К этому базовому физиологическому ритму прибавляются все прочие ритмы/движения… в том числе ритм легочного дыхания». См.: Rouquet О. De la tête aux pieds. Paris: Éd. Recherche en mouvement, 1991. P. 15, 90.
(обратно)1175
Бонни Бэйнбридж Коэн создала метод, названный «Body–Mind Centering» (психосоматическое центрирование). См.: Cohen В.В. Sentir, ressentir, agir: l’anatomie expérimentale du Body–Mind Centering / trad. fr. de M. Boucon. Bruxelles: Contredanse, 2002 (англ. изд. 1993). В книге собраны тексты, написанные Коэн между 1980 и 1992 годами.
(обратно)1176
Launay I. Op. cit. P. 86. Он заимствует термин Рольфа Тидемана.
(обратно)1177
Рудольф Лабан, цит. по: Ibid. Р. 91.
(обратно)1178
См.: Schwartz H. Op. cit.
(обратно)1179
Дарвинизм дал сильный импульс теориям выражения, которые танцоры и актеры отстаивали в конце XIX века и позже. Его влияние чувствуется уже у Женевьевы Стеббинс. Его защищает Айседора Дункан, находившаяся под сильным влиянием «языческой философии» оратора и пгманиста Роберта Грина Ингерсолла (который представлялся «бульдогом» Чарльза Дарвина в Соединенных Штатах). Монистские теории натуралиста Эрнста Геккеля, свободно применявшиеся Дарвином, не только впечатлили Дункан, но оказали определяющее влияние на лидеров «асконского» движения. Именно в Асконе, в Швейцарии, в рамках сообщества Монте Верита, Лабан основал в 1913 году школу изучения движения во всех его проявлениях.
(обратно)1180
По поводу важности вопроса о вибрации и его эзотерических отголосков см.: Baxman I. Mouvement, espace et rythme dans l’imaginaire communautaire moderne en Allemagne // Être ensemble. Figures de la communauté en danse depuis le XXe siècle / dir. par Rousier C. Pantin: Centre national de la danse, 2003. P. 129–130.
(обратно)1181
Launay I. Op. cit. P. 157.
(обратно)1182
Ibid. P. 90.
(обратно)1183
См.: Pierre A,. Op. cit. P. 88,100. Цитаты Теодюля Рибо взяты из статьи: Ribot T. Les mouvements et l’activité inconsciente // Revue philosophique. Juil. — dec. 1912. Vol. LXXIV. переизд.: Paris.: Cariscript, 1991. P. 19,41.
(обратно)1184
Названное сначала «эвкинетикой», это управление динамикой движения начиная с 1940‑х годов будет осмысляться Лабаном в термине «напряжение». Это понятие легло в основание теории effort–shape, развитой учениками Лабана в Англии, а потом в Соединенных Штатах, начиная с 1950‑х годов.
(обратно)1185
Таким образом, Лабан мог сравнивать весовой выбор в действии в «томном танце… Востока, зажигательном испанском танце, размеренном круговом танце англосаксов». Он видит в них «усилия в такой степени отобранные и обработанные, что они становятся выражением ментальности различных социальных групп». В итоге отношение к весу становится для Лабана критерием антропологического анализа и творческим материалом. См.: Laban R. La Maîtrise du mouvement / trad. fr. de Challet–Haas J., Bastien M. Arles: Actes Sud, 1994. P. 40.
(обратно)1186
Godard H. Le déséquilibre fondateur. Entretien avec Laurence Louppe // Art press. Hors série. 20 ans, l’histoire continue. 1993. No. 13. P. 140.
(обратно)1187
См.: Schultz R. L., Feitis R. The Endless Web. Fascial Anatomy and Physical Reality. Berkeley: North Atlantic Books, 1996.
(обратно)1188
Понятие соединительной ткани развивалось с конца 1930‑х годов Идой Рольф, создательницей телесной практики «рольфинга», основанной на представлении о пластичности фасций и их роли структурного фундамента тела.
(обратно)1189
Wallon H. Les Origines du caractère chez l’enfant. Paris: PUF, 1970.
(обратно)1190
Гравитационные/тонические мышцы — это глубокие паравертебральные мышцы, управляющие положением тела. Их активность носит обычно рефлекторный характер.
(обратно)1191
Развитую, в частности, нейропсихиатром Хулианом де Ахурьягуэррой. См.: Bernard М. Le Corps. Paris: Éd. du Seuil, 1995. P. 54–71.
(обратно)1192
Цит. по: Launay I. Op. cit. P. 114.
(обратно)1193
Мерс Каннингем начинал карьеру профессионального танцора у хореографа Марты Грэм, воспитанной на теориях Карла Густава Юнга о коллективном бессознательном. Тогда многие американские художники находились под влиянием теорий Юнга и Фрейда благодаря влиянию сюрреалистов.
(обратно)1194
Техники импровизации появились в Соединенных Штатах в 1930‑е годы благодаря ученице Мэри Вигман, немецкому хореографу Ханье Хольм.
(обратно)1195
Cunningham M. Piéger l’inédit: de Lifeforms à Character Studio, entretien avec Annie Suquet // Nouvelles de danse. 1999. No. 40–41. P. 108.
(обратно)1196
Lestienne F. G., Garfunkel V. S. Réflexions sur le concept de représentation interne // Les Neurosciences et la Philosophie de l’action / dir. par J.–L. Petit. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1997. P. 182.
(обратно)1197
См.: Le Danseur et la Danse, entretiens de Merce Cunningham avec Jacqueline Lesschaeve. Paris: Belfond, 1980. P. 83.
(обратно)1198
В этимологическом смысле термина «аскеза», который восходит к греческому глаголу askein, «упражняться».
(обратно)1199
Мерс Каннингем, цит. по: Brown С. в кн.: Merce Cunningham / dir. By James Klosty. N.Y.: Dutton, 1975. P. 22.
(обратно)1200
Он же, цит. по: Vaughan D. Merce Cunningham, un demi–siècle de danse. Paris: Éd. Plume, 1997. P. 60.
(обратно)1201
Позвоночник — организующая ось танца Каннингема. См.: Cunningham М. La fonction d’une technique pour la danse (1951) // Vaughan D. Op. cit. P. 60.
(обратно)1202
Мерс Каннингем скончался в 2009 году. — Прим. ред.
(обратно)1203
Стив Пэкстон, цит. по: Paxton S. L’art des sens // Mouvement. Automne 1998. No. 2. P. 31.
(обратно)1204
В основе всей работы Пэкстона над падениями лежит практика айкидо.
(обратно)1205
Paxton S. Esquisse de techniques intérieures // Nouvelles de danse. Printemps–été 1999. No. 38–39. P. 108.
(обратно)1206
См.: Nelson K. La révolution par le toucher: donner la danse // Nouvelles de danse. P. 123.
(обратно)1207
Они представлены в работах Симоны Форти, Ивонны Райнер, Триши Браун и вообще в движении Judson Church в Нью–Йорке.
(обратно)1208
При созревании плода органы осязания развиваются очень рано. При рождении осязание начинает работать одним из первых. Размышления Стива Пэкстона о значении осязания и его культурной роли многим обязаны книге, появившейся в 1971 году. См.: Montagu A. Touching, The Human Significance of the Skin. N.Y.: Columbia University Press, 1971.
(обратно)1209
Nelson K. Op. cit.
(обратно)1210
Ibid.
(обратно)1211
Прекрасный анализ такой позиции см. в: Louppe L. Poétique de la danse contemporaine. Bruxelles: Contredanse, 1997.
(обратно)1212
См.: Berthoz A. Voir avec sa peau // Berthoz A. Le Sens du mouvement. Paris: Odile Jacob, 1997. Нейрофизиология предлагает примеры использования вибраций для создания «тактильных изображений» как «замены зрения для слепых». «Примечательный факт: восприятие, вызванное этими тактильными изображениями, имело все свойства зрительного восприятия» (Р. 94). Тогда возможен перевод между оптической и гаптической информацией, если, как утверждает Бертоз, они имеют доступ к одинаковым центрам мозга. Опять же по Бертозу и вопреки тому, что еще недавно было общепринятым, «корковые отображения тактильных датчиков» не заданы единовременно для всех, напротив, они податливы и преобразуются в зависимости от обстоятельств (Ibid. Р. 37). Из этого можно заключить, что контактный танец влечет за собой совершенно реальное изменение чувственной структуры, начиная с активизации тактильных датчиков в тех областях тела, где они вообще не стимулируются.
(обратно)1213
Это говорит о том, насколько неуместно показывать этот «лишенный границ» танец на классической театральной сцене. Публика контактной импровизации может беспорядочно располагаться вокруг танцоров. Больше нет привилегированной точки обзора, сценическое пространство децентрализовано.
(обратно)1214
Они «быстрее на четыре миллиметра в секунду, чем восприятие расположения наших частей тела» — уточняет Стив Пэкстон без указания источника (Paxton S. Mouvement. Automne 1998. No. 2. P. 29).
(обратно)1215
Paxton S. L’art des sens. P. 28.
(обратно)1216
Godard H. Le déséquilibre fondateur. P. 139.
(обратно)1217
Godard H. Le geste et sa perception. P. 227.
(обратно)1218
Ibid.
(обратно)1219
См.: Jeannerod M. The Representing Brain: Neural Correlates of Motor Intention and Imagery // Behavioral and Brain Sciences. 1994. No. 17. P. 187–245. См. также обзор современных гипотез на эту тему: Livet P. Modèles de la motricité et théories de l’action // Les Neurosciences et la Philosophie de l’action P. 343–348.
(обратно)1220
В частности, эта идея транслируется в идеокинетике Ирен Доуд, возникшей под влиянием Лулу Свигард, и в методике, разработанной Моше Фельденкрайзом.
(обратно)1221
Мириам Гурфинк, цит. по: Fontaine G. Les Danses du temps. Pantin: Centre national de la danse, 2004. P. 132.
(обратно)1222
Австралийский современный хореограф Стеларк, вероятно, идет дальше всех в этом направлении. Убежденный в том, что тело является устаревшей реальностью, он обращается к системам виртуальной реальности и к технологиям протезирования, чтобы сделать свое тело интерфейсом. В поисках того, что могло бы стать эффектным «постэволюционным» телом, он повышает и понижает свои мышечные рефлексы, свой сердечный или дыхательный ритм. См.: Stelarc. Vers le posthumain, du corps esprit au système cybernétique // Nouvelles de danse. No. 40–41. P. 80–98.
(обратно)1223
«Механический балет», 1924, 16 минут, короткометражка, постановка Фернана Леже, Дадли Мерфи, Ман Рэя.
(обратно)1224
«Антракт» Рене Клера, 1924, в сотрудничестве с Жаном Берлином, Пикабиа, Ман Рэем, Марселем Дюшаном, Марселем Ашаром, Тушагом.
(обратно)1225
В частности, у Оскара Шлеммера.
(обратно)1226
Виджи (Артур X. Феллиг) — родился в 1899 году, начал заниматься репортажной фотографией к 1927 году.
(обратно)1227
См.: Gowing L. La position dans la représentation: réflexions sur Bacon et la figuration du passé et du futur // Les Cahiers du Musée national d’art moderne. Sept. 1987. No. 21. P. 79–103.
(обратно)1228
«Свидетели–оккулисты» — персонажи работы Марселя Дюшана «Невеста, раздетая своими холостяками» («Большое стекло»), созданной между 1915 и 1923 годами.
(обратно)1229
Идея документального искусства стала привычной в последнее десятилетие XX века, когда исчезли модернистские критические представления. Но она не была чужда и этим представлениям: искусство очень часто становилось документальным. Так было в эпоху Возрождения, когда живопись служила познанию вещей и их точной репрезентации благодаря перспективе, и, конечно же, в период расцвета христианской иконографии, когда искусство имело образовательную и воспитательную функцию и служило для визуализации Писания. По этим вопросам см.: Baxandall М. Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. Oxford: Clarendon Press, 1973 (французский перевод: L’Œil au Quattrocento. Paris: Gallimard, 1985).
(обратно)1230
Журнал Acéphale был основан в 1936 году Жоржем Батаем вместе с Пьером Клоссовски и Андре Массоном.
(обратно)1231
Наиболее известные документы — фотографии Роберта Капы с Омаха–Бич во время высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года.
(обратно)1232
Зоран Музич родился в 1909 году в Италии. Был отправлен в Дахау в 1944‑м. Умер в 2005‑м.
(обратно)1233
«Post Human» — так называлась выставка, устроенная в 1992 году в Лозанне, а потом в замке Риволи независимым американским куратором Джеффри Дейчем.
(обратно)1234
Первая пересадка части лица была осуществлена в 2005 году, всего лица — в 2010‑м. — Прим. ред.
(обратно)1235
Teledildonics — американский термин, которым обозначают практики виртуального дистанционного секса.
(обратно)1236
Орлан начинает проводить перформансы около 1965 года и становится широко известной в 1977‑м благодаря «Поцелую художника» на Парижской ярмарке современного искусства: художница обнимала посетителей, которые опускали в автомат монетку пять франков. Серию пластических операций Орлан начала в 1990‑е годы.
(обратно)1237
Детальную информацию об этих практиках см. в: Courau L. Mutations pop et crash culture. Rodez: Le Rouergue et Chambon, 2004.
(обратно)1238
Jauss H. R. Die nicht mehr schönen Künste. Grenzphânomene des Àsthetischen // Poetik und Hermeneutik III / hg. von H. R. Jauss. München: W. Fink, 1968. Немаловажно, что Яусс в молодости был офицером СС.
(обратно)1239
Цит. по: Бретон А. Безумная любовь. Звезда кануна / Пер. с фр. и послесл. Т. Балашовой. М.: Текст, 2006. С. 17.
(обратно)1240
Цит. по: Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории. Минск: Пропилеи, 2000. С. 280–297.
(обратно)1241
См. сб.: L’Intime / dir. par É. Leibovici. Paris: Ensba, 1998.
(обратно)1242
«Однажды вечером я посадил Красоту к себе на колени. — И нашел ее горькой. — И я ей нанес оскорбленье» («Одно лето в аду», цит. в пер. М. Кудинова).
(обратно)1243
Taylor Ch. Source of the Self: The Making of the Modern Identity. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1989; Les Sources du moi / trad. fr. de Ch. Melançon. Paris: Éd. du Seuil, 1998.
(обратно)1244
Sennett R. The Fall of Public Man. N.Y.: W. W. Norton, 1974 (рус. пер.: Сеннет P. Падение публичного человека. М.: Логос, 2002).
(обратно)1245
Язык зауми в русском кубофутуризме 1912–1915 годов.
(обратно)1246
Рауль Оссман декламировал фонетические стихи (например, «Seelen–Automobil», 1918), претендуя на изобретение воображаемого языка. См.: Haussman R. Texte bis 1933. T. I. Bilanz der Feierlichkeit. Munich: Text und Kritik, Coll. «Frühe Texte der Moderne», 1982. Хуго Балль тоже участвовал в этих концертах. См.: Courrier Dada. Paris: Le Terrain vague, 1958. Касаясь парижского Дада, можно вспомнить практики Пьера Альбер–Биро «Poème à crier et à danser», под названием «Pour Dada», Dada 2. Dec. 1917, «La Légende», SIC. No. 37. Dec. 1918, и No. 38. Dec. 1919, перепечатанные в La Triloterie. Paris. SIC. 1920, a также «L’Avion» и «Chant III», SIC. No. 23. Nov. 1917, и No. 27. Mars 1918, перепечатанные в La Lune ou le Livre des poèmes. Paris: Jean Budry, 1924. Насчет футуристов см.: Marinetti F. T. Les Mots en liberté futuristes. Milan: Edizioni Futuriste, 1919. (теоретические тексты и старые произведения). Курт Швиттерс исполняет свою «Прасонату» в 1922 году. См.: F. Schwitters К. Das literarische Werk T. I. Lyrik. Cologne: M. DuMont Schauberg, 1973.
(обратно)1247
Фотографический портрет Марселя Дюшана в образе Rrose Sélavy сделан Ман Рэем в 1920 году.
(обратно)1248
«With My Tongue in My Cheek» — это также автопортрет Марселя Дюшана, созданный в 1959 году в виде гипсовой модели.
(обратно)1249
Rosenberg H. La Tradition du nouveau / trad. fr. de A. Marchand. Paris: Éd. de Minuit, 1962.
(обратно)1250
По поводу этого развития см.: Bertrand–Dorléac L. L’Ordre sauvage: violence, dépense et sacré dans l’art des années 1950–1960. Paris: Gallimard, 2004.
(обратно)1251
О венском акционизме см.: каталоги: Wiener Aktionismus. Wien 1960–1971. Klagenfurt: Ritter–Verlag, 1989, и Von der Aktionsmalerei zum Aktionismus. Wien 1960–1965. Klagenfurt: Ritter–Verlag, 1988.
(обратно)1252
Реплика Уорхола 1963 года: «У машин меньше проблем. Я бы хотел быть машиной. А вы?» Цит. по: Colacello В. Holy Terror: Andy Warhol Close Up. N.Y.: Harper & Collins, 1990.
(обратно)1253
Тема глубоко исследуется в: Fréchuret М. La Machine à peindre. Nîmes: Jacqueline Chambon, 1994.
(обратно)1254
Каталог: L’Hiver de l’amour bis. Paris. Arc–Musée d’art moderne de la ville de Paris: Éd. Paris–Musées, 1994.
(обратно)1255
Цит. по: Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / Пер. с фр., комм, и послесл. С. Табачниковой. М.: Касталь, 1996. С. 263–264.
(обратно)
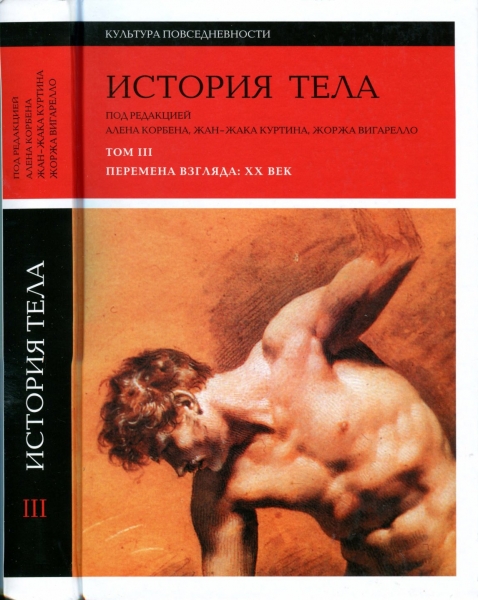

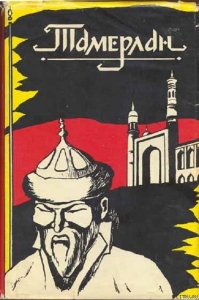
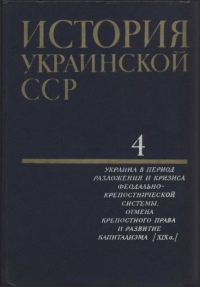

Комментарии к книге «История тела. Том 3. Перемена взгляда: XX Век», Ален Корбен
Всего 0 комментариев