Карем Багирович Раш Небываемое бывает
Об авторе
Педагогические идеи Карема Багировича получили всесоюзное признание и поддержку общественности двадцать лет назад, когда основанная им мушкетерская школа «Виктория» в Новосибирске прославилась новизной программы, лицейским духом и глубоким пониманием фундаментальных основ воспитания.
Про его книгу о воспитании «Приглашение к бою» А. Лиханов сказал в предисловии: «Работа К. Раша — сгусток мысли, отчетливо сформулированный путь, которым надо следовать, воспитывая юношество, блестящая энциклика педагога, который знает, что надо делать. А это такая редкость!»
По мнению ряда авторитетных ученых, принципы, заложенные К. Б. Рашем, стали в свою педагогическую систему, талантливо реализованные в ленинградском детском доме и углубленные в программе сибирской мушкетерской школы «Виктория», представляют собой первую после разработанной К. Д. Ушинским целостную педагогическую систему, вновь возвращающую нашу педагогику на почву отечественной культуры.
При искренней любви к русской культуре К: Б. Раш верен родным истокам, преданиям и написал книгу о величайшем полководце Востока, курде по национальности, победителе крестоносцев — Саладине.
К. Б. Раш — член правления Детского фонда СССР имени В. И. Ленина, член экспертного совета Фонда культуры СССР, где он возглавляет научно-общественный совет по программе «Лицей» (речь идет о создании в стране учебного заведения типа пушкинского лицея). В том же Фонде культуры СССР Карем Багирович руководит инициативной группой по созданию совета «Вооруженные Силы и культура». Свидетельство глубокого понимания писателем значимости ратного труда — произведение, впервые опубликованное в 12-м номере журнала «Москва» за 1988 год под названием «Предестинация, или Похвальное слово Российскому флоту».
Ученый совет Военной академии Генерального штаба поддержал кандидатуру К. Б. Раша при выборах в действительные члены Академии педагогических наук и отметил: «Все труды Раша К. Б. вне зависимости от жанра пронизаны военно-философской мыслью о назначении армии, об историческом пути народа и роли армии и флота в его судьбе, о достоинстве солдата и нравственных основах воинского служения Отечеству. К. Рашу свойственна широта мышления наряду с глубоким осмыслением стратегических замыслов противоборствующих сторон, потому его книги о войне полны свежих мыслей, неожиданных сопоставлений, зрелых военно-научных суждений... тяготеют к нравственным воинским поучениям».
Армия и культура
НИ ОДИН народ не может жить без общенационального эталона, без образца и идеала. Пушкин — один из наших светочей. В это чудное имя мы вкладываем целый мир и программу. Если армия народная, она не может но исповедовать пушкинский идеал. Появятся ли Пушкин и лицейский дух в наших школах и военных училищах? Как бы это ни звучало неожиданно, но, взвешивая каждое слово, беру на себя смелость заявить, что сегодня, когда многие бросились в разоблачения, а иные даже смакуют их, для обновления школы, армии и общества нет более партийной темы и, если хотите, военной темы, чем пушкинский идеал.
Мы часто приводим прекрасные слова Гоголя о том, что Пушкин — тот самый идеальный тип русского человека, которому суждено явиться на родную землю через несколько столетий. Если мы признаем эту мысль пророческой, а, судя по обилию печатных ссылок на Гоголя, мы признаём ее таковой, то почему бы нам не найти в себе мужество признать, что именно мы призваны выработать тот тип учителя и офицера, который будет способствовать приходу этого человека? Мы все, по словам Блока, грешим перед веселым именем Пушкина. Разве не в наших силах изжить этот грех? Мы ждем не Пушкина, не мессию, не одного человека. Мы, по Гоголю, всем строем жизни призваны выработать исторический тип личности, национальный тип, близкий к пушкинскому.
В Пушкине счастливо воплотился тип русского офицера. Именно офицера, солдата ермоловской поры. Генерал Липранди, боевой офицер, умный и наблюдательный разведчик, запишет: «Другой предмет, в котором Пушкин никогда не уступал, — это готовность на все опасности», — и там же отметит его «всегдашнюю готовность встать лицом со смертью». Десятки опытных офицеров присоединились бы к утверждению Липранди, что Пушкин «создан был для поприща военного». Он рвался | Эрзерум. Его всю жизнь тянуло к полю чести, к бивакам, к выгоревшим на солнце белым палаткам русской рати, туда, где вел боевые действия Отдельный кавказский корпус, в рядах которого дрались «лицейские, ермоловцы, поэты», самая просветленная и отважная часть русских мужчин. На родине их именовали уважительно «кавказцами». Верхи это слово произносили с опаской — офицеры-«кавказцы» были известны дерзостью, умом и независимостью нрава. Пушкин чутко уловил это, он почувствовал, что благословенные пулями «кавказцы» смотрят твердо, держатся прямо и в их немногословии есть нечто, из чего отливают стихи особой ковки. Боевые офицеры были любимой средой Пушкина с лицейских лет.
У Пушкина характер ратника, знавшего о тайне «упоения в бою», всегда искавшего битвы и умершего с оружием в руках, стрелявшего, истекая кровью, защищая на поле битвы у Черной речки честь русской семьи. Это подлинный Пушкин — эталон мужчины, отца, семьянина и друга, не Пушкин музейный, не поэт «пушкинистов», копающихся в его сердечных делах, постели, долгах и радующихся его мнимым ссорам с власть придержащими. Пушкин гораздо более верен себе и нам в строках: «Страшись, о рать иноплеменных, России двинулись сыны». Только с таким боевым подвижничеством и мог отец четырех детей броситься к Черной речке. И пусть не всхлипывают поздние пушкинистки, он умер прекрасной смертью, как мужчина, как дворянин, как витязь.
Что мы можем сделать для детей будущих воинов на этом дарованном нам отрезке жизни?
Для здоровья всего живого и полноты бытия необходимо мудрое сочетание постоянства и изменчивости. Когда жажда перемен становится зудом, а реформаторов с заемной мыслью, непереваренными мечтаниями плодится множество, когда забывают предостережение Руссо, что «нет такой законной выгоды, которую не превысила бы незаконная», вот тогда революционными становятся уже действия тех, кто защищает устои, Не правда ли, на первый взгляд парадоксальная мысль? Однако если революционность — это положительное жизнеутверждение, то защиту истоков, классики, основ, среды, почвы, йреданий у. передача их потомству в незамутненной чистоте нельзя не признать деянием революционным и возвышенным. Вот для чего нужны новые военные лицеи, нужна классика юношам, нужны как воздух и греческий, и старорусский языки, и римская доблесть, и история, интерес к которой — верный признак молодости общества, а по нашему национальному наставнику Пушкину, «воспоминание — самая сильная способность души».
Самая большая беда, которая мешает нам всем и будет самым большим злом, мешающим становлению характера, есть всепроникающая в нашу жизнь фамильярность. Она сравнима с тем незаметным грибком, который разъедает самые крепкие здания, когда фундаменты и кладки превращаются в труху. Монолит бывает уже трухляв при внешней прочности. Мы тыкаем друг другу, переходим на жаргон, скороговорку, сквернословие, в двери уже не входим, а протискиваемся. Мы не умеем ни сесть, ни встать, ни уступить. Фамильярничаем с классикой, с прошлым, с властью, с устоями. У нас на лицах или казенная серьезность, или хихиканье. Иронизируем по поводу всего высокого и тем ежеминутно разрушаем его. Ирония же всегда фамильярна, она всегда смотрит исподтишка, всегда снизу вверх и всегда разрушительна. Мы фамильярничаем с Пушкиным, смакуя его озорные мальчишеские безделки, глумимся над его памятью, когда предлагаем поговорить «о странностях любви». Фамильярничаем с родным языком, называя блуд хитрым заемным словом «секс», встречу переиначили в «брифинг», многообразие — в «плюрализм» и т. д., и т. п.
В ритуале общения людей заложены глубокий смысл защиты человеческого достоинства и самобытные начала уклада. Наши деды, обращаясь к юноше и даже подростку по имени и отчеству, тем самым охраняли, возвышали и приобщали молодого человека к единству с миром взрослых, как бы готовили к предстоящей ответственности. Нелепо называть человека из англосаксонского мира по имени и отчеству, как дико русских мужчину или женщину называть одним именем. И не надо нас насильно к этому приучать, как бы ни пытались «Московские новости» быть западнее, чем сами западники. Но мы не примиримся с их «Михаил Горбачев», для нас он всегда Михаил Сергеевич, Если Рейган — Роди, то это дело его соотечественников, и нас не касается. Обращение — часть духовной гигиены общества, в ней межличностный климат, такт, норма, все, что созидает и оберегает. Считаю недопустимым, чтобы наши космонавты, как водится, переговариваясь с орбиты со своими друзьями-офицерами на земле, голосили из поднебесья на одну шестую часть света: «Коля! Как ты там?! Вася! Как самочувствие?..» и т. д. Нас не касается интимная форма обращения между друзьями. Но для всей страны, как для командования, так и для миллионов мальчишек, полковник, космонавт, герой не может никогда и ни при каких обстоятельствах быть ни Колей, ни Васей, ни Юрой, а Юрием Алексеевичем, коль речь заходит о Гагарине, как, впрочем, о любом нашем офицере. Никто не сможет подсчитать силу ущерба, которую подобная фамильярность наносит обществу, и особенно душам будущих новобранцев.
Фамильярность, как и ирония, обладает разрушительной силой в своих «мегатоннах». Мы в армии фамильярничаем с мундиром, когда перед увольнением в запас строгий и потому благородный воинский наряд обвешиваем и обшиваем мещанскими побрякушками, но худшая из фамильярностей — это потеря дистанции между солдатами и офицерами и холопско-барские взаимоотношения между офицерами во время приветствия, когда старший по званию не отвечает на приветствие младшего. Убежден, что офицеры выжгут из своей среды эти манеры, когда поймут, что они незаметно для них заползли в их жизнь из чуждого мира с его заземленностью, узостью кругозора, культом импорта и штампами вместо мыслей.
Вопреки мещанскому мелкотравчатому опыту беру на себя смелость утверждать, что деньги всегда пахнут. Вопреки расхожей пошлости «тот, кто крутится, не умеет жить»...
Рыба гниет с головы... Поговорка эта не имеет ничего общего с народной мудростью, а родилась в среде завистливой и подглядывающей дворни. Плохой солдат всегда обвиняет в поражениях командование, хороший солдат во всех неудачах корит себя — это древняя добродетель настоящего воина. С какого бы места ни гнила рыба, армия всегда держится дольше всех, именно потому сегодня пушкинский дух, пушкинская иноческая простота, просветлепность и готовность к праведному бою более всего в нашем обществе живут я воинах. И Советская Армия — сила не только вооруженная, но прежде всего сила духовная и культурная, народная школа воспитания патриотов, интернационалистов.
Очевидцы свидетельствуют: когда мы вошли в Афганистан, народ забрасывал цветами советские военные машины, потому что надеялся, что они избавят их от братоубийственной гражданской войны. Кухонная болтовня о том, что пуштун только тогда счастлив, когда стреляет, рассчитана на ванек, не помнящих ни своего родства, ни тем более чужого. Таких народов в мире нет. С бедра стреляют только в Голливуде, среди картонных декораций. Афганский народ втайне надеялся, что «шурави» принесут им то, что русские даровали среднеазиатским и кавказским народам, а именно исполнение сокровенных чаяний всех малых народов сегодняшней Азии, т. е. справедливую жизнь.
Здесь не уместны ни рецепты, ни поучения, но коли гласность дает кое-кому право смаковать паши неудачи, то почему не высказать скромное предположение созидательного свойства и не выразить личное убеждение, что мы сделали верный, своевременный и решительный шаг, введя войска в Афганистан. Только не стоило делать благородный шаг, озираясь, втихомолку и крадучись, а надо было честно оповестить народ и попросить у него моральной поддержки.
Длительные войны русского самодержавия по усмирению Кавказа, длившиеся чуть ли не полстолетия, породили со стороны русских офицеров Лермонтова, Марлинского, Одоевского, а также Пушкина прекрасные поэмы, стихи и прозу, полные глубокого уважения к сопернику, ставшие и для горцев гимнами братства. Ведь и горцев поддерживала непрерывно Турция дипломатически, идейно, оружием, агентурой. Но черкеска стала и русским битвенным нарядом. Горцы перенимали огнестрельное оружие у русских, последние заимствовали лучшие в мире кавказские клинки. Нижегородские драгуны — воины одного из лучших русских кавалерийских полков в 1834 году приняли на вооружение кавказскую шашку. Вскоре это оружие в большинстве полков нашей кавалерии вытеснило повсеместно немецкие и французские клинки.
Когда Киплинг воспевал строителей империи, несущих в Азии бремя белого человека, другой его современник — Лев Толстой создал, точнее, высек резцом образ несгибаемого и неистребимого врага своей империи Хаджи Мурата. Такого понимания братства не знала европейская культура, подобное великодушие было нормой русской армии со времен «Повести временных лет». А пришел Октябрь, и даже самые малые племена Кавказа: кабардинцы, чеченцы, авары, адыгейцы — все получили свою государственность.
В Средней Азии старая русская армия провела ряд мероприятий по сближению с коренным населением, которые можно назвать образцом деятельной культуры. Но мы вошли в Афганистан, не взяв с собой своего драгоценного наследия, забыв опыт. Сейчас мы шарахнулись 6 другую сторону и стали наперебой состязаться в самовысекании с унтер-офицерской вдовой.
Наши солдаты и офицеры показали, что народ не утратил душу, не заложил ее за импорт. По радио передали встречу со школьниками воина-интернационалиста из Белоруссии Павла Шитько, кавалера ордена Красной Звезды. По просьбе слушателей передачу повторили. Павел рассказывал дельно, спокойно, трезво и честно. Он говорил: «Мы там часто слушали радио врагов. И то и дело из-за кордона твердили, что коммунисты задавили исконный русский воинский дух, что русские уже не те, что были раньше, в них уже нет того, чтоб за честное дело встать и даже жизнь отдать».
Ошиблись они. Как говорили раньше: «Славяне есть славяне». Еще Павел заметил, что в роте были и туркмены, и грузины, и казахи, а как пули неприятельские засвистят, так все становятся ближе братьев, как прошитые одним чувством.
Оторванные от Родины, юноши проявили зрелость мужей, они кровью и утратами, терпением и отвагой продолжили древнюю воинскую отечественную традицию подвижничества. Они часто в одиночку решали проблему своей духовной правоты. Для нашего солдата нет более важного на свете вопроса в битве, чем осознание, прав он или не прав, должен он пустить в ход оружие или нет. И там, в горах, вдруг в ритме песни в стиснутых не мальчишеским бременем душах, стихах и поступках засветился пушкинский свет дружбы, ясности и лиризма. Они почувствовали, что несут вдали вахту, смысл которой еще неясен их современникам, что они уже переросли душой сверстников, уже увидели новую даль. Ни на минуту мысль о Родине не покидала их. Никогда никто не докажет Валерию Бурко, лишившемуся ног, что его отец сгорел в вертолете зазря, за чью-то ошибку. Если бы его можно было бы сбить таким политиканством, он не пошел бы без ног в Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина. Как не стал бы проситься без ног майор Валерий Брачиков снова в десант, и непременно в Афганистан. Жажда приключений? Нет, это другие солдаты. За всех них сказал поэт Саша Карпенко, обожженный в Афганистане:
И за светлую, тихую грусть, И за скорбь, что из пламени родом, Ты простишь нас, Великая Русь, Мы чисты перед нашим народом.Для полноты старинной традиции не хватает еще чуточку хотя бы понимания противника, его страданий, его доблести, его заблуждений и верности. Много темных сил вмешалось в эти девять лет. Мы еще услышим такие перлы дезинформации по отношению к Афганистану, которые затмят геббельсовские «открытия». Еще будут зверствовать в кинокадрах под видом «русских» и «афганской армии» переодетые диверсанты, еще прибавят в число жертв всех умерших своей смертью, нечистой суетливостью только осквернят тех детей, женщин и стариков, кто трагически погиб. Афганцы, и заблуждаясь, показали себя народом гордым, бедным и непреклонным. Они еще раз показали, что англичане дважды вовсе не случайно были разбиты в этих горах. Уверен, что мы нашли бы с ними общий язык без посредников, прояви мы сразу же, еще в 1979 году, столько же политической мудрости, сколько доблести показали солдаты.
Наши воины принесли с собой на Родину самое большое богатство народа, которое стоит всего золота земли, всех сокровищ и всех благ на свете, — они сохранили и закалили то, что дает здоровье, силу и счастье, и все это вмещается в одно самое чудное на свете слово — верность. Они не изменили ни присяге, ни дружбе, ни долгу. А верность неразрывна с честью, что в сердце каждого честного мужчины живет с его первым криком.
Я бы привел здесь, как это ни звучит неожиданно, слова Альфреда де Виньи из его прославленной книги «Неволя и величие солдата», которую мы издали в «Памятниках мировой литературы».
«Какое-то неизъяснимое жизненное начало присуще этой странной, гордой добродетели, которая стойко держится, невзирая на все наши пороки, и даже как-то сообразуется с ними, развиваясь за счет их усилия. Тогда как все остальные добродетели, казалось, нисходят с небес, чтобы поддержать и возвысить нас, эта добродетель Исходит как будто от нас самих и стремится в небо. Эта Добродетель исключительно человеческая, словно порожденная самою землею, не сулящая небесного венца после смерти; добродетель эта неотделима от жизни... Это суровая религия, не знающая ни символов, ни образов, ни догм, ни обрядов, — откуда же у людей возникает ощущение ее неотъемлемого могущества? Неотделимая стойкость духа поддерживается в борьбе против всех и против самого себя при мысли, что он хранит в груди некое неприкосновенное «святая святых», нечто вроде второго сердца, где царит божество. Отсюда к человеку приходят внутренние утешения, тем более высокие, что ему неведомы ни подлинный источник их, ни смысл; отсюда — внезапные прозрения, открывающие перед ним суть истинного, прекрасного, справедливого; отсюда — луч света, освещающий ему путь... Это убеждение, которое как будто еще свойственно всем и безраздельно господствует в рядах армии, зовется честью».
Верность — это национальное достояние, с которым народу, как и каждому человеку, не страшны никакие жизненные бури. Каждый час нашей жизни экзаменует нас на преданность этой становой добродетели. Пушкин победил на Черной речке, смертью своей смерть поправ и завещав нам верность чести.
Обновлению жизни должно сопутствовать очищение родного языка, избавление его от мертвых догм, от штампованного газетного хлама, от стершихся понятий, привнесенных потребительским жаргоном и обрезанной памятью, бедности мысли и скудного набора усеченных телевизионных речений, напоминающих слова-выкрики вроде «четко», «отлично». Но и этот малый запас слов захламлен у нас и забит из подобострастия западными заимствованиями. А самое страшное — это когда происходит через слова подмена глубоких понятий, когда благородный смысл постепенно, незаметно и вполне мирно меняется на противоположный ему по значению. Идет медленное удушение слова, несущего в себе тысячелетия опыта, страданий и надежд. Как это, кстати, и случилось со словом «культура», в основе которого древнее слово «культ», что значит «служение», «возделывание», «защита», «очищение», «почтение».
Когда приходит в общество пора обновления, наступает время перестроек, очищения отечественного наследия. Сегодня тема нашего разговора «Армия и культура». Когда-то эти два слова несли в себе один и тот же дух служения. Но разобщаются и отчуждаются не только ведомства, расходятся слои, обособляются группы и разъединяются люди. И прежде всего умирают слова. Надо бы, видимо, провести множество, скажем, семинаров и пригласить людей к общенародному разговору на тему, что такое культура. Десятилетиями люди приучаются находить «культуру» там, где ее никогда не было. Есть ли какой-либо смысл в понятии «парк культуры и отдыха»? И что общего у этого парка о сельским Домом культуры, соцкультбытом и т. п.? Но попытаемся в меру сил приблизиться хотя бы к первоначальному, чистому и животворному смыслу слова «культура».
Культура — это то, чего нельзя увидеть глазами, нельзя ни потрогать, ни взять в долг, ни заложить, ни осязать, а тем более купить, но единственно можно передать. «Традиция» в переводе означает «передача» — слово русское, честное и точное. Передал или не передал отец сыну — вот на чем зиждется культура. Разве вы можете пощупать руками верность, одолжить надежду или купить бескорыстие, доброту, милосердие? А ведь это и есть культура.
Культура есть здравый смысл, ибо она — психическое здоровье. Культура есть красота, ибо она — физическое здоровье. Культура есть достоинство и совесть, ибо она— нравственное здоровье. А еще культура — это верность отцу и матери, верность роду и отечеству, это правдивость и нежность, доброта и бесстрашие, которые всегда вместе, ибо сострадание есть отвага души. Значит, культура — это преданность всем своим истокам, словом, она есть любовь, она — здоровье, она — верность. Все эти слова равнозначны по смыслу. Нечистый воздух, грязная вода, отравленная почва — следствия того, что подлинная культура заменена как бы на чиновный «соцкультбыт».
Подлинная культура тяготеет не столько к образованию, сколько к воспитанию. Культура есть то, что не имеет специализации, не поддается подсчету, неразложимо и чего нельзя приобрести с дипломом или степенью, а тем более с должностью. Потому крестьянин может быть глубоко культурен, а академик — хамом, офицер может быть высококультурен, а культуролог невежествен, а то и просто, по К. Марксу, «профессиональным кретином».
Культуре не учатся по книжке, ибо она вся в поступке, в действии, в живом слове. Лишившись здравого смысла там, где надо принять решение на уровне целого организма, мы призываем в советчики специалистов, профессионалов, академиков, то есть тех, кто всю жизнь буравил частность, и запутываемся окончательно, забывая, что нобелевский лауреат может, допустим, расщеплять атом, но быть полным олухом в неразложимой жизни и политике. Все наше столетие запуталось при оракулах-профессорах. Один профессор, вроде Фрейда, наотрез отказывался рассматривать человека выше пояса, экономиста-профессора никакими силами не оторвать от желудка, технократ — беднейший из всех — верит в науку, другой профессор-оракул — Корбюзье — вещал, что дайте людям типовую солнечную каморку, и не надо ни революций, ни религий, и ведь этот идиотизм десятилетиями с упоением тиражировался. Еще один лингвист-структуралист — Леви-Стросс заявил, что в человеке нет вообще никакой тайны, а вместо души — хорошо просматриваемая кристаллическая решетка. Все они вместе и по отдельности «рисовали» свои портреты и навязывали их другим. Потому-то мы и пришли к этим гербицидам в культуре или вдруг увидели, как сказал бы Дереу У зала: «Много лет тайга ходи — понимай нет».
А В. И. Ленин заклинал, предупреждал и завещал: «Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии». Слова выделены самим Владимиром Ильичем.
Мы попробовали приблизиться к первоначальному понятию, которое заключено в слове «культура». Что касается вооруженных сил, то каждый полагает, что в словах «армия» или «флот» для него нет загадок, и отчасти прав, и именно отчасти, даже если он отслужил в вооруженных силах всю жизнь.
Что такое армия? В чем смысл, дух и назначение этой древнейшей опоры русской и советской государственности? Народ, с тех пор как осознал себя, живет в известных рамках общности, где вооруженные силы являются гарантом ее спокойствия. Войско — важнейший из краеугольных камней безопасности державы. Народ воплотил эти представления в образах былинных витязей, которые суть первый «офицерский корпус». Князья-воины изображены на столпах храмов, чтобы дать прихожанам наглядный урок государственности, и наш предок каждый день
благоговейно проникался этой становой идеей родной державы. Пахарь и без пропаганды знал, что без воинской дружины он — легкая добыча алчных, Вероломных и неспокойных соседей. Тайна русской государственности и армии в том, что исторически русский народ вел непрерывную войну за свое физическое существование. Во все века князья и позже цари волею обстоятельств становились во главе этого тысячелетнего противостояния. Имена Мономаха, Александра Невского, Дмитрия Донского становились общенациональными именами — символами. В этом главная причина долгой веры народа в царскую власть и ее непогрешимость. Князья и тысячи других мужей, таких, как Боброк, Ермак, Пересвет, Коловрат, Платов, Суворов и, наконец, Жуков, — это начальники, воеводы и командиры русских сил, все тот же офицерский корпус. Это люди высочайшей духовности, носители подлинной культуры, ибо если на свете нет большей любви, чем «душу свою положить за други своя», стало быть, нет и выше культуры...
Русская и Советская Армия, через лучших своих сынов не раз доказавшая это, и поныне стоит на этом принципе, а тому порукой — Афганистан, смертоносные реакторы Чернобыля... Такая армия и есть культура. На переломах истории армия оказывалась главной, реальной надеждой народа, а нередко выполняла не свойственные ей на первый взгляд обязанности. Так, Петр I указом 1722 года назначил военных управлять даже православной церковью, видимо полагая с присущим ему здравым смыслом, что офицер и «воин христов» — священник воспитаны на идее служения и родственны по общественному призванию.
Перед этим Петр уже заставил молодых священников подоткнуть рясы и резво взбираться на кораблях по вантам. Он помнил, что все его предки-воины перед смертью принимали монашеский постриг. Потому государь бестрепетной рукой подписал указ, где говорилось: «Выбрать из офицеров доброго человека, кто бы смелость имел и мог управление дела синодского знать, и быть ему обер-прокурором». Знаменательно, что Петр счел нужным подчеркнуть такие качества главы синода, как «доброта», «смелость» и «знание». Еще более важна неслучайная и мудрая последовательность этих качеств по степени их важности. Петр не расставлял слов бездумно и, как мы внаем, не был узким специалистом. Если офицер родствен служителю культа в силу хотя бы молчаливого служения, строгости обряда и устава, привычки к самоограничению и послушанию, то на земле нет ему, солдату, большего антипода, чем лицедейство и роль актера. Можете вы хоть на миг представить актера или певца, поющего при гробовом молчании зала? Он зачахнет, сникнет и уйдет после первой же песни или роли, ибо актер живет на похвале, аплодисментах, поощрении как на допинге. Солдат не смеет и думать об этом. Актер живет на чужих характерах, перевоплощаясь. Офицер держится на верности самому себе. Это противопоставление кажется искусственным, но оно не более надуманно, чем скрытое противопоставление, заключенное в теме «Армия и культура». Будем противопоставлять не для углубления разницы, а для рельефного высвечивания особенностей, затертых и захватанных неверным и частым употреблением.
Когда-то Константин Леонтьев (о нем ниже), разбирая «Анну Каренину», заявил вызывающе: «Нам Вронский нужнее и дороже самого Льва Толстого. Без этих Толстых можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека». А ведь Леонтьев искренне преклонялся перед силой художнического пера Толстого и сам был не последний писатель.
Что в заявлении этого человека, которого Лев Толстой добродушно назовет «разбивателем стекол»: только умаление писателя или в его противопоставлении гвардейского офицера знаменитому сочинителю есть кроме парадоксальности еще и глубокое значение, скрытое от глаз массового читателя, который, кстати, есть предтеча массовой культуры? Отмахнемся ли мы от этого, еще раз повесив на Леонтьева бирку «консерватор»? Леонтьев, хотим мы того или нет, фигура крупная, личность глубокая и знаменательная. Первое желание, которое приходит на ум с бессознательно внедренной репрессивностью мышления, — это и в самом деле повесить ярлык «реакционер», и в угол пыльный, чтоб не мешал. Но Леонтьева этим не испугаешь, он гордился своей причастностью к консерватизму. Может, не будем голову прятать под крыло?
Когда прилетел в Москву Челентано, итальянский эстрадный певец, то «герои» перестройки — газетчики устроили драку в Шереметьево за то, чтобы взять первым у него интервью. Когда же в Москву прилетели Герои Советского Союза офицеры-«афганцы» Руслан Аушев, В. С. Кот, В. Е. Павлов, А. Е. Слюсарь — люди, показавшие высочайшие образцы долга и отваги, ни один человек их не встречал. Люди, которые в любой стране стали бы народными героями, окружены молчанием.
Почему странные, приплясывающие, дрыгающиеся существа с гитарами навязываются телевидением в качестве кумиров? Уж не для того ли, чтобы сделать молодежь здоровее, отважнее, честнее? Или это особая милость, оказываемая за то, что они заимствуют, выкрикивают и хрипят на чужой манер? Случайно ли фестиваль песен воинов-интернационалистов в Москве проходит на задворках стадионов вроде «Авангарда»? Туда прилетают за свой счет со всей страны молодые ветераны, катят инвалидные коляски, идут жены и дети. Перед нами подлинно народное явление. Прибегают на него с нечистыми намерениями представители некоторых иностранных телекомпаний, а от нас на эпизод приходят только от телередакции со странным названием «Взгляд», которая считает, что с молодежью лучше всего говорить за полночь.
Отчего промолчали, по существу, все газеты, когда прошел грандиозный фестиваль славянской письменности в Новгороде в мае 1988 года, и все, как одна, захлебываясь и перебивая друг друга, говорят о роке? Почему все свое, родное, отечественное вызывает молчание, а все зарубежное, чужое, особенно если оно не созидательно, вызывает ликование? Сможем ли мы убедить тот же Запад вести с нами достойный, честный и прямой диалог, >если будем холуйски показывать, как мы ему подобострастно и нелепо подражаем и как все свое презираем и не уважаем, чтобы заслужить его одобрение? Воспитаем ли мы трудовое и честное поколение, если с детства будем приучать к тому, что Иммануил Кант с исчерпывающей и беспощадной прямотой называл «сладострастным самоосквернением»?
Почему развлечению дан бесспорный приоритет перед воспитанием? Случайно ли те, кто не «служит Советскому Союзу», имеют на телевидении, которое смотрит весь народ, лучшее время и приоритет перед теми, кто служит Советскому Союзу? Никогда подлинный досуг не был развлечением. Он всегда созидателен. Вы думаете: неверная, разрушительная установка берет начало в застойных временах орденоносного Брежнева? О, нет.
Валериан Майков, сын ратника 1812 года Николая Майкова и брат известного поэта Аполлона Майкова, отметил через несколько лет после смерти Михаила Лермонтова: «Все ударились в так называемую изящную литературу; все принялись или писать, или читать романтические элегии, поэмы, романы, драмы; некому было думать ни о славянизме, ни о европеизме в России. Затем явилась «Библиотека для чтения», и тогда, по собственному ее сознанию, начался в русской литературе такой смех и такое веселье, что серьезные вопросы сделались, наконец, совершенно неуместными».
Мы имеем длительную традицию анекдота, эстрадного хихиканья, всеразрушающей иронии. Еще Пушкин заметил, что глупая критика не так заметна, как глупая похвала. Созидательный здравый смысл и ответственность подменили критикой и ковырянием в недостатках с ущербным вниманием ко всему нездоровому. Мы беллетризируем все и вся до полного разжижения и расслабления. В журналах вялая беллетристика выше рангом, чем дельная глубокая статья историка-мыслителя. Первая набирается крупным шрифтом, корпусом, хотя она ближе к развлечению, а историк всегда будет набран мелким слепым петитом. Вот такие мы эстеты и знатоки изящного. Солому с крыш скормим коровам, но на искусство эстрады и балет отдадим последнее.
Когда умер первый Герой Советского Союза, боевой летчик генерал-полковник Н. П. Каманин, человек, который руководил отрядом космонавтов, то некролог не был подписан главой государства. Когда в тот же месяц умер эстрадный певец Л. О. Утесов, некролог подписал глава государства. Утесов, тот хоть целая эпоха в эстраде... Но вскоре ушла из жизни актриса из Прибалтики, имени которой никогда не приходилось слышать, и некролог снова подписывает глава великой державы. Что же мы ждем от молодежи, как мы можем поднять уважение к труду, чести, к производству и семье, если первый герой страны генерал-полковник Каманин в табеле заслуг перед Родиной стоит ниже эстрадного певца? Вспомним, сколько раз мы видели по телевизору эстрадных певцов и сколько раз выдающихся военных врачей в Афганистане или прославленных — увы, в узких кругах! — героев — командиров атомных подводных лодок.
Перестройка есть перегруппировка сил перед наступлением. Может ли победить армия, если она противостоит противнику не передовыми частями, а выставив вперед обозы и героев тыла, и движется на врага с авангардом приплясывающих и дрыгающихся гитаристов, которые оглушают со страху себя и противника электрическими децибелами? Впереди идут предприимчивые газетчики, десант аэробики, усмехающиеся пародисты, женоподобные танцовщики, потому что «в области балета мы впереди планеты всей», а на острие атаки — министерство культуры, точнее министерство зрелищ и развлечений, и комсомол, который пытается шефство над флотом и армией, по существу, заменить шефством над досугом и кооперацией, Итак, один с сошкой — семеро с гитарой.
Можно понять отвращение и горечь, которую испытывают сотрудники военкоматов при виде нынешних призывников, воспитанных министерством развлечений и эстрадным обществом. Подросток убежден, что полноценный человек тот, кто слушает «маг» и знает дюжину по памяти дрыг-ансамблей (слово «рок» надо переводить точно: это значит «вертеться и дрыгаться». Иначе «рок» по-русски прямо-таки имеет роковую, многозначительную глубину). Сегодня рок уже позавчерашний день, так же как «порно», секс сметены СПИДом на Западе. У американских школьников на первом месте среди ценностей стоит здоровье, а мы доразвлекались до того, что у наших детей в шкале ценностей здоровье стоит на седьмом месте. Это не может не вселять тревогу. Не может быть ни солдата, ни пахаря, ни рыбака, ни инженера, ни отца, ни матери с подобной дегенеративной шкалой ценностей.
Вы думаете, у детей здоровье на седьмом месте, а у их родителей на первом? Так не бывает. Дети никогда не виноваты. Нет проблемы отцов и детей. Есть только проблема отцов. Мещанин сегодня стоит на трех китах: на импорте, на заграничной поездке и на заемной идеологии — йоге, кунфу, шамбале, роке и прочем. И импорт, и «загранка», и рок — все это чужое. Неприязнь к своему стала доминантой психики многих. Научная работа стала формой абстрактного развлечения, которая хорошо оплачивается. Неудивительно, что разжижение мозгов иных обывателей достигло такой степени, что они всерьез говорят о том, что теперь уже и армия не нужна.
Хулиганство и беззакония, случающиеся в среде военнослужащих, мы заменили обтекаемой формулировкой «неуставные отношения». Эти уродства, привнесенные в войска извне, должны выжигаться из армейской среды. Но неуставные отношения не есть «болезнь» только армии. Нет ни одного коллектива на гражданке, в котором Не было бы в той или иной форме «неуставных отношений». Если таковых не существовало бы в жизни, вернее, если бы они не принимали столь уродливый характер, то следовало бы распустить завтра же милицию, суды, прокуратуру. «Неуставные отношения» пронизывают жизнь каждой школы, бригады, общежития института. И название им — «неписаные правила»,
Неуставные отношения в армии существуют столько же, сколько и сама армия. Когда общество здорово, то они могут быть полны и благородства, взаимовыручки, боевого товарищества. Таких примеров в армии сейчас больше, чем уголовщины, которую дружно смакуют. Все закрытые учебные заведения держатся на неуставных отношениях. Кстати, чем аристократичней на Западе закрытый колледж, тем суровее в нем порядки, тем голоднее жизнь, и отпрыски богатейших семей живут зимой в нетопленых комнатах. Это потому, что они еще не имели счастья начитаться книжек наших «педагогов-новаторов», которые хотели бы и из нашей школы тоже сделать один большой эксперимент, а учебу превратить в непрерывное «шоу», где дети сидят на педсоветах с учителями. Школа благородно консервативна. Общество не всегда доверяет новаторам не из ретроградства, а из глубокого и спасительного чувства, что детство не может быть предметом эксперимента для энтузиастов. Жизнь не праздник, и школа призвана готовить молодежь к тяготам жизни. Потому в хорошей школе должно быть честно, светло, радостно, но всегда трудно. В учении всегда должно быть очень трудно. Школа не может быть ни развязной шоу-площадкой, ни угрюмой казармой. Для здоровья детей и молодежи не досуг и не телеразвлечения нужны, а порядок, строгость, справедливость, братская доброта и помощь.
Армия последние семьдесят лет была и есть единственный институт общества, путь которого полон жертв. Армия всегда расплачивалась своими лучшими сынами и никогда, даже в страшные годы, не запятнала себя ни репрессиями, ни чванством, ни малодушием. Армия не состоит из святых. В ней разные люди. Но она мужественно выполняла свой долг, даже когда камни кричали в так называемые мирные дни, и молча умирала, когда Родина требовала. Это ложь, что сплошь и рядом кричали: «За Сталина!» Кричат только в кино. В бою трудятся, а не митингуют.
Словом, кто хочет искоренить безобразия в армии, тот должен поставить главным жизненным принципом девиз «честь — смолоду», а на острие перестройки выставить тех, кто у станков, на пашне, в больницах, в школах, на; перевалах Афганистана и в Мировом океане показывает, что такое честь в действии.
Первым шагом для этого должен быть призыв ко всем фронтам комсомола, школ и минкультов повернуться лицом в искусстве и этике к коренным отечественным ценностям и традициям. На Западе уже в магистральную моду среди молодежи (после хиппи, панков и рока) вошла мода «яппи», т. е. верность своему флагу, своей стране, своим ценностям, добротной одежде, честная государственная карьера. Запад начал культивировать патриотизм всюду, он отрыгнул уже и секс, и децибелы, многие же из нас только-только радостно добрались до этих помоев. Опять будем в обносках Европы.
«До 1825 года все, кто носил штатское платье, признавали превосходство эполет. Чтобы слыть светским человеком, надо было прослужить два года в гвардии или хотя бы в кавалерии. Офицеры являлись душой общества, героями праздников, и, говоря правду, это предпочтение имело свои основания. Военные были более независимы и держались более достойно, чем трусливые и пресмыкающиеся чиновники». Эти слова принадлежат А. И. Герцену. Армию принимали не за ее золотое шитье, а за героизм, проявленный в сражениях за Бородино, Лейпциг, Кульм, Дрезден, Париж...
В 1825 году русские офицеры доказали свою любовь к Отечеству, выйдя 14 декабря на Сенатскую площадь...
И сегодня на вопрос, смогла ли Советская Армия сберечь драгоценные традиции русского воинства, офицерского корпуса, в то время самого отважного и самого образованного в мире, ответ однозначен: традиции сохранены и приумножены.
Традиции — это память, а память — воздух культуры и душа армии. Не прервалась связь времен. После Октября лучшие офицеры и генералы старой армии передадут свои знания пытливым деревенским парням, сменившим Георгиевские кресты на ордена Красного Знамени. Среди них будут почти все маршалы и генералы 24 июня 1945 года на Параде Победы. Из Спасских ворот Кремля вылетит всадник на белом коне — один из этих крестьянских парней Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Во главе сводных полков фронтов пройдут полководцы и военачальники — выходцы из народных масс.
Когда участники парада соберутся в Георгиевском зале, где стены храпят память о славных победах русской армии, преемственность воинской традиции станет особенно зримой. Главная традиция русской и Советской Армии — быть силой не только вооруженной, но прежде всего духовной и культурной.
Армия, куда собираются самые здоровые силы народа, по суворовским заветам должна быть школой нации. Наполеон в свое время признавал, что победа в войне только на четверть зависит от материальных факторов. Три четверти приходится на боевой дух. Армия не изолирована от общества. Она неразрывна с народом. Недуги общества отражаются на ней непосредственно. Офицеры несут бремя воспитания. Нет ни одного командира, который не был бы учителем, только педагогика эта труднейшая и самая истинная, ибо офицер действует по принципу «Делай, как я».
Выдающийся русский военный педагог и мыслитель генерал Драгомиров, герой Шипки, говорил: «Если офицер не сделает, то никто не сделает». Сегодняшние советские офицеры воспитываются в духе благоговения перед своей трудной миссией, с пониманием того, что на свете нет лучшей педагогики, чем личный пример, что наказание и дисциплина — понятия противоположные, что армия без дисциплины — битая армия. Речь идет о дисциплине, которая осознана человеком, дисциплине как идее, на которой основана сила воинского братства.
Каждые полгода в армейский строй вливаются тысячи юношей. Их надо в короткий срок обучить, воспитать и приобщить к суровому мужскому долгу, который в нашей Конституции, скупой на прилагательные, единственный сопрягается со словом «священный». Но даже если весь офицерский корпус будет состоять из богатырей, он не справится со своей педагогической задачей, если семья, общество, школа, книги, телевидение, радио не будут ежедневно создавать атмосферу созидательной любви к тому, что Пушкин называл «воинственным повиновением», не будут воспитывать добровольное стремление к самоограничению, прививать умение повелевать и подчиняться.
Человек был и остается главным фактором войны. Можем ли мы быть беспечны в том, что имеет отношение к воспитанию? Нет, партия каждый день призывает к бдительности. Моральные устои общества, на мой взгляд, можно поколебать, достаточно внедрив в неограниченном количестве рок, диско, видео, порно, алкоголь, тем самым разрушив главную основу — духовную.
Сегодня в некоторых наших газетах и на киноэкране часто путают раскованность с распущенностью, доброту с потаканием, дружелюбие с заискиванием, расслабленность, бесхарактерность становятся нормой. В таких условиях юноши привыкают к вседозволенности, безответственности. Отрицательный настрой придает «брюзжание» о трудностях службы некоторых уважаемых вузовских наставников с помощью печати, чего никогда не было в истории нашего государства.
Вся история русской литературы со времен создания Петром I новой армии пронизана идеей миролюбия. Офицеры Державин, Хемницер, Лермонтов, генералы Денис Давыдов и Павел Катенин, инженер-поручик Федор Достоевский и поручик Лев Толстой, кавалергард Александр Фет и майор Алексей Толстой все, как один, даже в своих батальных творениях неустанно приветствовали «возлюбленную тишину». Советская Армия сберегла эту столбовую традицию миролюбия, и когда мы произносим: «Военно-патриотическое воспитание», мы вкладываем в эти три слова, ставшие привычными с детства, любовь к родной армии и обществу. Ибо их противопоставление в любых странах считалось делом подстрекательским и преступным, а тем более это неприемлемо в стране с народной армией. Пропаганда войны у нас карается законом, это знает каждый. Когда отрицание войны подменяется отрицанием необходимости и важности службы в армии, когда борьбу за мир предлагается вести через «антивоенное патриотическое воспитание» — это звучит по меньшей мере двусмысленно.
Армия достойна самого глубокого почтения за то, что она всегда первой откликается на любую беду, будь то пожар или наводнение, за то, что офицеры, служа Отечеству, лишены порой не только театров и библиотек, но и многих радостей, которые для большинства из нас само собой разумеющееся. У армии всегда будут недруги, не надо убаюкивать себя маниловщиной. Армия стоит на дисциплине, а для разгильдяя это невыносимо. Армия держится на труде, а бездельникам и паразитам это не по нутру.
Кто спас недавно Польшу от хаоса, анархии и унижения национального, кто в последний час удержал ее на краю пропасти? Войско Польское! Стало быть, кого враг чернит? Разумеется, тех, кто стоит на страже социалистического Отечества, — народную армию.
Есть ли в нашей армии недостатки? Конечно есть, и даже, видимо, больше, чем нам хотелось бы. Должна ли она меняться? Разумеется, ибо, как говорят лингвисты, «не меняется только мертвый язык». Но надо признаться, что эти недостатки, как правило, результат наших общих недоработок. Если мы в школе, ПТУ, институте, обладая и временем, и всеми средствами воздействия, не разбудили в душе молодого человека высоких чувств, называемых патриотизмом, если не воспитали в нем трудолюбия, стойкости, дисциплинированности, надо иметь мужество спрашивать с себя. Нельзя думать, что, надев военную форму, парень, будто по волшебству, освобождается от всего дурного, от накипи бездуховности, безответственности...
Мы вправе предъявить к нашей армии самые высокие требования. Но всегда должны помнить и то, что армия— это мы сами, наша плоть и кровь и наши предания.
Память — фактор оборонный. Сегодняшнему воину должны быть одинаково дороги подвиги ратников Куликова поля и небывалая стойкость героев Ельнинского сражения, первых советских гвардейцев. Наша память хранит подвиги панфиловцев и защитников Сталинграда, небывалую стойкость ленинградцев...
Мы все помним. Память о подвигах дедов и отцов — наше идейное оружие.
Вернемся к Афганистану, который подверг суровому экзамену все стороны нашей жизни. Были ли в Афганистане случаи моральной ущербности среди военнослужащих? Думаю, что да, и, видимо, больше, чем нам хотелось бы. Войне любой сопутствуют преступления, коли от них не избавлена даже мирная жизнь, и даже такой войне, как «священной памяти двенадцатого года». Известен гневный приказ Кутузова, и не один, направленный против дезертиров и мародеров русской армии. Но есть правда народная, которая совпадает с художественной, а есть правда «военкоматская», протокольная, окопная, тыловая, штабная, трибунальская и сотни других частных фактов, правд и кривотолков. Даже Лев Толстой, ко времени написания «Войны и мира» уже убежденный антимилитарист, который не упустил даже подергивающейся мышцы у наполеоновской ляжки и пухлой шеи Кутузова, и тот не воспользовался трусами, мародерами и дезертирами. Он понимал, что это не народная правда о войне. С такой же взвешенной мудростью пишем мы о нашей армии в момент испытаний, выпавших на ее долю. Верны ли мы сыновней традиции?
Армия соединяет в себе все умственные силы общества, все его слои и возрасты, все производительные силы Родины. Мы в глубине сознания безмолвно отдаем ей все лучшее, потому что считаем армию и флот наиболее чистым, сильным и возвышенным выражением нашего Отечества. Иные упрекают офицеров в равнодушии ко всему, что не касается их профессии, в том, что они отгородились от общества. Между тем это происходит чаще от некоторого рода профессиональной застенчивости, которую можно скорее отнести к их заслуге. Если в прошлом офицеры и относились с предубеждением к штатским, то только потому, что им казалось, что у гражданских лиц недостаточно ревности к славе Отечества.
Любовь к своей армии, верность ее традициям есть самый верный признак здоровья нации. Нападки на армию начинаются всегда, когда хотят скрыть и не трогать более глубокие пороки общества. Чаще всего неприязнь к армии проистекает от нечистой совести и страха перед службой и долгом.
Если в воинском коллективе происходит ЧП и случаются низменные поступки, жестокость и глупость, то приходит это в армию в значительной мере извне. О тяжелых случаях «дедовщины» часто пишут с плохо скрытым ущербным злорадством.
Наша армия при любых перекосах казенщины и самодержавия почти всегда была носительницей благородных устремлений. В военных учебниках всего мира курсанты самых различных стран постигают военную науку по идеям англичанина Генриха Ллойда, швейцарца Жомини и немца Клаузевица — и все три столпа военной мысли в разное время были боевыми офицерами русской армии. Случайно ли это? Нет. Как не случайно и то, что автор полонеза «Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый росс» Осип Козловский, юношей офицером сбежав из родной Польши, пошел волонтером в русскую армию и сразу же — на приступ Очакова.
Афганистан только заставил нас посмотреть на себя строже, как на боевой поверке, чтобы реалистично и сурово спросить с себя, верны ли мы родной традиции, но не для того, чтобы бегать с ушатами грязи.
В 1945 году, вспоминает очевидец, митрополит Иосиф служил молебен по советским воинам, павшим за Югославию, в кафедральном соборе Белграда. Вдруг он сделал паузу и стал пристально всматриваться в толпу. Прихожане насторожились — военная тревога еще жила в сердцах. Воцарилась в церкви мертвая тишина. Наконец митрополит нашел взглядом тех, кого искал, и медленно поклонился им в пояс. Тысячная толпа молящихся обернулась и увидела двух советских офицеров. Так первоиерарх сербской православной церкви выразил свою признательность советским воинам-освободителям и в их лице всему нашему народу. Русские солдаты уже не раз пробивались через горные теснины Балкан на помощь братьям.
Ни одна литература в мире не имеет такой устойчивой и сильной антимилитаристской традиции, как русская. «Всяк мудрый любит тишину» — это строка из державинской «Песни лирической россу на взятие Измаила». И еще: «Воюет росс за обще благо, за свой, за ваш, за всех покой». Даже когда поэт восклицает: «О! Исполать, ребяты, вам, русские солдаты, что неустрашимы, никем непобедимы...» — в этом только молодой избыток сил и нет и тени спеси. А ведь это эпоха, когда, по словам Пушкина, сына гвардии поручика, «их смелым подвигам страшась, дивился мир».
Этот же дух спокойной силы и правоты звучал в пьесах генерала А. Сумарокова на подмостках театра Сухопутного кадетского корпуса. Знаменательно, что русский театр вопреки бытующим предрассудкам родился в пытливой среде военной молодежи — подростков, как мы сейчас сказали бы. Этот неумирающий тип русского воина счастливо и неожиданно воплотился в солдате Сухове из чудесного фильма «Белое солнце пустыни». Потому-то с таким волнением, тревогой и напряжением мы ловили глухие обрывки вестей из Афганистана. Умолчание было страшнее беды. Не привык русский воин драться при заговоре молчания. Ему нужно чувство правоты, в которой он тысячу лет черпал силы. Почему не говорили на Родине о наших сражающихся ребятах? Тяжело бремя чужбины для человека, только начавшего жить. Мы спрашивали друг друга: Где наши горные части? Почему при чудесах техники и сверхмощи ее мы не умеем оседлать перевалы, закрыть теснины? Не утрачены ли наши народно-суворовские качества быстроты, глазомера, натиска? Числом мы берем там или умением? Почему мы смакуем чужеродный шепоток о том, что мы там непрошены и гибнем зря? Почему мы верим всякой гадости о себе?
Почему мы гордимся до сих пор швейцарским походом Суворова? Ведь Альпы тоже не Алтайские горы. Почему мы гордимся бойцами Испании и предвоенными добровольцами, бившимися с японцами в небе Китая? Что с нами произошло, что мы так легко поддаемся самоосквернению? Наверняка можно было бы обойтись в Афганистане меньшими потерями. Ясно, что можно воевать экономнее, расторопнее, решительнее, просто умнее. Но солдат выполняет приказ. Десантник не дискутирует перед прыжком с парашютом. Мы верим, что неотвратимая историческая необходимость бросила наших солдат за Гиндукуш. В этом, как сказал бы Альфред де Виньи, и заключена «неволя и величие солдата». Сколько бы нам ни перечисляли с настораживающей въедливостью и многозначительностью случаи мерзкого поведения иных военнослужащих, мы верим, что в горах Афганистана не они оставят по себе память, не они несут историческую вахту поколений, не они олицетворяют русского солдата. Афганистан еще раз подтвердил, что не артиллерия — бог войны, не ракеты, не танки решают все и не пехота —< царица полей. Дело не в родах войск — есть только один бог войны, и это то, что называют моральным фактором.
Бог войны — это дух, боевой дух решимости, терпения, выносливости и ратного братства. Дух, говорят, веет, где хочет. Но в бою он вливается в солдата и обретает форму, силуэт, осанку нашего ратника. Мы узнаем этот облик с детских лет. Это единственный в нашей отечественной истории образ, который отлился в знакомый со школы скромный и обаятельный тип боевого русского офицера. Из всех категорий наших граждан в характерный, особый тип отформовался только офицер. Мы, может быть, часто неосознанно недовольны бываем своими офицерами, потому что привыкли мерить их по высокой шкале декабристов, толстовского Тушина, Багратионов, Раевских, Скобелевых, Нахимовых, Телегиных и Рощиных из «Хождения по мукам» и сотен других. Мы знаем с юности, каков он, русский офицер, и ревниво следим за тем, чтобы не снижалась шкала. Правда, часто мы склонны себе прощать многое, а офицеру — почти ничего. Наш офицерский корпус прошел экзамен Афганистаном. Враги это знают, потому ждите самых изощренных, тонких и неуловимых подкопов и разрушений имени советского офицера или, как они сами называют, «имиджа» офицера, т. е. образа его.
В духовный багаж воинов входят и ценности культуры, накопленные народом веками. Строгие лики Рублева, бессмертные «Слово о полку Игореве» и марш «Прощание славянки»; мудрая суворовская «Наука побеждать» и «Славься» Глинки, главная высота России — Кремль и бессмертные творенья передвижников укрепляют любовь к земле родной, к Отечеству. Интерес к истории — верный признак молодости народа.
Мы чаще всего говорим о границах, рубежах Отечества и его защитниках в День пограничника. Границы государства — тема общенародной значимости и одна из немногих, на наш взгляд, заслуживающих постоянного внимания. Мы очень много теряем, суживая проблему границ до степени политико-административной карты.
Россия — единственная в мире страна, которая выделила для защиты рубежей наиболее энергичную, жизнеспособную и боевую часть своего народа казачество. И что поразительно, выделила стихийно. Казаки в свою очередь, по словам Л. Толстого, «создали Россию», присоединив и освоив Урал, Сибирь и весь Юг России. Границы — это понятие естественно-историческое и для нашей страны полное особого смысла, начиная с богатырских застав былинных богатырей. К сожалению, эти исторические параллели никогда не фигурируют в печати, когда речь идет о современных пограничниках, а связь между ними очевидна.
Охрана границы не только борьба со шпионами и диверсантами. Это и охрана физического здоровья народа: вдоль всей южной границы СССР расположены уникальные противочумные станции, на которых трудятся безвестные зоологи редкой самоотверженности. Они не только охраняют, но при надобности приходят на помощь нашим соседям.
Пограничная застава, противочумная станция, таможня, которая борется с ввозом в нашу страну наркотиков или подрывной литературы, — все они охраняют физическое и моральное здоровье нации. На морских рубежах это сторожевые корабли. На всех границах запечатлены на мысах, банках, вершинах, заливах, островах и проливах имена славных русских моряков. На прибрежных скалах кресты и судовые колокола в память о погибших говорят о том, что рубежи — это тема актуальная, волнующая и ежедневная. Мы нуждаемся в новом осмыслении пограничной службы.
Мы слишком много уже написали о безграничных просторах и неисчерпаемых богатствах. У хорошего хозяина не бывает безграничной территории. Каждая пядь отмерена. «Безграничные» разговоры нанесли огромный ущерб психике молодежи. Безграничность сродни безродности, то, что не имеет конца и края, не укладывается в сознании, не имеет очертаний, не имеет пределов. Безграничность, наконец, сродни вседозволенности, она лишена качества, национального самосознания.
Культура и сила начинаются с ощущения границ, с тормозов, с императивов. Без ограничений, без границ, без запретов не бывает благородства. Вот для чего нужно пропагандировать границы, пределы и рубежи под любым предлогом.
Любовь к Отечеству и знание его начинаются с границ. Не с очертаний на карте, а со знания границ в их исторической перспективе, с теми жертвами, которые были отданы на рубежах.
Ни один народ не отдал столько защите рубежей, как русский, украинский и белорусский. Даже общий любимый былинный герой Илья Муромец был одним из богатырей русской заставы, он — порождение границы.
Ту же столбовую традицию богатырской заставы несут наши моряки в Мировом океане и воины сухопутных войск.
Военно-патриотическая тематика наших периодических изданий связана с календарными датами — Днем танкиста, Днем Военно-Морского Флота и т. д. Помимо традиционных статей пропаганда чаще всего связана с воспоминаниями ветеранов о последней войне или агитацией на уровне ДОСААФ.
Что касается наших идеологических противников, то / они хорошо знают, что нет в природе темы, которая не имела бы отношения к обороне. В свое время французы обвинили фильм «Набережная туманов» в разгроме Франции и позоре страны. На первый взгляд это может показаться парадоксальным, но только на первый взгляд. Фильм своей безысходной тоской морально разоружил нацию. Вспомним, что французы шли на этот фильм перед войной так же, как мы в свое время на фильмы «Чапаев» и «Мы из Кронштадта». Не знаю, сколько бронированных дивизий сберег фашистам фильм «Набережная туманов», но одно бесспорно: фильм, созданный во Франции, воевал не на стороне французов.
Мы должны помнить об этом великом уроке. Стало быть, искусство воюет и воюет как в мирное время, так и во время войны. Спектакль, книга, фильм, как и песни, «удваивают армию». Искусство и удваивает нацию, и может стать «пятой колонной» в своей стране, как показал фильм «Набережная туманов».
Сейчас, когда на телеэкраны, радио, эстраду и в прозу хлынули песни, спектакли, книги с надрывом, плачем, печалью и унынием, можно смело сказать, что такое искусство не укрепляет дух, не бодрит, а разрушает моральный фактор в боевой готовности наших Вооруженных Сил, ибо армия наша и народ едины и неразрывны. Каков общественно-психологический климат в народе, таким он будет и в армии.
Моральный фактор рассматривается, как правило, применительно к условиям вооруженной борьбы. Но он действует активно и в мирное время, особенно сейчас, и чем глубже народ занят перестройкой и мирным созиданием, тем выше боевая готовность. Для вооруженных защитников во все времена высокий моральный фактор являлся основой боевой готовности. Боевая готовность носит всепроникающий характер, и никто не несет большей ответственности за дух общества, чем печать и телевидение.
В минуты опасности народ проявляет себя до конца, и все тайное становится явным, обнажаются ресурсы и надежды нации. Кого вспомнили 7 ноября 1941 года с трибуны Мавзолея, когда враг был на пороге? Почему в минуту смертельной опасности не вспомнили ни Стеньку Разина, ни Емельяна Пугачева, а вспомнили Кузьму Минина, Александра Невского, Дмитрия Донского?.. Вот факт, дающий повод к разработке целой стратегии в пропаганде военно-патриотического воспитания. В минуты опасности на помощь народ призывает не разрушителей (пусть даже благородных искателей правды), а защитников и созидателей. А теперь вспомним, сколько книг, не считая стихов и поэм, посвящено Разину и сколько Минину. Спасителю Отечества Кузьме Минину — ни одной книги, ни одной поэмы, ни одной песни.
Опыт Великой Отечественной войны показал, что борьбу с фашизмом возглавил русский народ в содружестве с другими народами нашей страны. Братство народов было и остается платформой всей нашей идеологии. Но чтобы союз был монолитным, надо, чтобы ведущий народ, авангардный народ был всегда крепок. Враги знают, что крепость Советского Союза зависит прежде всего от крепости русских. Поэтому они стараются принизить культурное и духовное наследие русского народа. Попутно стараются оглушить нас придуманными революциями: «сексуальной», «модной», «проблемой отцов и детей», псевдомолодежной революцией, зеленой революцией, научной, технической, электронной и т. д. Все эти псевдореволюции нужны для шума, чтобы унизить главную революцию в истории, ибо, как говорит восточная мудрость, вор любит шумный базар.
Мы до такой степени поддались на уловку буржуазной пропаганды, что сами не заметили, как стали прославлять русскую историю и культуру с какой-то оглядкой, стыдливостью и краской на лице. Уступая шаг за шагом, мы теряем наступательный дух и готовность к отпору.
Афганистан подверг жесточайшей проверке все наши культурологические установки. Боевые будни породили ратное братство, но они же и отбросили как хлам все, чем мы сейчас заполняем досуг молодежи. Весь музыкальный «импорт», все джазы, роки, диско, как чужеродная накипь и пена, спали сами собой. Каких же песен требовали бойцы? Они хотели слушать только напевы своей Родины. Свидетели говорят, что воины по четыре часа не отпускали со сцены И. Кобзона, призывая его спеть еще и еще родные песни.
Занимается ли в стране хоть один орган или институт целенаправленно военной песней, музыкой, ритуалами, воинскими традициями? Ни один! Многомиллионная армия, по сути, должна рассчитывать только на шефские концерты. Единственный в стране институт военной музыки, созданный Г. К. Жуковым, реорганизован в факультет — придаток консерватории. При профсоюзах существует Центральная комиссия по шефству работников культуры и искусства над личным составом Вооруженных Сил СССР. Долгие годы ее возглавляла артистка Гоголева, теперь — Чурсина. Что может быть более застойнокомичным? Личный состав Вооруженных Сил в области культуры теперь как за каменной стеной, ибо славные деятели театра не дадут их в обиду!
Созидающая деятельность русской армии — от строительства древних твердынь и засечных черт, от строительства городов в Новороссийском крае, на Азово-Моздокской линии, прокладки Военно-Грузинской дороги, Чуйского тракта, Транссиба и до создания БАМа. Мы писали о военных строителях на БАМе вполголоса, глухо и стыдясь, а на самом деле это продолжение великой традиции. Ни одна европейская держава не имела такой созидающей армии и такого подвижнического офицерского корпуса, как у нас.
Какие темы мы можем предложить молодежи?
Вкус к дисциплине. Дисциплина и благородство. Дисциплина и честь. Дисциплина как проявление созидающей воли. Сознательная любовь к дисциплине. Дисциплина — это порядок. Порядок создает ритм, а ритм рождает свободу. Без дисциплины нет свободы. Беспорядок — это хаос. Хаос — это гнет. Беспорядок — это рабство.
Армия — это дисциплина. Здесь так же, как при закалке стали, главное — не перекалить металл, для этого его иногда «отпускают».
Все публикации наши должна пронизывать одна идея — поднять высоко престиж современного офицера. А это значит вернуть офицеру самоуважение, увлечь молодежь величием солдатского долга. Солдат в русском обществе всегда был окружен особым ореолом. Тем более это важно сейчас, когда в Советской Армии впервые в истории человечества весь офицерский корпус — из народа. Но корпус — это не абстрактное понятие. Это живые люди, порой лишенные элементарной социальной защищенности в острых проблемах быта. Чтобы офицер выполнял свой долг, он должен быть спокоен за свой личный «тыл», за семью. Пока здравствует семья, здравствует народ и армия. Пока существует русская семья, существует русский народ. Семья воспринимает, развивает и передает от одного поколения к другому через тысячелетия духовно-национальную отечественную память.
Семья взлелеяла чувство национального долга и совести. Сама идея Родины-колыбели — лона моего рождения и Отечества — гнезда моих отцов возникла из недр семьи, воплощая телесное и духовное (Родина и Отечество, мать и отец) начала, которые в живом единстве выражают идею семьи. Здоровый семейный очаг будет греть и светить всю жизнь и в труде, и в военных буднях. Если здоровье народа зависит от здоровья семьи, то защита семьи есть защита Отечества, потому защита семьи — тема военно-патриотическая.
Почему доход сейчас в семье больше, чем до войны, а детей меньше? Только ли занятость женщины виновата? Не разлит ли в воздухе дух потребительства, желания «пожить»? Пожить для себя, а значит, для своей утробы, а не для семьи и Отечества. Не преувеличены ли намеренно крики о трудностях в связи с воспитанием и отсутствием детсадов? Не скрыта ли за этим нытьем нечистая совесть? Почему жили раньше беднее, а детей имели? Не является ли семья из троих (отец, мать, ребенок) уродливой игрой в семью? Если двое уходят и остается один, значит, нация занимается самоубийством. Надо всего несколько поколений, чтобы она исчезла. Оставлять после себя одного ребенка на всем свете без братьев и сестер, по существу, сироту, не есть ли это обратная сторона игры в семью? Вот круг отрезвляющих и непрерывных вопросов, которые должны идти в армейской печати из номера в номер, как набат. Какое это имеет отношение к армии? Прямое. Не может быть сильной державы со слабой семьей. Крепость семьи такой же оборонный фактор, как и память.
Об этом еще раз напоминает нам гиммлеровский план «Ост». Вот как выглядел план нацистов по бескровному «мирному» истреблению русского, белорусского и украинского народов.
«Целью немецкой политики в отношении населения русских территорий будет стремление к тому, чтобы рождаемость у русских держалась на гораздо более низком уровне, чем у немцев...»
«На этих территориях мы должны сознательно проводить политику, направленную на сокращение народонаселения. С помощью пропаганды, в первую очередь в прессе, по радио, в кинофильмах, листовках, брошюрах и т. д., мы должны настойчиво внушать населению мысль, что иметь много детей — это плохо. Нужно подчеркнуть, каких огромных материальных затрат требует воспитание детей, сколько всего на эту сумму можно приобрести, каким опасностям подвергают свое здоровье женщины, решившие рожать, и т. д.».
«Одновременно следует широко пропагандировать противозачаточные средства. Применение этих средств, как и аборты, не следует ограничивать ни в малейшей мере. Нужно всемерно способствовать расширению сети производящих аборты пунктов. Например, можно организовать в этих целях специальную переподготовку акушерок и фельдшериц. Чем аборты будут успешнее, тем больше доверия будет испытывать к нам население».
«Разумеется, производство абортов следует разрешить и врачам. Никакого нарушения врачебной этики в этом усматривать не должно».
«Наряду с введением в сфере здравоохранения всех перечисленных мер нельзя ставить никаких препятствий разводам. Не следует предоставлять преимуществ многодетным родителям — ни в форме денежных выплат, ни в дополнение к заработку, ни в форме каких-либо привилегий. Во всяком случае преимущества эти не должны быть сколько-нибудь эффективными».
«Для нас, немцев, важно в такой степени обескровить русский народ, чтобы он никогда больше не обрел возможность помешать установлению в Европе немецкого господства».
«Этой цели мы можем добиться указанными выше средствами...»
В этой казенно-изуверской доктрине, выработанной генералитетом СС, нет нордического склада мышления, но есть знание о том, что любую нацию можно убрать со сцены истории, не прибегая к выстрелам, как и знание о том, что страну можно развалить до основания, не нарушая ее границ.
С середины 50-х, со времен хрущевской «оттепели», мы напоминаем корабль без системы и службы живучести. Более 30 лет мы со слабоумным оптимизмом потребителей культивируем разводы, аборты, бездетность, мы уже имеем миллион сирот при живых матерях, мы сами себя провоцируем паническими слухами о необратимом распаде семьи. Словом, мы, забыв о гражданских принципах, о долге перед ушедшими поколениями, мы, потерявшие за 30 последних лет десятки миллионов детей от абортов, мы без чужой злой воли выполняем гитлеровскую программу фашистов. Мы несемся в магазины, будто универмаги — это храмы, а ГУМ — кафедральный собор. Единственное, на что нас хватает, это искать козла отпущения и заниматься сладострастно демагогией. Ответили ли мы за 40 лет на программу «Ост» хоть одной программой созидания семьи? А ведь без крепкой семьи нет и не может быть боеспособной армии и просто здорового контингента солдат.
Воспользуемся несколькими тезисами, которые приводит генерал-полковник Д. А. Волкогонов в книге «Психологическая война». «Есть более глубокая стратегия — война интеллектуальным, психологическим оружием» — это Гитлер. «Четыре газеты смогут причинить врагу больше зла, чем стотысячная армия» — это Наполеон. Масштабы и тиражи изменились, теперь четыре газеты могут больше, чем миллионная армия. Каким образом? Дезинформацией, говоря по-русски, ложью.
Французский специалист по теории психологической войны Пьер Нор в своей книге «Дезинформация» утверждает, что ложь есть «абсолютное оружие подрывной войны». Политработники должны бы сделать проблему хотя бы офицерской семьи одной из основных составляющих своей работы, наряду с моральной и политической подготовкой.
...Можем ли мы, имея миллион сирот в стране, располагать только восемью суворовскими училищами? Разумно ли иметь флот в Мировом океане и только одно нахимовское училище? Не следует ли некоторым высшим военным училищам и академиям иметь при себе суворовские училища? Для военно-медицинской академии, например, это было бы пироговское училище. А может быть, возродить специальные военные школы, существовавшие перед войной и в первые военные годы.
Может ли армия выполнять свое предназначение, имея свое издательство, но не располагая собственной фирмой «Мелодия»? Песня, как говорил Суворов, «удваивает, утраивает армию». Но песня может и ополовинить, и развалить армию, если она не отвечает становой идее армии. На чем же зиждется наша армия? Ее фундамент покоится, если выразить это одним словом, на здоровье. Здесь речь о физическом, нравственном и психическом. Оно прямо зависит от здоровья общества. Где еще держится в обществе древнейший род искусства — духовой оркестр? По сути, только в армии. А духовую музыку великий знаток нравственности Иммануил Кант решительно предпочитал любой другой. Где еще поют у нас в стране, где бытует песня, где гремят хоры, имеющие на Руси тысячелетнюю традицию? По существу, в армии.
В какой части нашего общества честность, отзывчивость и рыцарство не просто рекомендуются, а введены в суровые пункты устава? Цитирую Дисциплинарный устав, ст. 3: «Стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, не щадить своей крови и самой жизни при выполнении воинского долга;
— с достоинством и честью вести себя вне расположения части, не допускать самому и удерживать других от нарушений общественного порядка, всемерно содействовать защите чести и достоинства граждан». Слова-то какие забытые в наше потребительское время. Достоинство и честь.
И наконец, может ли выполнять армия свою задачу, не располагая собственной киностудией художественных фильмов? Почему в армии есть театры, но нет киностудии на уровне мировых образцов?
Жизнь может цвести только в обеспеченном силой бытии. Мы так привыкаем к армии, ее жертвенности, что не только не замечаем, но и считаем возможным брюзжать по отношению к ней. Только сильная, умная и добрая армия, какой ее хочет видеть народ, может быть гарантом мира. Когда народ занят мирной перестройкой своей жизни, роль стражей его труда и жизни возрастает. Армия как становой хребет русской государственности на много столетий древнее русской православной церкви и древнее славянской письменности. Из всех сказаний, поэм и летописей лучше всех народные чаяния и народный взгляд на воинство выразил автор «Слова о полку Игореве». Армия возникла тогда, когда белорусы, украинцы и русские были единым народом, с единой психологией, речью и помыслами. Армия оказалась единственной структурой, в которой это единство сохранилось, несмотря на ужасы нашествий и бедствия.
Никогда, ни при каких столкновениях держав Сечь не воевала с Доном. Это завет, оставленный народом следующим поколениям. Когда после раскола и особенно Петровских реформ усилилась поляризация русской духов ной культуры, когда простой народ и верхи разделила пропасть непонимания и они отделились друг от друга, только ратное братство лучших сынов из народа и из дворян еще продолжало жить, несмотря на перекосы, крепостничество и бюрократизм. Суворовская, отеческая мудрая традиция жила в рядах войска.
Достоевский с горечью заметил: «Беда наша в том, что на практике народ отвергает нас. Это-то и обидно; этого-то причины и должны мы доискаться. Родились мы на Руси, вскормлены и вспоены произведениями нашей родной земли, отцы и прадеды наши были русского происхождения. Но на беду, всего этого слишком мало для того, чтобы получить от народа притяжательное местоимение «НАШ».
Чаще всего этой высшей награды народ удостаивал офицеров суворовской закалки, тех, кто стоял с ними под пулями. Сегодня, когда впервые в истории весь офицерский корпус — из народа и весь — «НАШ», мы должны помнить, что все мы в долгу перед армией. Именно то обстоятельство, что армия — плоть от плоти народа, и не дает покоя врагам нашего Отечества.
Традиция воинского подвижничества никогда не угасала на Руси. Еще боевые офицеры Петра легко переходили с армейской службы на гражданское поприще. В цене были гвардейские офицеры — смышленые, расторопные, волевые, они знали, что служат не только Петру, но и России.
«Счастлив для меня был тот день, когда на поле Полтавском я ранен был подле государя», — скажет Татищев, тогда поручик Азовского драгунского полка, он же замечательный артиллерист, географ, историк, ведущий родословную с XIV века от рюриковского князя Юрия Ивановича Смоленского. Им было с кого брать пример, размазни и «специалисты» по досугу были не в цене. О Петре Ключевский скажет: «Работал, как матрос, одевался и курил, как немец, пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский офицер».
И наконец, к вопросу о самом понятии «культура». Ни одно понятие не было так искажено, перелицовано и затемнено, как эта будто бы известная всем категория. Постепенно с культурой стали ассоциировать в основном то, что имеет отношение к рампе, сцене, экрану, подмосткам, эстраде и т. д. То есть то, что объясняется словами «зрелище» или «развлечение». Дошли до абсурда, и сторонники рока стали даже требовать признать развлечение формой мировоззрения, что, кстати, широко подхватила и печать. Массовая культура — слова бессмысленные, ибо «развлечение» и «культура» понятия взаимоисключающие. Культура вырастает только из нравственности, подлинная культура укоренена в тысячелетии страданий, надежд и чаяний. Культура ближе к такой категории, как «совесть». Электронные развлечения, досуг с децибелами есть порождение не культуры, а машинной цивилизации, той, что отравляет воздух, воду, почву и сознание. Она порождение не почвы, а асфальта. Гельвеций когда-то сказал, что «глупость — порождение цивилизации». «Массовая культура» скорее массовая глупость, которая в периоды застоя требует себе не только гражданского признания, но и лавров, и ореола.
Армия стоит на традициях, унаследованных от былинных времен. Она несет в себе мысль, волю и дух 1612 года, Полтавы, Бородина, Чесмы, Синопа, Наварина, Сталинграда... Сегодня это,дух боев в Афганистане. Армия дала народу не только полководцев суворовского закала, но и руководителей русской науки, академиков адмиралов Литке и Врангеля, композиторов офицеров Римского-Корсакова, Мусоргского, океанолога адмирала Макарова, генералов медицинской службы Пирогова, Боткина и Склифосовского, генералов — создателей русской стали и булата Аносова и Обухова, и прибавим к этому сотни горных офицеров, таких, как братья Ползуновы, на которых держалась русская металлургия, генерала Мельникова, создателя русских железных дорог, и сотни великих и безвестных русских офицеров-топографов, измеривших, положивших на карту, исходивших все уголки нашего Отечества и в трудную минуту не щадивших жизни.
Вся страна летает на воздушных лайнерах «ту» и «илах», созданных генералами Туполевым и Ильюшиным. И сейчас лучшим в мире духовым оркестром руководит генерал-майор Михайлов, как генерал Александров со своим ансамблем завоевал уже не одну столицу мира. Будем помнить, что ансамбль этот возник когда-то на границе во время событий на КВЖД.
Мы будем помнить, что Географическое общество России было основано военными моряками Литке, Крузенштерном и Врангелем (друзьями адмирала Матюшкина, лицейского друга Пушкина), которые в 1843 году собрались на квартире бывшего военного моряка и военного врача, автора первых в истории книг для рядовых солдат и матросов, человека, увековечившего свое имя подвигом, которому нет примеров в истории, — речь о Владимире Дале — создателе «Толкового словаря живого великорусского языка».
Ни одна литература в мире не дала такого числа офицеров, как ни одна армия не породила стольких литераторов. Лучшая русская проза началась с записок адмирала Головнина. В военной шинели мы увидим офицера-волонтера Гаршина, капитана Куприна, прапорщика Литовского полка Сергеева-Ценского, сапера-поручика и композитора Мясковского, замечательного ученого и боевого моряка, героя 1812 года и автора «Рассуждения о любви к отечеству» адмирала Шишкова. Из этого перечня имен и событий, захватывающих самые священные страницы нашей истории, выявляется естественная и органическая связь армии с народом и его судьбой, армии, которая и есть сила не только вооруженная, но прежде всего духовная.
Пришла пора замечательной эпохи перестройки и обновления. В этом потоке армия призвана заново осознать себя, осмыслить свое место в обновляющемся обществе и в истории, ощутить себя становым хребтом и священным институтом тысячелетней государственности и понять со всей ответственностью, что, чем более углубляется общество в мирную созидательную перестройку, тем более возрастает боевая готовность Вооруженных Сил как гаранта мирного труда. Задачу эту армия сможет выполнить, если будет верна тысячелетней традиции народного духа и культуры.
Афганистан поставил перед нами ряд кардинальных проблем, требующих коренной перестройки воспитания общества и обучения воинов. В боевых буднях весь груз заскорузлой схоластики, старых форм и методов воспитания воинов, вся казенная, догматическая, оторванная от жизни наглядная агитация, сухая плакатность лозунгов, отрезанная ровно на тысячелетие память, бюрократический метод, еще более одеревеневший от уставной буквальности, стал вредным, тяжелым и просто опасным. Многочисленные встречи с воинами говорят о том, что, по сути, только политическое воспитание за долгие девять лет проявило неспособность к саморазвитию, самосовершенствованию и обновлению. Солдаты-юноши, жертвуя жизнью вдали от Родины, оказались, по сути, духовными сиротами. Природная русская тяга к песенному творчеству осталась, а учителей, наставников не было. Духовную песенную традицию перерезала за десятилетие какофония западных чужеродных музыкальных помоев. Впрочем, наркотический примитивный блудливый ритм новой дискомузыки чужероден и враждебен Западу так же, как и нам. Рок сегодня уже вчерашний день. Но завтра будет новая музыкально-наркотическая мания.
Тягостно смотреть на некоторых наших боевых прекрасных воинов из Афганистана, когда они берут гитары. Зажатость, скрюченность, рваность ритма, полублатной налет почти на каждой песенной строчке. Не верится, что это дети России, страны с самой сильной и глубокой песенной культурой, знаменитой своими распевами, искренностью, лиризмом и силой. Чувствуется, что Высоцкий для них единственный и последний эталон. Им невдомек, что Высоцкий, этот замечательный поющий актер, почти все свои песни строит на скрытой разрушительной иронии. Но ирония никогда не созидает и не выражает правду и душу. Посмотрите на лучшие образцы в сборнике самодеятельных песен наших бойцов из Афганистана.. И вы ужаснетесь этому сиротству и полной оторванности от родной традиции. А все потому, что культурой личного состава Вооруженных Сил озабочены актрисы-старушки и военные ансамбли казенных песен и придуманных плясок.
Мы все в долгу перед армией. Мы виноваты перед ней. Ни один институт государства за тысячу лет не принес на алтарь Отечества столько жертв, сколько наше воинство. Путь наших войск всегда был жертвенным, возвышенным и скромным. Какая категория женщин может быть сегодня по тяготам, переездам, одиночеству, неудобствам поставлена рядом с женами наших офицеров?! Никакая. Мы в долгу и перед ними. Мы в долгу и перед матерями погибших в Афганистане, ибо не смогли им объяснить, что их сыновья погибли не зря, что они стали в один ряд с великими сынами Родины, павшими на рубежах Отечества.
Мы страдаем хроническими провалами памяти. У «афганцев интернационалистов были героические и недавние предшественники. В канун фашистской агрессии против СССР в небе Китая с японскими захватчиками сражались две тысячи только летчиков-добровольцев. По тем временам это огромная цифра. К 1940 году было уничтожено на земле и в воздухе 986 японских самолетов. Тогда по Синцзянскому тракту ходило 5200 советских грузовиков ЗИС-5 для снабжения Китая. Думаете, в те годы мы не смогли бы у себя дома использовать эти пять тысяч машин?
Хотя бы раз за девять лет войны в Афганистане читали мы хоть одну статью публициста или писателя, который внес бы грамотно события в Афганистане в контекст истории нашего Отечества и его усилий на границе?
Мы помогали многим. Тысячи матерей не дождались своих сынов. Русские бойцы продолжали жертвенную традицию русского воинства — не щадить жизни «за други своя». Пусть не всегда это было оценено по достоинству, пусть иногда нам отвечали черной неблагодарностью, но мы помогали не в надежде на обмен любезностями, а для того, чтобы по-прежнему высоко держать честь русского имени в мире. Эту духовную драгоценную традицию бескорыстия и благородства унаследовала Советская Армия в лице лучших своих представителей. Будем же хранителями огней этой тысячелетней традиции русской ратной славы. Здесь мы чаще употребляем слово «русский» хотя бы потому, что всех нас за рубежом упрямо называют «русскими». Будем же достойны этого имени.
Когда после Крымской войны, в которой прекрасно и так ярко проявилась русская доблесть, а иностранцы злорадствовали над последствиями этой войны и русским унижением, как им казалось, тогда новый канцлер России лицейский друг Пушкина князь Горчаков обнародовал свой меморандум, в котором заявил, что Россия перестает интересоваться европейскими делами и безразлична к международной сваре хищных держав, что Россия поворачивается лицом к своим домашним, коренным проблемам и приступает к реформам и обустройству русской земли. Как ни странно на поверхностный взгляд, но именно это и привело вчерашних врагов России в смятение. Они бы хотели, чтобы Россия и далее беспорядочно вмешивалась во все дрязги внешнего мира и тратила на это свои ресурсы и внимание. Они с тревогой передавали Друг другу ставшие крылатыми слова из меморандума Горчакова: «Россия сосредоточивается».
Они давно осознали, если Россия повернется лицом к своей земле, станет завтра для них подлинно великой и недосягаемой. Они давно уже догадывались об особом предназначении России и с тревогой задавали себе тот же гоголевский вопрос: «Что пророчит сей необъятный простор?» Нет и сегодня ничего более актуального, чем пророчество Карамзина, звучащее как программа:
«Для нас, русских, с душой, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует; все иное есть только отношение к ней, мысль, приведение. Мыслить, мечтать можно в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственно в России; или нет гражданина, нет человека; есть только двуножное, с брюхом».
Это и есть чеканная форма подлинного, а не казенно-плакатного интернационализма. «Интернационализм» — слово составное, из двух слов-понятий «интер» и «нацио». «Интер» наполнено только тогда, когда каждый приходит на братский форум со своим «нацио». Если нет «нацио», то не будет к «интер». Как он будет брататься, если смутно себе представляет, кто он таков, какой народ представляет, какой глубины традиция за его плечами — словом, без «нацио» повиснет только «интер». На чужбине да еще под пулями это становится проблемой не демагогии, а выживания и победы. Наши бойцы осознали это через кровь и потери, но осознали твердо и, увы, вопреки неповоротливой и косной нашей пропаганде. Беседы с «афганцами» показали, что они считают себя не только интернационалистами, но и прежде всего патриотами. В беседах они неизменно стали прибавлять это слово. Но наша пропаганда многотысячным усилием так и не смогла за девять лет осознать происшедшее, которое будет еще долго влиять на судьбу армии и общества. И не умея мыслить и боясь этого, она спряталась за два словосочетания — «воины-интернационалисты» и «ограниченный контингент войск» — и довела частым и неуместным употреблением до абсурда смысл, заключенный в этих понятиях.
Армия и флот не смогут выполнить своего предназначения, если и впредь на экранах телевизоров вместо летчиков-курсантов будут дрыгаться неряшливые «лабухи», вместо моряков-подводников — патлатые, бесполые певцы с подсознательными манерами, вместо голубых беретов — «голубые» мужчинки с женскими манерами, вместо жен офицеров с далеких застав — развязные, эмансипированные женщины из породы тех, что отдают своих детей в приюты.
Как мы можем поднять уважение к армии, к достоинству солдат, к мундиру, жесту, осанке, манере и воинскому духу, если на экране в норму введены болтливость, неряшливость и ущербное отношение к жизни с иронией и почти непреодолимым интересом ко всему гнилому, к нечистоте. Один искренне критикует, трое смакуют, вместо своего мнения — мутная многозначительность, вместо прямодушия — ухмылка. Экран стал подмигивать, намекать и усмехаться, и все это на неряшливом и плохом русском языке.
Почему, когда на Западе отрыжка, когда Англия беспощадно вырезает все сцены секса и насилия, мы с опозданием, с нелепой суетливостью решили стать европейцами и показать, что и мы в блуде разбираемся. Влияет ли это на моральный облик личного состава Вооруженных Сил? Непосредственно. Дисциплина в армии прямо зависит от дисциплины в обществе. «Дедовщина» привнесена в армию извне — на ней несомненно пятно полублатных отношений и полууголовной этики, когда «нет человека, есть только двуногое животное с брюхом», которое хочет подмять под себя других.
При тысячах всевозможных «революций», при любых электронно-лазерно-ядерных хитростях человек был и остается абсолютным оружием войны и мира. Моральный фактор является главной ударной силой армии и флота. Исследователи давно поняли, что сила солдата, его воля и дух зиждутся на его гордости за свой народ и страну. Пусть буржуазные военные теоретики полагают, что в основе морали лежит «расовая гордость» и что солдата необходимо воспитывать в духе гордости тем, что он является представителем «победоносной нации». Будем ли мы шарахаться от этого только потому, что это буржуазные ученые? Нет, всегда мы найдем в себе силы одухотворить любовь к Родине. Девять лет Афганистана породили много проблем. Здесь неуместно касаться их. Но один итог для нас имеет наиважнейшее значение. По свидетельству даже наших противников, русский солдат остается сегодня лучшим в мире. Потому он заслуживает культурной программы, достойной его самоотверженности, упорства и отваги.
Наша отечественная традиция — это когда армия живет одной жизнью с народом. Почему общественность стенает, призывает, заклинает беречь и обновлять памятники воинской славы, почему в этом хоре голосов есть все, кроме армии? Казанский храм был поставлен на Красной площади (напротив ГУМа, где до недавнего времени был общественный туалет) не кем-либо, а национальным героем — Дмитрием Пожарским, руководителем русских войск, и сооружен в честь изгнания из пределов страны в 1612 году интервентов. Этот храм был в начале 20-х по указанию В. И. Ленина, несмотря на разруху и голод, реставрирован, а в 1935-м снесен. Теперь его решено восстановить на народные пожертвования. Участвовала в этом движении армия? Нет. Почему наша народная армия сама не охраняет и не восстанавливает те памятники, которые имеют к ней прямое отношение? В Москве нет почти ни одного храма, который не был бы приурочен к великой военной победе за свободу России, начиная с Покровского храма (собор Василия Блаженного). Все, кто носит погоны, вплоть до милиции и гражданского воздушного флота, должны повернуться лицом к родным памятникам, ибо армия без исторической памяти — это битая армия. Никогда нам не преодолеть неуставных уродств, пока мы имеем разрушенные памятники, пока солдаты не одухотворены высокой идеей охраны родного наследия.
Слово «интеллигент» в России раньше было сродни слову «подвижник» — тот, кто отдает людям всего себя и оттого богаче всех. Нет у человека ничего более ценного, чем жизнь. По природе своей, по внутренней готовности к опасности и самопожертвованию из всех родов службы наиболее требует суровой готовности к подвигу (от этого слова и подвижничество) армейская и флотская служба, то есть те, кто присягает и носит погоны. По замыслу, идее и нередкой практике эта же участь выпадает и на долю милиции. Из тех, кто не носит погон, ближе всех к ежедневному подвижничеству среди всех категорий граждан — врачи.
Повторим еще раз: нет на свете больше той любви, кто душу свою положит «за други своя».
Наиболее культурен и интеллигентен тот, кто верен этой заповеди, и не в военную годину, когда призваны почти все, а в мирное время, когда сограждане, ничего не подозревая, собирают грибы, отдыхают на пляжах, ходят в турпоходы, поют, проводят время на дискотеках или после трудового дня собираются за семейным столом. Вот почему из всех категорий граждан нашего Отечества наиболее культурен и интеллигентен воин. Когда общество это понимает, значит, оно еще молодо, свежо и необоримо. А вот когда армия становится наемной, купленной, то это верный признак, судя по истории, заката и деградации общества, ибо всеобщая воинская обязанность делает общество цельным и органичным, несмотря на все видимые издержки.
Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков писал в «Морской мощи государства», что в периоды расцвета общества флот приобретает активные черты. Эта мысль верна и для сухопутных, и для воздушных сил, или, вернее, для вооруженных сил в целом. В лучшую пору России самые пытливые и благородные силы нации собирались в армии. Так было и на Куликовом поле, и в петровские, и в суворовские времена. Это ведется от Святослава и Мономаха. И вовсе не из-за бряцания оружием, золота шлемов и блеска эполет, не из-за эстетической составляющей жизни, которая была так важна для реакционного романтика Константина Леонтьева, философа, писателя, публициста и военного врача, кончившего дни монахом Оптиной пустыни. К. Леонтьев, который оспаривал у Достоевского право быть у русской молодежи властителем дум, писал, что главная мысль — военный (при всех остальных равных условиях) выше штатского по роли, по назначению, по призванию. При всех остальных равных условиях — в нем и пользы, и к поэзии больше. Это так же просто и верно, как то, что во льве и тигре больше поэзии и величия, чем в воле и обезьяне (даже и в большой, как горилла).
Для нас в солдатском долге, а мы все время здесь имеем в виду Советскую Армию — наследницу тысячелетних традиций, важнее всего другая становая составляющая войска, а именно ее просветленное подвижничество.
В. И. Ленин говорил, что всякая революция лишь тогда чего-либо стоит, если она умеет защищаться. Это верно и для общества. Но чтобы армия была защитницей, она должна исповедовать еще никем не опровергнутый принцип. Армия — защитница, а не обуза народа. Армия неразрывна с народом. Мощь армии — в мужественном идеализме офицерского корпуса. Знатоки, особенно из другого стана, оценивают армию не по окладам и технике, а прежде всего по чести офицера, его презрению ко всему наносному, негативному.
Только хитрым пацифистам грезится мир без армии и службы, когда с развязанным пупком и издерганными нервами вкушаешь тонкие радости, при этом незаметно гребешь к себе, а от себя все, что имеет отношение к ответственности, лямке, поту и молчаливому служению. В свете изложенного мы можем, пожалуй, взять на себя смелость и ответить на поставленную проблему «Армия и культура» с учетом всех равных условий, что в здоровом социалистическом обществе или в том, которое, перестраиваясь, стремится быть таковым, следующим утверждением: армия — это и есть культура.
Это не категоричность и не лозунг, а утверждение, которое могло, пожалуй, отлиться в первую строку древнего и прекрасного слова — устав.
Повторяю, речь идет здесь не о вымышленной армии, не об идеальном войске, нет. Речь о нашей, о родной Советской Армии, какая она есть на сегодня со всеми достоинствами и недугами и вместе со справедливо проклятыми уродливыми неуставными отношениями. Но чтобы картина не была преднамеренно искаженной, достоинство и правда призывают нас всегда помнить о волнующих и возвышенных неуставных отношениях, родившихся среди нашей военной молодежи в горах Афганистана, когда старослужащие, которым оставалось месяц-другой до увольнения в запас, шли на мины и под пули душманов, не позволяя необстрелянным новичкам следовать за ними, пока те не приобретут опыт ведения боевых действий с хитрым, хорошо вооруженным противником. Знаете ли вы что-либо более отеческое, трогательное и просветленное в нашей жизни, полной сообщений о «бухарских», «казахских» и «сумгаитских» делах, в обществе, полном трусливо семенящих «несунов» и сыто икающих и поучающих нас жить остепененных и премированных брюзг после своих заграничных Вояжей, обществе, где почтенные люди, тяжело дыша, бегают за импортом, где «пайконосцы» разгружают втихомолку багажники у своих подъездов, а миллион сирот тоскует по материнской ласке при живых матерях...
В этот застойный период — вдруг, как чудо! — забытые «русские мальчики» показывают на чужбине в огне примеры высочайшей культуры и интеллигентности. Армия, дающая таких солдат, необорима, народ, воспитавший их, первым в истории создавший новое сообщество наций и принесший на алтарь этого братства невиданные жертвы, может со спокойным достоинством считать, что он достоин этого благородного жребия. Вот почему офицеры, прошедшие боевую школу духовности, стали золотым фондом армии, а молодежь, вернувшаяся домой после горных боев, бесспорно, сейчас лучшая часть нашей молодежи, они все те же «русские мальчики», о которых возвестил миру Достоевский. Их присутствие среди нас дает нам всем нравственный шанс на выход из застоя совести. Они должны бы стать опорой перестройки, созидания и обновления.
Если жизнь есть диалектическое и мудрое равновесие между постоянством и изменчивостью, между традицией новаторством, между стволом и листьями, между укорененностью и реформой, то подлинная культура всегда и во всех случаях тяготеет к постоянству, традиции, стволу, укорененности, культура консервативна в благородном смысле этого слова. Не будем вздрагивать при этом слове. Если бы оно было ругательным, то англичане, лучшие в мире знатоки политической культуры, не гордились бы причастностью к этому слову и заключенному в нем понятию, без которого нет ни реформ, ни обновления, ни перестройки. Будем помнить слова замечательного пианиста-новатора и музыкального мыслителя Бузони, который как-то заметил, что если есть на свете что-либо столь же плохое, как желание задержать прогресс, то это безрассудное форсирование его.
Лучшая часть русского и советского офицерского корпуса всегда была верна суворовской заповеди: «Не тщись на блистание, но на постоянство!» Это необходимо помнить каждому в период перестройки, чтобы не шарахаться и не потерять из виду горизонт и не забывать, что Франция, несмотря на хорошо оснащенные, технически вооруженные силы, была разгромлена Германией за сорок дней. А все потому, что между двумя мировыми войнами, судя по мемуарам де Голля и отзывам современников, армия подверглась массированному высмеиванию, критике и просто шельмованию со стороны своей же печати, причем в тысячах разных форм.
Народ и армия были расслаблены и обезоружены этой психологической атакой. Произошло то, о чем предупреждает генерал-полковник Д. А. Волкогонов, когда в книге «Психологическая война» цитирует американского специалиста-психолога, который заявляет со знанием дела, что с помощью дезориентации и дезинформации человека «можно сделать беспомощным, как грудного ребенка: он будет не в состоянии применять свои силы».
Станем ли мы перенимать у Запада то, что он осознал ценой национального позора? Не воспользоваться ли нам хотя бы раз своим, «русским счастьем», к которому звал еще Глеб Успенский: «Теперь спрашивается, если мы знаем (а наше русское счастье и состоит в том, что все это мы можем и видеть и знать, не развращая себя развращающим опытом), если мы знаем, что такие порядки в результате сулят несомненнейшую гибель обществу, их выработавшему (что мы отлично знаем), почему же у нас не хватает способности на ту простую практическую правду...» Далее писатель призывает к единственному лекарству для здоровья нации, к честному, открытому обсуждению коренных общественных задач, не боясь даже суровой правды, которая одна способна залечить раны, которые сама наносит. Словом, он призывал к гласности для всех.
Память обладает мощью духовной и есть главный оборонный фактор державы. Судите сами. Историческая Москва занимает только два процента площади столицы. Но то, что знает весь мир и что свято для нас, вмещают именно эти два процента в пределах бывшего Садового кольца, теперь, правда, оно уже скорее угарное, чем садовое. Девяносто восемь процентов современности уступают двум процентам старины миллионкратно — вот что значит духовный потенциал памятников, вот откуда память считается самой могучей творческой силой, вот почему воспоминание способно сплотить народ и сдвинуть горы. Каждому школьнику о многом говорят такие символы, как Музей В. И. Ленина.., Красная площадь, Храм Василия Блаженного... Мавзолей... Исторический музей... Могила Неизвестного солдата... Манеж... Бассейн «Москва» на месте храма Христа Спасителя, против него Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина...
Храм Христа Спасителя, посвященный победе русского народа в Отечественной войне 1812 года... Поставлен он после долгих обсуждений на самой священной в Москве земле, где на месте захоронения воинов, павших в Куликовской битве, был построен Алексеевский девичий монастырь. То была древняя традиция ставить храмы на уже освященной земле. Расписывал храм Суриков. Храм Христа Спасителя, крест которого был выше колокольни Ивана Великого, стал самым грандиозным воинским памятником за всю историю России. Современники так это и воспринимали. В мае 1883 года он был освящен. Специально к открытию Чайковский написал увертюру «1812 год», он же и дирижировал сводным оркестром при открытии величественного собора. Рассказывают, что, когда деньги народные вез в Москву из Петербурга специальный поезд, на него напали грабители. Они перевязали охрану. У одного из стражей выпал кляп изо рта. Он сказал грабителям: «Что вы делаете? Это же деньги на Храм Спасителя в Москве. Душу губите свою». Разбойники оставили деньги нетронутыми. А рядом с кожаными мешками, хранящими народные пожертвования, положили свои деньги и скрылись.
Далее по пути — Военная академия имени М. В. Фрунзе, потом два медицинских института... Лужники... Новодевичий монастырь, за рекой — МГУ.
Новодевичий когда-то был вторым на Руси после Троице-Сергиевой лавры по значению, богатству, а по красоте, пожалуй, и первым, что вполне естественно для женской обители, куда принимали монахинь только боярского рода и выше. Под сводами Смоленского собора монастыря нашли последний покой три сестры Петра и первая несчастная его супруга Евдокия, в девичестве Лопухина. Ее короткое письмо Петру после гибели сына — одно из самых трагичных и трогательных женских писем в истории. «Попрежнему быти инокою и пребытии во иночестве до смерти и буду Бога молить за тебя государя. Вашего Величества нижайшая раба бывшая жена ваша Авдотья».
Это письмо Евдокии Лопухиной Петру из Шлиссельбургской крепости в 1718 году, накануне переезда в Новодевичий монастырь. Последний судьбой своих обитательниц вносит лирическую ноту в суровые века и окружен, как аурой, теплотой и обаянием смиренных послушниц, хотя нынешние историки с угрюмо-въедливым энтузиазмом роются в годах смутных и больных. Видимо» вульгарный историзм, много раз руганный, живуч, как дурной тик.
Вы не заметили, что, перечисляя учреждения-символы, я провел вас с Красной площади от начала до конца самой важной улицей Москвы? Цари ежегодно выходили из Кремля в. сопровождении двора и полков и шли пешком этим же путем на поклонение к иконе Смоленской пречистой божьей матери. Собор и монастырь заложены отцом Ивана Грозного Василием III в 1525 году в честь присоединения и возврата Смоленска русской земле. То великий перелом в нашей истории. К иконе Смоленской богородицы относились с таким благоговением, что штурм Смоленска русскими полками отложили на день, чтобы он не совпал с днем почитания иконы, которая была главной святыней города с XI столетия. Путь от Кремля до Новодевичьего в 1658 году Михаил Алексеевич специальным указом повелел именовать Пречистенкой.
Ни Тверская, ни Калужская или иная другая улица в Москве не может быть сравнима с Пречистенкой по исторической символике, красоте и одухотворенности. На какой из дорог в Москве могут быть такие памятники, как на этом священном пути? Кремль — символ мужской и воинский, а монастырь на Девичьем поле — символ женственности. Да и не припомню более до Петра именных царских указов об утверждении за улицей названия.
На пречистом пути просматривается еще один признак Москвы и, пожалуй, самый главный для понимания ее исторического смысла. Пречистенка — это путь от одной твердыни к другой. Это путь между строгими фортификационными сооружениями. На этом пути по Пречистенке, а рядом и по Остоженке селился цвет русского боярского воинства. На этой дороге две стрелецкие слободы: Левшинская и Зубовская. По пути монастыри-крепости Алексеевский и Зачатьевский и три вала стен — Китай-города, Белого города и Скородома (потом Садовое кольцо), все с башнями дозорными, раскатами и бойницами. Пречистая дорога смело выходила в чистое поле за эти три оборонительные линии и шла лугами, садами и рощами к утопающему в садах дивному бело-золотому монастырю.
Все, что мы перечислили только что, идет по двум разрядам: военному, как твердыни, и духовному, как культовые памятники. Москва прежде всего город военной и воинской славы. Потому нигде военный не должен бы себя чувствовать так естественно и уместно, как в Москве. Иностранцам это должно не нравиться. Стало быть, это хорошо для нас. Иноземцу лучше, чтобы вместо твердынь и храмов стояли кабаки, рестораны, магазины, снова кабаки, театры с «шоу», чтобы он весь день чувствовал подрыгивание в теле и было как можно больше «порно», но желательно с «куполаз» и «балалайказ».
В допетровской Москве не было ни одного, как мы говорим, «памятника культуры», который пе носил бы оборонного характера. Даже на городской жилплощади, в тесной квартирке, всегда есть работа рукам и уму, а в усадьбах и подавно, потому проблема досуга, коли сейчас придумана для лентяев, то тогда ее не было и вовсе. У нас разговоры, «круглые столы», печатные вопли о сносе и разрушении памятников стали уже из трагической фазы переходить в трагикомическую. Потому как «Васька слушает да ест», а общественность стенает. Общество охраны памятников создано без прав. Оно ничего не может запретить, а только причитает. Так будет до тех пор, пока памятниками культуры не займутся те, кто обязан их защищать, те, кто унаследовал их от предков и несет прямую ответственность за их сохранность.
Провалы в исторической памяти, а тем более ее атрофия — страшное бедствие для всего народа. Из-за них нация, сколь бы могущественна она ни была, духовно беззащитна перед внешними влияниями, подчас враждебными, теряет свое лицо, не дорожит своей культурой и самобытностью и в конечном счете обречена на исчезновение.
Когда речь идет о «страшном бедствии», то наступает, как сказал Мономах в поучении детям, «мужское дело», стало быть, в первую очередь тех, кто носит погоны. Память всегда была мужской добродетелью.
Развитие в единстве постоянства и изменчивости, причем постоянства должно быть три четвертых, этот же баланс сил работает при традиции и новаторстве, истории и новшествах, базисе и надстройке.
Мы и впрямь видим дальше своих предков и зорче только потому, что стоим на плечах гигантов, т. е. наших дедов. В то ясе время мы предали забвению завет Ломоносова, который всю сумму своих размышлений как завещание потомкам оставил в письме Шувалову. Четырех основных разделов этого программно-пророческого завещания не прозвучало ни разу в нашей печати. Что это за разделы? Вот они.
Первое — «о размножении и сохранении российского парода».
Второе — «о истреблении праздности».
Третье — «о исправлении нравов на большем народа просвещении».
Четвертое — «о сохранении воинского искусства во время долговременного мира».
Молено смело сказать, что и другие разделы, посвященные развитию земледелия, ремесел и художеств, — все это мудрое завещание как будто обращено лично к каждому из нас и одновременно есть руководство для секретарей и мэров и всех делающих практическую политику. Мы забыли заветы отцов и в погоне за химерами теряем детей, которые ждут не схоластики, а теплоты и твердости. Шиллер, которого мы знаем только как поэта-романтика, был из числа высоких учителей народа и составителем и редактором воинских уставов. Он заметил с горечью еще тогда: «Дух абстракции пожирает то пламя, около которого могла бы согреться и воспламениться фантазия».
Философия, семья, дисциплина забыты потому, что не три четверти приходится на дух и четверть на блага, а наоборот. Победа перестройки будет зависеть от того, сможем ли мы перестроить эти соотношения в пользу совести, дисциплины, чести, духа.
Ни один политический деятель, офицер, философ, учитель, вождь да и просто честный человек никогда не рискнет сказать, что в человеке плоть важнее духа. Видимо, и удовлетворять надо при желаемой гармонии и согласованности прежде всего то, что регулирует и созидает остальное, т. е. достоинство личности. Так, если перестраивать, то надо с головы поставить на ноги этот абсолютный принцип. Вряд ли, стоя на голове, мы даже с гласностью и ускорением перестроимся. Иначе странный разрыв. Армия может выполнить свою задачу только при приоритете духа. И когда мы говорим: четверть материальных ресурсов, мы не принижаем их, эти ресурсы, а, наоборот, совершенствуем. Чтобы техника и припасы занимали подобающую им четверть, они должны непрерывно шлифоваться и быть лучше мировых образцов. Не на уровне, а лучше. Армия и народ едины тогда, когда у них и задачи едины, и пропорции духовных и материальных ресурсов едины. Приоритет духа есть общенародная доктрина, а значит, на этой же базе попробуем созидать. Как вы думаете, может гражданин, который живет по балансу четверть — на мораль, а три четверти — на потребление, во время войны или иной народной беды вдруг стать собранным, отважным, неприхотливым и готовым к самоотречению воином?
Маршалы Наполеона со вздохом вспоминали солдат своей революционной юности. Тогда разутые, раздетые, плохо вооруженные и голодные инсургенты били вышколенные части врага. У революционных батальонов на материальную часть приходилась даже не четверть, а десятина. Они после изнурительных переходов, голодные, став бивуаком во фруктовых садах, не срывали ни одного плода, чтобы не запятнать честь освободительной армии. Эти солдаты и до битв не были потребителями. Жизнь не ласкала их. Мы же думаем лишь о досуге для детины, который не устает на работе, чем бы еще «пощекотать» его.
Почему в перестройке кадровая проблема стала главной? Партии нужны люди сейчас трезвые и духовно собранные.
Один из глубинных смыслов обновления в том и заключается, чтобы не видеть за каждой газетной публикацией директивного перста, не расшибать от усердия лба и не впадать в противоположную крайность — безвольную апатию. Перестройка есть перегруппировка сил нашего общества перед решительным и длительным наступлением. Имеется в виду отвести в тыл с исторического переднего края силы, ослабленные делячеством,, ложью и уступками совести, и выдвинуть на направление главного удара здоровые, патриотичные, честные и верные партии и коренным основам Отечества кадры, то есть людей, обладающих характером, умом и честью.
Может ли перестройка быть успешной без учета здоровых народных традиций и одухотворенности такой ста
новой категорией, как историческая память? Разумеется, нет. Не надо терять здравый смысл, или, как говорил бывалый солдат Сухов в «Белом солнце пустыни»: «Только без паники!»
Нам прежде всего необходимо создать тип учителя, Коли кадры решают все, то каков этот «кадр»? Кто нам нужен сегодня? С тех пор как существует наш город, а возник он вместе с Кремлем, земля московская веками вырабатывала этот тип подвижника. В конце царской столбовой дороги, как уже упоминалось, в Новодевичьем монастыре стоит прообразом России четырехстолпный Смоленский храм. На стенах и колоннах его — фрески из истории Руси. Но четыре колонны отданы воинам — столпам державы, тем, кто является в стране несущей и оберегающей силой. В те времена ни один мазок не делали без глубокого образного смысла. Так же расписаны колонны в начале пречистой дороги — в Архангельском соборе Кремля.
Прежде чем создать образ, надо сначала выявить тип, а затем на его основе писать образ. Некоторые современные художники, не зная типа, кидаются сразу делать образ. Потому смотришь порой на живописные полотна, посвященные, например, Куликовской битве, всматриваешься в лица и не знаешь, где ордынцы, где свои. Искомый тип тот, кто держит тысячу лет своды державного неба, — воин и земледелец. Эта глава будет о другой заповеди Ломоносова — «о сохранении воинского искусства во время долговременного мира».
...Нам не к лицу испуганно озираться при слове «икона», «богородица», «молитва». Замалчивая или упрощая этот пласт духовной жизни, мы играем на руку врагам. Мы обязаны выделить из такого древнего и серьезного явления, как религия, спекуляция, невежество, салонное кокетство и религиозное политиканство, а оставить все подлинно непреходящее. Почему обойти церковь здесь нельзя? Да потому, что церковь всегда и всюду претендует на роль единственной хранительницы духовной и культурной памяти народа. В прошлом, являясь господствующей идеологией общества, она пронизывала все органы государства, все ритуалы и обряды как в армии, так и вне ее. Говоря о памяти и имея в виду офицера, разумно, думается, не уходить от родной ему воинской тематики, а попутно коснуться всегда актуального вопроса о чести воинского мундира и социальной роли офицера в обществе.
Нет более верного признака распада нравственных скрепов общества и его исторической обреченности, чем наемная армия.
Деньги и священный долг несовместимы. Нам нечего здесь перенимать у Америки. Мы выше и крепче в духовном потенциале. Мещанин этого не видит. Эта сфера ему чужда, а она решающая на чаше исторических весов. Умнейшие из них всю свою технологию с радостью отдали бы за малую толику этой нравственной силы. Да только эти ценности не купишь, ибо ничто так мерзко не пахнет, как деньги.
Не так давно в одной из молодежных редакций состоялась встреча между воинами-интернационалистами и студентами МГУ, вернее, студентками, так как их однокурсники-ребята были призваны в армию. То ли по этому поводу, то ли еще по какому, но скрыть свое раздражение по отношению к армии они были не в силах, даже перед лицом тех, кто сражался в Афганистане. Отвечал им деликатно и твердо Герой Советского Союза подполковник Александр Солуянов. Студентки были напористы и на встречу пришли, похоже, с уже сложившимся мнением. Настрой психологический незаметно становится в человеке доминантой. Когда все армейское раздражает, то уже все подгоняется под это неудовольствие и сознание только ищет подтверждений. Хорошее в таких случаях искренне не замечается. Одна студентка заметила, что в метро только офицеры никому не уступают место. Это было так неожиданно и нелепо, что вызвало смех. Девушка говорила искренне и убежденно. Ей заметили, что если ее кто-либо не собьет в дверях, то уступит место скорее всего военный. Опа упорствовала. К несчастью, та девушка видела такого военного и теперь перенесла это на всех офицеров. Такова природа всякого одномерного сознания, которое приводит к фанатизму. То ли из-за того, что отрицание армии было огульным, то ли желая пошатнуть успевшее стать догмой в их сознании положение, я заметил, что нельзя с больной головы перекладывать на здоровую, и добавил, что солдаты, которые дрались и гибли первые годы при странном и обидном молчании их возлюбленного Отечества, оказались, быть может, в более трудном положении, чем солдаты времен войны с фашизмом. Тогда вся страна следила и сопереживала их делам, а на миру, как говорится, и смерть красна. Вряд ли такие солдаты заслужили после неназываемой войны в Афганистане еще и беседу, подобную этой. И уж если на то пошло, говорю, коли взять сто журналистов, и сто ученых, и сто инженеров, и сто артистов, и сто шоферов, и сто врачей, и сто... впрочем, кого угодно, то сто любых офицеров будут всегда лучше всех. Мы ценим офицеров за верность Отечеству в любых обстоятельствах, за риск, за то, что армия не болтает, а дело делает, и тому порукой Чернобыль, БАМ, Афганистан, за готовность к повиновению, а это истинно благородная черта, за гарнизонную «тоску» и однообразие и, наконец, за то, что на них нет ни одной иностранной нитки — они одеты во все родное, и, может быть, эта верность родному более всего и раздражает кое-кого.
Ну вот, говорил, что недопустимо противопоставлять армию любым другим категориям граждан, а теперь сам ударился в тот ясе полемический грех. Но вины моей тут нет.
От армии всегда требовали, чтобы она не вмешивалась в бесплодную и обессиливающую политическую борьбу, что она должна оставаться самым чистым выражением самого Отечества, например, той Франции, которая, по бытовавшему во французском обществе выражению, «пребывает вечно». Потому де Голль, вступив на нашу землю, первым делом заявил, что он принес привет от вечной Франции вечной России.
В 1813 году, когда русские полки, разбив Наполеона, двинулись освобождать Германию, Бернадот, бывший маршал Бонапарта, воевавший во главе шведских войск против Франции, а впоследствии ставший шведским королем, говорил шведам:
— Подражайте русским, для них нет ничего невозможного.
Сегодня мы должны с суровым реализмом признать, что часть молодежи не последует призыву Бернадота, потому что ее научили чужим песням, приохотили к чужой одежде, к чужим мыслям.
Матисс, приехав в Москву в 1911 году, был потрясен, увидев русские иконы, сказал, что это подлинно народное искусство. Здесь первоисточник художественных исканий... Русские не подозревают, какими художественными богатствами они владеют. Всюду та же яркость и проявление большой силы чувства. Ваша учащаяся молодежь имеет здесь, у себя дома, несравненно лучшие образцы искусства... чем за границей. Французские художники должны ездить учиться в Россию. Италия в этой области дает меньше. В 1947 году Матисс подтвердил свое отношение к русскому искусству, которому «предаешься тем сильней, чем яснее видишь, что его достижения подкреплены традицией — и традицией древней». Здесь, однако, придется поправить не только Матисса, но и наших искусствоведов, специалистов по жанрам. Рублев не писал иконы, чтобы услаждать эстетическое чувство своих современников и потомков. Наше безмерное самомнение мешает нам заметить, что «Троица» Рублева, по словам летописца, писана, «дабы воззрением на святую троицу побеждался страх ненавистной розни мира сего». Чтобы победить страх, победить, выстоять, восторжествовать в окружении врагов — вот зачем постились молчальники иноки, прежде чем взяться за кисть.
Самые чтимые иконы несли в битвах как знамена впереди полков. Присутствие в Бородинской битве иконы Смоленской пречистой божьей матери ободряло русских воинов, она облекала их как бы в духовные латы, придавала им силу и твердость. Воин доподлинно знал с детства, что Россия — удел Богоматери и он сражается за нее. У каждого солдата оставалась дома мать. Образ его родной матери сливался с образом Родины. Эти сильнейшие два сыновних чувства, слившись, рождали в нем образ Богородицы, матери всех солдат, стоявших в сече рядом плечом к плечу.
Икона Донской богоматери, поднесенная Дмитрию Донскому, была в самой гуще сражения Куликовской битвы, воодушевляла русских ратников. Она же была с русской армией в Казанском походе Ивана Грозного.
Ничто так не воодушевляло воинов — защитников Москвы, как выставленные на стенах чтимые иконы. После Куликовской битвы Георгий, покровитель всех воинов, становится символом Москвы. Только заступничеству Владимирской божьей матери народ приписал спасение Руси от Тамерлана, который двинулся на Русь в 1395 году и неожиданно повернул назад. Говорят, ему привиделся образ грозной жены. Что же, теперь нам прикажете слабоумно хихикать над своими предками, если они верили, что образ разгневанной России может нагнать ужас даже на Тамерлана?
Как видим, идея церковная на самом деле коренилась в суровой действительности народной жизни, она утешала и одухотворяла тысячу лет, лик Пречистой богоматери совпадал с собирательным образом Родины-матери. В строгом лике Спаса, который возили с собой в походах Суворов и Кутузов (не было ни одного полководца, который рискнул бы выйти навстречу врагу без походной иконы), отражалась идея высшей духовной инстанции, которой он был обязан давать отчет как перед лицом совести. Спас становился собирательным образом народной совести.
Сегодня ни один человек не может пройти мимо проблемы сохранения памятников культуры, проблемы, которая давно из просветительной стала политической. Еще главари фашизма кричали: «Прежде всего уничтожайте памятники. Нация без памятников во втором поколении перестанет существовать». Память — фактор оборонный, как и любой памятник культуры. То, что враг хотел бы разрушить в первую очередь, мы должны защитить прежде всего. Армия, смысл существования которой в защите народа, первая должна внести свою лепту в защиту и сохранность и восстановление памятников Отечества. Благоговение перед народно-исторической памятью входит в баланс высокой боевой готовности. Только ваньки без родства и без памяти, ибо последнее сродни слабоумию, могут думать, что храм — это только культурный памятник.
Каждый храм в войну становился богатырем, каждый монастырь — воином.
То, что есть памятник культуры, было столетиями твердыней и убежищем для детей, стариков и женщин.
Как икона не предмет искусства, так храм не церковное культурное сооружение — в нем средоточие духовности народа.
В этих храмах хоронили, крестили и венчали предков, они уже по одному этому для сыновнего чувства неприкосновенные святыни.
Совесть народа в военной среде получала легированные добавки от риска, отваги, бдительности и мужской дружбы и после переплавки на передовой выливалась в булат воинской чести. Отсюда и ритуал воинского приветствия/; Отдать честь — значит подтвердить свою верность воинскому братству, помнить о жертвах и традициях. Воинское приветствие — это жест высочайшего духовного равенства, ибо им обмениваются и рядовой с маршалом. Ритуалы армии пронизаны глубоким смыслом, они все подчинены одному — укрепить, сцементировать армию, сделать ее единой семьей. Если младший отдал честь, а старший не ответил, то старший внес тут же свою лепту в разрушение армии. Ибо идею воинского братства превратил в идею холуйского чинопочитания. Такие случаи должны немедленно наказываться. Я часами наблюдал, как военные, проходившие мимо могилы Неизвестного солдата, не отдавали чести. Считаю такие явления позорными. Мундир и ритуал воинского приветствия единственное, что выделяет воина в толпе штатских. И каждый случай неотдания чести мгновенно фиксируется сотнями глаз. Ничем нельзя так оскорбить армию, как не отдать чести друг другу.
Маршал Шапошников в мемуарах рассказывает, как в Петербурге армейские офицеры в нарушение устава не стали после Цусимы отдавать честь морякам — так глубока была рана от поражения и так много смысла настоящий офицер вкладывал в ритуал отдания чести.
Хорошая армия не бывает многочисленной. Где много умения, там числом не берут. История знает, что все большие армии были разбиты соперником, уступавшим им в количестве войск. Человек был и остался абсолютным оружием любой войны.
Облик армии прежде всего зависит от культуры офицерского корпуса, от его готовности к служению, от его выучки, от его собранности, решимости и верности чести. Облик настоящего офицера в России всегда был неразрывен с обликом рыцаря.
Чтобы сформировать из курсанта-юноши истинного офицера, жизнь и быт военных училищ должны быть облагорожены лучшими традициями отечественного офицерского корпуса. В наших силах восстановить «библиотеку офицера» тридцатых и сороковых годов, вернуть офицерскому собранию забытые демократические нормы и благородные традиции полковых летописей. Нельзя мириться с тем, чтобы в военной энциклопедии не было таких офицеров, как генерал-майор Павел Катенин и офицеры пушкинского лицейского выпуска — генералы Данзас, Владимир Вольховский, адмирал Федор Матюшкин. Можно ли назвать энциклопедию военной, если молодой офицер не найдет в ней ни одного слова о выдающемся деятеле 1812 года вице-адмирале Шишкове, чьи воззвания воспламеняли Россию? Лицейский дух должен стать воздухом всех наших военных училищ, как это было пушкинской порой.
Мы обязаны вернуть народу забытые имена, утраченные названия полков, восстановить все разрушенные памятники воинской русской славы и построить новые. Пора давно вымести из казарм и клубов зубодробительную казенщину, шаблонную агитацию и рутину. Для этого необходима помощь всего общества. Пришла пора создать при Фонде культуры СССР авторитетный Совет по программе «Армия и культура» для помощи в духовном и нравственном обновлении армии и флота, для выработки новой культурной стратегии.
Воспитание всегда классично, всегда тяготеет к первоосновам, к патриотизму, к трудолюбию и верности семье. В армейские библиотеки и все военные училища должны прийти наши замечательные историки Татищев, Карамзин, Соловьев, Ключевский, Сергеевич, Греков и другие. В военные училища любого профиля следовало бы ввести курсы отечественной истории и словесности, мировой культуры и этики и истории воинской культуры. Той культуры, что придает офицеру неотразимое обаяние и привлекает к нему солдат.
Нападки на нашу страну и армию имеют давнюю историю, и нет оснований надеяться на их конец. Но иногда при первых же враждебных выпадах или несправедливом перехлесте по отношению к армии на лицах наших офицеров появляется выражение горестного недоумения. Подобное состояние не к лицу воинству. Армия должна быть готовой к защите своего достоинства печатно и устно. Нет в мире лучшей защиты, чем добрые дела человека.
Накануне революции офицеры генерального штаба стали инициаторами замечательного движения по увековечению памятников воинской славы. Это они создали на собранные деньги музей Суворова в Петербурге и много других памятников ратной славы. Вся страна участвует в увековечении памяти павших в боях с фашизмом. Но знаем ли мы хоть один памятник, созданный армией за последние полстолетия с глубиной исторической памяти сто или двести лет, а ведь вот-вот грянет 300-летний юбилей русского флота? Почему Сухареву башню не восстанавливает флот, ведь с этой башни, с размещенной в ней Петром навигацкой школы ведут свое начало все офицеры флота?
Почему собор Казанский на Красной площади не восстанавливает заново армия — ведь собор построен главнокомандующим русской армией князем Пожарским как памятник изгнанию интервентов с русской земли в 1612 году? Почему по этому поводу стенает интеллигенция и не скажут свое слово армия и флот? Эта отчужденность и порождает в обществе недоумение и неприязнь к армии.
Нападки на нашу армию имеют, повторяю, давнюю историю. Первым принял вызов и дал отпор «клеветникам России» Пушкин. Вы думаете, клевета началась сегодня и только в связи с Афганистаном? О, нет. Вслед за Пушкиным дал бой клеветникам Федор Тютчев — племянник прославленного героя 1812 года Остермана-Толстого. В сороковых годах прошлого века пошла новая волна шельмования России и ее воинства. Федор Тютчев дал врагам бой на их же территории — он был тогда на дипломатической службе в Германии. За ним эту эстафету подхватят Герцен, Чернышевский, Достоевский. Когда дело касалось чести русского воинства, исчезали все партийные розни, ибо подвижническая и жертвенная судьба русских солдат и офицеров была всегда нашей как бы общей святыней.
Федор Тютчев напомнил немцам, что именно русские солдаты в 1813 году спасли Германию от наполеоновской тирании и унижения. Тогда кровь русских слилась с кровью немецких отцов и братьев, смыла позор Германии и завоевала ей независимость.
Уже не в первый раз на русских нападали, пытаясь их запачкать, именно те, кого они вчера спасли. В суровой отповеди Тютчев заметил: «Если вы встретите ветерана наполеоновской армии... спросите, кто из противников, с которыми он воевал на полях Европы, был наиболее достоин уважения... можно поставить десять против одного, что наполеоновский ветеран назовет вам русского солдата. Пройдитесь по департаментам Франции... и спросите жителей... какой солдат из войск противника постоянно проявлял величайшую человечность, строжайшую дисциплину, наименьшую враждебность к мирным жителям... можно поставить сто против одного, что вам назовут русского солдата».
Откуда пришли в Афганистан наши воины-интернационалисты? Большинство из них надели мундиры почти сразу после школы — они живо помнили еще учителей и класс. Все они, поразившие мир мужеством, воспитаны нашей столько раз руганной школой, все они — недавние ее ученики. При всех неурядицах семья и школа сумели сохранить и передать детям огонь старинного подвижничества. Сейчас над нашей школой нависла страшная опасность, которую она уже пережила в двадцатых годах, когда подверглась разрушительной
волне экспериментов, а дети стали объектом непродуманных «открытий», анархии и выборов учителей. Ни одна страна в мире столько не экспериментировала за последние 50 лет, как Соединенные Штаты. Когда «новаторы» до основания расшатали американскую систему просвещения, там остановили энтузиастов и пришли к честному и мужественному выводу: ни один эксперимент не удался и старая гимназия с суровой дисциплиной и почитанием старших остается недосягаемым идеалом в педагогике. Пушкин и все русские интеллигенты прошли именно эту школу.
Битву при Седане в 1870 году, по словам Бисмарка, выиграл немецкий школьный учитель. Битва, изменившая судьбу Германии и карту Европы... Битва при Ватерлоо была выиграна на спортивных площадках Итона — закрытого учебного заведения, где готовят капитанов английской политики, государственности и хозяйства. Мы можем прямо заявить, что битву за Сталинград мы выиграли благодаря тому, что в двадцатых годах решительно изжили «новаторский» зуд в школе. Эксперименты с выборами учителей расшатали школу и разрушили до основания народное просвещение, которое было признано лучшим в мире.
Мы не вошли бы в Берлин, если бы дети занимались только «производительным трудом», а не арифметикой и историей. «Воспитывать — значит решать судьбу, — говорил Белинский, — но не только судьбу одного человека, но и державы в целом». Нужны ли свежие веяния? Да! Ибо не развивается только мертвый язык. Могут ли дети выбирать учителя? Это гибель школы и, как мы заметили по Ватерлоо, Седану и Сталинграду, не только школы.
Только общество офицеров способно еще судить здраво о достоинстве того или иного своего члена, как это было в старой русской армии. Выбирать или служить? Митинговать или учиться? Безделье или труд? Ни в армии, ни в школе третьего не дано, ибо благородство начинается с добровольного повиновения — это первые ступени к служению труду и подвигу.
Учитель, утверждал Ф. М. Достоевский, вырабатывается веками народной жизни. Офицер есть абсолютный эталон педагога — это труднейшее в мире наставничество, который не только рассказывает, но и показывает, часто ценой жизни. Офицер есть высший тип учителя, и он вырабатывается веками служением, умом и народными переживаниями. Разговоры о выборности учителей и офицеров должны быть нетерпимыми, как пропаганда социальной порнографии, ибо когда речь идет о защите детства и Отечества, то дряблая либеральность есть потакание разложению. Дети должны учиться труду только пытливому и творческому через ремесла и созидание. Детские предприятия и детский «хозрасчет» — одного порядка с детской онкологией. Труду детей не учат у конвейера. Имеет ли это отношение к армии? Да. Ничто на свете не имеет более прямого отношения к армии, чем школа. Ибо из нее приходят в армию, как бы из одной школы в другую. Если в начальных классах не упоминается, по «методике» Кабалевского, Глинка и главенствует «методика» Йеменского: учить не творить образ, а разрушать его, если в той же начальной школе Михалкова и Маршака гораздо больше, чем Пушкина, Ломоносова, а Державина и Жуковского не найдешь, то будьте уверены: «судьбу решают» не в интересах народа и державы и грязь неуставных отношений неизбежна. В подростковом возрасте школьника поджидает разрушительный и чужой вой рока, а в пору мужания — свидания с «маленькой Верой» и «асса». Прибавьте к этому «дефицит» и «импорт», и набор почти готов — теперь можно выбирать офицера в роте или преподавателя в вузе. Дальше вы уже все сами знаете. Дальше — скоропалительный брак «по любви» и скоротечный развод. Добавьте к этому мировоззрение на уровне политической культуры академика Сахарова, которое не поднялось ни разу выше заурядных студенческих кружков и в любой стране не было бы замечено никем, кроме коллег по лаборатории.
Когда-то интерес русского образованного общества к педагогике был вызван статьями Н. И. Пирогова — создателя военно-полевой хирургии в «Морском сборнике». «Лучшие наставники страны» тогда трудились в армии, обучая военную молодежь. Неоценимы заслуги военных учителей в подъеме просвещения в России. Не пришла ли пора армии и флоту вновь повернуться лицом к школе не для «милитаризации» ее, не для шагистики, а для привнесения в школу того, на чем зиждутся вооруженные силы, — здоровья, ибо духовная и физическая закалка солдата осуществляется в школе. Какая сегодня школа, такими завтра будут армия и общество. Школа не должна быть площадкой для рефлексий и экспериментов над детьми. Призвание школы — готовить к жизни, к будням, к служению и труду. В ученье должно быть трудно, чтобы было легко в жизни. Должно быть трудно, но справедливо. Школа не может быть революционной ни в каком обществе. Школа консервативна в благороднейшем смысле слова, ибо аккумулирует в себе лучшее, что создает народ. Общество, охраняя школу, защищает детство от тех, кто уже не раз пытался одним махом всех осчастливить.
Наша нравственная задача — создать школу такого типа, чтобы выпускник, сказавши, как и Пушкин: «В начале жизни школу помню я», — вложил в это воспоминание тот же просветленный смысл. Теперь представьте себе, что в лицее девяносто с лишним процентов педагогов были бы женщины во главе с директрисой. Тогда не было бы ни Пушкина, ни генералов Данзаса и Вольховского, ни адмирала Матюшкина, ни канцлера Горчакова. Или, может быть, кто-то будет оспаривать это положение? Когда в Швеции в школах было шесть процентов женщин-педагогов, то в парламенте и обществе раздались голоса о надвигающейся национальной катастрофе. У нас, можно сказать, девяносто шесть процентов. Мы давно живем в катастрофической ситуации при всех отрицательных явлениях феминизации. Никакие ни «железные», ни даже «булатные леди», вместе взятые, не смогут привить юноше мужской характер, мужской ум и мужскую поступь. Об этой проблеме всех проблем нашей школы помалкивают реформаторы и критики просвещения. Они кричат о тяжелой болезни, но никогда не говорят, чем больна школа, разве что глухо упоминают о насморках. Что такое феминизация среди новобранцев, знает каждый ротный, которого они теперь не прочь выбирать.
Во всех мемуарах 1812 года вы никогда не встретите выражений вроде «Защитим наших матерей», хотя многие стояли под картечью при Бородине в 15—16 лет. Они говорили: «Защитим покой отцов». Мать еще святыня, не произносимая публично, не выговариваемая. «Защитим отцов», а отец сам знает, как заслонить маму, — это его жребий и долг. Когда о матери ни слова даже в минуту опасности, это указывает на еще больший запас духовной прочности, говорит о могучих резервах, о нравственной силе. Мать вскормившая — это последний резерв мужчины. Теперь, когда юноша ни в школе не видит мужчины, ни часто в семье, почти никогда, например в песне «афганцев», не услышишь обращения к отцу. Да разве только «афганцев»?
Не начать ли нам по крупицам, не спеша, не давая клятв, молча, собранно и честно снова собирать и созидать семью, как единственную нашу надежду? А в семье вернуть на «мостик» отца. Без семьи нет державы и нет порядка. «На небе, — говорим, — бог, а в море — капитан». Добавим: а в семье — отец. Без отца нет семьи, как нет бригады без бригадира, артели без вожака, корабля без капитана, части без командира, дома без хозяина, а государства — без главы. А без уважения к отцу не будет послушания командиру, почтения перед начальником, уважения к главе государства.
Завет матери — живи. Она дала жизнь. Потому мать всегда простит. В тюрьме, в плену, в беде, в походе — но живи!
Завет отца — отчет, как живешь. Помните полковника Тараса Бульбу? Отцовское начало прежде всего нравственное. В этом единстве любви и долга и заключена сокровенная тайна семьи и сила общества.
Гёте сказал как-то: чтобы человек был просто порядочным в жизни, он должен быть героичным в мыслях. Вот мысль, полная народной правды. Из нее одной можно развить целую доктрину воспитания и заложить ее в основу общенародной концепции воспитания. Коли есть военная доктрина у государства, то не может не быть ее и в формировании личности, раз уж время вновь сделало средоточием наших первейших забот кадры, которые, впрочем, всегда решали все. Почему Гёте сказал «быть героичным в мыслях»? Да потому, что стоит человеку быть только порядочным в мыслях, как он не выдержит искусов житейских, где-то умолчит, уклонится, усыпит свою совесть, даст уговорить, скользнет. Чтобы сохранить героичность в мыслях, надо иметь перед взором образ, тот идеал, без которого выстоять не дано никому. Потому-то образа и украшали красные углы теремов и изб. Мне этот образ видится всегда в длиннополой русской шинели. Этот битвенный наряд мы пронесли через смутные и героические века нашей истории. От «иноческой простоты», как сказал бы Пушкин, и беззаветности этих воинов-подвижников идет к нам спасительная передача верности и света.
Лермонтов когда-то назвал кавказскую черкеску лучшим в мире боевым нарядом для мужчин. К горской черкеске как одежде-символу можно теперь смело причислить еще русскую офицерскую шинель. Она совершенна по форме, силуэту и покрою, а главное, что бывает в истории редко, она стала после Бородина и Сталинграда национальна. Ее древний силуэт художник различит на фресках старого письма. Даже если сейчас все беспокойные дизайнеры мира засядут за работу, они пе смогут создать одежду совершеннее и благороднее, чем русская шинель. «Не хватит на то, — как сказал бы Тарас Бульба, — мышиной их натуры». Ибо это одеяние русского боевого товарищества, которое сплотило в войне с фашизмом в братском боевом союзе татар и грузин, латышей и туркмен...
Не случайно ведь сегодня в стране нет ни одного учебного заведения, которое было бы более популярно у юношей, чем Рязанское воздушно-десантное училище. По количеству претендентов на место оно оставило позади иные университеты и институты. Отчего так любим молодежью самый суровый вид Вооруженных Сил? Тяга юношества в училища — великий социальный и нравственный показатель верности народа родной армии, оставшейся верной тысячелетней традиции — быть основой отечественной государственности и национальной школой патриотов. Мальчики знают, что израненный в Афганистане поэт, сказав: «Ты прости нас, Великая Русь, мы чисты перед нашим народом», выразил самую спасительную во все времена на Руси правду о подвижнической чистоте воинства в длиннополых шинелях с золотым мерцанием на погонах.
— Удержат ли большевики власть? — можно услышать в народе сегодня. Спрашивают чаще те, кому «за державу обидно»...
Когда-то Наполеон сказал, что четыре газеты могут сделать больше, чем стотысячная армия. С тех пор изменились и тиражи, и воздействие на общество, а телевидение усилило это тысячекратно. Никто не возьмет на себя смелость отрицать, что печать — это оружие в идеологической борьбе за умы и сердца.
Судьба общества зависит от того, на что направлена эта сила, которая может быть и благом, и поистине оружием массового поражения. Выступить в защиту здоровых устоев становится возможным только в сугубо партийной или армейской печати. Это не может не тревожить. Слишком много органов держат наготове перья с дегтем, чтобы тут же мазнуть всякого, кто не согласен с репрессивным пониманием перестройки, которое даже оформляется под сборники с нервно прокрустовским заглавием «Иного не дано». Такие установки-заголовки рождены бесплодным отчаянием людей, не имеющих корней в толще народа и не располагающих позитивными идеями.
Теперь, когда храбрые размахиватели кулаками после драки всех, кто за устои державы, чернят «сталинистами», пришла пора спросить: а голодные подростки у станков — это были сталинисты, а на Магнитке юноши, вырезавшие карманы из брюк, чтобы сшить себе рукавицы, тоже были сталинисты? А все павшие на Хасане, Халхин-Голе, КВЖД, на войне с фашизмом и погибшие на перевалах Афганистана — тоже мракобесы? А ведь немало из них было членов партии. Почему большевизм смог всколыхнуть громадные пласты народа? Только потому, что, дав землю крестьянам, пробудил в толще народа тысячелетнюю русскую идею о социальной правде. Потому большевизм — явление, не как учение — оказался созвучен глубинным чаяниям народа.
В слове «большевик» народное ухо различало и «большака» как главу семьи, и «большак» как прямой столбовой путь, и «большака» как вожака-заступника со времен Ильи Муромца, 800 лет со дня смерти которого не отметили «поворотчики перестройки». Воплощенным образом партийного типа большевика и народного заступника явился Георгий Константинович Жуков, и как бывший георгиевский кавалер, и как Герой Советского Союза.
Страна семьдесят лет держалась не на репрессиях, а вопреки им благодаря тысячам большевиков Жуковского типа. Будущее только за ними. Это они варят сталь, сеют хлеб, служат в армии и водят самолеты. Все «афганцы» — дети Жукова. Даже «поворотчики перестройки» и те обязаны Жукову не только избавлением от газовых камер, но и от бериевского понимания марксизма.
Народ по-своему рассудил когда-то такую особенность слова «большевик», как его невстречаемость в любом иностранном политическом лексиконе. И это не противоречит подлинному интернационализму.
Я выступаю здесь только от своего имени, никем не уполномоченный и никого не представляя. Это выступление не по поручению, а по причастности. Считаю себя причастным и ответственным перед той силой духа, которая хранила, берегла и вела русскую культуру через столетия испытаний мором, голодом, нашествиями, огнем, острогом, казнями, репрессиями, алкоголем, смутой, причастным к каждой тачке и кайлу Гулага и ко всем детям, не пережившим родителей на склонах «котлована». Все мученики этого пути — мои сопутники и свидетели, все они зодчие того здания, которое осталось мне в наследство как памятник их подвижническому служению и мукам, как святыня. Имя ему — Советское государство. Это величественное и светлейшее творение, храм, который нам велено крепить, очищать, достраивать и оберегать.
Большинство тех, кого сытые обличители сейчас обзывают бюрократами, есть бессознательные служители в меру своих малых сил и возможностей все той же идее, что воплотилась в нашей государственности и разрушить которую не смогли ни Троцкие, пи Сталины, тем более она не под силу теперь тем, кто клянется перестройкой больше всех, а сам то и дело многозначительно подмигивает Западу.
Большевики прочно держат власть. Но многие газеты и журналы мутят народ и сеют панику, не дают обществу разглядеть историческую дорогу. Потому люди теряются и ощущают смутное беспокойство. Не все понимают, что огульная критика — признак бессилия и она бесплодна. Тем не менее удержат ли большевики власть, во многом зависит от того, удержат ли они школу и выведут ли из застойного разложения телевидение и разного рода зрелищные организации.
Так куда же мы идем?
Сегодня этот вопрос задают себе все. Одни с любопытством, другие с надеждой, но чаще с тревогой. Гласность есть школа гражданского мужества, зрелости, ответственности и прямоты. Сопровождают ли наши будни эти достоинства?
В нашей жизни немало негативных явлений. Нас подучивают: пусть дети выбирают себе учителя, а солдаты — командира. Не правда ли, какие добрые демократы! Сколько заботы о детях и солдатах. А по опыту всех времен да и по здравому смыслу это ведет к разрушению школы и армии, к катастрофе, поражению и гибели тех же детей и солдат.
Может ли солдат выбирать ротного? Такое может позволить себе только армия самоубийц. Жуков, величайший из военных авторитетов, напишет в своих «Воспоминаниях и размышлениях»:
«Отсутствие единоначалия в военном деле, — указывал В. И. Ленин, — ...сплошь и рядом ведет неизбежно к катастрофе, хаосу, панике, многовластию, поражению». Но мы из ленинского перечня того, к чему приводит «отсутствие единоначалия», выделим одно — «панику». Ибо все это сеет в обществе тревогу и панику и ведет к разрушению.
Мы прекратили митинговать в школе и устраивать педагогику сотрудничества в двадцатых одновременно почти со знаменитой военной реформой, когда в 1924 году комиссия ЦК признала, что Красной Армии как силы организованной, обученной, политически воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами у нас в настоящее время нет и она небоеспособна. Почти то же самое можно было сказать о нашей школе, разрушенной тогдашней «педагогикой сотрудничества», «новаторством», «экспериментами». А ведь унаследовали мы одну из лучших в мире школ, если судить по учебникам и армии подвижников-учителей.
Педагогика — понятие многомерное, глубокое и как подлинное учительство охватывает всю бытийность человека и неисчерпаема, как сама жизнь. Истинная педагогика необходимо предполагает сотрудничество. Последнее — одна из ее очень многих составляющих, как бы малая часть ее. Невежественно и диковато по одному из инструментов учительства, по части называть все явление. Подобное сочетание целого — педагогики с одной малой ее частью неизбежно искажает и разрушает целое. Видите, опять разрушение. Разве мыслима педагогика без такта? Так что выпустим на телеэкран нового «новатора», чтобы он мутил и путал стомиллионную аудиторию «педагогикой взаимности» и «педагогикой равенства» или «педагогикой доверия», а то и «педагогикой ответственности»... Этак можно без конца. Мы уже давно через голубую соломинку телевизора раздуваем, как цыган кобылу, очередного новатора — то в просвещении, то в науке и экономике, то в социальной сфере, вместо того чтобы воспитывать и призывать зрителя к ответственности, серьезности, вдумчивости и верности, выработанным тысячелетними жертвами народных подвижников нравственным устоям. Гласность — это не сигнал к реваншу для «новых новаторов». Однажды их предшественники пролеткультовской «педагогикой сотрудничества» в страшные двадцатые годы едва ли не разрушили до основания нашу школу, созданную веками незаметным трудом, совестливым служением тысяч безвестных учителей из породы Ушинских.
Ребенок идет в школу развиваться, тянуться, расти нравственно, умственно, физически, а не сотрудничать. Чтобы расти, нужен эталон, а не сотрудник. Да и того в школе днем с огнем не сыщешь — одни сотрудницы. Потакая, заигрывая и сотрудничая, стали на святая святых — педагогический совет — звать школьников. Это как если бы «новый демократ» на военном корабле, «перестраиваясь», стал бы время от времени зазывать в кают-компанию на обед несколько матросов. Это разрушило бы дисциплину, устои, порядок, а главное — унизило бы самого матроса и всю команду. Это подглядывание и фальшь вносят в экипаж и школу ложь и двусмысленность, порожденную все той же бациллой фамильярности.
Призвание школы — готовить к жизни. Жизнь не праздник, повторяю, школа — не удовольствие и не дискуссионный клуб. Школа призвана готовить к житейским будням, труду, лишениям, мужеству. Школа должна приучать делать не только то, что в радость, а, напротив, прививать умение, стиснув зубы, преодолевать и скучную зубрежку, и многое другое. Мы настраиваем телевидением и газетами не на преодоление, а на нытье от нагрузок, потому школьник угрюмо и непрерывно рефлексирует. С этим же настроением он идет в армию. А тут ему по телевизору — чудо-новатор. А зритель у нас давно отучен думать и отбирать и стал вроде некоего принимающего пассивного устройства, но зато готового к огульным оценкам. Учителя в провинции, а школьники и подавно, уверены, что в их школу стучится Дед Мороз-новатор. В мешке у него полно чудес и по меньшей мере — отмена домашних заданий. Учителя уверены, что на дне мешка новый план, который избавит их от комиссий и казенных методик. Новатор уже ногу занес на порог школы, но злые дяди-бюрократы из Минпроса ухватились за мешок и оттаскивают доброго новатора от спасаемой им школы. Тут же звонки... письма... жалобы... крики.
— Пусти новатора!..
Мы тем самым учим винить не себя, не строгости
себе учим, а настраиваем на любимую у нас охоту за козлами отпущения.
У нас тысячи подлинных мастеров на просторах страны, трудолюбивых и незаметных. Учителя, которых объявили «новаторами», на самом деле только живые, хорошие учителя, какие должны быть в каждой школе. Может быть, мы уже дошли до того, что просто хорошо работающий учитель уже такая редкость, что попадает в «новаторы»?.. Каждый из шестерки «новых новаторов» люди сами по себе простые, добропорядочные и просто обаятельные. Если учитель говорит детям в первом классе: «Тише, дети, у нас на уроке уснул Шота, пусть он поспит», — в бытовом плане такой учитель даже мил и симпатичен, пусть и чудаковат. Но когда это перед всей страной как штрих своей «методики», разумеется, «новой» высказывает член-корреспондент Академии педагогических наук Шалва Амонашвили, это, увеличенное и раздутое телевидением, уже искажает маленький эпизод. Доброму Амонашвили можно резонно заметить: «Шота пришел в школу учиться, а не спать». Тем более что движение человеческого сердца Амонашвили, милое и отеческое в быту, в телестудии звучит уже как «сю-сю-методика», которая имеет мало общего с благородной, глубокой и древней грузинской народной педагогикой.
Но кроме старых и новых новаторов есть в Академии когорта замечательных и честных ученых, которым в этой атмосфере работать невозможно. Атмосферу создала печать. В народе говорят: «Пока паны дерутся, у холопов чубы трещат». Чубы трещат более всего у детей, которые страдают от этой возни.
Школа во все времена и во всех здоровых обществах всегда была институтом благородно-консервативным, как спасительно-консервативна любовь к детям. Школа получает от общества только самое умное, самое проверенное и самое здоровое, что вырабатывает совокупный опыт поколений. Потому школа никогда не может быть революционной. Ребенок и без того интенсивно «революционен» в своем развитии и росте. Его надо приучать к мудрой сдержанности, не погасив творящей силы в нем. Как никогда не может быть школа «опережающей» вопреки «Учительской газете». «Опережающая» общество революционная школа тоже явление патологическое. Растить детей, обгоняющих своих родителей, создавать учеников, опережающих и более прогрессивных, чем их учителя,— это плодить новых Павликов Морозовых, судей своим отцам, внести раскол в поколения. И в этом «опережающем развитии» на первое место ставятся «интеллектуальные ресурсы», а на второе—«нравственные». Стало быть, мечтают вырастить завтра таких компьютерных приматов с вывихнутой рок-психикой. Чтобы быть верными свободе волеизъявления, пусть эта горсточка людей создаст где-нибудь на Варшавке или на Таганке, в Переделкине или ином месте свою школу, «опережающую», «революционную» и «рациональную» и мыслящую инако. На каком основании эта химера должна распространяться на всю страну, кто дал право снова после анархии двадцатых годов, оцепенелых годов, среди бела дня в сердце страны группе лиц разрушать, расшатывать и глумиться над тысячелетними устоями воспитания? И когда этому разрушению будет положен предел?
Еще один краеугольный принцип школы. На Западе давно подсчитали, что на свете нет более прибыльного помещения капиталов, чем вкладывание их в народное образование, но при одном неукоснительном правиле: школа всегда должна быть убыточна. Родители, отдавая детям все, не думают о воздаянии. Ребенок, выросший в лучах бескорыстия, ответит сторицею. Так же поступает мудрое общество. Те, кто говорит о детском производстве, о школьном хозрасчете, о трудовом опережающем воспитании, закладывают страшное разрушение в завтрашний день общества.
В школе дети учатся — это их главный труд.
Только потому, что наши дети решали более головоломные задачки, чем американские школьники, мы первыми запустили спутник. Это не мое мнение, а вывод американских экспертов. Труд школьника должен быть только творческим. Ученик должен не у станка, па конвейере работать, где отупляющая апатия к труду у него вырабатывается сызмальства, а создавать пусть табурет, пусть авиамодель, пенал, картинг или новый фрегат, но все должно быть впервые на земле и в единственном экземпляре. Когда запахло войной и гроза заставила страну подтянуться, у правительства хватило мудрости велеть Макаренко прекратить воспевать детский труд, к тому же в неволе, без истории и родной почвы. Ему жестко и скупо было сказано, что революцию делали не для того, чтобы дети работали, а чтобы учились. Только поэтому мы смогли создать новые танки, моторы, оружие и вырастить новый офицерский корпус, который мгновенно освоил эту технику. Вот поэтому «детская промышленность», как понимают ее интеллектуальные невежды есть «детская онкология» для общества.
Так для чего же нам Пушкин? Чтобы знать, кого мы воспитываем. Какого ученика мы ждем. Помог ли нам Афганистан прояснить это? Бесспорно да! И главный вопрос школы, как и всюду, — кадры. Каков учитель? А ведь честность требует сегодня сказать: «Какова учительница?» Кто, по Белинскому, будет «решать судьбу» ребенка, а значит, общества? И можем ли мы сохранить самоуважение к себе, зная, что самое тяжелое и самое ответственное дело в стране — воспитание детей — мы взвалили на плечи переутомленных женщин, у которых и свои дети дома. Педагог — центральная фигура в школе, как офицер в армии и на флоте. Академия педагогических наук по идее для корпуса учителей и пятидесяти миллионов школьников то же, что для армии Генеральный штаб. Может ли Академия выполнить свою роль среди травли и улюлюканий? Имеет ли это отношение к армии? Более чем прямое.
Не так давно пригласили на встречу в среднюю школу с математическим уклоном группу ведущих преподавателей Военной академии имени М. В. Фрунзе. Через эту академию прошел цвет советского офицерства, она и сейчас открывает парады на Красной площади. Она представляет армию, которая жертвовала собой в Чернобыле, теряла товарищей за Гиндукушем, строила БАМ и чьим скромным служением обеспечена мирная жизнь и учеба детей.
Возглавлял группу офицеров генерал К. М. Цаголов, он же пригласил меня принять участие в беседе. Когда в большой класс к старшеклассникам вошли полдюжины боевых офицеров, знающих не понаслышке, что такое пули, засада, мины и смерть, ни один из учащихся даже не встал. Они не только не встали, но даже и не сидели, а вызывающе развалились. И это подростки, почти дети, впервые видевшие вошедших, которые были полны дружелюбия к ним. Несколько дам, представляющих руководство школы, сидели как ни в чем не бывало. Началась со стороны офицеров неловкая и тягостная попытка начать беседу с учениками, которые не хотели ничего знать и были глухи, были даже невраждебны, для этого нужно как-никак духовное, пусть злое, усилие. Нет, школьники хихикали, были вяло-ироничны и временами развязно скучали. Чувство стыда от того вечера не прошло, видимо, ни у кого из взрослых. Они чувствовали себя как будто в чужой стране.
Генерал Цаголов, который находил общий язык даже с душманами, не нашел контакта с этими ребятами. Всем незаметно дирижировал беспокойный молодой учитель, который сидел за спинами мальчиков. Чувствовалось, что он «сотрудничает» с ними давно. Воздух явно был в школе с душком, нервный и настоенный на интригах, в которые вовлечены были «сотрудничающие» юные интеллектуалы. Ребята, видимо, считали, что, являясь учениками спецшколы, призваны поставить на место этих «дядек» умными вопросами. Они демонстративно издевались над гостями.
Надо бы встать и вежливо попрощаться. Но какое-то неудобство останавливало... Все-таки, думалось, дети... К. М. Цаголов искренне и горячо, чуть не показывая тельняшку, пытался их убедить, что офицеры, которые перед ними, такие же люди, как все. Но он ловил только усмешку учителя-дирижера. Несчастные дети. Тлетворный дух всезнайства и иронии уже тронул их неокрепшие души. Но и это можно было бы простить, если бы в них был юношеский вызов, в одежде щегольство и опрятность, в речах соль остроумия, пусть и пробующего свои силы. Была, напротив, у них и даже у девочек какая-то неряшливость в одежде, запущенность, перегруженность какими-то заботами и некоторое недержание стана, подобающее старчеству. Еще год-другой, и эти бедные снобы попадут в армию...
В той же академии имени М. В. Фрунзе начальник музея рассказывал. Военрук 29-й школы, что в районе Кропоткинской улицы, попросил позволения прийти в музей со старшеклассниками. Начальник академии генерал-полковник В. Н. Кончиц в порядке исключения разрешил этим «гражданским» посетить музей. Как-никак ребята из школы, которую он сам окончил. Теперь это английская спецшкола. Старшеклассники выбили начальника музея из колеи на месяц. Пока он рассказывал им об академии, они слонялись по музею, хохотали, перебивали его и прямо заявили подвижнику музея — боевому офицеру, который тридцать лет по крупицам собирает экспонаты, что им ни академия, ни музей ни к чему. Дескать, они в армии не собираются служить. Поступят через «предков» в вуз и дальше дорожка по «загранкам». А войско — это ниже их достоинства.
Мы живем в пору созидательной перестройки, а не «хрущевской», когда закрыли не только десять тысяч церквей, но и многое «перестроили» так, что армия и общество до сих пор расхлебывают. Одной из таких разрушительных перестроек было упразднение многих суворовских училищ и специальных школ, поставлявших в армию лучшие кадры. Думаю, что любая военная академия или училище вряд ли до конца выполнят свою социальную роль, если при них не будет мальчишек, не будут шуметь зеленые побеги. Мальчишки заставляют подтянуться, посмотреть на себя со стороны. Уверен, имей академия суворовцев, офицеры на встрече с юными вундеркиндами и их беспокойным «сотрудником» были бы веселее, насмешливей и находчивей. Суворовские училища ломают замкнутую кастовость армии. Мальчики в погонах — это как улыбка войска. У народной армии должны быть свои любимцы, и пусть первые наборы пройдут в детских домах. Это понимает генерал-полковник Владимир Николаевич Кончиц — учитель учителей. Он за ту форму обучения юношей, которую можно ввести немедленно и которая нами, как и многое другое, незаслуженно забыта. Сам генерал после семилетки окончил в Москве на Пречистенке военно-учебное заведение с неудачным названием «спецшкола». Эти спецшколы по родам войск до войны были вожделенной мечтой мальчишек. После семилетки юноши поступали в них. Носили военную форму с гордостью, но жили в семьях. Это нечто вроде нынешних заведений с не менее неудачным названием ПТУ. По части нелепых названий, имен и формы мы никому не уступим. А форма, по Гегелю, свечение сущности и требует ответственности.
В пору В. Н. Кончица увлечение импортом было бы немедленно пресечено подростками, как наказывают за предательство знамени. Одежда — очень серьезное дело. Здесь не дизайнеры нужны, а философы-художники. Только невежды думают, что цари придирчиво занимались обмундированием войск оттого, что не знали, куда деть время. Когда Александр III пренебрег на время этим и несколько, я подчеркиваю несколько, унифицировал и упростил форму офицеров, ответом юношества был немедленный и резкий упадок притока в военные заведения. С Кончицем в артиллерийской спецшколе учились сыновья Сталина, Микояна, Фрунзе и Куйбышева. Дети руководителей страны охотно шли в военные школы. Время было несытое, но духовно собранное. Очень плохое для себя время выбрали фашисты, чтобы напасть на нас. Тогда мальчишки гитарам предпочитали стадионы, а «магам» — парашюты. Раз детство начиналось с суровых испытаний, будьте спокойны, у этих детей не будет проблемы с отцами. Суровость оплачивается благодарностью, верностью, а потакание — «предательством», т. е. мальчик бессознательно дает понять, что, закармливая, его растлевали, и он мстит за это бессознательно. Тогдашние спецшколы скорее походили на военные лицеи. Ряд ПТУ и сейчас можно было бы перевести в ранг военно-инженерных лицеев.
Когда, заброшенные в Афганистан, умирали юноши, армия наша впервые в истории оказалась без дружинных певцов «В стане русских воинов». Вспомним, что Пушкин рвался в Эрзерум к действующей армии. Пристально следивший за состоянием воспитания в России, он писал: «Ланкастерские школы входят у нас в систему военного образования и, следовательно, состоят в самом лучшем порядке... Кадетские корпуса, рассадник офицеров русской армии, требуют физического преобразования, большого присмотра за нравами, кои находятся в самом гнусном запущении... Должно обратить строгое внимание на рукописи, ходящие между воспитанниками. За найденную похабную рукопись положить тягчайшее наказание, за возмутительную — исключить из училища, но без дальнейшего гонения по службе: наказывать юношу или взрослого человека за вину отрока есть дело ужасное и, к несчастью, слишком у нас обыкновенное...»
Не случайно эти строки принадлежат Пушкину, он— наш современник, наш наставник и душа созидательной перестройки.
Далее он пишет так, будто живет с нами: «Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны (поэт имеет в виду офицеров-декабристов. — К. Р.). Историю русскую должно будет преподавать по Карамзину. «История государства Российского» есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека. Россия слишком мало известна русским: сверх ее истории, ее статистика, ее законодательство требуют особенных кафедр. Изучение России должно будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою...»
Традиции — это память, а память — воздух культуры, душа и школы, и армии, и семьи. О генерал-полковнике В. Кончице, насколько мне известно, был всего один очерк в центральной печати и ни одной передачи по телевидению. А мужей, подобных Кончицу, в стране и армии тысячи. На них должны бы воспитываться юноши, а не на дрыг-ансамблях по телевизору. Без возвышающих и здоровых примеров телевидение каждый день усиливает одичание общества и делает из всех нас сирот без рода, племени, преданий и учителей. Почему перед народом не выступит генерал армии Г. И. Салманов, еще один учитель учителей, ибо, кроме того что он бил фашистов, ему пришлось держать нелегкий экзамен в Афганистане, теперь начальник Военной академии Генерального штаба СССР.
Не дико ли, что в Академии педагогических наук не представлены люди ранга профессора В. Кончица, кто всю жизнь занимался воспитанием и образованием офицеров-педагогов. Как может академия обходиться без начальника единственного в мире нахимовского училища Героя Советского Союза контр-адмирала Столярова? Или представителей суворовских училищ? Или генерал-майора Михайлова, руководителя лучшего в мире духового оркестра и военно-музыкального училища?
Не комично ли, что просвещение бросились спасать актеры, представители самой застойной области культуры[1]? Или театральным деятелям уже нечего делать в своей сфере? Может, они действуют по старому принципу «неумеющий учит»? Почему в самом главном деле страны не слышно также голоса боевого генерала В. Слюсаря, Героя Советского Союза, начальника Высшего военного командного воздушно-десантного училища в Рязани? Это учебное заведение сегодня, как уже говорилось выше, едва ли не самое популярное среди молодежи. Оно давно побило все рекорды заявлений на одно место. В прошлом году их было 26 на место. Отсеивались даже суворовцы и медалисты. Ребята, не прошедшие конкурс, роют, говорят, землянки на опушках леса за городом и живут в надежде на чудо-вакансию. Этот социально-психологический сдвиг громадной силы просмотрен кривым взглядом нашего дрыг-телевидения. Стрелка вновь качнулась к здоровью и патриотизму. Почему не слышно голоса адмирала Егора Томко, Героя Советского Союза, начальника Ленинградского высшего военно-морского училища подводного плавания? До каких пор мы, расползаясь, одно не будем останавливать, а другому позволять совершаться? Демократия требует большей воли и разума, чем любой другой строй, а не потакания разложению.
Отчего телевидение и газеты поощряют не то, что нас всех роднит и сплачивает в стране, а, более того, что разъединяет, разобщает, расщепляет? Может ли победить созидательная перестройка, если мы не создадим особый общественный комитет по контролю телевидения? Почему в Англии нашлись здоровые силы и создали комитет, который беспощадно вырезает все сцены «порно» и насилия, а мы только-только доползли до помоев «маленьких вер» в разгар эпидемии СПИДа? Не будет конца одичанию, сиротству, пьянству и бесхозяйственности, пока на первое место не будет поставлена совесть, а потом образование, пока из всех школ не выметут эстраду и визг, и самым первым государственным шагом и самым важным должна быть коренная перестройка телевидения, самой застойной, неумелой и некультурной структуры нашего общества. В мире нет ни одного государства с подобной патологической ситуацией. На экране перед лицом всей страны представители тех, кто защищает ценой жизни державу, совместно с руководством Академии педагогических наук при участии общественности обязаны дать новое направление воспитанию.
Дети из школы идут домой. Солдаты из армии спешат домой. Люди с заводов и фабрик, полей и из учреждений торопятся вечером к теплым очагам домой, в семью. И школа, и вооруженные силы, и держава держатся на семье. После бессловесной давки в транспорте, раздраженной беготни по магазинам, после отчужденной толпы сограждан и угрюмых продавцов мы добираемся до родного порога. Но и здесь нас не ждет покой. Газеты, телеэкран и радио полны недовольства, двусмысленных разоблачений, торопливого нагромождения проблем, непродуманных суждений, безапелляционных советов, подсчетов взаимных барышей писателей, и все это на фоне псевдореволюций — «сексуальных», «научных», «зеленых», «технических» и доброго десятка других. Хотя никаких революций нет и в помине. Идет поступательное развитие технологий. С застойных времен пускают в оборот несколько словосочетаний вроде «опережающее развитие» или «трудовое воспитание» («воспитание трудом», может быть), а «трудовое воспитание» — нерусская бессмыслица вроде «педагогики сотрудничества» или «парка культуры». Затем эти словосочетания незаметно вкрадываются в речи ответственных лиц и приобретают каноническую номенклатуру. Так печать становится главной фабрикой бюрократического жаргона, загрязняющего сознание и усиливающего путаницу и панику в обществе.
На Западе этот грохот, шум и децибелы нужны, чтобы под шумок сбыть товар. Зачем нам в сознательной перестройке весь этот взвинченный тон, мутный поток полуистин на плохом русском языке, и кто его поддерживает под видом гласности? Особенно разрушительным нападкам подвергаются основные устои державы — семья, школа и армия. Даже самые благородные человеческие качества можно подстегиванием довести до своей противоположности. Исконно русскую совестливость и самокритичность, педалируя, можно переродить у иных в угрюмое недовольство собой, у других — в мучительное самокопание, а у третьих, сдобрив алкоголем, довести до того, что Кант назвал «сладострастным самоосквернением». Незаметно это становится господствующим настроением общества и литературы.
Писатели копаются в душах предателей, полицаев, дезертиров. На первый план попадают не созидатели, а вечно недовольные неудачники. Страшная нравственная опасность в том, что репрессии прошлых лет стали чтивом. Авторы соревнуются как бы в ошеломляющих цифрах простреленных затылков. Горе и трагедия стали расхожей наркотической инъекцией. В обществе, которое не может похвастать духовностью па фоне обезглавленных церквей, отравленной почвы, это приобретает зловещий оттенок. Мы заполнили страницы темами насилия, а нам надо растить детей, сажать дубравы, очищать реки, заново осмысливать свой исторический путь, укреплять армию, строить новые школы, лицеи, бассейны, дороги.
Мы увлеклись и, критикуя троцкизм и сталинизм, не заметили, как, хотим того или нет, пропагандируем насилие. А кругом незащищенные школьники и студенты без политического иммунитета. Им надо расти, крепнуть и верить. Нельзя в такой атмосфере ни растить детей, ни работать, ни служить Отечеству. Кто имеет право писать о репрессиях без гласного, глубокого, всестороннего разбирательства экспертов? На каком основании оплакивают одних и молчат о других? Такой подход к народной трагедии чреват разгулом порочных мотивов. Пусть особый комитет не пропустит ни единой пострадавшей души, пусть издают том за томом трагический мартиролог нашей земли, пусть публикуют списки создателей Гулага, пусть партия возьмет это в свои руки, но пусть прекратится вакханалия в периодике, ибо выплескивать в печать все без всестороннего разбирательства есть нарушение человеческих и юридических норм. Нам надо строить новую жизнь, а нашим детям не дают выкарабкаться из кровавых ям Гулага.
Верность священным преданиям — самая новаторская и творческая сила на земле, потому в пору истерической вакханалии вокруг школ хотелось бы в защиту детства, семьи, армии и державы подытожить сказанное словами польского поэта Немцевича, так полюбившиеся К. Рылееву, что он предварил ими свои «Думы»: «Воспоминать юношеству о деяниях предков, дать ему познания о славнейших эпохах народа, сдружить любовь к Отечеству с первейшими впечатлениями памяти есть лучший способ возбудить в народе сильную привязанность к Ро дине. Ничто уже тогда тех первых впечатлений, тех ранних понятий подавить не в силах: они усиливаются с летами, приготовляя храбрых для войны ратников и мужей добродетельных для совета».
...Каждый день прохожу мимо школы, которую окончил когда-то генерал-полковник В. Н. Кончиц. Перед школой — высеченные в камне юноши в военной форме, мальчики, павшие на войне, — выпускники артиллерийской спецшколы. Среднюю школу посетила в свое время супруга Рейгана во время визита американского президента. Первого сентября любит открывать здесь учебный год член-корреспондент Академии педагогических наук писатель А. Алексин. Теперь здесь на парадном крыльце на виду у десятков идущих за первоклассниками родителей стоят старшеклассницы и курят. У них такой вид, как будто они только что вышли с педсовета, где решали с учителями проблемы воспитания. Еще в прошлом году этого не было. «Учительскую газету» и ее покровителей можно поздравить: «педагогика фамильярности» набирает силу. Этих девочек уже можно ввести в состав редколлегии «Учительской газеты», чтобы быть верным логике событий.
Вспоминаю, как летом в Севастополе командир одного из лучших наших военных кораблей, человек, искренне болеющий за флот, говорил, что он очень хотел бы восстановить благородные традиции старых кают-компаний и офицерских собраний с их демократизмом, ратным братством и военной культурой. Но его сдерживает одно серьезное обстоятельство. Он не уверен, что после первого же собрания ряд офицеров не начнет ему тыкать и хлопать по плечу. Речь идет об отношении внутри офицерской среды, а не между матросами и их командирами. Опасения командира очень серьезны. Демократизация без непрерывного воспитания чувства дистанции, т. е. достоинства, есть химера, которая приведет к гибели и корабля, и школы, в которой тоже свой экипаж.
Не приведет ли разгул фамильярности в школе и разрушение ее основ к более опасной ситуации, чем «Карабах», ибо речь идет о судьбе пятидесяти миллионов школьников и затрагивает все семьи страны. Понимают ли это те, кто бездумно бросился в новую крайность? Может, хватит нам шарахаться от угрюмой казенщины к расслабленному сотрудничеству, не пора ли повернуться к несметным сокровищам родного наследия и передать эти богатства законным наследникам — детям?
Пусть «новаторы» шумят и клянутся перестройкой, но оставят в покое школу и армию. Осознаю, что очень много хороших людей в слова «педагогика сотрудничества» вкладывают дорогие для себя чувства. Однако воспитание требует кроме чувств и ответственности. У читателей могло создаться впечатление, что автор неправомерно сближает армию и школу. Нет, разница между ними очевидна, но при ведомственном отчуждении полезно вспомнить, что нас объединяет друг с другом, ибо если армия и народ едины, то школа — та часть народа, которую армия заслоняет в первую очередь. Это два института в обществе, куда приходят не по найму и выбору, а по гражданскому долгу и обязанности. Пусть митингуют и выбирают в другом месте. Впрочем, и там сначала надо потрудиться, потом выбирать. В противном случае самыми демократичными у нас станут далеко не самые трудолюбивые. Нам надо возвращать уважение к знанию и пытливости. И в прошлом у нас да и сейчас во всех странах глава государства непрерывно и деятельно вмешивается в жизнь школ, вузов и академий. Президент лично награждает в Белом доме лучших школьников. А мы сделали своих детей заложниками дилетантов от педагогики и объектом для безответственных экспериментов.
Куда же мы идем и кто же будет «решать судьбу» наших детей? Партия взяла курс на духовное обновление и созидание. Слишком многие клянутся сегодня именем перестройки, а преследуют групповые цели. Одни боятся возрождения сталинизма, а их оппоненты не меньше встревожены скрытой реабилитацией троцкизма. Но нет никакого исторического будущего как у «Огонька» с «Учительской газетой», так и у их крайних оппонентов. И казенная жесткая бездушность сталинизма, и суетливое беспокойство педагогики расслабленности несостоятельны, ибо лишены животворного роста и корней.
Нам нужна не шоу-программа, а план, рассчитанный на долгое дыхание в преддверии нового тысячелетия. Только широкая гуманизация жизни и углубленная гуманитаризация образования могут стать базисом нового движения в общественной жизни и педагогике.
Предполагаю, что некоторые мои суждения не всеми будут приняты. Коль скоро гласность не значит голосить, а предполагает диалог и корректность, а не истерично-торопливое «иного не дано», то пришла пора учиться и слушать и, если надо, парировать иное мнение. Придется расстаться с полюбившейся многим кистью с дегтем.
Беру на себя смелость утверждать, что ни в одной демократии не было случая, чтобы издевались и глумились над женщиной, посмевшей высказать открыто свое мнение, не позволяя ей ответить. Нина Андреева подписалась лично под письмом и несет личный моральный ущерб, как бы ни намекали двусмысленно на ее вдохновителей. Выдавать за новаторство такую «модель демократии» опасно.
Я не согласен ни с одним из положений статьи Нины Андреевой, хотя не убежден, что она в ней тосковала но сталинизму. Как не разделяю вожделений Юрия Афанасьева, закатывающего мечтательно глаза около кабинета Троцкого в Смольном. Историческое время и сталинистов, и троцкистов кончилось. Никакие словесные ухищрения не скроют политической пошлости их мотивов. Пришла пора созидания. Не согласных с положениями статьи приглашаю к открытому разговору сначала в печати, а потом на телевидении. Оппонентом может быть, разумеется, любой. Может, попробует перо на Родине академик А. Сахаров или оторвется на время от воспитания студенчества Ю. Афанасьев? Кто из певцов плюрализма готов к честному разговору об основных проблемах школы, семьи, армии, общества?
Когда-то в тургеневской повести «Первая любовь» юная княжна предлагала гостям, «чтобы очистить воздух», прочитать стихи Пушкина. Прибегнем и мы к этому магическому обряду и попробуем духом Пушкина осветить себе путь в нынешнее сложное время.
«Александр Сергеевич, Александр Сергеевич, я единица, единица, а посмотрю на вас, и мне кажется, что я — миллион. Вот вы кто!» — это восклицание адъюнкта греческой словесности приводит в своих воспоминаниях Михаил Погодин. Он же пишет: «Пушкин не пропускал никогда в Одессе заутреню на светлое воскресенье и звал всегда товарищей «услышать голос русского народа», на который сам обладал абсолютным слухом».
Есть какое-то таинство в том, что это происходило в Одессе, основанной Суворовым, столице новороссийского края, освещенной именами Менделеева, Ушинского, Чайковского, Пирогова. Далее Погодин поведал случай, рассказанный ему Гоголем: «Около Одессы расположена была батарейная рота и расставлены были на поле пушки. Пушкин, гуляя за городом, подошел к ним и начал рассматривать внимательно одну за другою. Офицеру показалось его наблюдение подозрительным, и он остановил его вопросом о его имени. «Пушкин», — отвечал он. «Пушкин!» — воскликнул офицер.
— Ребята, пали! — и скомандовал торжественный залп.
Сбежались офицеры и спрашивали причины такой необыкновенной пальбы.
— В честь знаменитого гостя, — отвечал офицер, — вот, господа, Пушкин!
Пушкина молодежь подхватила под руки и повела с триумфом в свои шатры праздновать нечаянное посещение.»
«Офицер этот, — говорит Погодин, — был Григорьев, который после пошел в монахи и во время монашества познакомился со мною, приезжая из своей Оптиной пустыни в Москву для издания разных назидательных книг, что он очень любил».
Кстати, как несколько позже уйдет в ту же Оптину пустынь выпускник кадетского училища капитан Лев Александрович Кавелин, а четырнадцать последних лет жизни архимандрит Кавелин будет настоятелем главной русской святыни — Троице-Сергиевской лавры, той самой, которая преобразила духовно страну и подняла ее на битву с Ордой. Из этой обители уйдут на Куликово поле витязи-монахи Пересвет и Ослябя. Архимандрит Кавелин станет членом-корреспондентом Императорской Академии наук и поразит современников обширностью и глубиной своих трудов. Последний его труд о подвижниках Отечества под названием «Святая Русь» станет завещанием бывшего капитана своим потомкам. Ни Пушкин, ни Кавелин при всей их широте и отзывчивости и в страшном сне не предвидели, что их соотечественник С. Аверинцев будет утверждать, что «святая Русь» — понятие всемирное. В. Соловьев тоже любил русских, но, как он цинично заявлял, за их «национальное самоотречение» они были призваны унавозить собою его хитрую всемирную идейку. Эту же ущербную всемирность пытались привить с помощью карательных мер троцкисты. Это все одна и та же паразитическая идея заставить другие народы служить материалом и средством для параноических глобальных планов. Нет народа, который в той или иной мере не обладал бы всемирной отзывчивостью. По каждый народ может принести в сокровищницу человечества духовные ценности только тогда, когда будет созидать свою родную землю, строить родную страну и семью.
Время сатанинской всемирности кончилось. Гулаг забил осиновый кол в идею двусмысленной планетарности. Единство только в национальном многообразии и благородстве устоев.
Укорененность в русской жизни была главной чертой поэта. С годами она проявлялась все сильней и сильней:
Два чувства дивно близки нам — В них обретает сердце пищу: Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам...Последние стихи поэта полны иноческой простоты и апостольской мудрости. Сколько литераторов примерялось со своим аршином к поэту. Присваивали его («мой поэт»), фамильярничали с ним, даже такие деликатные, как Блок. Не говоря уж о пошляках, которые, «прогуливаясь» с Пушкиным, пачкают его. Чем мельче были литераторы, тем бесцеремоннее с ним обращались. Сами себя возвели в «серебряный век» русской поэзии в канун рокового 1914 года. «Декаданс» в переводе с французского «распад», «разложение». Декадентское ущербное кривлянье, которое не дало ни одного четверостишия в детские хрестоматии, самозванцы объявили «серебряным веком». Сейчас они называют это «самовозвышением». Втайне они ненавидели Пушкина, потому придумали, что его якобы убил воздух николаевщины. Уловка мелких душ. Если перевернем листок, на котором пушкинские знаменитые строки «Пора, мой друг, пора...», то на обороте прочтем завет для нас и клич ко всей жизни поэта, пришедшего через французскую заразу и импортную ущербность к спасительному приятию родных устоев. Вот что он написал незадолго до боя на Черной речке: «Скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги, труды поэтические, семья, любовь, религия, смерть».
Ни слова не прибавишь к этой исповеди величайшего из наших «деревенщиков». Он собирался жить долго, породы был крепкой, склада живучего. Он дал разветвленное и жизнеспособное потомство. И сам прожил бы, как дуб. Кто знает, не пережил ли бы он всех лицеистов и не был бы тем самым, кто последний праздновал лицейскую годовщину и сказал бы последние чудные слова.
Пушкин рвался в деревню навсегда, назад к истокам. Он шел к долгой и размеренной мудрой жизни. Что бы стал делать он в наши дни?
То же, что и тогда. Уехал бы вон из столицы.
Вернулся бы в деревню подальше от асфальтовой пустыни и типовых землянок, где сидят литераторы и стругают свои хитрые шиши.
При жизни он много ездил и мечтая о зарубежье. Но сегодня, убежден, не покинул бы пределов России. Не смог бы смотреть в глаза чужеземцам. Да и как покинуть, как уйти, как говорить за границей с людьми? Всю жизнь я не мог попять, хотя и не осуждал других, и не могу постигнуть до сегодняшнего дня, как можно уехать за границу по турпутевке, на симпозиум или еще какую говорильню и смотреть иноземцам в глаза, когда у тебя за спиной на Родине по русским лесам лежат незахороненными со времен воины около миллиона твоих сестер, братьев и отцов. Как можно бегать по чужим магазинам или смаковать недостатки в стране, за которую и ты несешь личную ответственность, когда миллион сирот при живых матерях плачут по ночам в подушки? Немеет язык. Стыд не дает поднять глаза, как представишь, что оставил за спиной.
Оглянешься — окаменеешь.
Директор краеведческого музея во Владивостоке Сушков, в прошлом полковник, рассказывал мне, что у них на старом офицерском кладбище, где похоронены павшие в русско-японской войне офицеры, был воздвигнут храм. В наше время в этот собор вселили школу-интернат для умственно отсталых детей. Ребята бродили по кладбищу, копались в склепах, выкапывали из могил ордена, пряжки, кортики и пуговицы от мундиров и забавлялись ими, как диковинками. Сушков прервал этот короткий рассказ. Ему было трудно говорить. Он не сказал ни слова осуждения ни в чей адрес. Не напоминаем ли мы этих несчастных детей? Не нас ли они изображали? Не наше ли телевидение они копировали?
Рано или поздно за ложь расплачиваются все. Те, кто больше всех ругал систему, первыми бросились баллотироваться в народные депутаты, прихватив на помощь неформальных пачкунов. Кто недавно яростнее всех осуждал Академию педагогических наук, первым кинулся подавать заявление о приеме в члены этой академии. Еще не собрался Съезд депутатов, а уже депутат-экономист 3 мая 1989 года через «Литературную газету» сделал храбрый запрос Министру обороны по поводу гибели нашей подводной лодки. Я лично знаю многих ученых-экономистов, которые сделали себе карьеру, печатая на научном языке открытия о том, что в магазинах нет мяса, что очереди — это плохо, что покупать зерно за границей — признак слабого земледелия, и т. д. Но запрос экономиста-депутата говорит о том, что в политической культуре у нас дела хуже, чем даже в той науке, которую он представляет. Запрос краткий, но в нем много провинциального самомнения, развязности, комичных полурусских оборотов речи. Создается впечатление, что автор не мог совладать с распиравшей его гордостью от новой своей депутатской роли и хотел оповестить всех, что он уже избран и ужо задаст перцу этим «бюрократам». Почему экономист делает запрос через «Литературную газету»? Почему не в парламенте перед депутатами? Почему к Министру обороны и кандидату в члены Политбюро обращается как к провинившемуся денщику? Был ли редактор на службе, когда прошел этот непристойный выкрик?
Пока писатели подсчитывают взаимные барыши, страдает и литература, и читатель. Сеющие ожесточение при безбедной жизни не имеют исторической перспективы. Их время прошло. Когда простой народ, т. е. те, кто пашет, варит сталь, водит машины, служит Отечеству в гарнизонах и на границе, те, кто лечит, строит дороги и тянет лямку на всех уровнях районного звена, с уважением говорит о Сталине, это вовсе не из-за тоски по кнуту, лагерю или окрику. Это старая русская тоска по хозяину и порядку. Народ верил в Сталина потому, что в нем, в народе, еще было много идеализма, а стало быть, нравственного здоровья. Культ говорит не только о слабости политического мышления народа, что верно само по себе, но и о великодушии и силе этого же народа. Был культ Хрущева и Брежнева, говорят. Это чушь. Была попытка повторить культ. Ну и что же? Удалось?.. Народ не откликнулся. Его не обманешь. Он помнит, что от Сталина, который владел безраздельно всеми богатствами доброй половины мира, осталась только одна шинель. Я вырос в семье с абсолютным неприятием Сталина. Вплоть до того, что его имя ни разу вслух не было произнесено. Но были люди, которые верили в Сталина, как верят в благородство своих родителей дети, даже брошенные ими в детдом, — так сильна в ребенке вера в хорошее на земле. Этой верой он дышит и живет. Есть, должно быть, люди, которые хотели бы сталинским методом страха поддержать хозяйственный и государственный механизм. Но другая категория хочет свалить на Сталина всю вину за преступления, чтобы обелить творцов Гулага — этих тайных и явных последователей Троцкого — самого бездарного, трусливого и самого кровавого существа, которое когда-либо бегало по территории России. Ибо нет гения вне добра, как нет на земле ничего бездарнее насилия. Вся энергия его питалась паническим беспокойством, никогда не утихающей тревогой, отсюда и идейка перманентного разрушения. От чувства собственной ущербности он всех называл бездарями и был в оцепенелой и суетливой войне со всеми. Человек, призванный быть администратором Госконцерта, стал Председателем Реввоенсовета России. По Германии тридцатых мы уже знаем, как можно разжечь толпу, которая неистовым восторгом встретит кого угодно, и даже Смердякова во френче, если у него наготове трескучая фраза. Пятаков из пулеметов в Крыму тысячами по ночам перестрелял юношей — юнкеров, гимназистов, кадетов, офицеров, всех, кто после занятия Крыма красными поверил обещаниям его «тройки» о помиловании и добровольно пришел к Советской власти. Бухарин прославлял расстрел как метод коммунистического воспитания и сам стал жертвой этого метода. На всей этой номенклатуре лежит кровь невинных крестьян, детей, казаков и миллионов беззащитных людей. Все они были на редкость писучи. Все обзавелись званиями и собраниями сочинений. В пуританское время и при скудном большевистском пайке таких писучих революционеров свет не видел. Они хотели убрать Кобу. Но Коба убрал их. И пришел черед самого Кобы... Даже поверхностного взгляда достаточно, чтобы увидеть, что после 1933 года действия Сталина по укреплению своей власти стали особенно решительны, последовательны и даже дерзки. В Германии пришла к власти новая сила — нацизм. Гитлер стал канцлером. Кого противопоставить ему в лагере социализма и в России? Кто сможет вести незаметную, тяжкую, бессонную работу по укреплению и воссозданию новой государственности? Кто, скажем забегая вперед, сможет спасти мир от лагерей и газовых печей? Кому остаться на мостике? Сталину или Троцкому? Сталину или Каменеву? Сталину или Бухарину? Сталину или Тухачевскому? Внимательней и принципиальней всех оказался представитель европейской либеральной общественности Фейхтвангер, писатель, свободный от узкопартийных пристрастий. Фейхтвангер подтвердил — только Сталин. Подсудимых он просто обругал печатно. Время было не сантиментов. Все основные системы оружия были созданы после 1937 года, когда Сталин лично занялся этим и почти круглые сутки отдавал стали, оружию, моторам, вникая во все мелочи. Никто теперь не должен был мешать этому человеку, который стал против Гитлера. Потому после 1933 года дни и годы Троцких, Каменевых, бухариных были сочтены.
Что было дальше, известно всем. Создатели Гулага были репрессированы, и с 1939 года восходит звезда Жукова, которая затмит даже Сталина по народной известности поистине народного полководца. Он, по сути, выиграет войну, защитит Москву, окружит немцев в Сталинграде и возьмет Берлин. Жуков уберет Берию и в 1957 году спасет Хрущева и нанесет последний удар по сталинистам — Кагановичу, Молотову, Маленкову. Всем, что мы имеем сегодня, мы в известной степени обязаны одному человеку — Георгию Жукову. Вот так русское воинство снова на переломе лет оказалось спасителем Отечества. Он заслужил памятник только там, где принимал Парад Победы, — он должен стоять на Красной площади на коне около того места, где другой полководец Дмитрий Пожарский в честь победы 1612 года воздвиг Казанский собор, на месте которого создатели Гулага поставили сортир. Явление Жукова в истории можно сопоставить с появлением на Куликовом поле засадного полка, после которого, как говорят летописи, «и престало время у татар, и наступило время русских».
Жуков не только величайший полководец всех времен, Жуков — это явление, символ народный, идея тысячелетия. Жуков уже человек нового русского тысячелетия. Он — прорыв в будущее. (он смог состояться в самую страшную пору своего народа, когда кровавые авторы многотомных собраний трескучих фраз уже спели народу отходную. Такого не знала история всей Земли. Он вырос при самом беспощадном, ревнивом, подозрительном и зорком тиране. Но Сталин почувствовал его первородную жизненную силу и уступил ему Парад 1945 года. Пусть попробовал бы Цезарь или Наполеон покомандовать при Иосифе Джугашвили.
Сегодня нас пытаются с помощью разоблачений заставить всю жизнь барахтаться только в кровавых годах, чтобы у нас не хватило сил и духу на обновление, созидание страны и воспитание детей. Но перед лицом подрастающих детишек и в окружении далеко не дружелюбных соседей мы можем еще раз сказать, что будущее и не за «Огоньком», и не за его противниками. Одни хотят вернуть создателей Гулага, другие — верховного главу Гулага. У нас должно хватить мудрости и твердости воздать должное и тем и другим, не шельмуя, не оскверняя памяти, но и не брать в будущее их заблуждений и преступлений.
Мы все за правовое, обновленное, за сильное и процветающее государство. За перестройку, от которой будут многодетные, здоровые и спокойные семьи. За гласность и трезвость, за то, чтобы ни одного человека не было в очереди за водкой. Для начала, по примеру скандинавов, мы могли бы спиртное для праздников давать по особым талонам, без учета женщин и юношей до 22 лет, пока не кончат вуз или не отслужат в армии или на флоте. Мы за то, чтобы равноправие коснулось всех наций. За хозрасчет республик, чтобы могла Россия хоть через семьдесят лет тратить свои ресурсы на своих сыновей. За подлинное милосердие, мудрую терпимость, за то, чтобы навеки изгнать страх и ложь из жизни нашего государства.
Русские — единственный народ в истории, который практически никогда не покидал пределов державы, им созданной. Если было бы место, я доказал бы это цифрами. Все коренные русские покинули Родину после гонений: духоборы, старообрядцы, белая эмиграция. Неизлечимая тоска по Родине потому-то и есть русская болезнь. Все русские, проживающие в республиках Закавказья и Средней Азии, по преимуществу жертвы голода 20-х годов и страшного 1933 года. Помните «Ташкент — город хлебный»?
Русские — единственный в истории народ, который создал державу, где ее метрополия живет хуже, чем ее вчерашние зависимые окраины, и это тогда, когда дети России умирали от голода миллионами. Русские — единственный в мире народ, который принес на алтарь братства неисчислимые жертвы, ни разу не напомнив никому об этом. Так тысячу лет воспитывали этот народ его подвижники.
Древние говорили, что ни одно благодеяние не останется безнаказанным. Армия никогда не должна участвовать внутри своей страны в усмирении своих сограждан, кроме исключительных случаев, когда приказ дает глава государства. Сейчас офицеры становятся первыми жертвами выходок ослепленных шовинистов.
Русский народ, повторю, никогда не считал своих благодеяний. Но, видимо, чтобы социализм был действительно учетом, для полноты правды пришла пора подсчета. Все крайние националисты считают, что их республики обирают в пользу центра. Самое отрезвляющее и здоровое на свете — это хозрасчет. Но чтобы не было кривотолков, обид и взаимных подозрений, перед его введением следовало бы создать 15 государственных комиссий на каждую союзную республику и подсчитать, сколько за 70 лет они получили шпал, гвоздей, железа, станков, капиталов, нефти, хлеба, вузов. И сколько они отдали в союзный фонд. Настала необходимость знать, кто же кому должен. Такой шаг был бы трезвым, мудрым и своевременным. Причем баланс долгов надо проводить только по мировым ценам, ибо у нас держава мировая, и она нашла бы, куда продавать сибирскую нефть. Можно даже пе принимать в расчет того обстоятельства, что Россия избавила грузин и армян от физического истребления, а в немецкой Риге до прихода русских латышам запрещено было жить. Как не будем вспоминать, что до прихода русских полков в каждом имении Прибалтики стояли виселицы и что русское крепостное право было самым мягким в Европе. Вы можете даже в страшном сне представить русское имение с виселицей посередине?
Мы спрашивали себя: что бы стал делать сегодня Пушкин? Оп стал бы заново созидать Россию и писать о Жукове. Его поразило бы, что пятьдесят миллионов мужчин взялись за оружие во второй мировой войне, а величайшего полководца среди всех противоборствующих стран дал все-таки тот народ, который более всех потерял своих сынов. Ни один сражающийся парод пе имел после первой мировой войны за спиной гражданскую резню, лагеря, голод, переселения, расстрелы, чистку. И тем пе менее именно земля Александра Невского дала Жукова. И какая поступь была у этого мужчины, какая мощь ума и непреклонность натуры в окружении парализованных страхом служителей культа. Это было как чудо! Как знамение. Народ, давший такого всадника, преодолеет и водку, и потребительский дух, и черта. Жуков — это и тайна, и надежда, на его образе можно воспитывать целый народ. Жуков соединил собой все эпохи, традиции и режимы. Он — георгиевский кавалер, драгун и четырежды Герой Советского Союза. Счастлив офицерский корпус, имеющий таких представителей. Но не всегда он был счастлив.
И тут нельзя не сказать главного. К февралю 1917 года восемьдесят процентов русского офицерства являлись сынами трудового народа. Это были те, кто из школ прапорщиков стал на место выбитых в боях кадровых офицеров. Вдумайтесь в этот факт величайшей исторической значимости. Подобный социальный сдвиг произошел впервые со времен «Повести временных лет». Когда паши писатели, ученые, историки и публицисты размышляют или стенают по поводу действительно ужасных поражении Советской Армии в 1941 году, то, как по команде, срабатывает трафаретный механизм в сознании. Все говорят о двух вещах: о том, что Сталин не внял предостережениям о нападении, и о том, что он репрессировал невинные командные кадры перед войной. И эти два положения уязвимы, но они исторически повисают в воздухе и навсегда запутывают картину подлинных причин, и это заблуждение становится догмой уже для академических многотомников.
История нашей армии и ее офицерского корпуса начинается не в 1918 году. Я уже говорил выше, что к концу 1924 года комиссия ЦК провела всеохватывающую, тщательную и беспристрастную проверку всей Красной Армии и доложила с суровой прямотой тех лет, что армии «как силы организованной, обученной, политически воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами у пас в настоящее время пет и опа небоеспособна». После этого и началась знаменитая военная реформа 1924—1925 годов. Вот до какого состояния доведены были вооруженные силы «перманентными разрушителями» во главе с «полководцами» Троцким и Сталиным (Бронштейном и Джугашвили). В каких ямах похоронен офицерский корпус, который пошел па службу к красным? Куда делись сыны народа, ставшие офицерами в окопах первой мировой войны? Пусть этими розысками займутся те, кто охотно смакует репрессии. Сейчас речь не об этом.
На моей улице живет Юрий Борисович Шмаров, бывший офицер Нарвского гусарского полка. Из столбовых дворян, каких и до революции в старой армии уже были единицы. Он — известный знаток генеалогии русских дворянских фамилий и историк русских усадеб. Шмаров при Сталине отсидел 25 лет. Сейчас ему за девяносто. Несколько лет назад я встретил его на углу Староконюшенного переулка и улицы Рылеева на Арбате и сйросил:
— Юрий Борисович, в каком году вас арестовали?
Мой собеседник выпрямился, провел рукой по густым седым волосам и, вскинув подбородок, как юнкерской порой, медленно и раздельно проговорил:
— Тридцать третий год. — Затем, сделав паузу, отчеканил: — Последний офицерский набор!
Так что не в 1938-м был последний офицерский набор!
Поражение 1941 года было предопределено еще в 1924 году. Тогда, когда у нас фактически не было армии, будущий наш соперник сохранил в неприкосновенности свой офицерский корпус, лучший тогда в мире. Когда немцы говорили, что они «непобежденные на поле боя», они не хвастались. Антанта не смогла ни разу нанести немцам ощутимого поражения за четыре года кровопролитий. Более того, немецкая армия не пустила врага на свою землю и закончила войну всюду на территории противника. Немцы располагали генштабом высочайшей выучки и патриотизма, вышколенного десятилетиями трудов таких умов, как Клаузевиц, Мольтке, Шлиффен, но не расстрелами. Теперь вы понимаете, почему даже Румыния хмурилась, а восточные соседи возмечтали «топтать русскую землю»? Вы думаете, если армии нет в 1924 году, то она появится в 1940-м, через пятнадцать лет? Так бывает только у тех, кто действительность, жизнь, бытийность глубокую заменил на тележвачку и считает, что если он за мир, то и все соседи — пацифисты, а иной уверовал, что весь мир давно братается, гоняет рок и только он, дремучий дикарь, не успел разоружиться. С 1925 по 1941 год мы еще топтались и офицерского корпуса не имели, как показали финские события.
Повторим еще раз. Если в любой стране (не только нашей) в 1924 году армии не было, то ее не может быть и в 1941 году ни при каких обстоятельствах. Офицерский корпус создается не за 15 лет, а за века народной жизни, за столетия войн, традиций, учебы и жертв. Мы могли получить новый офицерский корпус или через века созидания, или же страшной кровью. История обрекла нас на последнее. Потому-то в декабре 1941 года в одном из приказов Сталин признал, что настоящего офицерского корпуса у нас еще нет, а в феврале 1943 года возвестил, что теперь у нас офицерский корпус есть. И он был прав. Это был новый офицерский корпус, рожденный полутора годами окружений, разгромов, гибели и крови, — это был сталинградский офицерский корпус. Нужен был некий символический государственный акт, подтверждающий рождение великого явления, и он был найден. На плечах нового офицерского корпуса в 1943 году вновь засверкало золото погон — это золото высочайшей пробы, рожденное жертвенным служением. Возглавил этот офицерский корпус Жуков, подлинно первый маршал. Вот почему, если бы дата нападения Германии была бы известна Сталину за год до войны, а жертвы репрессий 1937—1938 годов все были бы живы, то и в этом случае в корне ничего не изменилось бы и начало войны было бы, скорее всего, в пользу Германии. Нельзя построить армию в стране, где в коллективизацию и голод счет погибшим идет на десятки миллионов самой жизнеспособной части народа. В мор не созидают, тем более когда маршалами наспех выдвигают людей, которые в армии будущих соперников едва ли вышли бы в полковники. Вот почему то, что было сделано в области вооружения после 1937 года, кажется до сих пор невероятным. Именно тогда родились танки Т-34 и КВ и почти все типы самолетов. Убежден, Уборевич и Тухачевский не лучше Ворошилова и Кулика справились бы с танковыми клиньями немцев. К 1941 году мы уже превосходили немцев по количеству танков нового типа вроде Т-34, но у нас не было еще умения применять их.
Есть в натуре русского драгоценнейшее свойство. Это стыдливость, углубленная византинизмом до такой степени, что человек немедленно начинает верить любой гадости, сказанной о нем и его Родине, особенно печатно или по телевидению, которое порой становится блудовидением. Не только верит, но и мучается этим, и заражает других, и руки опускает.
Родина начинается не с березки, а с семьи и дома родного, и там спасение. Пусть дети подрастают в этом доме, никогда не слыша ночного стука в дверь, и видят утром улыбки отца и матери. Чтобы из дома ушли и подозрительность взаимная, и настороженность, и ожесточение, мы должны идти вслед за тем, кто указал жизнью нам путь, вслед за Жуковым, убравшим сталинистов, Берию и Молотова, и добившим фашизм в Берлине, вслед за ним предать анафеме и забыть как Троцкого, так и Сталина, как Лейбу Бронштейна, так и Иосифа Джугашвили. Убийцы вне закона! Другого пути не дано. Это есть и перестройка, и правовое государство, и созидание.
Мы говорили, что к 1925 году у нас армии не было. В количественном же отношении она из-за голода и бедности была сокращена с пяти с половиной миллионов до пятисот тысяч. Но даже этот небольшой контингент использовался как трудовая армия — на стройках, покосах, заготовках топлива и па прочих бесчисленных дырах разрухи. Солдаты нередко маршировали в латаном обмундировании, в лаптях и не впроголодь, а отчаянно голодая. Военная реформа 1924—1925 годов стала реальностью. На посту Председателя Реввоенсовета Республики Троцкого уже сменил, человек, который командовал разгромом Колчака и Врангеля и теперь проводил военную реформу. Это был Михаил Фрунзе.
Осенью того же года впервые проявил «натуру мирового калибра» Георгий Жуков.
Три молодых офицера, три всадника, окончив кавалерийские курсы, напутствуемые друзьями, двинулись из Ленинграда верхом на конях к месту службы в Минск. Одним из них был Жуков. Они установили тогда своеобразный рекорд. Суровой голодной порой в этом вызове судьбе крестьянских детей — трех «деревенщиков» — было что-то от былинной молодости и дерзости. Потом Жуков подпишет капитуляцию Германии. В 1953 году три офицера решительно войдут на заседание Политбюро, и три обстрелянных воина, три воеводы, совершат деяние, которое повлияет на судьбу мира. Впереди твердо и молча шагает Жуков, за ним — генералы Москаленко и Батицкий.
В жуткой тишине раздается повелительный голос Жукова и произносятся немыслимые тогда слова:
— Берия арестован!
То была новая «Повесть Георгия о Змие».
Как и в старину, обмякший дракон-кровопийца покорно последовал за народным заступником.
Что бы ни делал в жизни Жуков, во всем была какая-то музыкальная победоносность. Как поэт действия, Жуков бесспорно величайший художник Земли и самая блистательная фигура русской истории. Всю войну он не покидал седла — «конь казаку крылья», не расставался с баяном. После войны он успеет до опалы создать институт военных дирижеров.
Весь сегодняшний офицерский корпус можно смело было бы назвать жуковским. Его поступь, дух и воля должны бы стать эталоном для новых офицерских собраний. Жуков состоялся в таких обстоятельствах, когда любой Бонапарт и Цезарь сникли бы. Есть один штрих, который лучше всего показывает и величие Жукова, и то, что он начал, когда у нас не было офицерского корпуса. 23 июня 1941 года, на второй день войны, Сталин вызвал Мерецкова в Москву будто для того, чтобы сделать советником при Ставке. В Москве вместо Кремля Мерецкова увезли на Лубянку, и высшие чины НКВД избивали его резиновыми палками. Даже Берия после ареста признал, что то была «мясорубка». Если вчерашнего начальника Генерального штаба воюющей державы избивают до полусмерти в столице, а потом выбрасывают за дверь, то это значит, что офицерского корпуса еще нет. Думаете, Жуков не знал, что его может ожидать та же участь, а то и похуже? Знал. И ни разу не дрогнул, и тем укротил даже Кобу.
Митрополит Филарет Белорусский писал, как на западной границе республики один священник в письме пожаловался Жукову, что немцы, отступая, разорили храм и колокола увезли. Жуков тогда вел наступление на Берлин. Вскоре в белорусское село железной дорогой был доставлен вагон колоколов и при них взвод солдат для наладки. Тайна его гения и неукротимости была в глубокой вере в свое предназначение как представителя всего народа — от малышей до стариков, как их ратоборца, будто он чувствовал каждый миг их взгляд на себе. Отсюда и бессонность, и жестокость, и неистребимая ненависть к фальши.
В этом офицере каждый отмечал особенно близкие ему черты. Среди духовенства устойчиво бытует убеждение, что Жуков всю войну возил с собой в машине образ Казанской божьей матери — самой «боевой» и военной иконы. Объясняется это многими причинами и тем, что эта икона участвовала во всех важных битвах и вдохновляла ратников при изгнании интервентов из России в 1612 году. И тем, что Жуков сложился как личность и воин еще в царской армии, где он был удостоен Георгиевских крестов. А когда я спросил у знакомого архимандрита, как можно убедиться в правдивости этого факта, он заметил мягко, что такие поступки не протоколируют и это вопрос не знания, а веры.
Вряд ли кто сделал больше Жукова в истории для спасения своей страны, и никто не был в нашей истории так замалчиваем. Обаяния и мощи этой натуры боятся и сейчас, ведь оп восторжествовал, когда все цепенели от ужаса. Жуков на Параде Победы восторжествовал над Сталиным уже всенародно. Верховный, надо воздать ему должное, не потому сам не принял Парад, что был стар для седла. Сценарий другой нашелся бы — с легковой машиной. Нет, Сталин понял лучше всех, какая сила оказалась выше его и Гитлера, не говоря уже о такой мелкоте, как Троцкий и компания, — этой силе он посвятил тост. Сталин понял, говоря языком сказания о Куликовской битве, что «и престало время у татар, и наступило время русских».
Прямота — вот тайна непобедимости Жукова и всенародной привязанности к нему. В детстве каждый из нас прикоснулся к этой молве, из которой когда-то рождались былины. Отечественную войну 1812 года Наполеон называл «русской войной». Позже Великую Отечественную нацисты именовали «русской кампанией». Эти же названия замелькают в зарубежных изданиях о двух войнах, ставших вехами в истории не только нашей страны, но и всего человечества. Они, эти названия, умаляют значение жертв и битв и стоят в том же лживом ряду, что и «генерал Мороз». Что же это за войны, в которых были разгромлены лучшие в мире армии столетий — каждая навек?
Слово «прямой» в русской речи издревле означало «честный», «ясный», «праведный», «народный». Потому выдающийся поэт Николай Языков в стихотворении, которое единственное, по свидетельству Гоголя, заставило Пушкина плакать, Пушкина, который говорил о себе: «Суровый славянин, я слез не проливал, но понимаю их», — в этом стихотворении-песне о судьбе Москвы и России в 1812 году назвал Отечественную войну «пряморусской войной».
Война с фашизмом в еще большей степени стала Пряморусской войной, ибо «союз нерушимый республик свободных» возглавил русский народ по праву святой жертвенности: среди всех павших «за други своя» в этой войне две трети были дети России.
Тот же Батюшков, которого нет в детской «Родной речи», а вместо него пестициды застойной поры, говорил, как бы открывая тайну Жуковской поступи: «Ничто не дает такой силы уму, сердцу, душе, как беспрестанная честность» — и добавлял: «Честность есть прямая линия». Стало быть, Жуков был храбрее, умнее и добрее соперников потому, что был честнее их всех.
На Параде Победы незримо присутствовали все павшие в битвах и все поколения погибших за Россию. Жуков был не одинок, перед ним были сводные полки его братьев по оружию. На трибунах молодые наркомы Победы — Дмитрий Устинов, Вячеслав Малышев, Борис Ванников, Петр Паршин. Рядом дружина пытливых изобретателей — на поле брани русский ум не уступил германскому гению — творцы оружия Духовы, Дегтяревы, Шпитальные, Федоровы, Грабины, Токаревы, Туполевы, Лавочкины, Котины, и из них ведь не один только Ильюшин — тринадцатый ребенок в крестьянской семье, почти все они «деревенщики», такие же крестьянские дети, как две трети офицеров русской армии 1917 года. Нынешний заместитель Министра обороны Иван Третьяк, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, пожалуй, единственный из кадровых военных, удостоившийся во время войны назначения немцами награды за его голову, пишет, что в Сибирской дивизии, где он, кстати, двадцатилетним командовал полком, сибиряки-гвардейцы называли друг друга не иначе как крестьяне. Нередко можно было услышать: «Тяжело сегодня будет нашим крестьянам». Но самым крылатым и самым любимым выражением сибиряков было: «Крестьяне могут все!»
Об этом и поведал миру «деревенщик» Георгий Жуков, принимая парад крестьян, которые поистине «могут все!»
После Парада победители собрались в сердце Кремля — в Георгиевском зале, хранящем память о воинах России. Там на торжественном обеде в честь победителей Сталии скажет тост, который как бы замкнет целую эпоху репрессий и перманентных стригольников и признает, что война провела историческую «смену караула». В Кремле собрались правнуки тех, кто его построил и семьсот лет оборонял. Не знаю тостов, полных большего исторического смысла, ибо начинал Сталин свою карьеру, вовсе не имея в виду тот тост.
Вот этот знаменитый тост, заключительные слова которого в восторге, не веря их звуку, передавали друг другу, как благовест, простые люди всей России. Я помню это с детства.
«...Я хотел бы подпить тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа.
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание, как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.
Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, по и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.
У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода. Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии. И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — фашизмом.
Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!»
Должен сказать, что в устах Кобы слова «своего правительства», «доверие русского народа» звучат так кощунственно, что нет сил почти, чтобы не выругаться. Но здесь надо сдерживаться. Не из почтения к Сталину, а из благодарности к русскому народу, который даже его заставил уважать себя. Я не буду здесь говорить о нем то, что он заслуживает. Сама речь его, несмотря на вынужденную его признательность народу, спасшему его шкуру, которая ему дорога была не менее, чем Троцкому, — в каждом слове звучит негрузинское, кстати, скрытое лукавство, ибо он был вместе со своим другом-врагом Троцким чем-то абсолютно противоположным понятию «прямой». Не будем больше о Джугашвили из уважения к государству, возглавлять которое его поставила история. Они, гулаговцы, возненавидели его не столько за репрессии, сколько за то, что он оказался умнее и хитрее их всех, вместе взятых, а самое главное — за то, что он заставлял их уничтожать друг друга, и при этом даже не кончив университета, как Бухарин и прочие обладатели собраний сочинений. Троцкий хоть и был палач, но с опереточной ущербностью: открытый «роллс-ройс», кожаная куртка и галифе, сам маленький, суетливый и в пепспе. Такой же маленький, как и Коба. Подражали в одежде самым тогда отчаянным и интеллигентным храбрецам-авиаторам. Коба никому не подражал. Стихи писал в юности. Сам Чавчавадзе его юношеские стихи поместил не куда-нибудь, а в грузинскую национальную святыню— «Дэдаэна», по-нашему букварь. От этого особенно жутко — Коба не был, как они, оратором, но победил соперников, однако, не только безжалостной затаенностью, по и тем, что абсолютно не ведал одного обычного человеческого качества — ни одному человеку на свете не удалось увидеть в желтых глазах Кобы сомнения. Он знал своих соратников, они были из того же исчадия, что и он. Все, как один, малорослые, все беспокойно настроенные на одну алчную извилину-доминанту — как бы присосаться к власти. Почти все с лжефамилиями-псевдонимами. Малейшее сомнение или чувствительность — и гулаговцы тут же перевоспитают в затылок. Жуков через правду и подвиг сумел подняться над всеми ими.
Русское общество столетиями жило идеалом Ильи Муромца, когда его давно не было. Ильи Муромца, восьмисотлетие со дня смерти которого не отметили в 1988 году ни одна газета и журнал страны. Даже Илья Муромец, по нынешним понятиям начальник погранзаставы, не первый русский офицер. Так глубоки корни армии. Вот кто исторически пришел на смену гулаговцам и кто возродил вновь русский офицерский корпус.
И «афганцы», и юные моряки из Адмиралтейства — словом, все «лицейские», ермоловцы, поэты — все возвращались из армии, школы, клубов, походов обратно к родному очагу, в самое таинственное, самое непостижимо глубокое, самое мудрое из того, что создано человеком на Земле. Нет счастья выше, чем возвратиться в родной дом. «Чти отца и матерь свою и будешь долголетен на земле». Никакая творческая работа на свете и прочие научные и производственные радости не сравнятся с теплотой, радостью и творчеством семейного круга. Все пути ведут домой. Нет благодарней деятельности, чем вить гнездо, сажать сад, растить детей. Говорят, осознать свою боль дает надежда на избавление от нее.
«Сейчас идет не разоблачение репрессий, а какое-то бульварно-газетное смакование их с приписыванием всех грехов, своих и чужих, одному «вождю отпущения». Нет в большинстве статей и тени боли. Все бегут поразить друг друга новой бухгалтерией цифр. Жертвы переведены в бесноватую отвлеченность цифирии. Счет идёт по простреленным затылкам. В этом всем скрытая, по существу, пропаганда насилия, и ей должен быть положен конец. Дети без иммунитета вырастают в повой газетножурнальной кровавой пене. Вот и «Правда» написала, что в коллективизацию репрессировано один миллион семей. Наконец-то коснулись главного слова — семья. Представляете, что миллион семей — это приличное европейское государство, с детишками, стариками, отцами и матерями.
На четвертом курсе восточного факультета я волею случая стал начальником лагеря детдомовцев на Карельском перешейке и оказался один перед восьмьюдесятью воспитанниками без вожатых, завхозов, худруков и прочих штатов. Один во всех лицах. Я попросил и в первую неделю мне привезли «Педагогическую поэму» Макаренко. Прошло с тех пор много лет, но ощущение ужаса осталось. Быть может, то было еще глубокое влияние древних преданий и среды староверов, в которой я вырос, где люди сохранили еще эсхатологическое сознание. Я никому не говорил о своем впечатлении, чтобы не шокировать одномерное сознание оптимистов. Но, думал я про себя, у Макаренко были беспризорники, и у меня — сироты. Как можно написать бравурную книгу о юношах, ни разу до этого не рассказав им, этим несчастным, о преданиях отцов, об истоках, о почве? Они ведь не только без отца и матери, а горя сильнее сиротства нет, но они еще в колонии за колючей проволокой. И, не рассказав им историю родной земли, не дав культуры, приохотить к станку и конвейеру, и все это с придуманным самоуправлением, которого в природе нет, ибо есть только соуправление, Платонов назвал бы это «педагогическим котлованом». Отнять, убить отцов ночью под вой заведенных моторов грузовиков, потом детей — в колонию, и все это превратить в поэму, и все с фальшивым энтузиазмом, где столько же подлинности, сколько ее в тарахтенье мотора в гараже. Это тарахтенье энтузиазма, чтобы скрыть убитые семьи этих детей.
Макаренко очень нравилось трудовое воспитание с обрезанной памятью. У него и сейчас полно бездушных последователей, которые хотят, чтоб их дети учились в университете, а другие в жизнерадостной казарме «вкалывали» в ремеслухе или ПТУ. Трудовое воспитание — это все то же тарахтенье грузовика. Это же тарахтенье слышится в оглупляющем вое рока. Я отложил эту страшную поэму двойного сиротства — книгу, написанную после 1933 года. И тогда, и сейчас я считаю ее самой жуткой книгой, когда-либо написанной на русском языке. Я хорошо различаю возражения, понимаю их. Со многими заранее согласен. Мне скажут: тогда это было благо. Я считаю, благо было тогда, когда ему велели прекратить воспевать детский труд. Да вовсе и не в Макаренко дело, и не в заурядных его сентенциях. Дело в том, как сказал Достоевский, «дитё плачет», а мотор все тарахтит. Как люди могут читать такую «поэму», не содрогаясь?!
После 1928 и 1933 годов три народа: русские, украинцы и белорусы — через невинных детей, лежащих на дорогах бездыханными, через горы трупов слились в этом горе в такое единство, какого не знала земля со дня сотворения. Убитая семья стала первым в истории символом всенародного переживания. Распятая семья... Немота.
Есть слова для этого. Нет их у человека. Потому народ молчит, пока журналы болтают. Народ понимает, что это непроизносимо.
После 1933 года выстоять в войне! На сколько же еще тысячелетий был запас у белорусов, русских и украинцев?! После 33-го, после горя, страшнее батыева, нет больше восточных славян, есть нечто выше племенных различий трех народов-братьев, раз на земле никто не испил того, что им довелось.
После пряморусской войны с фашизмом в Берлин вошли не русские, не белорусы, не украинцы, а в пего вошли правороссы. Издревле, с дохристианских времен, слово «прямой» значило «чистый», «праведный», «правдивый», «правый». Тогда говорили: «Мир крив, и Бог его выпрямляет». Правороссы выпрямили мир. Правороссы не только древнее братское единство истоков и крови, но и новое духовное единство, которое вновь проявилось в Афганистане и Чернобыле. Правороссы — это единство для нового тысячелетия, и от этого единства зависит судьба державы, созданной их жертвенностью. Это они, правороссы, отдав все окраинам даже после мук 33-го, сегодня уступают всем республикам по уровню жизни, образования и льгот. Они прошли через самые страшные испытания, которым подвергается семья. Много десятилетий, чтобы убить семью, убивали отца. Знакомый академик Надиров, курд по национальности, рассказывал, как в те годы пришли однажды ночью и спросили, где глава семьи. Отца не было в живых. Вся семья, мал мала меньше, держалась на старшем брате 22 лет. Его и увели, чтобы обезглавить малышей. Остальных погрузили в вагоны — и за Урал. Дальше — немота.
Отца убивали и в кино. Поэтизировали отцеубийство. В фильме «Мы из Кронштадта» выбирают для похода моряков-добровольцев. Один из них, с гитарой, просит взять его и как доказательство своей пригодности говорит, что он сын кухарки и офицера. На вопрос моряков, где отец, гордо ответил:
— Сдал в ВЧК!
Павлик Морозов, этот несчастный малыш, был не одинок. А лавреневский «Сорок первый». Жуткий счет убийцы. Женщина убивает отцов. Последним она убивает не только столбового дворянина, поручика, но носителя аристократической фамилии, известного перед революцией славянофила Говоруху-Отрока. Умели тогда при страшной бухгалтерии не забыть о ритуальной символике. Но и моряк, и женщина-убийца не вымысел совершенный. Мы узнаем их. В их чертах неистовство Разиных, Пугачевых, Болотникова и Махно, в их недобром горении еще столько родных черт, что страшно вспоминать. Одно буйное непротивление «деклассированного» графа Толстого чего стоит. Да и «Братья Карамазовы» все о том же — «убить папу или не убить».
Но есть еще одна, главная составляющая у этого вышедшего из народных толщ явления, которое унаследовали большевики, без которого не понять ни Октябрьского переворота, ни всех его последствий. Большевизм — русская мечта. Эту исступленную жажду правды и именно большевистской правды я найду вам и в «Голубиной книге», и в «Повести о горе-злосчастии», и даже в Илларионовом «Законе и благодати»; не говоря уже о самосожжениях старообрядцев. Ни в ком нет такого раскаленного «большевизма», как в протопопе Аввакуме Петрове. Это неправда, что бездарный, суетный, пухлый Троцкий попутал великий народ.
Большевизм — это русское испытание, это праворусский мировой урок, трагическое испытание судьбы, когда на поиски правды брошено все. Итог известен. Тот, кто приписывает злодеяния этих лет Троцкому или Сталину, тот унижает великий народ и все его жертвы, а главное— показывает, что он, как и созидатели Гулага, ничего общего с русским народом, с русской судьбой не имеет. Правороссы были движущей силой (как говорят марксисты) революции. Они же и положили конец этой эпохе.
Сейчас новый этап величайшей ответственности перед новыми поколениями. «Мемориал» подсчитывает свои потери, русский же народ подводит свои итоги. Вовлечены и обмануты были все. Хватит полоскать кровавое белье. Ни Троцким, ни Бухариным, ни Сталиным, ни Хрущевым не место в новой России. Надо снова растить детей, надо, чтобы на просторах России, Белоруссии и Украины снова запели песни и зацвели многодетные семьи.
Нет на земле большего счастья и не было никогда, чем дети. Чем больше их, тем больше счастья. Как говорит писание, «жена спасается чадорождением». Женщин обманули ложными ценностями. Самых прекрасных на свете русских женщин увлекли на бесплодие, перерождение и мужиковатость. Нигде на белом свете никто не ждет женщину, кроме ее детей.
И пусть мужчина снова станет тем, чем был во все века испытаний, — главой и носителем совести семьи.
Уже есть обнадеживающие толчки. Посмотрите, кто ищет, покупает и читает каждый номер газеты «Семья» — одни мужчины. Когда-то любая семья была маленькой церковью. Отец небесный там, и на земле отец в семье, и между ними ось, на которой стоял мир. В красном углу каждой домашней церкви образа вместо алтарей.
Пора покаяний прошла. Пора нам вернуться тихо в дом. Выключить телевизор. Выбросить дефицит и импорт. Умыться. Посидеть молча и подумать сообща о великой ответственности, которая никогда еще не ложилась па плечи ни одного поколения, — восстановить русскую многодетную распятую семью. Другого пути нет.
Но дети не могут цвести и развиваться ни в семье, ни в государстве без ограждения отеческой силой. В семье эту роль выполняет глава — мужчина. А в государстве — люди, которых именовали мужами.
Что нам осталось от русского тысячелетия? Православная церковь чуть теплится. Есть слово, летописи, песни и предания. Но и они, как дети, нуждаются в развитии и защите. На столпах храмов рисовали воинов-князей и давали прихожанам наглядный урок державности. Кто же сегодня в нашем государстве выдерживает историческую тяжесть? Кто конструкция несущая? Кто опора державы? Прежде всего армия и флот, потом все, кто несет древнюю службу державную. Это мужчины в униформе — юристы, милиция, гражданский воздушный флот, речной и морской флоты. Это железнодорожники и пограничники, работники службы безопасности и дипломаты. Все они руководимы партией. Все вместе они сейчас подвержены особым прямым и тайным нападкам, заслуженным и незаслуженным. Все они должны бы собраться вместе под руководством партии и прежде всего решить, как отпустить домой переутомленных женщин-учительниц, замученных методиками и гудящим переполненным классом. Больше просвещению некому помочь.
Писатели заняты внутрицеховой распрей и не спешат повернуться лицом к детству и коренным народным задачам. Вся надежда на вас. Чтобы быть верными Жуковской традиции и вкладу полководца в обновление общества, все, кто носит погоны, должны создавать офицерские собрания. Никто не поможет армии и флоту, кроме них самих. Когда закаляют сталь, ее временами «отпускают», чтобы сделать гибкой и разящей, иначе она будет ломкой и хрупкой. То же — с воспитанием и то же — с офицерским корпусом.
Офицерские собрания были введены в войсках как спасительная мере против «перекаливания». Беспрекословность—душа армии, ее сила и надежда. Но она вредна в офицерском быту, где на смену повиновению приходит корпоративное братство. Во флоте эту роль в известной мере выполняет кают-компания. Моряки мудро первую роль в кают-компании передали не командиру корабля, а его старшему помощнику. Ибо если капитан командует безусловно на мостике и будет «давить» еще за столом, то команда «перекалится» и заскучает. Это не значит, что в офицерском собрании после строевой дисциплины наступает пора панибратства. Как раз напротив. Раскованное братское собрание — великий экзаменатор офицеров на чувство такта, дистанции, нормы и чести. Собрания можно начать с батальонного звена. Все собрания рода войск объединяются в одно общество. Например, общество офицеров инженерных войск. Или общество офицеров воздушно-десантных войск. Они, кстати, могли бы стать зачинщиками. Как говорили в старину, «гвардию все недолюбливают, но все стараются ей подражать». Должно быть и общество офицеров медицинской службы. Вместе с десантниками и моряками могли бы начать объединяться и офицеры пограничных войск. Они могли бы создать, например, союз офицерских обществ державы. Каждое офицерское общество должно выдвигать своих кандидатов в народные депутаты, ибо каждое общество есть подлинно творческий союз, так как нет более творческой работы на свете, чем воспитание, и нет офицера не воспитателя. Такие же общества должны бы иметь офицеры гражданской авиации, промыслового флота, речного и железнодорожного транспорта и юстиции. Это сразу же оздоровило бы климат страны.
Были ли все эти годы пакта печать, наше телевидение, радио и кино с армией и народом на этом столбовом пути? Пусть ответит читатель. Когда-то к Сократу пришла знаменитая гетера Афин и сказала философу:
— Послушай, Сократ, вся Эллада знает, что нет в Афинах мужа мудрее, чем ты, по разве ты не согласен с тем, что я могу увести от тебя любого твоего ученика?
На что Сократ ей невозмутимо заметил:
— Что ж здесь удивительного? Ведь я тащу их наверх, а ты — вниз!
Вот вопрос, который должен ставить перед собой каждый из нас отдельно и совокупно и каждый день — собираемся ли мы в аудиторию, кооператив, артель, на завод, в редакцию или на заседание горкома. Молодежь требует ответственности, риска, напряжения, потому что хочет расти. И пусть молодежь не забывает, что, как сказал Герман Хессе[2], возраст существует только для бездарей.
Мы обманули детей и повели их той дорогой, какой повел злодей из сказки. Мы разрушили и художественное, и сыновнее сознание целых поколений, придумав, будто на свете существуют «молодежная проблема» и «молодежная музыка». Несчастен ребенок, если его проблемы не проблемы, его отца. Не менее несчастен отец, если его заботы не заботы его сына. Разрыв тем не менее произошел. Отцы не передали детям тысячелетних огней. Нет проблемы отцов и детей, есть только проблема отцов. Дети никогда не виноваты, ибо предают не они. Когда-то я начал создавать в Сибири мушкетерский клуб «Виктория» с единственной сверхзадачей — доказать, что на свете нет молодежной проблемы. Потому по уставу клуба в нем могли встретиться члены с десяти лет и хоть до восьмидесяти. Теперь мы воспитали своего родного, отечественного обалдуя, которому теперь уже под сорок, который убежден, что в природе может существовать «молодежная музыка». Обалдуй думает, что культура нечто вроде обуви и штанов, которые имеют возрастной размер. Он, бедняга, убежден, что предел политического счастья — это многопартийная система, что все, что на Западе, лучше, чем у него дома. Откуда ему знать, что после того, что пережили его отцы и деды, любой конгрессмен по сравнению с ними недалекий говорун. Кто ему объяснил, что преклонение перед «архисовременностью» — признак умственной деградации? Да кто ему это расскажет, если куда повыше его сидящие не понимают, что никогда не будет колбасы .в магазинах, пока общество учат экономисты, пока на первое место не будет поставлена совесть вместо брюха, ибо на свете нет ничего более убыточного, чем поглощенность рентабельностью? И нет на земле для страны большего позора, чем отдавать политую кровью землю в аренду земледельцам сопредельных стран. А зоны свободной торговли — это зоны изуверского понимания народного счастья.
Сегодня на вопрос, смогла ли Советская Армия сберечь драгоценные традиции русского воинства, ответ однозначен: традиции, несмотря на опустошительные годы репрессий и расстрелов, несмотря на застой и даже вопреки ему, сохранены и закалены, тому порукой, говоря словами Пушкина, — «боевое повиновение», проявленное в афганских горах и при смертоносных реакторах Чернобыля. Потому при разборе и публикации гулаговских дел народная армия и флот, надеемся, не останутся в стороне, проявят такую же высокую гражданскую доблесть и чистоту. Помним ли мы о том, что наемная армия — верный признак распада общества, даже если у этого общества компьютерами будут снабжены санузлы?
Офицерские собрания могут создать только сами офицеры. Если они будут ждать указки сверху, то это уже не будет подлинно офицерское собрание, а очередное полуказенное мероприятие. Без офицерской духовно-нравственной самодеятельности армия не живет.
Почему театр у нас омертвел и вряд ли кому-то удастся в обозримом будущем его гальванизировать? Да потому, что театр цвел, пока его подпитывали чистыми ключами тысячи самодеятельных кружков на просторах страны. Без любительства он замкнулся, профессионализировался и иссох. Узкая специализация есть неотвратимый эволюционный тупик. То же произошло с нашим спортом. Без миллионов мальчишек, самозабвенно гоняющих мяч или шайбу по дворам и пустырям, спорт не живет. До революции каждый русский пел три с половиной часа в сутки. В таком поющем обществе не могли не родиться великие поэты-певцы. Теперь человек те же часы не отходит от телевизора. Где тут запеть.
Потому оживить армию и флот могут только сами офицеры, и собравшись без подсказки. А чтобы союз офицерских обществ державы не был обособлен, первой после них свой союз должна создать милиция. В 1988 году погибли 263 милиционера. В память о них, обо всех, погибших на посту, должны милиционеры создать свое общество.
«Ни себе, ни другим не простим нерадения к добру,— говорил первый русский славист И. И. Срезневский. — Память добра защищает от забвения все истинно честное. Правда о зле необходима, но ее одной мало: она еще не влечет к добру, бог весть, истребляет ли и зло. А правдивая память добра... возбуждает соревнование, развивает силы, вызывает на жертвы. Дай нам поболее памяти добра». На Западе бытует старинная народная поговорка: поселись там, где поют. Кто поет, тот плохо не думает. Хорошо пел, а значит, думал веками наш народ. Даже в годы репрессий он все же пел больше, чем в годы застоя,— так еще сильна была перед войной мощь тысячелетней духовной инерции.
На Руси армия в своих высоких деяниях никогда не была силой только вооруженной, но прежде всего и силой культурной, носителем народной нравственности.
Пора собрать первую в своем роде конференцию, где встретятся композиторы, военные музыканты и политработники армии и писатели, чтобы выработать меры по сохранению тысячелетней традиции военной песни и духовой музыки. Это актуально, во-первых, потому, что древнее народное искусство испытывает тяжелые времена под натиском электрических децибел, и, во-вторых, сокращение армии — задача не механическая, а творческая. История напоминает нам, что хорошая армия не громоздкая армия и на поле боя малые войска чаще разбивали превосходящие по численности силы.
Победа приходит к тому, кто кроме совершенного оружия бросает на чашу весов умную организацию, т. е. военную культуру и дух, который внешне проявляет себя в песне и музыке. Сокращая армию, мы должны одновременно усилить культуру в войсках. Если армия и впредь будет экономить на культуре, она вряд ли справится с негативными явлениями в ней. Наша история дает впечатляющие примеры роли музыки в жизни армии и народа.
Ничто не придает нашей армии столько одухотворяющей силы, как песня и труба. Под звуки боевых труб и звон колоколов осенью 1380 года тремя колоннами из трех ворот Кремля вышла рать «за всю землю русскую на острые копья». На месте молебна — клятвы воинов — будет воздвигнут храм всех святых на Кулишках в память не вернувшихся с Куликова поля.
Через два года со стен Кремля ударят по орде Тохтамыша первые пушки и возвестят о рождении русской артиллерии.
Еще прибавьте сто лет, точнее, в 1479 году на открытии главного храма страны — Успенского собора, посвященного единству всех русских земель, грянул хор государственных певчих дьяков.
Тогда же из Кремля навсегда выбросили торг, и грозная твердыня, очистившись, была осветлена и озвучена и еще более стала походить на витязя в золотом шлеме.
Лгут советологи, которые кричат, что большевики прервали русскую культурную традицию. Даже при тяжких утратах народная армия сберегла традицию и душу. Хор государственных певчих дьяков поет и сейчас в Ленинграде. Он ни на один день не прервал пения и уже пятьсот лет озвучивает переломные вехи русской истории. Теперь это Ленинградская государственная академическая капелла, бывшая императорская. Глава американских советологов Р. Пайпс везде кричит, что у русских не держатся традиции. Напомним ему. Когда родились США, лучший в мире хор (а таковым он будет признан многократно) уже пел триста лет. Хор этот сопровождал русские войска во всех больших походах. Он родоначальник кантов — русских бытовых многоголосых песен, которые станут русскими военными строевыми песнями.
Иван Грозный страстно увлекался пением. Сам сочинял музыку для хора, а фальшивящих певцов колотил высочайшей тростью. Петр самозабвенно пел в этом хоре басом, а на парадах никому не уступал в юности места барабанщика. Этот же хор будет петь на торжествах в честь взятия Суворовым Измаила. Суворов скажет свое знаменитое: «Музыка удваивает, утраивает армию, с распущенными знаменами и громогласной музыкой взял я Измаил».
Чем сильнее и глубже историческая память, тем крепче связь армии с народом. Духовая музыка сопровождала все Октябрьские дни. Зримо это было явлено, когда в гранатный цех завода Михельсона в апреле 1918 года под звуки военной музыки вошли солдаты, чтобы принять первую присягу на верность революции. Ленин стал в первую шеренгу красноармейцев и произнес клятву со всеми. Потом он призвал в речи воинов и рабочих к железному революционному порядку и бдительности, напомнив, что, пока труженик занят перестройкой жизни и делает революцию, буржуазия всегда крадется к власти.
Духовая музыка сродни революционному пафосу, опа тяготеет к героико-эпическому складу и народна по своей первооснове. Не зря Иммануил Кант, величайший в мире знаток эстетики, любой музыке предпочитал духовую. Он знал, что духовая музыка, даже если захотеть, не может быть упаднической.
К чести армии и флота надо сказать, что в наше время, когда в основном в моде музыка для спинного мозга, только армия верна древней народной традиции духового оркестра и хора. Для военных оркестров писали Козловский, Бортнянский и Глинка, офицер-преображенец Мусоргский, майор Лядов, генерал Кюи, генералы Титовы, поручик сапер Мясковский, а капитан-лейтенант Римский-Корсаков десять лет руководил всеми духовыми оркестрами русского военно-морского флота. Нет, не прерывалась традиция отечественная, когда армия выступает как сила культурная!
19 марта 1814 года духовой оркестр Рязанского мушкетерского полка на господствующем над Парижем холме Монмартра взобрался на чердак ветряной мельницы, и грянул оттуда русский марш. Быть может, и прав был Наполеон, когда сказал, что русские побеждают благодаря своей превосходной музыке. На Париж были уже нацелены 84 русские пушки с высот Монмартра.. Но на оркестр Рязанского полка откликнулись вдруг оркестры всех других русских полков, и Монмартр, начиненный смертью, запел. Французы посчитали за благо выслать парламентеров, и русские полки торжественно вошли в Париж. В честь этого события сто следующих лет, до марта 1914 года, русские военные оркестры по всей стране, отмечали эту дату на всенародных праздниках. Сводным же оркестром дирижировали великие русские композиторы. Последним был Рахманинов.
В 1867 году на всемирной выставке в Париже оркестр русских кавалергардов попал в число лучших. Через тридцать лет такого же триумфа в столице Франции добился оркестр Преображенского полка. А в 1972 году агентство Франс Пресс сообщило: «Военный оркестр Министерства обороны завоевал Париж, имея в качестве единственного оружия музыкальные инструменты».
Вел это воинское соединение генерал Назаров, который прославился на Курской дуге в качестве командира воздушно-десантного полка. Выпускник консерватории, он добился разрешения оставить руководство оркестром Северо-Западного фронта и уйти в действующую армию после ускоренного курса Академии имени Фрунзе.
В ноябре 1941 года на параде в Москве на заснеженной Красной площади этим же оркестром руководил полковник Агапкин, создатель бессмертного марша «Прощание славянки». Не могут армия и флот жить без песни и музыки. Учреждения, заводы, фабрики, колхозы — словом, все структуры общества могут трудиться без музыки, а вооруженные силы не могут, ибо духовен базовый принцип их жизни.
Маршал Жуков основал в 1944 году институт военных дирижеров. Не было смысла делать из него потом факультет при консерватории — симбиоз довольно-таки нелепый. Несомненно, институт будет восстановлен в наше время оздоровления и перестройки.
Сегодня тысячетрубным оркестром на параде дирижирует генерал-майор Н. Михайлов, а руководимый им показательный оркестр Министерства обороны признан лучшим в мире. Особенно впечатляет, когда гремят четыреста труб сводного оркестра дружественных армий. Тогда музыка Вагнера сменяется «Богатырской симфонией» Бородина, а после «Половецких плясок» звучат «Богатырские ворота» Мусоргского.
Стасов под впечатлением победы оркестра русских кавалергардов в Париже писал: «Военные оркестры — проводники не только одной военной, но и всяческой музыки в массу народную, на улице, в публичном саду, в процессии, в каждом народном или национальном торжестве, кого же народ всегда слышит, как не один военный оркестр, через кого он и знает что-нибудь из музыки, как не через него... их везде много, им стоит только получить приказ, и они отправятся куда угодно». Добавим от себя, что они играют бесплатно, бескорыстно и от всей души, подтверждая свое кровное родство с народом.
И эта традиция пе прервалась. В середине тридцатых мы можем прочесть в статье «Духовики»: «Первые кадры советских духовых музыкантов формируются теперь в условиях Красной Армии, этой не только военной, но и большой культурной силы нашей страны».
Сегодня, когда чужеродное расслабленное бренчание вокально-инструментальных ансамблей уже порядком всем надоело, духовые оркестры вновь начнут набирать силу, ибо музыка, рожденная революцией, тяготеющая к площадям и паркам, народная и здоровая, должна стать музыкальным сопровождением перестройки. В отличие от рок-ансамблей духовиков даже при сильном воображении не представишь в темном подвале. Обратите внимание, когда военный духовой оркестр играет в парке, от него, как от крика петуха, разлетается в стороны все двусмысленное, фирмовое, расслабленное и чужеродное.
Час серебряных труб, воспетых еще в «Слове о полку Игореве», пробьет, и армия внесет еще одну лепту в возрождение народной традиции.
Вся сила армии — в верности родным основам. Как мы видим, память — это сила, и сила необоримая. Композитор М. Ипполитов-Иванов в тридцатые годы писал: «Красная Армия в нашем социалистическом строе является одним из сильнейших двигателей музыкальной культуры среди народных масс... Она может быть названа первым музыкально-подготовительным учреждением для народных масс».
Для того и дана нам «правдивая память добра», чтобы признать за нашей родной армией всенародную школу культуры, собранности, памяти и доблести. Каждый юноша стремится в военное училище, имея в глубинах сердца именно этот образ. Поможем же ему утвердиться в этом идеале, чтобы быть верным памяти интернационального братства по оружию всех народов нашего Отечества. Мы сможем выполнить свой интернациональный долг до конца, только сохранив верность родным традициям. Офицер должен быть хранителем памяти, если хочет, как говорил Суворов, быть «отцом победы», потому что память, говоря словами Мономахова поучения детям, есть «мужеское дело».
Когда-то в конце войны нынешний генерал-майор Н. Михайлов, мальчонкой, не дождавшись с фронта отца, пошел в военно-музыкальное училище. Сейчас, когда в стране миллион сирот, не следует ли при будущем институте военных дирижеров создать военно-музыкальное суворовское училище, набрав в детдомах одаренных ребят? С таким подходом к сокращению армии мы. будем и крепче в военном отношении, и здоровее морально. Дети в армии — это как улыбка войска. Мальчишки облагораживают суровый воинский быт и не дают взрослым коснеть. Дважды боевые оркестры наших войск возвестили о воцарении мира в Европе — весной 1814-го и весной 1945 года. Не пришла ли пора, объединив две эти весны, восстановить фестивали военно-духовой музыки, чтобы наши юноши помнили, говоря словами из «Марша Преображенского полка», музыку которого когда-то отбивали куранты Спасской башни: «Славны были наши деды!» К этому зовет нас «правдивая память добра», а истинно доброе парод и его армия запечатлевают в музыке и песне. Если еще звучит духовой оркестр и слышна хоровая песня на просторах страны, то обязаны мы этим сегодня в основном нашей армии и флоту.
Сходные идеи, видимо, пришли в голову и национальным наставникам, и простым людям Запада. Иначе чем объяснить, что сегодня на Западе и в Америке военная тема становится самой модной и захватила уже университетские городки Соединенных Штатов. Если пять лет назад никто не хотел видеть офицеров в университетских стенах, то теперь все колледжи наперебой требуют лекции по военной истории. Офицер стал вновь одной из самых чтимых национальных фигур, ибо в век кооперативов, трестов и коррупции только армия верна древнему идеализму. Наша печать так торопливо стала пачкать армию, как будто боялась, как бы эта мода «на военных», не дай бог, не пришла бы к нам.
Поэт князь Петр Вяземский, участник Бородинского боя, ближайший друг А. С. Пушкина, говорил, что политический облик позднего Пушкина можно определить наиболее полно как «свободный консерватор». «Свободный» — несет в себе пытливую и строгую готовность к свежим веяниям и переменам; «консерватор» — благородную верность родным устоям и Отечеству.
«Консерватор» — значит хранитель. Сегодня, думаю, пробил его час, когда нужно хранить устои, реки, леса, почву, озонный слой, семью и мир. «Свободный консерватор» — всегда «ревнитель» отечественной славы, но, главное, «свободный консерватор» всегда, как сказал офицер Лермонтов, «невольник чести», это пушкинский завет. Все утверждения этой статьи повисли бы в воздухе или были бы благими мечтаниями, оторванными от пота, крови, усталости, утрат армейской жизни, от суровой были афганских гор, если бы наш офицерский корпус за Гиндукушем утратил бы пушкинский завет. Но то, что произошло там в октябре 1988 года, напоминает чудо, которое способно обновить всю страну. Тысячи солдат отказались демобилизоваться до полного вывода наших войск. Отказались, чтобы уберечь от смерти и ран новобранцев.
Этот отеческий поступок двадцатилетних юношей невыразимо прекрасен. Во времена Александра Невского семьсот всадников (около нынешнего батальона солдат) считались большой княжеской дружиной. А тут много тысяч обстрелянных юношей. Становится стыдно за все плохие слова об армии, за те статьи и передачи, где не смогли увидеть света, который всегда хранил в себе офицерский корпус. К перевалу Саланг «афганскую» рать повели уже эти «невольники чести». Присутствие «октябрьских добровольцев» подняло нравственную шкалу всей армии, которой может гордиться страна. Теперь уже общество должно стремиться стать вровень с армией, ибо такую победоносную армию не видело даже наше государство за тысячу лет кровавого противостояния. Это не солдаты Альпийского похода Суворова, которые служили по 25 лет и были отборными профессионалами с единой верой. Это и не солдаты Жукова после поверженного Берлина. Тогда воевала вся страна, а на миру, говорят, и смерть красна. Такой тяжелой доли не выпадало нашему войску. И вдруг перед лицом почти равнодушного тыла, который заходится в наркотическом сладострастии от разоблачений, тыла, занятого импортом и дефицитом, «русские мальчики» вновь вернули нам «свет русского товарищества», о котором пророчествовал Тарас Бульба вопреки «мышиной натуре» (его же слова) модных поэтов, баловней застоя, которые впервые в нашей истории были не с действующей армией, а срывали хлопки за океаном.
Эти тысячи добровольцев, заслонивших «други своя», поставили всех «афганцев» в рамки старинной отечественной традиции, ибо в нашей истории после «кавказцев» Ермолова будут «болгары» Скобелева, потом «туркестанцы», а теперь в этот ряд воинов, сражавшихся всегда на рубежах нашего Отечества, вошли «афганцы».
Только политические пошляки могут сравнивать Афганистан с Вьетнамом. Даже наши злейшие враги в конце концов признавали прогрессивными действия России на своих южных рубежах, тысячу лет бывших источниками нашествий для нее. Вовсе не случайно именно по этим рубежам выросли казачьи линии, а сейчас расположены основные военные округа. Эти тысячи солдат, отказавшиеся демобилизоваться, и есть носители культуры, выше которой не знает пока земля. Так армия и культура слились на наших глазах, дав всем нам надежду на преображение.
Ни одна страна не дала бы забыть имен добровольцев Октября. Они были бы сведены в отдельное почетное соединение резервистов и заслужили бы чести пройти по Красной площади, как того требует отечественная традиция. Этой же награды заслуживают все офицеры-«афганцы», судьбой и присягой не помышлявшие о демобилизации, те, кто под пулями берег наших мальчиков, кто хранил традиции и сделал возможным поступок «октябрьских добровольцев».
По старым неписаным нормам воюющая страна дает всему миру как бы отчет и проходит экзамен, как она жила до первых выстрелов. Не скрывая ни одного недостатка, промаха и потери, мы можем высказать, что давно знают недруги: такой армии нет ни у кого. Во всех штабах мира знают, хоть и не трубят об этом, что сила армии при прочих равных условиях зависит от того, сколько идеализма в офицерском корпусе. Эта категория для многих наших печатных органов, увы, уже непостижима, и потому они заслуживают жалости. Присутствие наемников в армии, составленной из «профи», — вернейший признак необратимого распада и нечто противоположное идеализму и подвижничеству и, стало быть, подлинной культуре.
Когда Гоголь пророчествовал о явлении на Руси мужчин пушкииского светоносного типа, он имел в виду верных родине «свободных консерваторов», ибо за ними будущее, а не за леваками в импорте, которые перемигиваются с нездоровой частью Запада, мечтающей о «разгосударствлении» наших тысячелетних устоев. Сегодня, несмотря на социальную незащищенность, на тяготы жизни, переезды, к пушкинскому идеализму из всех категорий граждан ближе всех те, кто носит форму, те, кому «за державу обидно», — это прежде всего наш офицерский корпус, гарант мирной созидательной перестройки, которую ведет партия.
На протяжении всех этих записок Пушкин был нашим спутником, учителем и мерой, тот Пушкин, который начал с разрушительной западной вольтерьянской заразы, а кончил глубоким принятием всех родных основ православной культуры и погиб, защищая эти устои. Потому сегодня он наш эталон. Автор в этой связи относит и себя к разряду «свободных консерваторов» и гордится причастностью к этой пушкинской политической традиции. Пушкинский дух должен быть вновь, как при жизни поэта, прийти в офицерские общества и в офицерские семьи. Какой род войск первым создаст общество офицеров, тот первым возложит венок к памятнику Пушкину в Москве.
Будущее за «свободными консерваторами». И пусть каждый род войск в память о национальном гении создаст свой войсковой лицей, помимо суворовских училищ, которые должны иметь при себе все высшие военные училища. Ибо горе народу, который забывает, что в России де было и нет звания выше офицерского.
Народная душа таинственно и неожиданно проявляет себя, вобрав опыт тысячелетий, и чаще всего на переломе времен, как на древнем распутье дорог, голос этот звучит
в раздумьях молодых ратников. Пришло письмо как-то из Афганистана исполнительнице «Слова о полку Игоревен на древнерусском языке Юлии Малышевой от солдата О. Г. Щербинина. Когда войско углубилось в другие пределы, он вспомнил невольно другой поход: «Когда за спиной Буг и удалялся разрезающий вечернюю темноту штык на холме мемориала Брестской крепости, в памяти отдается грустью древнерусское: «О, Русская земле, уже за шеломенем еси».
А здесь, за Гиндукушем, в поле дальнем, но незнаемом, эта тема еще ближе. «Ночь грозою стонала, темная, птицы, звери всполошилися. А поверх дерев — неистовый кличет Див, велит прислушаться землям дальним и незнаемым»...
А ведь это про нас! Здесь большие белокрылые орлы, которые порой мешают летать вертолетам, а вороны — громадные, черные, им, может быть, по триста лет, в России таких не увидишь. А душманы «непроезженными тропами» пытаются отбросить вспять Историю... «И течет печаль глубокая по Руси рекой обильной». Я пытался прочитать «Слово» в подлиннике, но это оказалось мне не под силу. А «Слово о полку Игореве» должно быть таким, как оно есть. Оно должно звучать на старорусском языке, без знания которого ни один человек не может считать себя вполне образованным. А более всего это относится к офицерскому корпусу, из среды которого родилось когда-то «Слово о полку Игореве». Первый курс любого военного училища должен начинаться с этой великой воинской песни и звучать на старорусском языке, которому надлежит быть в учебной программе. Дореволюционные военные училища так и не доросли до истинного понимания родных традиций. Эта задача нашего времени, без решения которой вся перестройка в армии будет очередной казенной кампанией.
Япония свое промышленное тотальное наступление начала не с технологии, а с японского языка и «японизма». Если, к примеру, военные кружки наших воздушно-десантных войск начнут офицерские собрания с чтения «Слова» на старорусском языке, а затем одновременно с этим изучение истории государства Российского, да с непременным внедрением в строй старинных солдатских песен и изучением традиций русской офицерской этики, то можно быть уверенным, что неуставная нечисть исчезнет как дым. Ни в одной армии нет института политруков. Возможности этого института безмерны, если зачинщиками всех новых начинаний будут политруки. «Слово о полку Игореве» обладает мощным и обновляющим духовным потенциалом, ибо эта песня — святыня сразу трех братских народов: русского, белорусского и украинского. Эта песня — завет первых правороссов времен киевского единства. Пробил час нового единения, час «русского товарищества», о котором пророчествовал неукротимый и благородный полковник Тарас Бульба.aa
Предестинация
Похвальное слово российскому флоту
Россия же уже теперь, может быть, сильнейшая держава среди всех прочие, в лоне своем скрывает небывалые возможности развития своей интенсивной природы.
ГегельОчерк этот начат в Приморье, на острове Попова, в синем заливе Петра Великого, был продолжен в устьях Днепра, Буга и Дона и закончен на Колыме и Лене, в бухте Тикси, под многодневный вой пурги, где за порогом протяни руку — и не увидишь пальцев в гудящей тьме. Написаны записки быстро, на исходе зимы, когда с первым полярным солнцем оживают люди и тундра. Точка поставлена в Москве, куда теперь ведут реки не только пяти морей (первая навигацкая школа в России должна была возникнуть именно в Москве — в 1701 году). Но мысли, изложенные здесь, зародились в глубине континента, на великой Сибирской равнине, где в тридцати верстах от Новосибирска сосновым бором укрыт Академгородок. Многие его жители, как и обитатели других новых сибирских городов вроде Дивногорска, Братска, Мирного, поселков на трассе БАМа, просторах нефтяной Тюмени, родились и выросли за пределами Сибири. Чтобы человек связал судьбу с новым краем, пустил здесь корни, он должен осознать себя и свой путь. Записки эти и возникли от естественного вопроса: почему я в Сибири? Случайная ли я песчинка или часть некоего исторического движения? Если последнее, то когда зародилось это движение и куда мы держим путь?
Где наши пределы, грани и межи? Что нам нужно в дороге? Мне очень было важно найти ответ на эти вопросы, чтобы рассказать об этом другим. «Традиция» в переводе с латыни означает простое и глубокое слово «передача». Если я не передам завета отца, моя жизнь на земле, даже с самым длинным рублем, лучшей машиной, дефицитом, престижем и прочим мещанским набором и без него, будет пустоцветом. Не передал — значит, не жил, значит, ты не звено, не боец, а обрыв в цепи — пустота, бездна...
Перерыл не одну библиотеку, пытал археологов, историков, географов Академгородка. Но — один специалист по старообрядческим скитам, другой — по каменному веку, третий, кроме гражданской войны, ни о чем слышать не хотел. Наконец сообразил, что ученая книжность важна, но она не животворит, в ней нет дыхания дороги. Махнул на все рукой и отправился в путь. Спустился по Лене от истока до устья. Затем от мыса Шмидта на Ледовитом океане пересек Чукотку и вышел к заливу Креста уже на Тихом океане. Охотским морем, самым суровым на земле, ошвартовался в бухте Золотой Рог во Владивостоке. Какая старинная босфорская мечта воплотилась в названии, которое пленяло воображение славян в пору утра их истории! Золотой Рог. Мраморное море. Царьград... Прошли бухту Святой Ольги, затем остров Русский, залив Аскольда, острова Римского-Корсакова (брата композитора)... Тысячу лет живут в русском сердце звон весел и плеск воды у стен Царьграда. Так добрался я до венца своих желаний — заповедника «Кедровая падь», что шумит своими третичными лесами на широте Ниццы и Марселя.
За плечами остались тропы Саян и Алтая, огни створов на Амуре и Енисее. Десять лег год за годом ходил я путями гулящих людей Руси. Почти все старые города Сибири выросли из острогов. В богатырской кладке могучих лиственничных плах и сегодня просматривается облик исконно русских домов, с их укорененностью, надежностью. Ставились они навечно. Но самое поразительное — это всегда одинаковый выбор места. На Дунае ли, Лене, Оби, Яике, Колыме, Дону, Днепре, малых ли реках — везде заметно стремление поставить твердыню именно в устье и стоять здесь насмерть. Петр воздвигнет в устье Невы Петербург, капитан Невельской на другом океане, в устье Амура, — Николаевск-на-Амуре, Северную Двину ранее замкнет Архангельск.
Преградить проход вовнутрь Отчизны. Осознать эту величайшую тайну помог мне одинокий егерь в устье небольшой речки Кедровки...
Предосенней порой, когда стихают паводки и убывает вода, речка Кедровка становится прозрачна, как горные ключи. Из мировых пучин на родину, к истокам возвращается сима. Вода «закипает». Рыба идет стеной, стремится вверх против течения. Обдирая бока, прыгая через порожки, подталкивая друг друга, рыбины спешат, подчиняясь властному зову, навстречу неминуемой гибели. Почему же столько ликующей стремительности в их порыве, если гибель неизбежна? «Инстинкт размножения», — сухо заметит биолог. «Умрут, чтобы дать жизнь другим», — скажет неспециалист. «Не воскреснет, аще не умрет», — поведали бы в старину.
Не будем спешить с ответом. Мы присутствуем при непостижимом таинстве жизни. Есть что-то волнующее в этом акте жертвенного долга. Проследим за брачной парой. Вот на каменистом темном ложе дна речки уже светлеет в струях пятно. Это самка выбила натер. Колыбель для икры готова. Ямка наполняется янтарными зернами. Самке осталось жить мгновения, скоро ее мертвое туловище унесет течением к морю. Самец оплодотворил икру, но продолжает стоять над натером. Миссия «мужчины» еще не кончилась. Он отгоняет врагов, готовых накинуться на потомство. Устрашающий брачный наряд поможет ему. Все трудней и трудней бороться с течением, но глядеть надо в оба. Покидают последние силы, только бы еще немного продержаться над беззащитным потомством... Самец умирает. Некогда сильное тело уносит волна, оно застревает на мелководье между корягами. Над ним уже кружатся грифы — крылатые «санитары».
Но что это? Почему среди злейших его врагов, атакующих икру, — бокоплавов, мальмы, раков, — мелькает проворная маленькая рыбка, так разительно похожая на взрослую симу? Не удивляйтесь! Это действительно сима, но только не «вышедшая в люди».
Весной не все мальки уходят в океан. Многие не добираются до залива и остаются навсегда в Кедровке. Пеструшка (так называют этих рыбешек местные жители, должно быть, за узорчатость чешуи) не способна к размножению, хотя ей и не чужды брачные игры. Сделав их бесплодными, природа лишила их смысла жизни и, значит, отказала несчастным в самом главном — умереть над потомством. Пеструшке ничего не остается, как «прожигать жизнь» в пресноводье. В осенние дни, когда из океана возвращаются на родину в торжественном брачном наряде родные братья и сестры, она вместе с другими речными «хулиганами» жадно набрасывается на икру. Что это? Безумство «не помнящих родства»? Месть неудачников? Или жадность потребителя?
Не познав крещения в соленой купели океана, не изведав глубин и страстей больших дорог, не заглянув смерти в глаза, лишенная памяти пеструшка стала врагом собственного вида.
...Речка в эти осенние дни бурлит от обилия рыбы. Кажется, воткни лопату — и она не упадет, так тесно в иных местах, и потому пятеро здоровых парней работали увлеченно.
Они не суетились, не озирались воровски. Пятеро могут постоять за себя. Их много, и это придавало им храбрости. А сима все шла и шла, только бей — не мешкай. Один орудовал острогой, другой — крючком маре, лов которым строго запрещен всюду в Приморье, третий собирал рыбу. Но алчности потребителя не до запретов. Деньги прямо под ногами, успевай только нагибаться. Вот окровавленная сима описывает в воздухе дугу и шлепается на берег, норовя соскользнуть в воду. Сверкнул нож, и она уже повисла с распоротым брюхом над ведром. Икра вынута, и выпотрошенная рыба летит в кусты.
Из чащи не спеша вышел человек, в руках — опущенная дулами вниз двустволка. Может быть, ему следовало бы позвать кого-нибудь на помощь. Неподалеку усадьба заповедника. Но он подходил все ближе и ближе. Человек этот знал, что его ненавидят давно все браконьеры округи. Не раз уж слышал за спиной угрозы. Иные только и ждали случая расквитаться без свидетелей.
— Следуйте за мной в заповедник, — сказал он негромко, но внятно.
Пятеро разом вскинули головы, и лесник увидел на их лицах знакомое выражение: злобное, непрощающее. Послышались сдавленные ругательства:
— Смотри, как бы мы тебя не повели куда-нибудь. Проваливай, пока цел!
— Следуйте за мной, — повторил он твердо.
Они переглянулись, тот, что постарше, двинулся с ножом в его сторону. Ружье чуть дернулось, грянул выстрел. Земля взметнулась у самых ног вожака. Он остановился, замерли в нерешительности и его дружки.
И тут послышался гул мотора. Недалеко по лесной дороге шел грузовик. Тот, что с ружьем, воспользовался замешательством парней, выбежал на косогор и выстрелил в воздух, стараясь привлечь внимание. Он видел, что шофер и сидящий рядом с ним завхоз заповедника приметили его, но не остановились. Егерь вернулся к браконьерам. Повелительно и спокойно повторил приказ.
Теперь они стояли друг перед другом и думали, кажется, об одном и том же: «один против пятерых, и нет патронов», «пятеро против одного, и ружье не заряжено»...
Такое соотношение может окрылить даже безнадежного труса.
Они бросились на него и стали избивать, пока он не лишился чувств. Но им и этого показалось мало. Пятеро потащили его к речке и сунули головой в воду. Егерь еще слабо сопротивлялся. Тогда, скрутив ему руки, парни стали яростно топить его, придерживая голову под водой. Он долго еще бился в их руках. Но силы постепенно покидали, движения становились слабее, и вот, казалось, безжизненное тело поволокло течением, переворачивая и ударяя о камни.
Вода вынесла его на мелководье и долго била о берег. Он зашевелился и медленно выполз на берег. Перед глазами все плыло. Ухватившись за ближайший куст, стал приподниматься. От дерева к дереву, то падая, то хватаясь за стволы, двинулся в сторону усадьбы. Приступы тошноты, казалось, ломали пополам.
Вот и усадьба, знакомый грузовик. В кабине все тот же завхоз — из местных, деревенских; он же исполнял должность начальника охраны заповедника. Когда лесник сказал ему о том, что надо бы задержать браконьеров, тот хитровато переглянулся с шофером, который был по обыкновению навеселе, и оба издевательски захохотали. Машина тронулась и покатила прочь...
Стоим с Михаилом Федоровичем Парасичем на том же месте, где когда-то браконьеры топили его. Он невысокого роста, средних лет, сероглаз. Лицо простое, без особых примет. Только малословен и самоуглублен, как человек, привыкший к одиночеству в лесу.
— Что стало с теми браконьерами?
Парасич лишь махнул в досаде рукой...
Океанская судьба симы и безродная жадность пеструшки, убийцы собственного рода, завладели с той поры моим сознанием. Я был обязан додумать о событиях в устье Кедровки, мне казалось, что в поединке егеря и в предсмертной страже симы над потомством заключен некий вещий смысл и неведомый мне императив. Лесная драма — короткий эпизод извечной войны между созидающим и присваивающим, творящим и разрушающим. Каждый из нас рождается, чтобы сделать выбор между силами добра и зла. Я долго думал о смысле дозора Парасича и о его исторических предшественниках в устьях других российских рек.
Одинокий егерь воплотил в себе некие начала, разгадка которых сулила прикосновение к тайне родной истории. В голове проносились слова как символы: устье... охрана... дорога... море... Родина... Почему все казачьи войска названы по рекам: Донские... Запорожские... Терские... Яицкие... Кубанские... Амурские?.. Что толкает нас сюда?
Еще в Новосибирске предчувствовал, что рано или поздно размышления о русской дороге приведут меня на Дунай, Днепр, Дон... Меня тянуло в тот край, где длинным мечом у Очакова лежит узкая полоска земли — Тендровая коса, возлюбленная казаками. Античные греки называли ее «Дромос ахиллеос», что означает «ахиллесов бег». По преданию, на этой косе герой Троянской войны Ахилл устроил состязание в беге. В том краю, где Эллада соприкасается с Русью, на берегах Русского моря, я думал о начале пути, который ищу.
Устья Дуная, Днепра и Дона при любых нашествиях степных орд всегда оставались суверенной территорией «руського народа», а Сечь и Дон — его полномочными представителями при чрезвычайных обстоятельствах. Исторические судьбы обоих войск оказались неразрывными. И в морских боях, и на суше они были создателями «русского товарищества», о котором пророчествовал на костре полководец Тарас Бульба. Шесть веков, от Батыя до Суворова, они дрались в одиночку у черноморских берегов.
Но, увы, ни в одном черноморском городе вы не найдете памятника казакам...
У народа границы державы нерушимы. Он знает, что невидимые границы — самые крепкие в мире. Народ не уступал устьев и морей ни на один час и ждал Петра. И Петр появился. Здесь нет мистики. Не может народ-моряк тысячу лет владеть устьями и от одного нашествия Батыя забыть их, отдать ордынцам, кстати, испытывавшим к воде отвращение. Не зря Чингисхан ни разу в жизни не мылся...
Известно: в периоды упадка флот утрачивает активные черты. После Петра самые активные черты флот приобрел в пушкинскую пору. Мысль об упадке флота в периоды бездуховности чрезвычайно важна, ибо через нее исторически прослеживается связь молодости общества с морем. Когда Пушкину было четыре года, подняли паруса корабли молодых капитанов Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского — «Надежда» и «Нева». Они ушли в первую кругосветку. За год до дуэли на Черной речке из океана вернулся, обогнув земной шар, двадцать третий русский корабль — то был военный транспорт «Америка». За краткую жизнь поэта двадцать три кругосветки, не считая семи полукругосветных плаваний мимо страшного мыса Горн или мыса Доброй Надежды! И почти всех офицеров Пушкин знал лично. Почти все офицеры, прошедшие океанскую купель, стали адмиралами, и на них будет держаться русская наука, флот, государственность. Океанский воздух ворвется и в коридоры лицея. И Федя Матюшкин станет повторять: «Плыть охота!» С тех пор прозвище «Плыть хочется!» закрепится за будущим адмиралом навсегда...
Целое лето я переходил из одного пионерского лагеря в другой, от одного клуба моряков к другому. Мне очень хотелось знать, как живут ребята — потомки казаков — на берегу Русского моря, в устьях родных рек. О чем спорят, мечтают? Чтут ли традиции родного флота?
С мыслями о море я бродил по улицам Николаева, Херсона, Азова, Ростова-на-Дону, Астрахани, плавал на кораблях клубов юных моряков (КЮМ), выспрашивал, наблюдал, сравнивал. В лагерях были внуки и правнуки тех, кто в двадцатые годы на деньги бедняков-«незаможников» построил эсминец «Незаможник». Найдите в истории еще один подобный случай! То было время, когда уголь доставали даже из трюмов затопленных кораблей, так было «плыть охота!»
Лучшего социального барометра, чем мальчишки, природа не создавала. Скатываются ли неудержимо «мальки» к морю из родных речек пли остаются на мелководье и превращаются в пеструшек, забывших родство? Что предпочитают: мозоли от весел и тельняшки или «импорт» и безродную «фирму»? Вот что было важно узнать мне.
Вид пионерских лагерей на побережье удручал. Щитов наглядной агитации здесь было больше, чем детей. Над взрослыми довлела как будто одна забота — всеми ухищрениями, от речевок до кружков, заставить ребят забыть о близости моря. Разок-другой организованно искупать их по пять минут и больше не думать о манящих водах: не ровен час, еще случится что... Кстати, именно в таких лагерях, где боятся, чаще и случается — потому как мальчишки убегают купаться втихомолку.
В лагере могучего судостроительного завода «Океан» я ждал флагштока, разноцветных цветных вымпелов, морской терминологии, шлюпок, мне чудились трепещущие на ветру ленты бескозырок, бой склянок... Увы, он был так же тесен, разлинован, пестрел от грязных указателей, стендов, да и находился от воды за несколько километров. Главный праздник сезона — неизбежный, плановый «Нептун», одинаково скучный на всех широтах, с неизменным трезубцем, водяными... Впрочем, и остальные праздники идут по «заезженным» сценариям, с избитыми шутками и деланым весельем. Большинство ребят бывают в родном лагере много лет подряд и уезжают отсюда с оскоминой. А тут еще всевозможные комиссии, проверки, гости — только и остается после кино вечером подраться подушками... Ни у одного лагеря на Черноморском побережье нет ни морской выучки, ни флотской стати, опрятности, ни парусов, ни весел. Нет дыхания моря даже в лагере заводов, чьи суда бороздят все широты Мирового океана.
В лагере с морским укладом имени П. Шмидта я встретился с самыми напористыми и развитыми мальчишками. Пришла дюжина парней лет шестнадцати. Я не экзаменовал. Только беседа с наводящими вопросами. Честный разговор. Картина повторилась. Как и во всех предыдущих лагерях, никто не назвал ни одного героя Чесмы, Синопа и Наварина. Ни один не слышал о бое крохотного шестнадцатипушечного брига «Меркурий» с двумя линейными турецкими гигантами — поединке, о котором говорила вся Европа. Перед сражением капитан Козарский сказал тогда команде: «Кто по-русски скроен, тот и один в поле воин!»...
Беседу нашу пришлось мягко закруглить после того, как девятиклассник, который в этом «морском» лагере с первого класса и хочет пойти в мореходку, на вопрос, чем славен остров, находящийся неподалеку (на котором был расстрелян лейтенант Шмидт), ответил: «На этом острове Шмидт с Суворовым от турок отбивались»... А ведь меня в обкоме комсомола напутствовали: «Езжайте в лагерь имени Шмидта, там вся пионерская дружина морская!»
Всюду одна картина. Глаза пятиклассников горят, они жаждут моря и хоть сейчас по вантам. Чудные лица, пытливые, доверчивые. Но как только подростки взрослеют, к классу восьмому, уже кривые ухмылки, расслабленность, полуоткрытые рты, бурсацкий гогот. Столовая не кают-компания. Толкотня, визг, чавканье, затоптанный хлеб. Мужчин почти нет, если не считать физрука и радиста. Морской дружиной крикливо командуют студентки пединститутов...
Флот всегда аккумулировал в себе высшие умственные, материальные и духовные усилия нации. Море любит духовно собранных и учит цельности, такту, любви к природе, «ибо все, как океан, все течет и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается» (Достоевский).
Флот — это еще и высокая культура. Пятьсот клубов юных моряков сегодня лишены этой столбовой флотской традиции, они, по сути, заброшены, забыты, влачат жалкое существование. Время от времени кто-то вспомнит о них и вновь забудет. Они стали как бы отстойниками для списанных с торгового флота неудачников, а порой и просто забулдыг. Чтобы классы не пустовали, стали широко принимать в клубы девчонок.
Как загораются лица ребят, когда к ним приходят военные моряки! Тогда жизнь клубов преображается. Флоту было трудно, и по призыву комсомола к нему на помощь пришли тысячи юношей. Настал черед и Военно-Морского Флота отдать долг обществу, когда уже трудно мальчишкам. Будущие мореплаватели ждут офицеров-наставников, чтобы не прерывалась традиция. Помните нахимовское: «Матросы! Я с юных лет был свидетелем ваших трудов. Я горжусь вами с детства»...
«Предестинация» означает с латыни «предопределение». Так назвал молодой Петр свой первый большой корабль. Он же просил в завещании сохранить для потомства любимый линейный корабль «Ингерманланд», построенный по его собственным чертежам, и при неусыпном бдении. Судно это при его же преемниках сгнило на виду у Адмиралтейства, а позднее было сломано
па дрова. Даже предсмертная просьба царя оказалась бессильна перед слабоумной памятью временщиков. Однако предопределение уже свершилось, и Россия, по словам Пушкина, войдет в Европу, «как спущенный корабль при стуке топора и громе пушек». Мечта Петра воплотилась только в двадцатом веке, когда советский Военно-Морской Флот вышел в Мировой океан. Однако история «Ингерманланда» вечным укором будет звать нас к духовной собранности и исторической зоркости.
«Провалы в исторической памяти, а тем более ее атрофия — страшное бедствие для всякого народа. Из-за них нация, сколь бы могущественной она ни была, духовно беззащитна перед внешними влияниями, подчас враждебными, теряет свое лицо, не дорожит своей культурной самобытностью и в конечном счете обречена на исчезновение». Эти строки взяты из редакционной статьи журнала «Коммунист» № 8 за 1981 год. Это глубокое политическое суждение продолжает живую традицию нашей партии обращаться к народу с крупными общенациональными задачами, тем самым призывая каждого стать вровень с великими целями, усилить в себе державность мышления и поступи.
Ученые все чаще задаются вопросом о глубокой взаимосвязи человека и территории. Зверь охраняет свою территорию и дерется за нее насмерть, потому что она дает ему пищу, а значит, и обеспечивает жизнь. Люди умирают за свою территорию потому, что родные просторы — это свобода, это священные предания, очаги, могилы. Предания донесли до нас молитву двадцатидвухлетнего князя Александра, который уже два года был Невским. Летописи сохранили его страстный шепот перед лицом неумолимо надвигающегося тевтонского клина в день Ледового побоища: «Боже великий и крепкий, основавший землю и положивший пределы народам и повелевший им жить, не преступая в чужую часть! Рассуди меня, господи, с обидящими меня, побори борющихся со мною...» Эту молитву князя-подвижника слово в слово последний раз повторил будущий патриарх Сергий в обращении к русским, украинцам, белорусам и всем православным России 22 июня 1941 года.
Десятки кочевых степных народов, знакомых нам по истории, не потому ли исчезли, что не знали строгой территории, смешались и растворились в других племенах? С ослаблением территориального инстинкта (беззаветной любви к родине) распадается и сообщество, потому как слабеют и распадаются родовые и нравственные связи. В такие периоды хроникеры отмечали упадок нравов и обвиняли своих современников в забвении традиций.
Мы вправе задать себе и другой вопрос, не умаляя ни одной из известных историкам причин упадка древних цивилизаций: не потому ли сошли с исторической сцены культурные народы, что угасал в них становой инстинкт территории, единого отечества, переставший со временем быть для них императивом — одухотворяющей, а значит, и возвышающей силой.
В золотой «век Перикла» в Афинах на несколько десятков тысяч свободных эллинов приходилось полмиллиона метеков, рабов и вольноотпущенников. «Свободнорожденные» были островком в море эллинизированных рабов, выходцев в основном с Востока. При таком соотношении коренного и пришлого населения «век Перикла» не мог не быть только прекрасной предзакатной вспышкой духа Афин...
Рим, куда, увы, и впрямь вели все дороги, через столетия разделит участь Афин. Деньги вольноотпущенников расшатали и снесли строжайшие законы о гражданстве. Так сработали хорошо известные первые «котлы наций» на перекрестках мировых дорог. Нас не заснимает сейчас вопрос, хорошо это или плохо. Для нас важнее знать, что новую эру в Афинах встречали уже не прямые потомки тех, кто сражался под Троей, хотя говорили они на языке классической Греции. По крови, а значит, и по духу уже другой народ принял христианство.
Племена древних славян-охотников, звероловов, земледельцев селились по берегам рек и озер. Реки были первыми и вначале единственными дорогами. Чтобы контролировать их, городки, остроги и погосты ставили па мысах при слиянии рек.
История не знает ни одной великой державы без выходов к морю. Стало быть, без мировых дорог не может быть и мировой державы.
До конца XV века Черное море на европейских картах отмечалось как Русское море, каковым оно и было. Парадокс заключается в том, что именно с XV века, после падения Константинополя, русские стали не только хозяевами, но и грозой этого моря, хотя называлось оно теперь не Русским, а Черным.
Донские и запорожские казаки бросали вызов вооруженной до зубов Османской империи, наводившей ужас на Европу. А тогда Турция и ее крымские и ногайские вассалы были в поре военного расцвета.
На стругах и чайках казаки стали первоклассными моряками, в совершенстве овладели тактикой абордажного боя. Пылали окрестности Гурзуфа, Трапезунда, Стамбула, Варны... За три века до Переяславской рады оформился естественный союз русских и украинцев перед лицом общего врага. Казаки имели в тылу хоть и набиравшую силу, но еще терзаемую то смутами, то войнами Россию. На флангах были стиснуты враждебными им народами. И тем не менее они искали открытого боя. Три столетия длился этот волнующий поединок за выход к морю.
Струг, атакующий галеас, — вот символ этих столетий!
Движение к мировым дорогам не смогло прервать даже татаро-монгольское иго. Эту историческую миссию взял на себя народ, создав «военные демократии» на окраинах, когда границы державы были искусственно отодвинуты от моря. Жаль, но дореволюционные историки «государственной школы» не оценили эту важнейшую страницу в отечественной истории.
Другой отряд казаков и гулящих людей прошел в XVII веке от Урала до Великого океана. Это был мощный стихийный порыв, за которым с трудом поспевало государство. В таком столетии не мог не родиться Петр. Казаки так спешили, будто предчувствовали его рождение. Так наконец возникла территория между двумя океанами, созданная самим народом и достойная его.
Лучшие умы России всегда задумывались над глубокой материнской связью родной почвы и человека, не придавая этим узам мистической таинственности. Достоевский в 1861 году, рассылая подписчикам объявление о выходе своего журнала «Время», прямо писал, обращаясь через будущих читателей ко всей мыслящей России: «Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для всякого плода нужна своя почва и свой климат, свое воспитание». Это не программа национального обособления, а мудрый призыв сбалансировать поток новых идей с самобытным творчеством, ибо развитие есть гибкое и мудрое сочетание изменчивости и постоянства, и перекос в ту или другую сторону приводит к необратимым последствиям. К этому времени Россия прочно вышла на мировые дороги. Достоевский гениально предугадал, что для мировой державы не будет проблемой недостаток новых веяний, идей, контактов, как, впрочем, и чужих товаров. Само ее положение даст ей эти преимущества рано или поздно. На первое место в национальной программе выйдет охрана и развитие родных традиций и устоев.
Во времена Достоевского считалось более надежным отправить груз из Петербурга на Камчатку не по собственной территории, а Мировым океаном. Ни у одного другого народа тема дороги не занимает такого места в литературе, музыке и фольклоре. Вот как Гоголь описывает один из отрезков русской дороги: «И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоялого двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за восемьсот верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещичьи рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батареи, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям, затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца...»
Гоголь не дожил одного года до Крымской войны. Европа уже покрывалась тогда сетью железных дорог. Мы же не имели ни одной железной дороги от столицы к морю. Тысячи, сотни тысяч пудов зерна гнили каждый год в Петербурге и Ревеле только потому, что прибывали туда после того, как замерзали порты. Расхищался, портился, обесценивался не только хлеб на складах...
Крымская война была уже прообразом новых войн —« войн ресурсов. Противники снабжали свои армии по самым дешевым дорогам — морским, широко пользуясь пароходами. Наши дороги от Петербурга, Москвы, Киева, Нижнего Новгорода до Севастополя были забиты реквизованными крестьянскими телегами с продовольствием, фуражом, боеприпасами. Парадокс этой войны заключался в том, что русские, воюя на собственной территории, в большей степени, чем их противники, напоминали армию без тыла.
Дезорганизующая сила бездорожья, помноженная на бюрократизм режима, была столь велика, что тыл объективно выглядел враждебной стороной. Во всяком случае, он способствовал поражению даже в большей степени, чем военные силы врага. Командиры и матросы проявляли чудеса героизма и военного искусства на бастионах, но были беспомощны перед собственным тылом. Только фантастический просчет или глупость противника могли спасти в этой ситуации героическую армию. Османская империя, «больной человек Европы», агонизировала и по части бюрократизма была главным соперником русской монархии в Европе. Неожиданная спасительная глупость могла прийти только от турок. Но на этот раз англичане и французы бдительно следили за своим азиатским союзником. Конец Крымской войны и ее последствия хорошо известны. Если сравнить тылы воевавших европейских стран, то символом этой войны была бы телега, соперничающая с паровозом.
В литературе часто можно встретить такие выражения, как «транспорт носит всеобъемлющий характер» или «дорога — это жизнь» и многие другие. Став стереотипными, они почти не воздействуют на наше сознание, и мы привыкли к ним. В том и коварство штампа, что он убивает глубокий первоначальный смысл значений. По определению Маркса, транспорт является «продолжением процесса обращения и для процесса обращения». Современный экономист отнесет дороги по смыслу к подъездным путям, обозначив их термином «инфраструктура», и будет по-своему прав. Но дороги обладают свойством не вмещаться ни в какие специальные категории, как и сама жизнь. Эти понятия поистине всеобъемлющи.
Быть может, лучше всего смысл и значение дороги могут оценить жители арктических побережий, где поселки и города — это как полустанки и станции на единственной в своем роде дороге, которую именуют кратко — Севморпуть.
Дорога обладает свойством пробуждать пространство, вдыхать в него жизнь и преобразовывать. И наоборот, бездорожье, как известно, застой, а последний — упадок и вырождение.
Люди издревле жили по берегам рек, озер и морей, стояли насмерть у горных переходов, ставили замки на господствующих над дорогами скалах. Защитить дорогу — значит защитить жизнь. Не дать врагу пройти в сердце страны.
Социологи утверждают, что из села, мимо которого проходит хорошая дорога, молодежь не уезжает. Гул трассы как бы дает ощущение сопряженности со страной. Ощущение этой связи — могучий психологический стимул.
В свое время ямские службы по 20—30 дворов на Московском тракте и его ответвлениях стали основой будущих больших и процветающих сел. Когда тракт соединил в середине XVIII века Западную Сибирь с Восточной, население Красноярского уезда увеличилось к концу века в девятнадцать раз!
Россия испокон веку никому в мире не уступала в протяженности озерных и речных дорог. Но к рождению Пушкина в стране не было построено ни одной версты шоссе, хотя восемь великих сухопутных трактов сплетались в древнем сердце страны — Москве. Самый короткий из них — Петербургский — был более 700 верст. Да Литовский — 1664 версты, что шел на Кенигсберг и Варшаву и далее в Западную Европу. Астраханский через Тамбов в Царицын набирал больше 1000 верст, и Архангельский переваливал за тысячу... Восемь напряженных трасс державы, и среди них самая длинная и суровая дорога — Сибирский тракт, шедший через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург...
Каждая дорога — свой мир, свои предания, порядки, ухабы. Но все ж любимые дороги России — это речные дороги. То не отсталость, а особенность уклада. Предки наши искусно приноравливались к ландшафту, климату, свойствам родной земли. Они шли от здравого смысла. Выгодность речных дорог была столь очевидна, что в старину не находили иного объяснения этому подарку судьбы как только дару небес — отсюда и единодушная убежденность: реки — божьи дороги.
А что же сегодня? На этой же земле мы порой аукаем в трех соснах, как только утрачиваем тот самый здравый смысл. Судите сами, производительность одной лошадиной силы на Волге выше, чем на рядом идущих рельсовых путях. Думаете, на сколько? Для сухих грузов в 10 раз, нефтяных — в 24 раза! Таким образом, себестоимость перевозок у волжских речников в два с половиной раза ниже, чем у местных железнодорожников. И при этом используем наш «дар небес» лишь на четверть?! А все потому, что плохо знаем свои возможности, вертим головой в сторону соседей да больше глаголем о своих недостатках, забыв, что одарены достоинствами, коих нет ни у кого. Да к тому же как только ведомственность заизвесткует мозги, так сразу же у нас появляется «водобоязнь». А ведь в период великих перестроек и сдвигов народ всегда поворачивался «лицом к воде».
Я уже говорил, что только гигантских трактов было восемь в державе. Но три четверти грузов двигались по необъятным просторам России водой — расшивы, насады, паузки, ладьи, дощаники, коломейки, межеумки, барки и каюки, под парусами из рогожи и на веслах, с каютами, рубками и без них, наполненные солью, железом, дровами, пшеницей, рыбой... Для каждого груза свой тип судна.
Только на Волге и Каме было шестнадцать типов судов — по течению — сплавные, против течения — гребные, плоскодонные и килевые. Все они снимались с якорей по высокой весенней воде, двигались по большим и малым рекам под протяжные мужские песни. Во времена Карамзина тридцать тысяч топоров звенело на Руси у водоемов, озер и рек — то трудились артели речных судостроителей. Типичная средняя артель — дюжина крестьян из разных селений, дюжина мастеров на все руки. И эта интересная, деятельная и богатая страница русской жизни, увы, тоже прошла мимо нашей литературы. На мой взгляд, это невосполнимая потеря, так как нигде в мире ничего подобного не было. Артели работали настолько споро и качественно, что даже Адмиралтейство считало возможным заказывать им небольшие военные суда. Только для постройки одного военного катера нанимали шестьдесят пять плотников, двух столяров, четырех кузнецов и столько же конопатчиков. Главным судном на Неве и Волге была барка. После разгрузки тянуть ее обратно вверх по течению бурлаками или лошадьми считалось накладно. Она продавалась на дрова или на стройматериалы. Сенат поощрял льготами тех, кто тянул барки обратно. Правительство всеми средствами боролось против «топорного теса» и толкало на создание пильных мельниц. Дорогой корабельный лес сводился хищнически, гибли коренные породы. От лесов оставался один никому не нужный, разве что для топки, березняк.
Против «топорного теса» издавались непрерывно указы, накладывались большие штрафы, пошлины. Главным районом речного судостроения была Верхняя Волга. Судостроение являлось основным делом всей Тверской губернии с центром в Осташкове. На разных участках одной реки можно было увидеть несколько типов судов. И все это — со смыслом, выгодой, разумением.
В верховьях Днепра, от Дорогобужа до Орши, ходили небольшие лайбы. Между Оршей и Смоленском — берлины. В нижнем течении — байдаки, родственные северным баркам. Ближе к морю — бриги и шхуны.
На Днепре самые крупные гончаки брали на борт до пятидесяти пудов груза. Они были прочной постройки, служили до двадцати лет. Разве что паруса да канаты меняли через пять лет. В одном Нижнем Новгороде — «внутреннем Российского государства порту» — работали четыре канатные фабрики. Они снабжали Петербургское и Казанское адмиралтейства.
В Рыбинске в начале XIX века в первые месяцы навигации скапливалось до пяти тысяч судов! Одних бурлаков останавливалось до ста шестидесяти тысяч! Прибавьте к этому водоливов, кормщиков, гребцов да на каждое судно по два лоцмана. Море людей, грузов, судов... Крики, песни, говор у причалов соединялись в многоцветную и полную энергии жизнь. Только в Москву в 1813 году после пожара и наполеоновского разорения поступило двадцать пять тысяч пудов соленой рыбы, девять тысяч пудов свежей и три тысячи пудов паюсной икры с Нижней Волги.
Когда Радищев проезжал из Петербурга в Москву, Вышний Волочек был одним из самых замечательных мест во всей Европе. Каждую навигацию тогда через город проходило пять тысяч судов. Здесь жило постоянно около полтысячи лоцманов, по-старому — вожей. Народ грамотный, с норовом. Вышневолоцкие лоцманы славились независимостью и даже, как тогда говорили, «непорядочным бесстрашием», то есть ухарством, чего никогда не приписывали лоцманам Сухоны.
Присяжные лоцманы освобождались от рекрутской повинности. Денег они получали в три раза больше бурлаков и водоливов. Вожи знали каждую струйку реки, все камни, мели, весенний и осенний ход воды. Попробуй проведи через пороги тридцатисаженную белену да не посади на мель вместе с семьюдесятью тысячами досок. Еще Петр передал вышневолоцкие шлюзы во владение и содержание новгородскому купцу и выдающемуся гидротехнику-самоучке М. И. Сердюкову.
Реки вообще дали много талантов. Особенно отличались военные инженеры. Екатерина велела создать к существующим инженерным, кадетским и артиллерийским корпусам еще один корпус — гидравлический. Самым прославленным «директором водных коммуникаций» был генерал Я. Е. Сиверс. Он набрал дельных офицеров и поставил их «командирами порогов». Петр заложил основание правильной эксплуатации водных путей. Он сам сделал съемку берегов Дона от верховьев до Азова, знал реки как никто в стране. Иван Кириллов, выходец из народа, станет при Петре обер-секретарем сената, а после его смерти главным двигателем Великой северной экспедиции, которая будет работать па всех побережьях и реках Сибири, где военные моряки сделают, быть может, самый свой великий вклад в создание державы. Иван Кириллов основал на реке Урал город Оренбург. Он же «своим коштом» издал первый том «Атласа Всероссийской империи» и написал в 1727 году книгу «Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и оставил неизреченными трудами Петр Великий, отец отечества». Заслуги Кириллова еще не оценены по достоинству. И таким несть числа.
Когда моряк Федор Соймонов в 1759 году управлял Сибирью, Ломоносов уже вынашивал главную идею жизни: о проходе «Сибирским океаном» из Белого моря в Тихий океан, он же составил программу экономико-географического обследования России. В этой программе было тридцать вопросов, и треть из них посвящена изучению рек.
Только окинув взором реки и озера России, храмы на их излучинах и берегах, начинаешь догадываться, почему народ после Христа и Богоматери самым чтимым героем своим сделал святителя Николая. И доселе над этой загадкой бьется немало ученых. А разгадка — в укладе русской жизни и в русской душе, в чаяниях народа-моряка.
Летом 1789 года Потемкин велел «именовать нововозводимую верфь в Ингуле — город Николаев» в честь святого Николая, в день которого пал Очаков. Памятью Очакова Потемкин дорожил, ибо за него он получил долгожданного Георгия I степени. За все предшествующие войны только двадцать пять человек удостоились этой
степени, в числе коих: Румянцев, Суворов, Ушаков, Кутузов... И все-таки это не вся правда. Потемкин, вспомнив Николая угодника, обращался прежде всего к народу. Николай угодник был в числе народных любимцев. Тайну его популярности не могли объяснить ни церковники, ни государственные историки, ибо летописи о нем молчали, а государственных декретов на сей счет не было. И в самом деле, один из главнейших святых па Руси, а жил где-то за морем. Похоронен не то в Италии, не то в Испании... На Руси и вовсе не бывал. Происхождения неизвестного. А народ чтит. В чем же тут дело?
Святой Николай — покровитель путешествующих и плавающих. Вот где тайна всенародной привязанности к нему. Он же и покровитель плотников, тех, кто строил избы, храмы, корабли. Народ, освоивший, заселивший и поднявший одну шестую часть суши, всегда находился в пути. Просторы были таковыми, что, выйдя за околицу своего села и направляясь к ближайшему городу, человек уже становится «плавающим» или «путешествующим» — так обширна была искони родная земля.
Моряк не зря стал символом революции, как и корабль «Аврора». В 1918 году, когда создавалась Красная Армия, партия требовала в каждый новый воинский эшелон добровольцев из тысячи человек «в целях спайки снарядить по взводу товарищей-моряков». Моряки стали всенародными любимцами еще в Крымскую войну и даже ранее, когда под предводительством Ушакова штурмовали неприятельские крепости. Суворов как-то воскликнул: «Зачем не был я при Корфу хотя мичманом!» А разве померкнет слава о шестидесяти восьми десантниках, что насмерть дрались в Николаевском порту в 1944 году? Единственный случай, когда всему отряду было присвоено звание Героя Советского Союза. Шестидесяти пяти из них — посмертно.
Триста лет «морская пехота» казаков наводила ужас на османскую Турцию. Будем помнить, что и Разин, и Ермак, и Дежнев «со товарищи» были, прежде всего, морской пехотой на судах, как мы теперь говорим, «река — море».
Казаки хорошо понимали свою историческую миссию, это видно хотя бы из их «азовского сидения». Сибирь к России присоединили тоже они, а уже потом Ермак послал гонцов к Ивану Грозному с победным сообщением. Ни один народ в мире не создал народного типа моряка, кроме русских. Ни у одного народа моряк не выходил на авансцену в переломные моменты истории, кроме как на Руси. Даже владычица морей Британия не родила народного типа моряка. Япония, к слову, может иметь какой угодно флот, и промысловый, и военный, даже выиграть морское сражение, но японец — не моряк по духу, по «предестинации», как и немец, китаец или, скажем, турок. Почему? — спросите вы. Это как у музыкантов. Есть много высокопрофессиональных исполнителей, о которых тем не менее знатоки скажут: «Не музыкант»...
Случается, что человек командует всю жизнь лайнерами, водит корабли в Атлантике, но по натуре не моряк, хотя и «план дает», и дело знает, и человек хороший, и товарищ надежный. Есть люди, которым все равно, где трудиться: в море ли, на мясокомбинате или в проектном институте. Истинный моряк тот, для которого море — сама жизнь.
Помимо типа моряка народ создал и тип морского вожака — тип атамана, капитана. В старом флоте говорили: «На небе — бог, в море — капитан». Путь в капитаны шел через суровый отбор. Было откуда черпать. Считай, каждый крестьянин на Руси мог сработать судно, корабельная архитектура была у него в крови. Кто соорудит корабль, тот поставит «со товарищи» и храм, и острог, и все это одним топором. Испокон веку речные суда строили по Руси и на всех реках. А сама Русь, как уже говорилось, зародилась в поймах рек у воды текучей.
Еще одну тайну откроет нам устье Западной Двины. Русские пришли сюда на заре своей истории из Полоцкой земли. Селились и жили здесь вместе с родственными им по занятиям, духу ливами. Немецкие средневековые хроники упоминают, что на берегах Двины жили селы, ливы, русские, летты и др. Ливы посылали полоцким князьям отряды воинов, те в свою очередь приходили в трудные моменты на помощь им. Когда меченосцы появились в Прибалтике, для них самым большим открытием было то, что сильные русские князья даже не помышляли о порабощении коренных жителей. Прибалтийцы искали защиты у русских князей против ордена. Поначалу немцы, продолжив традицию, признавали свою вассальную зависимость от Полоцка. В 1198 году, накануне нового, самого страшного для Руси столетия, в устье Двины возникла немецкая крепость Рига. Основал город епископ Альберт фон Аппельдерн. Он и создал орден меченосцев. Знаменитый своей неумолимостью папа Иннокентий III дал ему строгий устав ордена тамплиеров (храмовников). Отличительным знаком их был меч и крест на плащах. На латыни они именовались «братьями воинства Христова», в хрониках попадались под именем «братьев», «божьих воинов», «божьих рыцарей» или «божьих дворян».
Ядро рыцарского ордена составляли только те, чьи отцы были рыцарями. Рядовым членом мог быть всякий, кроме раба. Ливы и летты яростно сопротивляются и шлют гонцов в Полоцк. Орден меченосцев, рыцари которого называли себя «братьями святой Марии», залил Ливонию кровью. Началась длительная борьба ливов и русских против ордена за устье Двины, захваченное рыцарями-монахами еще в 1184 году с разрешения доверчивого полоцкого князя Владимира. Немцы клялись князю, что построят только церковь. Но, привезя каменщиков с острова Готланд, поставили замок. Узнав об этом, Владимир несколько раз осаждал его, но устье было уже закупорено.
Недалеко от моря при впадении речки Кокны в Двину русские поставили на мысу город Кукенос (немцы переиначили его в Кокенгаузен). В Кукеносе правил князь Вячко. Чуть поодаль стоял город Герцике (так немцы произносили «городище»). В Герцике правил Всеволод, женатый на литовской княжне. Он был пленен вместе с семьей в 1209 году. Столетиями русские, ливы, летты и эсты жили здесь мирно и дружно. Орден осквернил эту мирную жизнь пожарами и виселицами. Альберт собирает силы, потому коварно заискивает перед Владимиром, платит ему дань и заключает «вечный мир». Тем временем меченосцы принимают устав Тевтонского ордена и сливаются с ним в 1237 году. Они сплачиваются, когда Русь заливается кровью на Востоке. Два смертельных врага — орда и орден — почти одновременно оскалились на нее.
Во всех битвах с орденом ливы и летты дрались с русскими плечом к плечу. Их объединяли единая вера и родство взгляда на мир. Ревель (ныне Таллинн) русские знали как город Колывань. В булле римского папы (1234 г.) говорится о русском конце (то есть районе) Ревеля под названием Вендерфер. «Венды» — древнее название западных славян. Латыши называли церковь словом «бозница» от русского «божница». Пост и говение по-латышски — «гаваэт», крещение — «крустайне».
Ярослав Мудрый в 1030 году основал город Юрьев. Немцы переименуют его в Дерпт. Сейчас это замечательный эстонский город Тарту. Ярослав назвал его Юрьевом по своему христианскому имени. Город этот возник на старинном водном пути славян. Начинался он в Пскове, затем проходил по реке Великой, Чудскому озеру и реке Эмбах (Эмайыги) до ее верховьев. Оттуда волоком по Койве (или Салису) до моря. В тех же краях севернее Двины возник Изборск.
Папа «даровал отпущение грехов всем, кто примет на себя знак креста и вооружится против ливов». Спрашивается, что плохого сделало небольшое мирное племя ливов, чем прогневило бога, чтобы убийство их детей приравнивалось бы к паломничеству в «святую землю»? Генрих Латвийский в хронике Ливонии пишет: «Папа, назначая пилигримство в Ливонию с полным отпущением грехов, приравнял его к пути в Иерусалим». Вспомним еще раз, как удивились «пилигримы», когда застали русских, ливов, эстов, леттов и других живущими мирно. Так позже удивлялись и иностранцы, видя мирное сосуществование русских поселенцев с казахами, бурятами, горцами...
Что же противопоставили этой жизни рыцари? Они, основав город Ригу, запретили местным жителям не только селиться в нем, но даже ночевать. Ливы и летты могли находиться там только днем, да и то на черных работах. Длилось это ровно пятьсот лет, пока в Прибалтику не пришли снова русские — регулярные полки Петра. Они-то и положили конец изуверским порядкам. Невольно вспомнишь об этом в связи с раскручиваемой сейчас «проблемой Прибалтики». Что ж, пусть тамошние «провидцы» кладут на чашу весов и эту историческую правду, хотя подобное благородство вряд ли мыслимо.
Движение славян к морям началось за многие столетия до принятия христианства Русью. И, как мы знаем, никакие преграды и жертвы не могли остановить их на этом пути. Раннее средневековье уже застает русских на берегах Белого, Балтийского и Черного морей. Неотвратимо было и их стремление на восток. За тысячу лет до появления русских у Великого океана Центральная Азия, это древнейшее «темя земли», была котлом, откуда выплескивались кочевые орды, полчища которых доходили до Рима. И вот впервые европейцы остановили эту разрушительную экспансию и, миновав Забайкалье, мимо древних гуннских городищ вышли к Амуру и Тихому океану. Этими европейцами были русские землепроходцы.
За ними в Сибирь хлынули крестьяне. И хотя в XVII столетии треть национального дохода России приходилась на сибирскую пушнину, символом этих веков должен быть плуг. Русские крестьяне продвинули земледелие не только на восток, но далеко на север. И вновь так же, как когда-то в европейской части, на южных границах русских поселений в Сибири от Каспия до Амура протянулись укрепления вольных землепашцев, получивших привилегии казацких войск. Они взяли под свою защиту как крестьян, так и их соседей — мирных местных жителей.
Казачьи «линии» даже отдаленно нельзя сравнить с «Фронтиром» американского Дальнего Запада. И не только потому, что у них разная историческая миссия. По сравнению с казацкими вылазками похождения «ребят, стрелявших с бедра», не в обиду им будь сказано, выглядят (по крайней мере, в голливудских фильмах) опереточным действом. Казачий вал, оградивший рубежи отечества со времен «старого казака» Ильи Муромца, — антипод знаменитых укрепленных валов-границ на окраинах Римской империи с гарнизонами легионеров. Следы этой линии сохранились и поныне на севере Англии, в Испании, Африке. В границах отпечаталась главная ипостась Руси, ее коренное отличие от всех стран-соседей, ибо живой казачий вал, рожденный народом, а не государством, особенно контрастен, когда сближается на Востоке с Великой Китайской стеной. Укрепленные линии стали естественными рубежами Сибири, в пределах которых крестьяне поколение за поколением превращали девственную территорию в плодородную почву. Каких людей взрастила эта почва, мы увидим позже. Даже Байкало-Амурская магистраль, поразившая мир размахом, — только третья часть Северо-Сибирской магистрали, идущей к океану параллельно Транссибу. Таков размах этого движения на восток. Кстати, в заголовках статей, посвященных БАМу, не эр я часто встречаются слова «дорога» и «океан». Это хорошие заголовки. Они точны и лаконичны, как безупречный дорожный знак, и оправданы по смыслу. Однако то, как авторы порой объясняют назначение дороги, вызывает не только возражение, но и тревогу. Прежде всего искажен экономический смысл магистрали. Трасса строилась вовсе не для того, чтобы загребать экскаваторами и бульдозерами богатства недр, вынесенные природой к самой поверхности. Они не составляют и тысячной доли процента тех надежд, которые возлагает на магистраль народное сознание.
Изображая Сибирь только краем каторги и ссылки, мы одно время так усердствовали, что не только себя, но и иностранцев убедили в этом. Прекрасное слово «Сибирь» стало чуть ли не синонимом тюрьмы. Первые два героических века в истории Сибири не имеют никакого отношения к каторге — это общеизвестно. Но даже XIX век с его изнурительными этапами не определял лицо гигантского края. Сибирские губернские города намного опережали по культуре, просвещению и народной самодеятельности города европейской России с их крепостным укладом.
Теперь же, когда заговорили о богатствах сибирских недр, кое-кто пытается представить дело следующим образом: дескать, поди ты, какие кладовые обнаружили во вчерашней тюрьме! Что прикажете делать с нежданным богатством? Вывезти поскорей, да и дело с концом. А как вывозить, уже и теория экономическая давно готова. Метод называется «десантным», а принцип заимствован у саранчи. Прилетели, высадились (наземные дороги десанту ни к чему), собрали времянки с комфортом, технику помощней да экскаваторы позубастей. Выгребли все что можно из недр, оставили развороченную землю с зияющими ранами — и дальше полетели. Теория не доморощенная, а североамериканская, прошедшая проверку в Африке, используемая на Аляске и в Северной Канаде. В генетическую структуру капитала не заложен территориальный императив. «Торговцы не имеют отечества». Барышу чужды и враждебны понятия «отечество» и «почва». Конечный продукт голого рационализма — всегда разрушение. И все это со словами «несметные», «необъятные», «безграничные». К слову, у хорошего хозяина не бывает несметных богатств — они и подсчитаны и взвешены. Так же, как и не бывает у подлинного хозяина и «безграничных» просторов. Уже и спутники летают, и дорога до Хабаровска измеряется часами, а они все токуют и токуют, как тетерева, о безграничных просторах, закатив глаза, ну хоть голыми руками бери их. Территория и отмерена, и ограждена прочно, и каждый квадратный метр ее требует ухода и защиты. Территория — понятие строгое. В ее границах есть место для бесконечности, но только в сфере нравственной и духовной.
Новая магистраль еще прочнее свяжет нас с океаном. Когда пути ведут к мировым дорогам, на первое место выходит проблема почвы, устоев и самобытности, по завету Достоевского и всех лучших творцов русской культуры. Еще Белинский писал: «Не принадлежащий своему отечеству, не принадлежит и человечеству».
Окинем взором край, по которому проходит БАМ. Что дала Сибирь? Какое место она занимает в общем национальном духовном наследии? Вспомним слова Гоголя: «Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшною силою отразясь в глубине моей; несвойственной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!»
— Здесь ли не быть богатырю? — спрашивает великий писатель. К тому времени, когда были написаны эти строки, Сибирь видела уже богатырей. «Необъятный простор» не дается как подарок судьбы, его нужно освоить и отстоять. Сибирь освоили люди свободные, не ведавшие крепостного права. Биологи знают, какое значение имеет для популяции так называемый «принцип основателя». Проследите за генеалогией землепроходцев, она приведет вас на север России — в Великий Устюг, Вологду, Архангельск — к поморам. Более поздняя южная волна шла с вольного Дона. Сибирь стала местом исторического ристалища для русского народа, где впервые вместо холопских прозвищ зазвучали полновесные имена, известные теперь всему миру.
Много ли мы знаем из нашей истории полных имен не знати, а простого народа? Первым был Ермак Тимофеевич, до Сусанина Ивана и Минина Козьмы. За Ермаком был Дежнев, которого звали Семеном. Помним, что Хабаров был Ерофеем, Поярков — Василием, Атласов — Владимиром, Москвитин — Иваном, а за ним Крашенинников — Степаном. Заслужить полное имя в народе было куда как труднее, нежели получить княжеский титул. Во всяком случае, их деяния в том же ранге заслуг перед отечеством, за которые были отмечены княжескими титулами Меншиков, Потемкин, Суворов...
В Сибирь шли и раскольники — непоколебимые идеалисты, самая жизнестойкая часть русского крестьянства. Что мы знаем о расколе, кроме того, что это был социальный протест в религиозной форме? Раскол корнями уходил в глубину веков и был отзвуком никогда не умиравшей в народе неистребимой веры в победу добра и правды.
Все утопии в поисках идеала смотрят назад, ищут опору в прошлом, но устремлены в будущее. Одухотворенность простых землепашцев достигала такой силы, что отречению от своей идеологии они предпочитали самосожжение. Раскольники горели селами, вместе с детьми и стариками. Сибирское небо видело эти страшные костры. Пусть поверхностное мышление относит это на счет фанатизма, но очищающий огонь палов осветил до самых глубин народную душу. Не нашлось там места для полуправды и полумер.
Они верили, что душа в огне не горит. Но то, что сгорело, стало навеки частью сибирской почвы.
Декабристы, дивные герои Бородина, Лейпцига, Кульма, Парижа, Сенатской площади, Акатуя и Петровского Завода, от которых мы, по словам Герцена, ведем «свою героическую генеалогию», были современниками Гоголя. Шевченко назвал сказание о декабристах «богатырской темой». Только с них были сняты кандалы, как они сразу же стали окультуривать почву вокруг себя. Учили детей грамоте, вели наблюдения за природой, писали статьи, создавали библиотеки, сажали картофель, выводили тонкорунных овец... Недаром адмирал Мордвинов до их ссылки совершенно серьезно предлагал Николаю создать на Востоке академию из декабристов, чтобы была от «злоумышленников» польза обществу.
Вопреки желанию Николая так оно и случилось.
Вспомним и других современников Гоголя. Рассказ о тех, кто строил державу, действует освежающе, как всякое созидание. Это нам особенно полезно было бы усвоить, если учесть нашу застарелую привычку разговорами о недостатках доводить себя до полного изнеможения.
Два столетия военные моряки, самая образованная часть русского общества (здесь нет оговорки), не просто бороздили дальневосточные моря вдоль «берега Отечества», они не оставили здесь без внимания ни одного мыса, банки, залива, речушки, острова. Глубины были промерены, берега исследованы, составлены карты и написаны такие отчеты о путешествиях, что некоторые тогдашние писатели называли их образцами русской прозы. Только за одно XIX столетие сто пятьдесят человек из них стали адмиралами. После дальневосточной школы моряки возглавляли министерства, сталелитейные заводы, академию, создали целые направления в науке, строили корабли. А сколько их товарищей утонуло, замерзло, умерло от цинги и голода, пропало без вести! Кресты на прибрежных скалах и судовые колокола — память о тех, кто повторял про себя перед смертью: «Долг и честь».
Я специально не называю их имена, хотя передо мной данные обо всех этих ста пятидесяти адмиралах. Что скажет читателю перечисление десятка имен? Все они до одного есть на карте дальневосточных берегов. При желании каждый может в этом убедиться.
И что это были за лихие моряки! Прежде чем появиться на крайнем востоке России, они прошли Трафальгар, Чесму, Синоп. Избежавшие гарнизонной тоски, рутины и скуки офицерских собраний, испытав суровый морской отбор, они представляли из себя интереснейший социальный тип, не замеченный русской литературой. Почему это случилось — тема другого разговора.
В отличие от другой части своего сословия до конца жизни они остались верны духу «осьмнадцатого века», века мореплавателей и плотников. Неспроста многие начали службу волонтерами английского военно-морского флота. Работящая Голландия и Англия — «мастерская мира» — притягивали их куда больше, чем ночной Париж. Они не были богатыми бездельниками и собирались всю жизнь строить, а не разрушать или с комфортом сладко мучиться «проклятыми вопросами». Мы не дали себе труда задуматься, почему же эти молодые люди (а их были тысячи) не стали «лишними людьми». Когда Чацкий устраивал бури в теплых салонах и метал нервические молнии в «служивых», последние шли под ревущими парусами сороковыми широтами в одной семье, в едином братстве с матросами.
Имена их шлюпов и корветов, бригов и клиперов, фрегатов и шхун навсегда запечатлены на картах морских дорог и стали вехами для нас, и смены этим вехам не будет никогда. Писатели нередко покидали Россию, чтобы из зарубежного далека поглубже почувствовать и яснее увидеть Отечество. Мореходам не было в том нужды. Палуба была их «Капри». Возвышенный образ Родины они носили с собой всю жизнь. Раньше японцев пришли на Курилы, раньше других европейцев — на Аляску, раньше китайцев — на Амур...
Нет, не взорван и не затонул фрегат «Паллада» в Императорской гавани. Белые паруса красавца-фрегата будут видны там до тех пор, пока стоят эти берега. Бухты дальневосточных морей полны парусов, белые птицы ждут ветра — их не видит только слепой.
Мореходы всегда в пути. И куда бы они ни направлялись — к Царьграду, Гангуту или Камчатке, — курс их ни разу за тысячу лет не отклонился от выбранной народной дороги. Их белые паруса, как стаю белых журавлей, можно считать символом предопределения — знаком судьбы.
Самое сокровенное народ запечатлевает в песне. Если тема не созвучна чаяниям народа, песня не переживет даже одного поколения. Все этапы дороги к океану отмечены народными песнями, не будь их, любые рассуждения остались бы только отвлеченными умствованиями. Нет, наша дорога песенна, она многоголоса и звучна. Партию Сибири в этом музыкальном исследовании всегда ведет мужской голос, то непреклонный, то задушевный... Поднимаясь на высоту печали и гнева, он всегда окрашен в родные тона среднерусской равнины, где нет места ожесточению. Иначе их не пел бы весь народ. «...И ветры в дебрях бушевали» — Сибирь начинается с Ермака. На сибирской равнине родилась одна из самых красивых в мире песен. Стихи сочинил ямщик Пермской конвойной роты Иван Макаров, а положил на музыку А. Гурилев. Эта песня начинается со слов «Однозвучно гремит колокольчик». Иван Макаров, как и отец его, был ямщиком. Как и отец, замерз в пути, «в степи глухой» на сибирских просторах.
Байкалу, как и Волге, «главной улице России», выпала честь стать национальным символом. В память народную он запал навсегда как «славное море, священный Байкал». Навечно суждено быть и Амуру — Батюшкой. После «Амурских волн» и «На сопках Маньчжурии» оттуда же пришла к нам и тема «Варяга» — бессмертного поединка, воодушевлявшего новые поколения. Не успели отзвучать «Волочаевские дни», как грянула песня «На границе тучи ходят хмуро»...
Много песен родила Сибирь. Где-то в вышине все ее песни сливаются в одну и, сплетаясь с шумом лесов, грохотом волн и вулканов, ревом пурги, гулом городов и дорог, становятся голосом России.
Три свершения за последние двести лет получили титул Великих. Все они связаны с Сибирью. С севера Ледовитый океан, с востока — Тихий, а юг ограничен живым валом русских земледельческих поселений вдоль старой казачьей линии. Мы так легки на подъем, когда дело касается перемен наименований, что молодому человеку для уяснения простых исторических фактов необходимо рыскать в специальной литературе.
Итак, речь о трех Великих кампаниях. Первая из них была начертана самим Петром, называлась она то «Первой академической экспедицией», то «Второй академической», но закрепилась в литературе под именем «Великой Северной экспедиции». По охвату территории, результатам научных данных, привлечению сил и средств она до сего дня не имеет себе равных среди всех экспедиций, когда-либо снаряженных каким-либо государством. Петр умер в тот год, с которого принято датировать начало экспедиции. Она длилась более десяти лет. Многие труды ее не опубликованы на русском языке до сих пор. Инерция столь мощна, что экспедиция в Сибирь не прекращалась ни на один день даже при преемниках Петра. Большинство ученых были молодыми людьми. Они возмужали в Сибири. Многие остались там навеки. Членов экспедиции называли «странствующей академией», она и была, по существу, первой сибирской академией.
Два других предприятия связаны с прокладкой дорог. Как и подобает, они появились после рекогносцировки научных экспедиций. Если Великая Сибирская железная дорога строилась на русские средства и русскими мастерами, то великий Северный морской путь, проложенный после Октября и начавшийся с поморских шитиков, в большей степени, чем Транссиб, можно именовать русской дорогой. И не только потому, что Северный морской путь проходит по нашим окраинным морям. Он был и проложен на русские средства, и пробит ледоколами, изобретенными в России. Ни одна страна не испытывала такой «тирании льдов», зато она же первая их и преодолела. Историческая логика требует, чтобы мы первенствовали и в наземных дорогах, ибо никто не сталкивается с таким сопротивлением пространства, как мы.
Дерзкая идея о сибирской сверхмагистрали вновь становится первоочередной национальной задачей. Если мы пустим поезда к Владивостоку на той же скорости, как сейчас они ходят между Москвой и Ленинградом, дорога от столицы к океану займет всего несколько суток. Такая магистраль сказочно изменит территорию и принесет выгоды поистине неисчислимые.
На каждое столетие приходится по одному Великому свершению. Но это не значит, что остальные предприятия на этой земле были заурядными. Отнюдь. Они под стать им: Комсомольск, Кузбасс, каскад электростанций, целина, тюменская нефть, кимберлитовые трубки, золото, корабли и порты, Сибирская академия, БАМ, наконец, — это этапы усилий только трех последних поколений. А сколько еще не упомянуто свершений!
Землепроходцы бросили вызов потомкам, махнув до Великого океана. Наследники приняли богатырский вызов и оказались достойны своих предшественников. Следующее поколение, говоря нынешним языком, «перевыполнило план». Разбег был столь могучим, что они и не заметили, как, перешагнув океан, «привели под высокую государеву руку» всю Аляску, добрались аж до Калифорнии. Как хотите, а в изначальную Сибирь был заложен здоровый и веселый дух. Только безнадежно унылый человек этого не понимал. К примеру, во времена Радищева в Иркутск на ярмарку прибывало сто тысяч подвод. Как, по-вашему, можно ли на такой грандиозный торг собрать людей вялых и угрюмых?
За два столетия (XVII и XVIII века) в Сибири сложился характерный русский сибирский тип людей. Этнографы, историки, путешественники, краеведы единодушно наделили сибиряков следующими чертами: «Хороший рост, сухопарость даже в старшем возрасте; характер настойчивый, смелость в сочетании с осмотрительностью, отсутствие поспешности в действиях, но без следов вялости, хорошая ориентированность в обстановке, живость без склонности к повышенной чувствительности».
Три столетия Россия отдавала Сибири лучшие силы. Территория от Урала до океана стала гигантской национальной школой, своеобразным историческим полигоном, где проходили испытание на прочность поколения русских людей. Мы говорили о трех Великих предприятиях, но есть еще одно свершение, поистине Великое и с этим словом всегда произносимое, — Великая Отечественная война. Трехсотлетний посев должен был дать отдачу...
Сибиряки как великолепные солдаты обратили на себя внимание еще на Бородинском поле. Последующие военные кампании закрепили за ними эту репутацию. В первую мировую «Германскую» войну они вызывали восхищение своим мужеством. Но то, что они совершили под Москвой, Сталинградом и Курском, не имеет аналогий в мировой военной истории. Сибиряки наголову разбили отборные эсэсовские дивизии «Райх», «Фюрер», «Мертвая голова». Их появление на фронте вызывало панику среди немецких солдат, а последние, как известно, не были плохими солдатами. Хирурги в госпиталях ставили сибиряков в пример другим воинам. Никакие муки не могли заставить их стонать во время операций. Сибирские добровольческие соединения стали родоначальниками гвардейских полков. В историческом плане этот факт чрезвычайно важен, ибо сибиряки стали преемниками «семеновцев» и «преображенцев» Петра.
Под Ельней в 1941 году немцы провели при поддержке танков самую крупную за всю историю второй мировой войны психическую атаку. Горизонт был черным от эсэсовских мундиров. Немцы шли во весь рост, и казалось, нет им числа и нет силы, которая могла бы устоять против них. На место упавших становились другие солдаты. Огонь наших батарей вроде как не действовал на них. Черная орда под гул танков подавляла своей жуткой непреклонностью. Наши солдаты занервничали, кое-кто начал оглядываться назад. И тут грянул вдруг тысячеголосый хор: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек...» Это подошли сибирские добровольческие полки. Будто во весь свой исполинский рост встала перед врагом Сибирь. Словно волна, которая незаметна на океанских просторах, хотя и несется с колоссальной скоростью, но, встретив препятствие, вздымается на тридцатиметровую высоту и сметает все на своем пути, песня взмыла над полем битвы, и под ее звуки немцы были разбиты русским штыковым ударом.
В этом поединке как бы заключена философия духа соперников. Отдать должное противнику — вернейший признак подлинного величия. Умалить силу врага — значит принизить собственную победу. На поле боя был повергнут цвет лучшей в Европе армии. Германский монолит не устоял против русского вдохновения. Сибиряки оказались верны штыковому удару, зародившемуся еще во времена древних дружин. Штыковой бой — продолжение атаки копьями ударного типа. Помните клич Святослава «Иду на вы»? В штыковом бое нет улюлюкающего натиска кочевой конницы, способной с такой же скоростью рассыпаться при серьезном препятствии. Это и не натиск даже конной лавы казаков. Нет в нем и французского «элана» с его вспышкой боевого энтузиазма. Штыковой удар немыслим без подъема всех духовных и физических сил. Это первый и последний выбор. Он беспощаден к себе и к врагу. Русский штыковой удар — акт «самосожжения» во имя Родины.
Вот при каких обстоятельствах рождалась новая гвардия. В добровольческих соединениях сибиряков вновь ожил дух и облик древних дружин, когда-то начавших путь к океану.
Молодежь, как известно, наше будущее. Чтобы юноши и девушки связали свою жизнь с Сибирью, они должны твердо знать, что живут отнюдь не на бывшей каторге с неожиданно богатыми кладовыми. Спору нет, мы много пишем о прошлом и людях этого края. Но, во-первых, грешим односторонностью, оседлав несколько тем. Во-вторых, не осмысливаем до конца пройденный путь. Даже облик героя стараемся передать непременно через пухлый роман, где он тонет в вялой беллетристике.
Новый этап требует нового осмысления пути. Пусть это не покажется запальчивым, но без карамзинской «Истории государства Российского» не могло бы быть последующей классики. Мы уже забыли, какой она вызвала в свое время взрыв в обществе, заставив образованных русских людей по-новому взглянуть на себя и свое прошлое. Сегодняшняя же историческая наука, разбившись на тысячу рукавов, русел и проток, становится, увы, все более источниковедческой.
Пожалуй, нигде так не чувствуется дух русской истории, как в устьях родных наших рек: Амура, Волги, Днепра, Буга, Невы, Дона, Кубани, Урала, Северной Двины, Лены, Оби, Енисея, Колымы... Дух тот всегда ускользал от внимания даже лучших дворянских историков, он был им неведом, ибо они воспринимали подчас историю как смену династий. Главное же действующее лицо ее ими не было замечено. Историки не воздали должное народу, считая народом только крепостных, потому их летопись лишена души.
Из их рассказов вы не увидите, как скользнут на стрежень и выплывут из Дона казацкие белокрылые струги, а навстречу им из Днепра и Буга выйдут на чайках запорожцы. Сотни судов под тугими парусами объединятся в армаду, и под богатырские удары весел грянет над Русским морем в виду берегов Днепровско-Бугского лимана, о которых пел Гомер как о «земле, окутанной влажными туманами и мглою туч», тысячеголосый хор лучших в мире моряков.
За триста лет до Переяславской рады под барабанный бой и ликующие крики: «Чтоб, если во веки веков вси едино были», — русский и украинский народы в лице своих самых бесстрашных представителей в морских боях закрепят нерушимую дружбу. Повторяю, за триста лет до рады. История не знает случая, чтобы в столкновениях держав когда-либо Дон воевал против Сечи, как не знает и более яростных морских битв, чем волнующий трехсотлетний поединок одинокого отряда добровольцев-казаков с хищной Османской империей.
Казаки бились, пока не пришла на помощь регулярная русская армия. Под стенами Очакова запорожцы и донцы дрались плечом к плечу с фанагорейцами Суворова. Казаки сражались то как истинные моряки — «флот против флота», то, пользуясь сегодняшней терминологией, атаковали крепости «флот против берега». Думается, вовсе не случайно помимо казаков — старых хозяев Черноморья — собрались тут еще и такие личности, как Потемкин, Суворов, Кутузов, Платов, Багратион, Барклай-де-Толли, Ушаков. Все они и сейчас стоят в бронзе на аллее Героев за оградой военного собора в Очакове, ставшего музеем. Крепость Очаков запирала вход в Днепровско-Бугский лиман, а значит, и в сердце страны. Точно так же, как в устье Дуная — Измаил, Дона — Азов.
Все три крепости устьев связаны с именем Суворова. Вот где тайна его признания в народе. Он был всегда там, где сходились жизненные центры страны, где были выходы в море. В дельте другой реки — Волхова — Суворов построит собор в честь Георгия Победоносца и напишет книгу о науке побеждать. Вот он где, наш Суворов, — в начале и в конце пути «из варяг в греки», в самых жизненных точках Древней Руси. За Очаков он получил алмазный плюмаж на шляпу.
В 1944 году Москва салютовала освобождению Очакова. Казалось бы, всего-навсего районный центр... Но то город-символ, город устья. Москва салютовала двум ранам Суворова и ране Кутузова, салютовала всем, кто сложил голову за выход к морю...
Почему мы бьемся насмерть за устья наших рек, какая сила толкает нас к морю? Почему во всех древних источниках, будь то Тацитова «Германия» или «Естественная история» Плиния Старшего, или «География» Птолемея, обязательно подчеркивается: всюду, где славяне, там непременно реки, озера, побережья морей? Они же называют Балтийское море Венедским (одно из славянских имен).
Всякая вода, будь то река или море, были для славян дорогой. У южных славян и поныне «драга» (дорога) означает путь вдоль воды или водоема, а у чехов — канал или ров, наполненный водой. Такие слова, как «море», «прилив», «отлив», «пучина», «залив», «пристань», встречаются во всех славянских языках. Византийцы, возможно, заимствовали у руссов слово «корабль», как шведы слово «ладья», ибо славяне слыли добрыми моряками за несколько столетий до выхода на историческую сцену норманнов. И кто знает, не руссы ли приобщили варягов к морю? Ведь древнейшие всеславянские очаги, их прародина и колыбель, лежат в верховьях Эльбы, Вислы, Днепра, Западной Двины, Оки, Днестра, Южного Буга, Дуная.
Как мы уже говорили, все реки текут в море, все речные дороги ведут к мировым морским дорогам. Если народ чувствует в себе силу, он неудержимо будет стремиться к морю. Когда Петра поздравляли с завоеванием новых земель на берегу Каспия, он ответил, что не земли ему нужны, земель у него и так много, а вот «воды» ему не хватает.
Теперь наступает новый исторический этап. Впервые смертельная опасность нашей Родине угрожает с океана — от кораблей агрессивного блока атлантических государств. В этой связи все средства пропаганды должны быть поставлены на развитие в юношестве и народе в целом «океанического мышления». Что это значит?
Мировой океан занимает две трети площади планеты, а, стало быть, все наши материки — только острова в океане. Главное в «океаническом мировоззрении» — это осознание того, что, где бы мы ни жили — в глубине ли Каракумов, в центре ли великих сибирских равнин, в тайге или в горах, — все мы на берегу океана...
Мечту Петра воплотила до конца народная власть.
Сын его любимого сподвижника генерал-адмирала Федора Головина, тоже адмирал, Николай Федорович Головин, президент Адмиралтейств-коллегии, главный двигатель Великой Северной экспедиции, важнейшую пользу Отечеству от посылки русских судов в Мировой океан видел в том, что «моряки будут непрестанно обучаться морской практике и от того всегда... флот будет снабжен добрыми и искусными людьми, с которыми и адмиралу или какому командиру в случае войны выйти против неприятеля будет несумнительно и не так, как ноне есть». Головин был убежден, что «в один такой путь (в Тихий океан. — К. Р.) могут те офицеры и матросы обучиться более, нежели при здешнем (Балтийском.— К. Р.) море в десять лет». Эту мысль он высказал в 1732 году, и она никогда не умирала в русском флоте.
С чего начинается океаническое мировоззрение? С исторической памяти. Без нее нет ни благородства, ни истинной отваги. Память — как подземный ключ живой воды, питающий нашу жизнь. Почему флот развил и с особенной ревностью бережет свои традиции, ритуалы, символику и преклоняется перед дисциплиной? Потому что с ними легче выжить на узкой палубе в однообразии будней и вдали от Родины. Память есть оборонный фактор, без которого человек не знает, что он защищает. Не зря фашистские главари кричали: «Разрушайте их памятники, и через поколение этот народ перестанет существовать»...
Пржевальский просил похоронить его вдали от Родины, чтобы его могила, как он сказал, «оживляла холодный край». Цвет России покоится в Сибири. Их могилы не только оживляют этот край, они делают эту землю священной. Создание «Священного писания» о земле Сибирской еще впереди. Этот долг русской литературы еще не оплачен.
Мысль Ломоносова об особом предназначении Сибири в будущих судьбах России сбылась. Его пророческие слова можно поставить девизом ко всем грандиозным свершениям за Уралом: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным Океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке». Как только Россия осознала, что Тихий океан в самом деле становится «средиземным морем человечества», и стала укреплять «берег отечества», она неминуемо столкнулась с хищной Японией, которая принялась натравливать на Русь всех наших дальневосточных соседей. Нашлись и старые подстрекатели из Сити. Маршал Шапошников вспоминает в мемуарах, что после Цусимы в Петербурге сухопутные офицеры не отдавали честь морским офицерам.
Боль Цусимы ощущалась всеми. То было первое поражение русского флота после Петра. Менделеев не пережил горя поражения. Накануне войны, как ведущий и авторитетнейший советник правительства по главным проблемам державы, он пытался повернуть русскую общественность лицом к Тихому океану и к Северному морскому пути. Дмитрий Иванович еще в 1901 году представил С. Ю. Витте записку. Великий мыслитель проявил в ней себя как муж и «отец отечества». Он предлагал пробить путь на ледоколе «Ермак» в Тихий океан через полюс и страстно мечтал принять в этом участие вместе с сыном, чтобы тем самым привлечь внимание русского народа к жизненно важной для страны идее. Менделеев и более других помогал адмиралу Макарову создать «Ермак». Он писал в той записке: «Завоевав себе научное имя, на старости лет я не страшусь его посрамить, пускаясь в страны Северного полюса».
Сын Менделеева изобрел первый в мире танк-бронеход на гусеничном ходу. В такой семье не могло быть проблемы «отцов и детей». К Менделееву-сибиряку подходят прекрасные слова, сказанные профессором Дм. Анучиным о Пушкине: «Каждая творческая личность, вносящая в духовное богатство общества нечто новое и значительное, может быть рассматриваема как более или менее резкий скачок в духовном развитии данного общества и народа, как крупный плюс к накопленному веками духовному богатству».
Нигде так не раскрывается тайна русской судьбы, как на Дальнем Востоке. Иван Москвитин поставил первое зимовье на берегу Охотского моря в 1639 году. Он был казак, а стало быть, моряк. Ни одно государство в истории не создало такого социального типа, как казаки, которых Екатерина II искренне считала вооруженными крестьянами. В войну 1812 года казаки показали миру, какую грозную представляют они силу: «Грянули чада Тихого Дона — мир изумился, враг задрожал». Во многих странах с почина внимательной Англии стали создавать военные поселения и регулярные конницы. Но нигде это не удалось. Последнюю попытку перед первой мировой войной сделал турецкий султан Хамид, собрав из курдов Турции полки «хамидие». Однако и эта затея жила недолго. «Казаки создали Россию», — говорил Лев Толстой. Он прав. По крайней мере, без участия казаков ни один серьезный вопрос русской истории не подлежал разрешению.
Только на Охотском море, самом суровом и самом прекрасном, можно уяснить мечту Петра — взять у Европы знания, создать сильный флот, крепкую державу и, как он говорил, «повернуться к Европе задом». Петру, наверное, простителен столь не «высокий штиль» речи. Как-никак это — Петр, который, по Ключевскому, «работал, как матрос, одевался и курил, как немец, пил водку, как солдат, ругался и дрался, как гвардейский офицер». По крайней мере, он продемонстрировал такую глубину и мощь исторической памяти, какую никогда ни один государь не показывал. Может быть, самое великое деяние его жизни было не создание флота и града в устье Невы, а перенос праха Александра Невского из Переславля на место его битвы со шведами.
Когда перевозили раку с мощами полководца, сам царь встал к рулю, а на весла посадил адмиралов и генералов. Найдите еще картину, столь волнующую и полную предопределения! Вот что значат устья, дороги и судьба! (Кстати, в 1923 году прах национального героя был выброшен в ров у лавры. Учредив в 1943 году боевой орден Александра Невского, мы как бы извинились перед его памятью.)
Капитан Геннадий Невельской перекрыл и побил все рекорды скорости, чтобы прийти на Камчатку с выигрышем целого лета. Зачем? Почему капитан транспорта «Байкал» рискует навлечь гнев министров и быть судимым, но выполняет замысел и приходит с Камчатки в дельту Амура? Первого (тринадцатого) августа 1850 года Невельской на мысе Куегда в низовьях Амура поднимает русский флаг на том месте, где им будет основан первый русский город в Приморье — Николаевск-на-Амуре. Нессельроде, как всякий лукавый министр, склонный перехитрить, а не утвердить, был главным врагом Невельского. Он просил Николая I разжаловать непослушного капитана в матросы, пугая царя международными осложнениями и гневом Англии. Николай произвел Невельского в адмиралы и заметил: «Там, где однажды поднялся русский флаг, он уже опуститься не может».
Восточно-сибирский генерал-губернатор Муравьев по праву будет назван Амурским. Этим выдающимся деятелем будет основан Владивосток. Муравьев знал, почему рискует карьерой Невельской. Вот что он скажет писателю Ивану Гончарову, когда тот сойдет с палубы фрегата «Паллада»: «Сибирью владеет тот, у кого устье Амура». Позднее Невельской напишет книгу «Подвиги русских морских офицеров на Крайнем Востоке России». Из нее видно, что капитан конечно же хорошо понимал историческую значимость своего поступка. Народ по достоинству оценил подвиг своего сына. 26 октября 1897 года во Владивостоке ему поставили памятник по всенародной подписке.
Вернемся в Охотское море — колыбель Сибирской флотилии. Помните, первую навигацкую школу Петр основал в Москве. Располагалась она в Сухаревой башне, которую сейчас мечтают восстановить. Так вот, не прошло и двенадцати лет, как государь посылает в Охотск опытных архангельских корабелов. (В самом Охотске навигацкая школа откроется в 1740 году.) Обращаю на этот факт особое внимание, так как в нем сплелись в пучок две тысячи лет славянской судьбы. Здесь ключ к великой разгадке.
Помор Кирилл Плотницкий строит морскую ладью «Восток» в Охотске. Русский север спускает на воду первый корабль будущей Сибирской флотилии, которая станет Тихоокеанским флотом. В первое плавание через Охотское море ладью эту поведет капитан казак Козьма Соколов. Кстати, Пушкин упоминает его в своих записках. Колыбель казачества —русский юг, устья Дуная, Днепра и Дона. Устья и степи. Поморы и казаки пели древние песни с припевом «Дунай, мой Дунай» и зимними вечерами слушали былины о киевских пирах князя Владимира. На той же ладье «Восток» ушли вдоль Камчатки и Курил выпускники Морской академии, офицеры геодезисты Иван Евреинов и Федор Лужин. Это 1720 год.
Итак, казаков на мостике одного и того же судна сменили офицеры Императорского военно-морского флота. Еще через двадцать лет в Охотске откроется навигацкая школа. Сибирская флотилия будет крепнуть. Петр не забыл основать еще одну навигацкую школу — в Иркутске. (Считаю, что они должны быть воссозданы.) Там же, в Иркутске, епископом будет служить Иннокентий Кульчицкий, бывший обер-иеромонах русского флота. Натура богато одаренная и деятельная. «Обер-иеромонах» — такое сочетание могло родить только петровское время, когда свежий ветер перемен ворвался даже в кельи.
Иннокентий Кульчицкий будет со временем канонизирован. Петр заставил монахов переносить тяготы военных походов и ходить под парусами. Для многих монахов мир божий с качающейся палубы покажется невыразимо интересным и не менее таинственным, чем при монастырских лампадах. Кульчицкий принял море и ступил на столбовую дорогу своего народа. Петр, который трудился не покладая рук, приходил в крайнее раздражение при встрече с ленью, инертностью, нерадивостью, но ничто его так не бесило, как византийская манера русских клириков вести под руки епископов, людей дородных и крепких. Он запретил это специальным указом. При Петре даже монахи стали невольно усваивать морскую терминологию.
Сколько ни листай пожелтевшие страницы, а не найдешь судьбы, в которой запечатлелась бы предестинация столь же сильно, как в Федоре Соймонове. Позвольте хотя бы перечислить этапы-вехи его жизни. Соймонов окончил Московскую навигацкую школу. (Очень важно, что именно школу на Москве-реке, не в Ливерпуле, Амстердаме, Марселе или даже Петербурге.) Он у самых истоков. Обер-прокурор сената. Вице-президент Адмиралтейств-коллегии (или заместитель министра военно-морского флота). Сослан в Охотск при Бироне. Прошел по этапу с выдранными ноздрями от Петербурга до Охотска, от океана до океана. Руководитель Нерчинской экспедиции. Зоркий страж русских интересов на Дальнем Востоке. Организатор экспедиции на Тихом океане. Сибирский губернатор. Московский сенатор. Крупнейший гидрограф. Он из тех петровских офицеров, которые с поля битвы быстро перешли на мирное поприще, а тогда особенно ценились гвардейские офицеры — преображенцы и семеновцы. Через сто лет, после того как казак Козьма Соколов поднял паруса на ладье «Восток», в еще одну кругосветку уйдет Отто Коцебу — всего их у него будет три. «Бессмертный Коцебу!» — скажет о нем адмирал Макаров. На палубу двадцатичетырехпушечного корабля «Предприятие», построенного Адмиралтейством в том же 1823 году, взойдет несостоявшийся девятнадцатилетний богослов Эмилий Ленц. Это трехлетнее путешествие выстроит ему всю жизнь. Кто из нас не знает со школьной скамьи закон Джоуля — Ленца или правило Ленца! Он изобретет барометр и глубомер, будет преподавать кадетам Морского корпуса и юнкерам Михайловского артиллерийского училища, а кончит ректором Петербургского университета.
Русское географическое общество было создано адмиралами флота Литке, Крузенштерном и Врангелем. Все они возмужали в кругосветках и прошли суровую школу у тихоокеанских берегов. Предестинация была столь сильна, что она мощью своей увлекала лучшие силы вчерашних исторических врагов России — потомков рыцарей Ливонского ордена. Дети меченосцев удостоились памятников от благодарной России за беспорочную службу. Лучших немцев-моряков дал русский флот. Знаменательно! 19 сентября 1845 года адмиралы собрались па квартире у Владимира Даля и учредили Географическое общество. В числе их был и Ленц.
Пусть с 1871 года базой Сибирской флотилии станет Владивосток, но Охотское море останется колыбелью флота. Соймонов правил Сибирью с выдранными ноздрями (будто бы за участие в заговоре Артемия Волынского), и правил мудро и весело. Даже свой путь по этапу он положил на благо Сибири и, уже губернатором, навел наивозможный порядок на страшных переходах.
Пушкинское время было, как уже отмечалось, самым морским после Петра. Это чувствовали все поэты. «Так ныне, океан! Я жажду бурь твоих!» — восклицал Баратынский. Ему вторил Николай Языков: «Будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней». Мне думается, что накануне наполеоновского нашествия только моряк Шишков мог написать «Рассуждение о любви к отечеству». На следующий год, в самую страшную годину столетия, — в 1812 году он станет Государственным секретарем России, хотя царь не любил его за прямодушие, и будут воззвания его электризовать страну от столицы до самых глухих урочищ. Шишков, адмирал, получивший шпагу «За храбрость», не нарушал никогда петровского наказа юным стольникам «сколь возможно, искать того, чтоб быть на море во время боя». Петр в устье Двины, в Поморском краю у Белого моря, спустил на воду корабль «Святое пророчество», в верховьях Тихого Дона (а «тихий», как известно, в старину было синонимом слова «святой» или «белый») — «Предестинацию», чтобы вернуть России Днепровский лиман, который называли казаки «Белобережьем». Это на русском севере и на русском юге.
А что же на «сибирских украинах» России? С Приморьем народ со времен Албазина и хабаровской дружины связал самую сокровенную свою мечту — о справедливой стране без утеснений. Эту страну, где царствует правда, он называл Беловодьем.
Вы видите, Белое море — на севере, Белобережье — на юге, Беловодье — на Тихом океане. А как же Балтика?
Александр Невский начал, Петр закончил строительство в устье Невы самого русского из всех городов когда-либо существовавших на земле, — города предопределения. Блокада сделала град Петра самым священным городом страны. Порукой тому — четыреста тысяч ленинградцев на Пискаревском кладбище. Это те, кто предпочел смерть отказу от предестинации. Если перевести на древний язык, Финское взморье стало в блокаду «Белобережьем», Финский залив — «Белым эаливом», а город стал «Тихим» городом среди «Беловодья». В 1970 году, когда наши военно-морские силы провели маневр четырьмя флотами, корабли, прежде чем встретиться на мировых просторах, покинули четыре «белобережья» Отечества, четыре моря, освященных подвижничеством и тысячелетней русской мечтой.
В конце двадцатых годов острова и отдаленные побережья Отечества стали терзать вооруженные морские хищники — то под видом торговцев, то зверобоев, то рыбаков. Национальные богатства страны растаскивались, можно сказать, средь бела дня. Поди настигни незваных гостей без быстроходных кораблей. Надо было немедленно переводить часть сил на Белое море и в Приморье-Беловодье. Весной 1933 года из Балтики к Белому морю по новому Беломорканалу ушли эскадренные миноносцы «Урицкий» и «Куйбышев», сторожевые корабли «Ураган» и «Смерч», подлодки «Декабрист» и «Народоволец». Переход получил кодовое наименование «ЭОН-1» (экспедиция особого назначения). Путь был непрост — то старая петровская мечта, «государева дорога» из Кронштадта в Неву, потом в Ладогу, затем в реку Свирь — Онежское озеро... В начале августа весь Мурманск вышел встречать корабли. Путь занял два с половиной месяца. Еще суда были в дороге, а уже вышло решение о создании Северной военной флотилии с базой в Мурманске.
На гранитных скалах вырастут казармы, склады, батареи, пристани, пирсы. Попробуй сунься! Сила! Северной флотилией командовал с 1935 года Константин Душенов, бывший матрос с «Авроры». Душенов был склада исконно русского, тип, который тысячи лет народ выставлял на свое порубежье. Его кредо слово в слово совпадает с петровскими наставлениями и полно большевистской неукротимости. Вот оно: «Плавать надо в наиболее сложной обстановке! Но каждый выход сопровождать глубоким расчетом и глубокой подготовкой. Туман, «заряд», шторм надо сделать нашими союзниками»...
В 1932 году пароход «Сибиряков» в одну навигацию прошел из Архангельска в Тихий океан. На такое плавание способно только молодое общество. Рейд был и героическим, и по-юношески отчаянным, и по-государственному мудрым. Дорога по русским внутренним морям нужна была как воздух, как жизнь. «Сибирякова» вел знаменитый полярный капитан Владимир Воронин. До этого суда с 1920 года настойчиво пробивались к устьям Оби и Енисея. Эти экспедиции назывались Карскими. Из Сибири тогда надо было вывозить в голодный центр излишки хлеба.
1923 год. Освоен путь до устьев Лены и Колымы. Эти рейсы назовут «колымскими». «Сибиряков» (водоизмещение 1383 тонны, машина 2 тысячи лошадиных сил) шел вдоль устьев великих русских рек, овеянных именами легендарных предшественников. Шел вдоль «фасада России», пороги которой купаются в ледяных водах «Сибирского океана», как сказал бы Ломоносов. В устье Лены с ним повстречался колесный пароход «Лена», тот, что пришел сюда с запада в 1878 году. Историческая встреча! Экипажи обоих пароходов были взволнованны. «Сибиряков» искал полыньи, бил льды, растаскивал их лебедкой, взрывал аммоналом, но упрямо двигался на восток. В Колючинской губе поломал все четыре лопасти винта. Груз перебросили с кормы на нос, задрали над водой корму и сменили лопасти. Пошли дальше. У мыса Сердце-камень обломался о льды конец гребного вала. Корабль замер. Вал не сменишь, и «Сибирякова» понесло по воле льдов. Выйдя случайно на полынью, команда сшила из брезента паруса. С муками «Сибиряков» добрел-таки до Берингова пролива и был взят на буксир траулером «Уссуриец». Это случилось 1 октября 1932 года. А уже 17 декабря того же года Совнарком образовал Главное управление Севморпути. Весь народ с волнением следил тогда за этой одиссеей.
Купленный у датчан пароход «Челюскин» на следующий год должен был повторить рейд «Сибирякова» и по пути снять с острова Врангеля зимовщиков. Из-за льдов к ним уже четыре года никто не мог пробиться. Этими же льдами «Челюскин» будет раздавлен. Экспедицию, как и на «Сибирякове», возглавлял Отто Юльевич Шмидт. За спасением челюскинцев теперь уже следил весь мир. Семеро морских летчиков, спасших их, стали первыми Героями Советского Союза.
Русская морская дорога родила первых Героев страны. Я уже писал об этом, но как не повторить? В 1934 году ледорез «Литке» прошел с востока на запад Севморпутем. Наступает лето 1936 года. Жертвы, принесенные на берегах «Сибирского океана», были не напрасны. Два эскадренных миноносца, «Войков» и «Сталин», прошли с Северного морского театра на Тихоокеанский театр. В Архангельск эсминцы прибыли из Кронштадта Беломорканалом. Весь путь от Балтики до Владивостока военные суда пройдут внутренними водами страны — впервые со дня существования государства. Эсминцев, сменяя друг друга, вели ледоколы «Литке», «Красин» и, что особенно важно, неувядающий флагман ледовых судов, детище Макарова «Ермак». Ледовыми лоцманами на эсминцах стояли два лучших в мире полярных капитана П. Г. Миловзоров и Н. М. Николаев. Когда они прошли Берингов пролив, радисты приняли телеграмму из Кремля: «Поздравляем с выполнением задачи, порученного вам важнейшего задания партии и правительства. Ваша большевистская победа в Арктике имеет большое значение для обороны страны и является новым сильным призывом ко всем трудящимся Советского Союза преодолевать все и всяческие трудности в борьбе за социализм».
Экипажи судов получили и еще одну телеграмму, осветившую ледовую дорогу особым счетом истории. Она пришла от взволнованных участников Цусимского боя. Моряки немедленно отбили им ответ: «Товарищи старые доблестные моряки с крейсеров «Изумруд», «Аврора», «Урал», «Дмитрий Донской» и броненосца «Адмирал Ушаков»! Можете не сомневаться, Цусима не повторится! Этому порукой то, что Советское правительство направило на флот самых верных, испытанных сынов рабочего класса и колхозного крестьянства».
На следующий год командующий Тихоокеанской флотилией флагман флота 1 ранга М. В. Викторов станет начальником морских сил РККА. Так вновь возобновится старая традиция русского флота. Суровая школа Тихоокеанского театра начнет поставлять стране лучших флотоводцев. Вскоре командование Тихоокеанским флотом возьмет на себя Н. Г. Кузнецов. С весны 1939 года его место займет И. С. Юмашев. Видите, что за имена!
Школа Сибирской флотилии продолжает служить Отечеству. Северным путем с Белого моря во Владивосток каждый год идут военные корабли. Наконец в 1939 году у причалов Владивостока ошвартуется подводная лодка «Щ-423». Это первая в истории подлодка, прошедшая Севморпутем в одну навигацию с запада на восток.
Пробьет час смертельных испытаний, и труды подвижников русской дороги дадут всходы. Неистребимая тяга казаков — поставить крепости в устьях всех русских рек и защитить родную землю — не пропала даром. В 1942 году впервые в истории в разгар войны с нацистами на Север придут суда из Владивостока, чтобы выполнить древний завет и стать «за други своя». Суда эти пройдут из «Беловодья» в Белое море, соединив ратный ледовой дорогой народную мечту.
Когда фрегат «Паллада», также пройдя вокруг света, бросил якорь в Императорской гавани в виду русских берегов, один из самых спокойных, смышленых и могучих матросов фрегата сказал стоящему на палубе писателю Ивану Гончарову слова, которые, по моему глубокому убеждению, могут быть признаны главными словами последнего русского тысячелетия и служить девизом предестинации. Обогнув земной шар и увидев вновь родные земли, тот взволнованно и удивленно обронил:
«Свет мал, а Россия велика!»
В Америке недавно издали увесистый фолиант — альбом фотографий, рисующих день из жизни нашей страны, от Балтики до Курил. И лишь один объект в нем запечатлен пять раз. Это не космодром, не балет, не университет, не прокатный стан... Древний державный инстинкт и тут не подвел потомков англосаксов — особое восхищение американцев вызвало Ленинградское нахимовское училище. Фоторепортеров поразили духовная собранность, нравственная просветленность, физическая крепость наших мальчишек. Но не только это. Американцы считают свой флот опорой страны, главной ударной силой. Морская пехота — оплот армии, эталон американского духа. От Британии они переняли не только роль «владычицы морей», но и острый интерес ко всему, что имеет отношение к морской мощи. От их взора не ускользнуло и то, что училищем руководит адмирал Столяров, Герой Советского Союза, недавний командир атомной подводной лодки.
Гостей из-за океана, должно быть, взволновало не только само училище, что находится в одном из красивейших зданий города, но и стоящий под его окнами у гранитной невской стенки знаменитый крейсер «Аврора» как напоминание мощи российского флота.
Что делает море с людьми? Почему так преображаются обыкновенные парни, надев морскую форму? Наставники нахимовского училища единодушны — через месяц курсантов уже не могут узнать родители. А еще через два — после парада на Красной площади — вчерашние восьмиклассники уже настоящие юноши. Так возвышает причастность к великому делу. Рассказывают, что когда в океане встречаются два наших военных корабля, то капитаны осведомляются через громкоговоритель, нет ли на борту бывших нахимовцев...
Когда подросток вскидывает голову в строю, равняясь па флаг, он испытывает волнение, с которым не сравнится, пожалуй, никакой другой обряд. И потом, став офицером, тоже будет каждый день, поднимаясь по трапу родного корабля, отдавать честь флагу Отечества. На флоте не принято говорить на эту тему. Офицеры служат молча. Но еще в юности нахимовец чистым сердцем мгновенно улавливает, что отныне он приобщен к некоей святыне.
Как-то в Ленинграде мой собеседник, кавторанг Валерий Никонов, обронил в разговоре, что он будет на работе завтра во столько-то. Его начальник, тоже кавторанг, Евгений Корчагин тут же строго сказал:
— Не на работе, а на службе... — и улыбнулся, придав замечанию форму светской реплики. Моряки не любят говорить о подобных вещах с угрюмой серьезностью. Тот же Корчагин еще раз прервал своего друга, когда тот заговорил о том, как мучительны для офицера поиски квартиры. «Ни слова о трудностях!.. Мы флотские офицеры... Нам все дается легко...» И опять широко улыбнулся.
Перед парадом на Красной площади нахимовцев возят под Москву к полям Белого Раста, где морские пехотинцы зимой сорок первого, сбросив маскировочные халаты и надев бескозырки, поднялись в атаку и бежали по снегу, невзирая на пулеметный огонь противника, пока не сошлись врукопашную в первой линии вражеских траншей. Откуда эта наша флотская неудержимость, эта окрыленность?.. Где ее истоки? Не в Святославовом ли кличе: «Иду на вы»? Не в потешных ли играх Петра?
Здание нахимовского училища было построено накануне революции. Условиями конкурса среди архитекторов предусматривалось, что желательно ему быть в стиле Петровской эпохи. Победил безвестный инженер-строитель, который вскоре стал главным архитектором Петербурга. Казалось, даже прикосновение к наследию Петра и его энергичной эпохе приводит к результатам, похожим на чудо. Именно это чувство рождается, когда смотришь на синий дворец нахимовцев. Неслыханная дерзость и поэзия сопутствовали всем созидательным деяниям Петра. От трудностей Петр,, казалось, становился крепче; а когда чувствовал, что интересы России в опасности, тогда уже для него — чем страшней, тем веселей. После тяжелого нарвского разгрома он лично повел морскую пехоту на абордаж военных кораблей шведов в устье только что очистившейся от льда майской Невы. Тогда же беспристрастные свидетели его подвига «за никогда не слыханную викторию» надели на тридцатилетнего Петра орден Андрея Первозванного. Сему ордену надлежало быть высшим орденом новой державы, а молодому флоту — нести белый флаг с синим Андреевским крестом.
«Русские мальчики», по Достоевскому, — совесть и цвет нации. Мы знаем имена шестнадцатилетних офицеров, шедших под картечь на Бородинском поле. Но более юных витязей, чем на флоте, Русь не видывала. Четырнадцати лет Василий Головнин был произведен в гардемарины. На корабле «Не тронь меня» он дрался в трех морских сражениях против шведов и вернулся в корпус продолжать учебу с золотой медалью за отвагу.
В десять лет на суда английского флота для практики был послан Алексей Грейг. Английская корабельная служба была тогда самой суровой в мире морской школой. В десять лет на край света посылали не сироту горемычного, а сына прославленного русского адмирала С. Грейга. Малыша Алексея приняла от купели сама Екатерина, а крестным отцом его был герой Чесмы — Алексей Орлов. Три года нес службу мальчик в море. В тринадцать лет вернулся к родному очагу, но на другой год — осенью 1789-го — был вновь послан с братом Карлом в Англию. Тогда же братья совершили плавание в Индию и Китай и приняли участие в сражениях с
французскими и голландскими судами. Алексей Грейг плавал в составе эскадры знаменитого адмирала Худа, а позже, во время крейсерства с союзной английской эскадрой, заслужил похвальный отзыв самого Нельсона. Вот какой выучки моряк станет потом командующим Черноморским флотом.
Другой пример. Константин Станюкович в одиннадцать лет дрался на бастионах Севастополя в Крымскую войну. Он был потомственным моряком — сыном известного адмирала. За оборону Севастополя получит серебряную медаль на георгиевской ленте, а после войны поступит в Морской кадетский корпус.
Рано мужали гардемарины — эти расторопные и веселые мальчишки на палубах, окутанных пороховым дымом. Не угас в русских вооруженных силах беззаветный дух потешных полков Петра, его отважных юных стольников. Биографии Головнина, Грейга, Станюковича не исключение.
Вот что Достоевский выскажет позже о юношестве: «Русские мальчики» — это образ, это идея... Они не станут тратить время на расчеты — поступят, как велит им совесть, часто даже будучи уверенными в самых ужасных для себя последствиях... В минуты опасности для отечества оставляют дом, невесту, мать — и идут добровольцами, ополченцами, чтоб стать героями Бородина; забывают о своей тысячелетней родословной, и благах, и привилегиях, кои она им обеспечивает, обрекая, себя па виселицу, на кандалы, выходят на Сенатскую площадь, ибо честь и слава отчизны, освобожденной от крепостного права и подчинения немецкой чиновной бюрократии, для них превыше благ и привилегий спокойного ничегонеделания; это они бредут тысячи верст пешком по матушке России в Петербург, чтобы за несколько лет стать гордостью российской науки...
Нетерпеливы русские мальчики, им хочется сразу всего, одним разом либо пристукнуть весь мир зла и несправедливости, либо обнять и жизнью своей защитить его красоту от прихлопывания других. Все или ничего...
Но сердцем, но страстью, но провидением душевным, но убежденной устремленностью бескорыстия им открывается многое и такое, чего не возьмешь простой ученостью и усидчивостью»...
Чтобы флот и армия были сильны и держава необорима, необходимо, чтобы юношей воспитывали мужчины, ибо воспитание, как сказал Мономах в своем поучении, есть «мужеское дело».
Немало героических страниц в историю державы вписано и советскими моряками. Недавно довелось побывать на сторожевом корабле «Беззаветный» — том самом, что в феврале 1989 года чуть ли не в виду Южного берега Крыма «вытолкнул» из наших вод американский крейсер «Йорктаун». Для того чтобы навалиться на корабль, которому трижды уступаешь в водоизмещении, надо обладать главным свойством «русских мальчиков» — беззаветностью.
«Беззаветный» ждал американцев у Босфора. Когда крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» вошли в Черное море, наш корабль последовал за ними. Американцы прошли малоазийскими берегами Турции, миновали Батуми и по периметру вдоль кавказских берегов стали приближаться к Крыму. Около Поти к «Беззаветному» присоединился наш небольшой сторожевой корабль, который уступал американскому эсминцу «Кэрон» в водоизмещении в шесть раз. На траверзе мыса Сарыч, приближаясь к Севастополю, янки не вошли, а «вломились» в наши воды. Старший лейтенант Александр Мусько был в то пасмурное утро вахтенным офицером и видел с ходового мостика всю картину.
— Мы ему сигналим, что он нарушает, а они: «Мы не нарушаем, осуществляем мирный проход».
— Ну а дальше что? — спрашиваю.
— Вся команда с фотоаппаратами высыпала на верхнюю палубу и улыбается.
Когда высыпала, до навала или после?
— Нет, — говорит старший лейтенант, — после навала их как ветром сдуло...
Командира корабля В. Богдашина не было в Севастополе, и я разговорился еще с одним участником инцидента — старшим помощником капитаном 3 ранга Валерием Куликовым. Вот что он добавил к рассказу Мусько:
— «Йорктаун» знаем давно. Это он потопил ливийский катер во время атаки американцев на Триполи. Американский крейсер, сбивший иранский пассажирский «Боинг» над Персидским заливом, — точная его копия. Это бывалые крейсера, как бы первые зачинщики, когда идет игра мускулов. Много раз предупреждали американцев, что они нарушили границу, но те и не думали менять курс. Ветераны флота стыдят нас, мол, мы не позволяли никому унижать достоинства державы, а вы, молодежь, честь родного флага не можете отстоять. Били же, говорят, мы фашистов, неужели вам не под силу проучить эту «жевательную резинку». Каково такое слушать... И в самом деле обнаглели, чуть не на пляжи лезут. Так вот, высыпали они, значит, на верхнюю палубу с камерами... Мы все ближе и ближе. Снимать снимают, а пушки на нашу командирскую рубку наведены. Начальник штаба флота, вице-адмирал Селиванов, командует: «Наваливайтесь! Выталкивайте их вон из наших вод!» Селиванов мужик настоящий, в Средиземном море эскадрой командовал, ему это миндальничанье с хамами давно поперек горла... Приказ есть приказ. Первым бросился на эсминец «Кэрон» храбрый «потиец». «Беззаветный» на скорости пять узлов настиг «Йорктаун» и ударил скулой ему в корму. Американцы — врассыпную. У нас все орудия заряжены. Команда молчалива и собранна. Никогда не видел, чтобы матросы так хорошо работали. Мы ему три ракеты «Гарпун» поломали, леера и трап снесли. Чтоб удар был поувесистей, выпустили чуть якорь. Таранили так, что якорную цепь как ножом срезало. (В музее флота я потом видел звено от якорной цепи. Событие это стало сразу историческим. Ведь со времен войны моряки наши характер не показывали. — К. Р.) Потом Селиванов командует, если курс не меняет, ударьте еще раз. Ну мы и не стали раздумывать. Навалились снова. Конечно, и сами помялись. Крейсер в три раза больше нашего «Беззаветного». Сообщаем в штаб, что на «Йорктауне» выпустили вертолет и готовят к взлету. Адмирал в ответ: «Как взлетит — сбивайте!» «Есть!» — отвечаем. Приготовили орудия. С таким адмиралом можно служить. Американцы то ли поняли наконец, что зарвались, то ли нервы не выдержали, но вертолет не подняли и курс сменили. Скандал, разумеется, но не все же божья роса?..
На прощание стали с Куликовым сравнивать Советский и американский флоты. Старпом сказал с убеждением:
— По технике они, может, кое в чем и обходят нас, но духом мы сильней. Это каждый матрос чувствует...
После инцидента американцы заметно вежливее стали. Командир крейсера «Азов» капитан 2 ранга Владимир Васюков позже подтвердил:
— «Йорктаун» из боевого охранения авианосца «Корал си». Командира после того случая сняли. Раньше они приблизиться не давали к авиаматке, как говорится, на пушечный выстрел. Ну прямо-таки борт в борт и как бы отпихивали от авианосца. А после, навала держатся на почтительном расстоянии, дескать, кто знает, что на уме у этих русских с их таинственной славянской душой. Да и моряки наши не только на «Беззаветном» приосанились: для того Родина и поставила нас па рубежи, чтоб дозор держать неослабно...
Близится трехсотлетие русского военного флота. Он зародился в битве за устье Дона, когда понадобились суда для осады Азова. 20 октября 1696 года боярская дума утвердила указ двадцатичетырехлетнего Петра и вынесла «приговор»: «Морским судам быть». Этот день принято считать началом русского военного флота. За триста лет (кроме Цусимы) русский флот не потерпел ни одного поражения. Бывают разгромы, которые приносят не меньше славы побежденным, чем победителям. Цусима — одна из таких битв. Наши моряки умирали, не спуская флага. Против эскадры японцев шли только «Варяг» и «Кореец». Открывая кингстоны, они не были побеждены морально.
Сегодня четыре наших флота, как щиты, заслоняют рубежи нашего Отечества: Тихоокеанский флот — на востоке, Балтийский — на западе, Северный — по всей акватории Ледовитого океана, на юге — Черноморский. В недавний свой приезд в СССР министр обороны США Фрэнк Карлуччи (ныне бывший) был предельно внимателен на борту крейсера «Слава» в Севастополе. Он запомнил все. И то, что «Слава» пятый в русском флоте корабль с подобным названием, и то, что ведет родословную вот уже триста лет. В американском флоте нет кораблей, подобных «Славе». Нет в мире корабля, который при таком водоизмещении нес бы столь мощное оружие. Адмирал Макаров однажды сказал: «Унылые люди не годятся для такого бойкого дела, как морское, в особенности во время войны». Слова эти любит повторять командир «Славы» капитан 2 ранга Василий Васильчук.
Фрэнк Карлуччи не увидел на корабле Васильчука ни вялых, ни подавленных моряков.
Покидая крейсер, один из американских адмиралов признался Васильчуку, что хотел бы служить на таком корабле. Вот этого-то и страшатся хозяева Америки! Они готовы на любые сокращения вооружений, но флот свой считают неприкосновенным. Твердо унаследовали от Британии: кто хозяин в океанах, тот и господствует в мире...
Чтобы быть верными миссии мира, мы обязаны быть верными своей столбовой дороге к океанам. Триста лет создавалась морская мощь России, три столетия русские моряки доблестно несли службу на рубежах державы. Подумаем и о дне завтрашнем. Флот требует дальнейшего развития: еще более надежной системы базирования, кадров с высочайшей морской выучкой и культурой, неослабного интереса к научным открытиям и опыту. Если в Севастополе единственный в своем роде в мире спасательный корабль «Эльбрус» вот уже лет пять не выходит в открытое море только потому, что негде его отремонтировать, то это не делает нам чести. Флот и застой — понятия взаимоисключающие. Будем же достойны деяний предшествующих поколений и останемся верны исторической предестинации!
Дух державного служения более всего укоренен в армии и флоте. Сорок пять лет стоит в развалинах главная святыня Севастополя — Владимирский храм, где покоится прах Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина. Когда командующий Черноморским флотом адмирал Михаил Николаевич Хронопуло говорил в беседе со мной, что флот, отчаявшись в ожидании восстановления усыпальницы адмиралов, решил не только сам взяться за ее реставрацию, но еще перенести сюда из Мордовии прах адмирала Ушакова, я невольно почувствовал дух предестинации, тот порыв, что имеет и свой знак — как знамя, он в белом шарфе моряка, который Петр велел завязать офицерам на руку, чтобы матросы видели их впереди абордажного боя. Наш прославленный морской летчик Борис Сафонов, дважды Герой Советского Союза, чтобы его товарищи по полку узнавали друг друга в бою, тоже велел им носить белые шарфы. Белый шарф, как и кортик, символ чести офицера и его служения Отечеству, символ чистоты совести. Только духовный порыв, рожденный сильной памятью, способен истребить неуставную заразу, занесенную «пеструшкой» из общества в наши Вооруженные Силы.
В чем же подлинная самобытность нашего исторического пути? Что отличает неповторимый духовный тип русского человека, который народ воплотил в идеал подвижнического служения Отечеству, огранил державное творение русского этноса понятием «Святая Русь»? Понятие это не церковное, тем более не всемирное, а коренное, народное, родившееся вместе с древним: «Кто сеет хлеб — тот сеет правду». Это во-первых.
Предестинация русских, белорусов и украинцев вела их к океанам. Путь этот прежде всего земледельческий. При всех издержках казацкой вольницы они тянули к морю не только корабли через чащи и пороги, но и плуг. Это во-вторых.
Ни один из народов на окраинах Руси из вчерашних ее смертельных врагов — ни на русском юге, ни на русском западе, где потомки Тевтонского и Ливонского орденов умирали за идеалы русской государственности, ни на востоке, начиная с Казанской, Ногайской и Сибирской орды и до Тихого океана, где берег Отечества не дальний, а где русский восток, — ни один народ не узнал на себе ни злопамятства русских, ни мести, ни унижения. Этого не опровергают даже злейшие наши враги. Иначе эти народы не умирали бы бок о бок с нами в двух отечественных войнах. Таков подлинный интернационализм. Вот почему «Святая Русь» — понятие глубоко и самобытно национальное. Лучшим свидетельством этому служит то, что после Октября, когда русские, белорусы, украинцы, став в большинстве своем атеистами, первыми умирали в войне с фашистами «за други своя!», а после войны и до сего дня отдают бескорыстно вчерашним угнетенным народам все лучшее, что у них есть. Порукой этому то, что ныне они по уровню жизни, образования, льготам уступают вчерашним своим окраинам. Пусть это будет в-третьих.
И наконец, доказательством праведности пути к морям служит то, что единая Русь, разъединенная Ордой на три народа, вновь слилась в единый этнос Киевской поры в устьях Днепра, Дуная, Дона, Кубани, Волги, Амура, па необозримых просторах Урала и Сибири, тем самым показав миру, что есть только один путь к спасению. Он — в братстве и равенстве всех пародов.
Не из этого ли духовного источника родилась и «Троица» Рублева — как переживание и мечта о новом единстве разъединенных па три ветви руссов? Она и заказана была Сергием Радонежским, дабы преодолеть «ненавистную рознь мира сего». Ее тишина, единство и свет могли родиться лишь после Куликовской сечи, в которой ратоборствовал Андрей Рублев, — битвы, что потрясла двадцатилетнего инока, такого же «русского мальчика», как Алеша Карамазов. Единство светилось и в каждом слове украинца Василия Васильчука, командира крейсера «Слава», белоруса Егора Томко, начальника училища подводного плавания, контр-адмирала, Героя Советского Союза; русского Льва Столярова, начальника нахимовского училища, контр-адмирала, тоже Героя Советского Союза.
Тихий океан уже стал «Средиземным морем» человечества. Как нам осознать деяния Петра на новом историческом этапе, который ждет страну на пороге нового тысячелетия? С Петра ведет отсчет новая эра в международной жизни. Эта эра началась с навигацких школ в Москве, Якутске, Охотске, Иркутске, Нерчинске. Если бы вдруг ныне явился Петр, то нет сомнения, что теперь он поставил бы столицу на берегу Охотского моря — самого русского, самого сурового и самого богатого моря в мире. Он же, вопреки «желто-блакитной» петлюровской «пеструшке», исправил бы свою государственную ошибку и объявил бы в соответствии с исторической правдой первопрестольным градом Отечества тот город, откуда и пошла русская земля, а именно — Киев. Это не умаляет роли Москвы, ибо великодушие только возвысило бы белокаменную святыню. Киев — не «мать городов русских». Киев — он, а потому отец. Перестанем же в византийском раболепии называть мужественный город — «она» —- только потому, что «город» в греческом языке женского рода. Если бы Петр, обладавший редкой глубиной исторической памяти, воздал бы Киеву по его великим заслугам, быть может, ему не пришлось бы отливать для Мазепы медаль в восемь килограммов серебра с изображением удавившегося Иуды. И вопреки бессмысленной «пеструшке» он не только немедленно достроил бы БАМ, а добавил бы еще колею да новую железную дорогу стремительно довел бы до Магадана, чтобы не с помощью соседей, а руками и умом самих россиян созидать свой дом на священных берегах Отечества.
Петр не мог не поставить столицу в устье Невы. Не мог не приблизить к врагу царский дворец. Он знал, что опасность мобилизует все ресурсы народа. А свой народ он знал лучше всех. Поставь Петр в устье Невы только могучую крепость, Россия не стала бы великой морской державой. Инерция Московской Руси утащила бы ее вновь в глубь континента.
Инерция эта существует и поныне. Русская эмиграция в своем худшем проявлении породила «пеструшку», которая предала святыни и договорилась до того, что ордынское иго для русских было даже благотворным.
Убийства, набеги, полон, надругательства, муки, битвы — все принесено в жертву евразийской идейке об исконной сухопутности русских. Это же сдабривается заимствованной на Западе теорией «пассионарности»...
Столица должна была быть там, где пересекаются мировые дороги. Чтоб не дремали. Чтобы во время морской битвы со шведами «окна были в постоянном содрогании». Есть и еще одна тайна в выборе Петра. Он придерживался правила, которое Суворов выразил словами:
«Опасности лучше идти навстречу, чем дожидаться ее на месте».
Адмирал Ушаков уточнил: «Врагов не считают — их бьют!»
Так предестинация вывела русский флот в Мировой океан для защиты мира. Когда в морскую пучину погрузились начиненные смертью атомные подводные лодки американцев с черным туловищем и зловещими очертаниями и начался, по Пушкину, «гад морских подводный ход», тогда-то «русские мальчики» и вышли на океанский простор на кораблях, родившихся в глубине континента на заснеженных просторах их Родины. Только океаническое мышление поможет нам до конца осознать священные рубежи Отечества и особость нашего духовного типа, ибо:
Свет мал, а Россия велика!
Кто сеет хлеб — тот сеет правду
Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе.
Вергилий«Джентльмен обыкновенно живет в деревне» — так начинается, говорят, одно из самых известных в Англии руководств для «настоящих мужчин». Почему для британских верхов, столетиями неторопливо отбиравших нормы в кодекс поведения и жизни и показавших исключительную классовую выживаемость и гибкость, деревня и аристократизм оказались сопряжены и неразрывны до сегодняшнего дня? И сейчас загреби хоть миллионы, но, если ты не ковыряешься на своем клочке земли и у тебя нет дома и живности, никакие деньги не смоют с тебя облика выскочки и разбогатевшего деклассированного чужака.
Когда это началось?
Облагораживание земли было главным, что внесли в историю молодые народы Европы, пришедшие на смену античности.
Владение землей стало главным признаком знатности.
Что общего между много раз осмеянным деревенским увальнем и джентльменом?
Прежде всего деревня с ее укладом, сезонами, рассветами, работой, требующей долгого дыхания, нечто генетически чуждое выскочке — земля проверяет на подлинность человека.
Английское дворянство не зря лучше континентального приспособилось к буржуазности, оно знало всегда цену деньгам и обладало, значит, незамутненным инстинктом власти. О том, что земля — основа богатства и достоинства, именно богатства и достоинства (у буржуа деньги и честь ходят врозь), английское дворянство знало всегда. Даже «леди» в своем первом и точном звучании означало на заре истории германских племен «женщина, пекущая хлеб».
Великого Либиха[3] они не привели бы в отчаяние своей непутевостью, как русские помещики, о которых он писал в письме профессору Петровской сельскохозяйственной академии П. А. Ильенкову: «Русское земледельческое дворянство должно же понять, что ему необходимо запастись сельскохозяйственными знаниями, если оно не хочет идти навстречу верной гибели».
Неуважение к земле гибельно для любого господствующего класса.
Нам, унизившим высокое понятие «деревня» в своем обыденном сознании (а оно имеет решающее значение) и принявшим эстраду за культуру, трудно вновь повернуться лицом к земле и основам, но придется — предостережение Либиха не теряет силы.
Островная психология англичан, закаленная беспощадным отбором на острове, видимо, способствовала тому, что в складках их сильной памяти была запрятана не только эксцентричность, до которой падки составители журнальных смесей па континенте, но и отпечатки глубоких и длительных народных переживаний. Там же укоренилась и стала частью психики идея о том, что сила и благородство не во внешних знаках иерархического ранга, а, что важнее, в знании своего места на общественной ступени; иными словами, верный признак благородства — это сознание, что достоинству есть место на любой ступени, а недовольство своим социальным местом вместе с завистью и раздражительностью — признак низменной натуры.
Благородство в сознании уникальности любого социального места.
Не станем ни иронизировать, ни шарахаться от знаменитого кодекса правил чести только потому, что оп выработан не в наших обстоятельствах или принадлежит высшему классу. Попади нам в руководство строка «джентльмен никогда не лжет», не воспримем же мы эту мораль враждебной нам. Сейчас будет речь идти о земле, а деревня не переносит одномерности, схемы и волюнтаризма, как мы убедились на горьком опыте.
В основе сельской жизни — здравый смысл, ибо там от стебля травинки и до коровы всюду человек имеет дело с живым.
Но, спросите вы, к чему здесь Альбион, кодекс чести, деревня и Либих?
И в самом деле, записки эти пишутся в ставропольской станице, куда я приехал вновь с промежутком в восемь лет. Первый вариант записок не был опубликован, но станица Григорополисская с ее ученической бригадой не давала покоя. А что до кодекса благородства и коровников, то взаимосвязь прямая. Вся культура наша вышла из деревни. Мы все ее дети и часто неблагодарные, как бывает с блудными детьми, забывшими истоки. «Буржуа» — по-русски «мещанин». А «мещанин» — от слова «место», то есть «город» по-старинному, по-украински и сейчас город — «мисто», польское «място». Последуем призыву известного поэта Жемчужникова: «По-русски говорите ради бога! Введите в моду эту новизну».
Так давайте же вернем горожанину его первоначальное имя «мещанина», хотя бы тому горожанину, который стал плевать на деревню, то есть на свою колыбель, на истоки, на прошлое.
Наша культура, как и европейская, вся деревенская.
Все песни, все былины, вся музыка, все нравы и устои родились на сельских просторах и хранились по усадьбам, дворам, теремам и избам. Рыцарский кодекс, и сегодня составляющий основу всей нравственности, отлился в деревенских усадьбах и крепче всего держался не в роскошных палатах и замках, а в среде бедного дворянства, тому порукой отважный и бедный мечтатель с плоскогорий Манчи по имени Дон Кихот.
Русская культура не деревенская, строго говоря, и не городская, у нее есть точное и собирательное имя — это культура усадебная.
Для кого пишутся эти строки? Для станичных ребят с русского юга, для членов ученической бригады. Это ради них я приехал сюда вторично и из-за них не опубликовал первый, говоря по-старому, извод записок. Когда я увидел их неутомимость на поле, их мозолистые детские руки, мне стало неловко отписываться даже одой в их адрес. Надо бы попробовать дать им самое главное, чего они, как мне тогда показалось, лишены, а именно: доказательства благородства их социального выбора. Чтобы они навсегда осознали, что город сближается с деревней, потому что это надо городу. Деревня проживет худо или бедно без города. А город без деревни не проживет. Это на уровне физической выживаемости. Но есть еще у деревни одна ипостась.
Чем больше в городе деревни, тем город прекрасней.
Деревня живет в городе прудами, парками, цветами, лужайками, водой, травой, пением птиц. Без деревни города становятся тем, как воспринял их Бунин с его строгой нелицеприятностью. А в его пору русские города были еще полны усадеб на две трети. Но именно он увидел то, к чему мы успели, увы, привыкнуть. Бунин же сопоставлял новые кварталы с укладом городских усадеб: «Отвратные в своем даже внешнем безобразии и в своей тесноте города, стоящие на гигантских клоаках и непрестанном грохоте». Те «отвратные» кварталы, которые в 1913 году вызывали ярость Бунина, теперь, увы, являются украшением всех городов. Что бы он сказал, увидев слепые и голые типовые жилмассивы «спальных районов». Иван Бунин знал деревню, как никто в России. Он любил ее строгой любовью без фальши и нынешней всхлипывающей чувствительности.
Каждый вечер в пойме Кубани в колхозном особняке-гостинице пробую перенести на бумагу неостывшие впечатления дня, которые перемежаются невольно с воспоминаниями о прошлом края, взятыми из книг станичной библиотеки и из бесед со старожилами.
Ставропольский край сам размером с Францию. Путь от Петербурга в Тифлис проходил когда-то через Москву, Тулу, Воронеж, Ставрополь, далее по пути Александровское, Георгиевск, Минводы, и затем Военно-Грузинской дорогой в Тифлис. Здесь проезжали Пушкин, Лермонтов, Л. Толстой, А. Бестужев, А. Одоевский. Начальником штаба Кавказской линии был генерал П. И. Петров — родственник М. Лермонтова. У него и останавливался поэт в 1837 году. Сюда шли офицеры для службы в Кавказском корпусе, самом тогда боеспособном, независимом и образованном в русской армии. Их нарекли кавказцами. Названия этих мест западают нам в сердце с детства. Мы носим их в себе, часть нашего духовного склада, не думаем об этом, а побывав здесь, вдруг чувствуешь, как всплывают в памяти дорогие имена и строки,
Вот отрывок из «Путешествия в Арзрум» с пушкинской магией слов, простых и вечных: «В Ставрополе увидел я на краю неба облака, поразившие мне взоры тому ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи».
В хорошую погоду на горизонте можно различить вдали двуглавую вершину Эльбруса. Показал мне ее главный агроном колхоза «Россия» Соловьев Михаил Гаврилович. Подите по его имени, фамилии догадайтесь, что Соловьев природный болгарин и прирожденный агроном, у него, как у доброго болгарина, эти два начала неразрывны. Он показал на Эльбрус и, как о чем-то естественном, заметил, что его родной брат недавно спустился с вершины Эльбруса в долину на дельтаплане. Я было хотел узнать подробности, но Соловьев перевел беседу на любимую им тему земледелия. Михаил Гаврилович дельный агроном, с лирико-философским отношением к земледелию, то есть отношением наиболее редким и самым продуктивным в мире, ибо он вносит в сельский труд главную составляющую земледелия — красоту, а последняя немыслима без трудолюбия и духовной дисциплины.
В станице по традиции главные специалисты колхоза закрепляются за классами в качестве шефов. Соловьев в таких случаях выбирает первый класс, но зато ведет его уже до выпуска из школы. Он любит ходить по полям с малышами. Как истинный философ, он легко великие нормы земледелия переводит на язык, доступный первоклассникам. В таких случаях обе стороны в восторге друг от друг. По проселкам между посевами шагает высокого роста мужчина, окруженный радостно-пытливой гурьбой ребят. Соловьев говорит по-русски свободно с легким балканским акцентом. Он показывает на поле и спрашивает, нет ли в посевах огрехов, прямы ли рядки. Дети дружно подтверждают. Отделены ли края полей от дороги?.. Ведь школьные тетради тоже делаются с полями, не правда ли? Вы же уже кончаете первый класс. Дети, найдите этикетки на краю поля и прочтите фамилию бригадира или звеньевого. Нет ли среди вас тех, кто знает их? Может, они чьи-то родственники или соседи? Нет ли на поле сорняков?.. Дети, вы любите розы?.. Хор голосов отвечает: да!..
Соловьев говорит обо всем чуть загадочно и доверительно. Ребята вслушиваются в его интонации.
— А если посреди хлебного поля растет роза, надо ли ее вырвать?
Дети переглядываются. Думают.
— Вам жалко розу, не правда ли? — угадывает Соловьев. — Но вы должны научиться порядку и культуре. Знаете, что такое культура? Это когда каждый знает свое место. Роза пусть растет в цветнике, а не в пшенице. Когда не знаешь своего места, то и роза может стать сорняком.
Волнистое поле перед вами или оно хорошо выравнено? Мастера пропашных ряды как струну вытягивают. Если вы посмотрите на наши поля с высоты птичьего полета, то не сможете оторваться. Вы в первом классе, значит, вы тоже наши всходы, как подснежники. Помогаете маме в огороде?
Малыш серьезно отвечает:
— Я с мамой сажаю картошку. Мама луночки роет, а я клубни бросаю.
— Сколько ты бросаешь клубней в лунку? — спрашивает агроном.
— Если маленькие клубни, то две бросаю в лунку. А большую так и одну.
— Молодец! Это называется нормой высева. Любишь печенную в золе картошку? Я тоже в детстве любил.
— Как выглядит пшеница, ребята?
Она усатая, — говорят первоклассники.
— Правильно теперь вы будете говорить не усатая, а остистая. А та, что без усов, — безостая. Поле, ребята, должно быть таким же красивым, как красиво в хорошем доме: подойдешь к крыльцу и невольно чтоб захотелось ноги вытереть.
— Я, — говорит мне Соловьев, — проповедую детям любовь к живому. В земледелии все должно быть целесообразно и красиво, а если еще и сделано просто, то это уже просто гениально. Малышам я даю образ родного поля. Пусть им в душу западает красота. Мы-то с вами знаем, что в прямых рядах можно посеять не те семена, верно? Поле-то может быть ровным, но это вовсе не значит, что оно вспахано вовремя и на должную глубину, так?.. Красивая этикетка не скажет нам, умен ли севооборот, разумно ли чередуются культуры. Понятие культуры включает и ум, и совесть. Последнее, пожалуй, важней. Поле должно быть красивым, но не все то золото, что блестит, — так поговорка звучит русская. Это диалектика... Об этом я расскажу детям позже. Сейчас главное — воспитание души через образ родного села и поля. Воспитание красотой, и обязательно через родной дом, через опыт ребенка в семье с папой и мамой, с братьями. Все должно пройти через сердце.
Я сказал Соловьеву, что его воззрения на воспитание очень близки с мыслями нашего замечательного поэта Василия Жуковского, быть может, самого великого педагога в истории нашего Отечества. Он был учителем не одних только Пушкина и Гоголя, хотя и этого достаточно для величия. Жуковский был прирожденным наставником, мало сказать, он был как бы воплощенной душой педагогики — этот учитель царей и поэтов. Жуковский любил детей и всю жизнь подвижнически им служил, Я пообещал Соловьеву на другой день принести два знаменитых перевода Жуковского из Хебеля[4] без которых не обходилась когда-то в России ни одна детская хрестоматия. На этих стихах выросло несколько поколений россиян. Михаил Гаврилович, прочитав, онемел от восторга и удивления. Он сказал:
— Каждый ребенок и каждый агроном должен знать их. Мой отец в Болгарии не знал о Жуковском, но учил нас тому же самому. Отсюда наша любовь к земле и верность.
Первое стихотворение называется «Овсяный кисель», привожу его целиком как составную часть этих записок и одну из глав.
Дети, овсяный кисель на столе; читайте молитву; Смирно сидеть, не марать рукавов и к горшку не соваться; Кушайте: всякий нам дар совершен и даяние благо; Кушайте, светы мои, на здоровье; господь вас помилуй! В поле отец посеял овес и весной заскородил. Вот господь бог сказал: поди домой, не заботься; Я не засну; без тебя он взойдет, расцветет и созреет. Слушайте ж, дети: в каждом зернышке тихо и смирно Спит невидимкой малютка-зародыш. Долго он, долго Спит, как в люльке, не ест, и не пьет, и не пикнет, доколе В рыхлую землю его не положат и в ней не согреют. Вот он лежит в борозде, и малютке тепло под землею; Вот тихомолком проснулся, взглянул и сосет, как младенец, Сок из родного зерна, и растет, и невидимо зреет; Вот уполз из пелен, молодой корешок пробуравил; Роется вглубь, и корма ищет в земле, и находит. Что же?.. Вдруг скучно и тесно в потемках... «Как бы проведать, Что там, на белом свете, творится?..» Тайком боязливо Выглянул он из земли... Ах! царь мой небесный, как любо! Смотришь — господь бог ангела шлет к нему с неба: «Дай росинку ему и скажи от Создателя: здравствуй». Пьет он... ах! как же малюточке сладко, свежо и свободно. Рядится красное солнышко; вот нарядилось, умылось, На горы вышло с своим рукодельем; идет по небесной Светлой дороге; прилежно работая, смотрит на землю, Словно как мать на дитя, и малютке с небес улыбнулось, Так улыбнулось, что все корешки молодые взыграли. «Доброе солнышко, даром вельможа, а всякому ласка!» В чем же его рукоделье? Точит облачко дождевое. Смотришь: посмеркло; вдруг каплет; вдруг полилось, зашумело, Жадно зародышей пьет; но подул ветерок — он обсохнул. «Нет (говорит он), теперь уж под землю меня не заманят. Что мне в потемках? здесь я останусь; пусть будет что будет». Кушайте, светы мои, на здоровье; господь вас помилуй. Ждет и малюточку тяжкое время: темные тучи День и ночь на небе стоят, и прячется солнце; Снег и метель на горах, и град с гололедицей в поле. Ах! мой бедный зародышек, как же он зябнет! как ноет! Что с ним будет? земля заперлась, и негде взять пищи. «Где ж (он думает) красное солнышко? Что не выходит? Или боится замерзнуть? Иль и его нет на свете? Ах! зачем покидал я родимое зернышко? дома Было мне лучше; сидеть бы в приютном тепле под землею». Детушки, так-то бывает на свете; и вам доведется Вчуже, меж злыми, чужими людьми, с трудом добывая Хлеб свой насущный, сквозь слезы сказать в одинокой печали? «Худо мне; лучше бы дома сидеть у родимой за печкой...» Бог вас утешит, друзья; всему есть конец; веселее Будет и вам, как былиночке. Слушайте: в ясный день майский Свежесть повеяла... солнышко яркое на горы вышло, Смотрит: где наш зародышек? что с ним? и крошку целует. Вот он ожил опять и себя от веселья не помнит. Мало-помалу оделись поля муравой и цветами; Вишня в саду зацвела, зеленеет и слива, и в поле Гуще становится рожь, и ячмень, и пшеница, и просо; Наша былиночка думает: «Я назади не останусь!» Кстати ль! листки распустила... кто так прекрасно соткал их? Вот стебелек показался... кто из жилочки в жилку Чистую влагу провел от корня до маковки сочной? Вот проглянул, налился и качается в воздухе колос... Добрые люди, скажите: кто так искусно развесил Почки по гибкому стеблю на тоненьких шелковых нитях? Ангелы! кто же другой? Они от былинки к былинке По полю взад и вперед с благодатью небесной летают. Вот уж и цветом нежный, зыбучий колосок осыпан: Наша былинка стоит, как невеста в уборе венчальном. Вот налилось и зерно и тихохонько зреет; былинка Шепчет, качая в раздумье головкой: я знаю, что будет. Смотришь: слетаются мошки, жучки молодую поздравить, Пляшут, толкутся кругом, припевают ей: многие лета; В сумерки ж, только что мошки, жучки позаснут и замолкнут, Тащится в травке светляк с фонарем посветить ей в потемках, Кушайте, светы мои, на здоровье; господь вас помилуй. Вот уж и Троицын день миновался, и сено скосили; Собраны вишни; в саду ни одной не осталося сливки; Вот уж пожали и рожь, и ячмень, и пшеницу, и просо; Уж и на жниво сбирать босиком ребятишки сходились Колос оброшенный; им помогла тихомолком и мышка. Что-то былиночка делает? О! уж давно пополнела; Много, много в ней зернышек; гнется и думает: «Полно; Время мое миновалось; зачем мне одной оставаться В поле пустом меж картофелем, пухлою репой и свеклой?» Вот с серпами пришли и Иван, и Лука, и Дуняша; Уж и мороз покусал им утром и вечером пальцы; Вот и снопы уж сушили в овине; уж их молотили С трех часов поутру до пяти пополудни на риге; Вот и Гнедко потащился на мельницу с возом тяжелым; Начал жернов молоть; и зернышки стали мукою; Вот молочка надоила от пестрой коровки родная Полный горшочек; сварила кисель, чтобы детушкам кушать: Детушки скушали, ложки обтерли, сказали: «спасибо».Что помогло Жуковскому сделать перевод Хебеля глубоко народной, поэтической песней, одухотворившей сельскую жизнь? Это и есть наставничество в его наиболее высоком проявлении, та незамутненная любовь к детям, которая рождает песню без единого книжного слова и приводит в волнение опытного агронома из казачьей станицы. Пушкин и здесь нам советчик и приоткроет тайну имени поэта. Он говорил с непосредственностью и глубиной ребенка: «У Жуковского небесная душа! Всякий раз как мне придет дурная мысль, я вспоминаю, что сказал бы Жуковский, и это возвращает меня на прямой путь».
Может, и нам он пособит и выведет к нашей деревне; нашей колыбели, поможет выйти на «прямой путь». Дорога столбовая нами утеряна, а отыскать ее для нас, как быть или не быть, ибо она теряется, как сказал бы Пушкин, в «дыму столетий», в росистом утре русской жизни. Мы вновь выйдем на большак, будем неуязвимы, коли облагородим, как наши предки, земледельческий труд и придадим ему высочайший социальный ранг. Конвейер, электроника и автоматика приведут со временем, и оно, это время, близится, к тому, что физический труд, а особенно труд на земле, станет привилегией. Людей становится все больше, а земли возделанной — все меньше и меньше. Не придется ли переосмыслить изречение рыцарских времен: «Нет сеньора без земли»?
Как знать? Не дожидаясь этого часа, мы уже сегодня можем сделать многое, чтобы причастность к земле воспринималась юношами как высокий жребий, заменить который не могут никакие соблазны городов. Это понимали и Пушкин, и Жуковский, и Ломоносов, и Менделеев. Последний получал у себя в Боблове урожай ржи в 60 центнеров с гектара. Такого урожая ни до него, ни после никто в мире не получал. Вот такого «сеньора» и ждет земля. Студенты Петровской сельскохозяйственной академии практиковались в Боблове каждое лето. Дмитрий Иванович Менделеев был великим деревенщиком. Такие люди — редкие светочи и удача в любом народе. Теперь вспомните, сколько раз вы читали стенания о том, что пора восстановить дом Блока по соседству в Шахматове? И припомните хотя бы раз, чтобы кто-то призывал восстановить Боблово и его великое поле. Это все оттого, что в «области балета мы впереди планеты всей», как поется в популярной песне. Годы красные пропели, оглянуться не успели...
Раньше говорили: делу время, потехе час. Сейчас мы перепутали культуру с развлечением. Отделы культуры в районах стали отделами зрелищ, то есть все той же потехи. И здесь, в гостинице, вечером включишь телевизор — пляшут или на гитарах наяривают, утром включишь — опять гитары, днем — то же самое. Перекрутишь на другую программу — и там дергаются или завывают, по-заморски вещают чревами. На селе смотрят эти программы особенно впечатлительные девушки, и безысходная тоска их охватывает, и злоба на коровник, и на поле с табличками, и на деревню родную. Они фанатично начинают стремиться вон отсюда куда глаза глядят, только вон.
Ведь посмотрите, в столицах поют и пляшут. Сбегают в чистую контору, переберут бумажки и снова за гитару, а более всего обидно, что поют по-чужому, манерней, потому втройне привлекательней. Куда ни кинь — одни гитары. Камень бросишь — в гитариста угодишь. И чему они радуются? Что празднуют? Невдомек крестьянину. Он же не знает, что ансамблей расплодилось столько, что впору менять поговорку — один с сошкой, семеро с гитарой. Ему кажется: так живут все, кроме него, брошенного и забытого в сельской глуши. Спустился вниз, на кузню, а там буфетчица, растревоженная дрыгающим телевизором, с невыразимой ненавистью к селу говорит мне: «Умру, но не позволю, чтобы моя дочь жила в станице. Пусть едет в город».
При въезде в станицу вас встречает щит с надписью: «Колхоз «Россия» — родина ученических бригад». На Ставрополыцине их 360.
В этих полевых школах проходит выучку девяносто тысяч школьников. За тридцать три года, с тех пор как существует движение, через бригады края прошло девятьсот тысяч ребят. Четыре бригады Ставрополья стали лауреатами премии Ленинского комсомола.
Сейчас по стране у григорополисской ученической бригады уже три миллиона последователей.
Станица — родина великого почина, ибо те три миллиона — это будущее нашего отечественного земледелия, потому так важно все, что происходит у родоначальников, у правофланговых движения.
Две трети механизаторов Ставрополья прошли школу ученических бригад. В будущем влияние бригад на жизнь села будет возрастать. Колхоз «Россия» лидирует среди четырехсот хозяйств земледельческого края. Здесь же возникла первая в стране комплексная бригада. В армии умнее поступили, когда понадобилось выделить одно соединение, — его назвали или «Отдельным», или «Ударным», или «Особым». Все слова ясные, коренные и русские. С шестидесятых годов вдруг все стало «комплексным» до убожества. Обед в столовой «комплексный», бригада «комплексная», программа воспитания «комплексная», не совокупная, животноводческий тоже «комплекс», вплоть до «территориально-производственного комплекса».
Это умственное обеднение речи — следствие, видимо, более серьезных причин. Но засорение языка достигло уже предела, и пора объявить общенародную войну загрязнению духовной сферы. Колхоз здесь вовсе не при чем — это часть загрязнения, которое несет город. Извините за отступление, но это в теме нашей беседы. Детям нужны чистые истоки. В колхозе «Россия» возникли и первая в стране птицефабрика, и первый промышленный механизированный ток, и первый свинокомплекс. Вы же видите: нет спасу от комплексов. Так недолго и закомплексовать. Раньше других здесь внедрено беспривязное содержание коров. Привязать корову к кормушке на всю ее жизнь, кормить и доить — эта идейка не могла родиться в деревне. В ней есть что-то асфальтобездушное, что-то от плантации или от конвейера и машинного сознания. Отказались, правда, не из жалости к живому, а потому что подсчитали, что свобода продуктивней — природу не перехитришь. Одомашнивание тоже имеет пределы. Есть своя историческая закономерность в том, что первая бригада возникла на русском юге, здесь, в казачьем краю, каждая пядь которого полита потом и кровью русской вольницы, заслонившей собой «русские украины». Первыми почувствовали, как слабеет связь с землей у молодежи именно здесь, и не ударились в стенания, а начали действовать. Сейчас в бригаде дети первых членов бригады.
Еще год, другой, и школа Григорополисской станицы отметит 90-летний юбилей. Это хороший возраст. Но самый бурный день своей жизни школа, пожалуй, пережила в 1979 году, когда скромная сельская школа вдруг осознала свой вклад в педагогику страны.
На правом берегу быстрой Кубани раскинулась людная и богатая станица Григорополисская. Много перевидела станица за двести лет, с тех пор как возник на Азово-Моздокской линии передовой казачий редут Григорополис, но радостней и многолюдней праздника, чем летом того года, не припомнит никто. Станица праздновала четвертьвековой юбилей своей ученической бригады. В пойме Кубани, на старых полях этой бригады и на склонах старицы, собралось тогда десять тысяч станичников и гостей со всех концов страны.
В 1954 году сто десять учеников местной средней школы, назвав себя девятой бригадой (в колхозе «Россия» было восемь бригад), вышли на отведенные им колхозные поля. Никто тогда не предполагал, что эти ребята станут родоначальниками общесоюзного движения и что четверть века спустя у них будет три миллиона последователей. Поэтому юбилей бригады был не только праздником станицы и даже не праздником Ставропольского края, а, по существу, всей страны. В Григорополисскую съехались академики, министры, педагоги, общественные деятели и, разумеется, ученики из производственных бригад со всей страны. Много было гостей именитых, но одно имя передавалось из уст в уста. Выступления его ждали. С волнением выспрашивали друг у друга: правда ли, что он здесь? будет ли говорить? А когда он вышел, говорить ему не дали. Овации было невозможно остановить. Он постоял среди грома рукоплесканий и молча отступил.
Это был первый председатель колхоза «Россия» Лыскин Николай Фадеевич. Колхоз «Россия» не намного старше ученической бригады. Оп возник после объединения восьми колхозов станицы — отсюда и восемь бригад. Под стать станице да колхозу «Россия» оказался председатель Лыскин Николай Фадеевич — выдающийся хозяин, человек смелый, с размахом и характером подвижника. И сейчас станичники в трудную минуту приговаривают: «Эх! Вот Лыскин бывало...» Николай Фадеевич — любимая легенда григорополисцев. Здесь Лыскин стал Героем Социалистического Труда. Отсюда уехал поднимать другое хозяйство — в Калужскую область. Не раз, бывало, роптали станичники на крутой нрав Лыскина, зато теперь они даже его прежние промахи с любовью превращают в достоинства, как это бывает только с кумирами.
Так или иначе колхоз «Россия» поднял Лыскин. Он же стоял у истоков ученической бригады. Каждый день в пять утра Лыскин был уже на школьном поле в пойме Кубани. Там ребятам отвели двадцать два гектара. На десяти гектарах школьники засеяли полевые культуры и закрутили десятипольный севооборот — по культуре на гектар. Остальные двадцать пошли под овощи, по два гектара на поле. Здесь ученики ввели шестипольный севооборот. Выделили им четыре трактора да две дождевальные установки. Вырыли мальчики вдоль канала колодцы, утопили в них заборные шланги дождевалок и пошли орошать свою кукурузу, пшеницу, ячмень, тыкву, свеклу да подсолнух...
Урожай уродился на диво. Да вот беда — места мало. Технике негде развернуться. Только ребята на комбайнах войдут в ряд, а поле, глядишь, кончилось. Много ли надо комбайну, чтобы убрать десять гектаров зерновых на школьном поле? Пожаловались Лыскину. Он засмеялся и говорит: «Я вам нарежу десять полей по десяти гектаров, чтобы не скучали!» И нарезал. А перед тем премировал ребят инструментами для духового оркестра да грузовой машиной. Любил Лыскин людей, к работе охочих.
Сегодня средняя школа № 2 награждена орденом Трудового Красного Знамени, она лауреат премии Ленинского комсомола. Все эти награды, и звания, и слава заслужены и добыты в буквальном смысле учениками и педагогами в поте лица своего. Однако справедливость требует отметить, что с первого дня бригаде в школе повезло с председателем, повезло с колхозниками, повезло вообще со станицей. Говорят: каков настоятель, такова и братия. Каков колхоз, такова и ученическая бригада. И соавтором этих везений был все тот же Лыскин. Лыскин сажал сады, закладывал виноградники, построил техникум, училище производственно-техническое, запускал новые производства, воодушевлял станичников, торопил их, подстегивал. Ни себя не щадил, ни других. На волне общего подъема зародилась идея ученической бригады.
Это он приучал станичников смотреть на вещи широко (не скупиться на воспитание), мыслить государственно. Колхоз вложил уже без Лыскина два миллиона рублей в строительство новой школы.
Вот с этих пор григорополисцы уверены, что колхоз непросто носит имя «Россия», и осознают себя не только частью России, но, как говорил тогдашний секретарь парткома колхоза В. Мирошниченко: «Мы та же Россия, только в малом масштабе». А Виктор Григорьевич Мирошниченко знает свой колхоз. Он наитипичнейший григорополисец. Отец его погиб на фронте. С 16 лет он в колхозе работает, если не считать четырех с половиной лет службы на подводной лодке. За руководство первой бригадой получил в свое время орден Ленина.
Я намеренно уделил внимание и колхозу, и председателю, и парторгу. Добавлю, что нынешний председатель Врана Вольдемар Францевич из старой лыскинской гвардии. Николай Фадеевич приметил Врану, когда еще на практике здесь был студентом. Глаз у Лыскина пронзительный на людей, и он не позволил, чтобы Врана после защиты диплома распределился не в «Россию».
Главная идея ученической бригады — в ее содружестве, согласии, связи с колхозом; в неразрывности интересов хозяйства и школы — залог успехов. Это магистральный путь для всех ученических бригад. Сейчас много говорят и пишут о их будущем. Одни ратуют за автономию школьного поля, другие предлагают идти по пути экономической самостоятельности, выделения бригады в некую хозяйственную единицу, приводят в подкрепление своей идеи экономические выгоды. Однако нередко то, что прибыльно экономически, убыточно нравственно. Задача школы не изучать конъюнктуру рынка для ловкого сбыта продукции, ее задача — формирование личности, расширение духовных горизонтов человека. Нет-нет да и появляются теперь сообщения об удачливых директорах школ, ученические бригады которых работают рентабельно и своими доходами укрепляют экономическую базу родной школы. На деньги, заработанные детьми, покупают оборудование для школьных кабинетов, кинопередвижки, а то и собственные телеустановки.
Сбывают продукцию порой далеко за пределами школы. Одни выращивают на продажу цветы, другие — саженцы тополей, третьи — гранаты. Может ли такой специализированный школьный участок быть прибыльным
Достаточно спросить любого оборотистого частника, и он с воодушевлением даст утвердительный ответ. Но может ли перейти на хозрасчет настоящее школьное поле? Григорополисцы считают это нереальным, а направление такое вредным. Есть десятки серьезных полевых работ, на которых категорически запрещено использовать труд школьников. Значит, школьное поле, если будет прибыльно, то опять же за счет колхоза. Кто будет платить агроному, шоферу, трактористу, кто выплатит за амортизацию оборудования, за горючее и запчасти и многое другое? Зачем противопоставлять труд школьников труду колхозников — отцов и матерей? Ведь если школьники могут девять месяцев хорошо учиться, а за три летних месяца получать такую же прибыль на своем поле, как их родители за двенадцать месяцев на своих нолях, то это абсурдная ситуация. Или родители бездельничают, или школа ведет прямо-таки фантастическую бухгалтерию. Говорят, если перевести ученическую бригаду на хозрасчет, она станет для детей школой деловитости и приучит их к реализму и рачительности. Во-первых, это направление находится в стороне от магистральных задач школы, а во-вторых, коли полный хозрасчет немыслим (и любой объективный специалист это подтвердит), то такой хозрасчет научит ребят только извлекать прибыль за чужой счет и, что еще хуже, за счет родного колхоза.
В нашей стране крестьянский труд никогда не воспринимался народом как способ извлечения прибыли. Земледелие у нас в стране издревле было способом бытия с целостным воззрением на мир. Отношение к земле не денежно-товарное, а сыновнее. Земледелие — наиблагороднейшее из человеческих занятий, идея которого вылилась еще за тысячелетия до христианства в емкую и всеобщую заповедь наших предков: «Кто сеет хлеб — тот сеет правду».
Сегодня сеют хлеб и те, кто варит металл, конструирует машины, создает химию, сидит в лабораториях, запускает станки, учит детей, поднимается на кафедры. Потому-то он «всему голова», что рождается хлеб как совокупный продукт общества. Значит, всякий, кто честно трудится сегодня, «сеет хлеб».
А коли речь зашла о прибыли, то григорополисцы не обходят этой проблемы, считая прибыль неразрывной с качеством труда, а значит, с добросовестностью. Видите опять нравственная категория — добрая совесть.
Они считают, что прибыль надо искать не на высокотоварных специализированных школьных делянках, а на больших полях колхоза в совместном труде со взрослыми. Конкретно это означает, что 583 гектара, выделенные в те годы колхозом школе, должны приносить прибыль, и обрабатываться они будут в основном школьниками (подчеркиваю — в основном) при обязательной помощи старших, сообща, коллективно, всем миром, и, разумеется, колхозной техникой, а не школьной. Таким образом, школа приучает своих воспитанников к большим полям, широкому захвату, раздвигая с детства горизонт и поступь, прививая вкус к фундаментальным культурам, и прежде всего к хлебу, который и в самом деле «всему голова». Дети познают на этих полях, что родная почва выше нормы прибыли, выше расчета, находится за пределами любого счета — она бесценна.
Григорополисцы стали родоначальниками ученических бригад в нашей стране. Треть века они с честью выполняют роль правофланговых многомиллионного движения. Сегодня ставропольцы полны решимости придать этому движению на новом витке новый мощный импульс, новую организацию, углубить программу, сделать ударение на историческом самосознании.
Все новое, что рождается сегодня в ученической бригаде, вырастает из накопленного опыта и традиций. Григорополисцам есть что взять с собой в новую дорогу. Прежде чем рассказать о завтрашнем дне, еще раз вспомним то лучшее, что выработали станица, школа и ее ученическая бригада. Первое, что бросается в глаза, когда углубишься в историю бригады, это глубокая взаимосвязь поколений, традиций, некая добротная устойчивость людей, крепко стоящих на земле, неразрывность бригады со станицей, школы с колхозом, старших с младшими — словом, для всех почти явлений здесь подходит слово «связь». Все старшеклассники в школе проходят через ученическую бригаду. Большая часть выпускников возвращается в станицу после вузов. Сегодня в колхозе работает пятьсот выпускников школы. И это не считая тех, кто учительствует, врачует, служит в учреждениях, то есть тоже не потерял связь с родной станицей.
Один из зачинателей бригады — преподаватель биологии и химии Геннадий Семенович Данилов. Здесь родился, учительствует уже тридцать пять лет. Практику полевую проходил у отца, тоже биолога и учителя еще
до войны. Выращивали тыкву, огурцы, свеклу и кенаф. Отец Семен Иванович родился здесь и проучительствовал сорок два года. Дед учил казаков Григорополисской станицы игре на духовых инструментах. И дед родился в этой же станице. В общем, их семья сто пятьдесят лет учительствует в родной станице. Дети Геннадия Семеновича пошли по стопам отца, теперь дело за его внуками. Вот какие глубокие корни у ученической бригады!
Не буду перечислять дипломы, аттестаты и золотые медали ВДНХ, полученные учениками бригады, как не буду упоминать о медалях, завоеванных на всероссийских и всесоюзных турнирах юных животноводов. Это перечисление заняло бы слишком много места. Замечу лишь: 196 опытов провела бригада по заданиям дюжины авторитетных научно-исследовательских институтов страны.
Три года руководил бригадой Андрей Панин. В юбилейном году он закончил школу и передал эстафету новому бригадиру — восьмикласснице Светлане Паршиной. Едва приняв бригаду, Андрей Панин заявил с трибуны Всесоюзного слета трудовых объединений школьников, и заявил твердо и звонко: «Человек растит хлеб, а хлеб растит человека. Я буду земледельцем!» Судя по тому, как он ловил возвращающихся вечером с поля товарищей и жадно спрашивал обо всем — что пололи? готова ли техника к жатве? чем кормили на стане? — видно, что бывший бригадир вернется с дипломом в станицу.
Родители большинства учеников сами прошли через ученическую бригаду. А те, кому не довелось учиться в ту пору в школе, обучали родителей нынешних родителей.
Тогда за работу всей бригады отвечал от педагогического коллектива Николай Иванович Бутенко, сам бывший воспитанник ученической бригады. Несколько поколений учеников до сих пор вспоминают с уважением его отца, наставника бригады и прославленного комбайнера Ивана Петровича Бутенко, Героя Социалистического Труда. Вспоминают за сдержанный характер, доброту и справедливость. Сам Николай Иванович не одно лето на жатве проработал штурвальным у отца. Короче говоря, куда бы ни пошел в станице — в поликлинику ли, в сельсовет, правление, на стан, — везде вам попадутся люди, имеющие прямое или косвенное отношение к ученической бригаде.
Полевой стан бригады — это выдвинутый вперед как бы боевой редут школы. До станицы двенадцать километров. Вокруг поля. Здесь ребята отдыхают после работы, занимаются спортом, слушают лекции, проводят собрания. Рядом со станом — сортоиспытательный участок. На делянках — ячмень, кукуруза, подсолнечник. Одной пшеницы 15 сортов, да сорок пять гибридов кукурузы. Здесь же, недалеко, площадка мехотряда, где ребята со взрослыми готовят к жатве комбайны.
Давно пора ломать нам некоторые стереотипы. Сегодня сельские ребята как механики и знатоки машин стоят па голову выше своих городских сверстников. А если прибавим к этому знание жизни природы, мира животных, вспомним, что звезды, птицы, кони — с детства товарищи их жизни, то смело можно сказать, что они и культурнее своих городских сверстников, ибо культура— исконное народное явление в отличие от цивилизации, носителем которой является город. Если бы это было не так, то племена северных звероловов-охотников или земледельцы средней полосы не были бы носителями духа и хранителями национальных родников, из которых черпают художники всех родов искусств. К сожалению, мы не умеем донести это до широчайших слоев, иначе мы бы не слышали нелепую брань вроде «эх ты, деревня». Цивилизация наступает на деревню городскими новшествами, стилем, моторами, экранами. Деревня должна взять смело все лучшее, не отдав своей существенности, сохранив сердце, не задув огни преданий. Сейчас пока явный перевес на стороне цивилизации. Деревня стесняется как бы своего самого драгоценного, стыдится себя.
Пока я приведу только обязательства ребят из звена слесарей, это очень серьезные обязательства. Потом я вернусь к ним еще раз. Вот они:
Изучить общее устройство всех сельскохозяйственных машин, имеющихся в бригаде. (А их, кстати, немало, следующий пункт тому пример.)
Освоить технику ремонта сеялок, борон, катков, тракторных прицепов, силосных комбайнов. (По этому пункту можете судить, что остальная техника для них пройденный этап.)
Самостоятельно отремонтировать и подготовить к работе один посевной агрегат, одну сцепку борон, лущильщик, плуг, силосный комбайн.
Изучить правила по обслуживанию тракторов. Провести каждому технический осмотр первой и второй степени тракторам КИЗ-6 и ДТ-75.
Обучиться работе на сверлильном, заточном и токарном станках.
Освоить простейшие способы электросварки.
И кончались эти непростые обязательства мальчишески озорным: «Вызвать на соревнование звено комбайнеров». Тот, кому доводилось видеть, как эти школьники неторопливо вылезают из-под комбайнов в засаленных спецовках, как уверенно перебирают инструмент, как скупо, по-взрослому, перекидываются репликами из профессиональной лексики, тот поймет, что приведены обязательства реальные. Наступит страда, и ребята станут к штурвалам. Наступит день, когда под гром музыки, напутствуемые товарищами и родными, прижимая к груди громадные букеты роз, по трапам поднимутся комбайнеры, и школьники займут там свое место рядом с братьями и отцами. Секретарь парткома В. Г. Мирошниченко, которому, кажется, пора привыкнуть к страде, и тот сознается, что, когда он видит, как под гром оркестра одна за другой, урча и переваливаясь, уходят в поле машины, у него «мороз по коже от волнения».
На ночь у штурвалов школьников заменят взрослые, но даже засыпать на стане они будут под рокот комбайнов, как под шум прибоя, как под грохот далекой битвы. Нет, битва неуместна на мирной ниве. Не воевать ведь с хлебом. Битва связана с кровопролитием. Зачем нам битва,когда в русском языке есть не Менее высокое слово «жатва». Ведь посеявший хлеб пожинает правду.
Пусть грянет жатва!
Еще недавно на Руси начинали сев зернами, взятыми из последнего снопа осенней жатвы. Может быть, юные григорополисцы возродят этот мудрый обряд. Так или иначе, а смысл, заключенный в этом ритуале, уже давно пронизывает каждый день их жизни...
И в правлении, и у себя в школе тогдашний директор школы Александр Николаевич Селютин заводил не раз разговор о том, что надо бы дать ученической бригаде новое развитие, новые горизонты. Директор молод и, судя по его энергии, потянет любой воз. Ему было-то всего 27 лет.
Даже самый большой обвал должен начаться с камушка, который покатится первым по склону... Таким толчком для идеи явились мальчишки, которые убегают за двенадцать километров от станицы на конюшню и дни напролет караулят там в надежде, что конюх даст им коня повести на водопой, или, вообще, ждут любой возможности, чтобы оказаться в седле. Мальчишки, ожидающие коней в наш перенасыщенный техникой век, должен вам сказать, — это волнующее зрелище. Они там гуляют, каждый со своей уздечкой, перекинутой через плечо.
Не топот ли и гул казачьих лав гудит в их крови?
Да и что это за казак, скажите на милость, который не может удержаться в седле?!
Мальчишки не хотят с этим мириться. Мы должны им вернуть это самоутверждение. Ведь их отцы и деды в гвардейских казачьих корпусах ходили по тылам врага в последнюю войну. 4-я кавдивизия, которой, кстати, командовал в свое время Г. К. Жуков, стала когда-то ядром Первой Конной армии Буденного, казака из донцов. Вплоть до первой мировой войны и после «казак» на западе было синонимом Платова, громившего наполеоновские части. В Георгиевском зале Кремля, самом большом и торжественном, в зале русской воинской славы, только одно изображение на стене, выполненное в серебре, но и оно посвящено двум казакам — Платову и Ермаку. Словом, есть что вспомнить кубанцам. Ведь речь идет о земледельцах, которые, по Толстому, есть символ «мирной завладеющей силы русского народа», сословии, которое присоединило и удержало за Россией Украину, Сибирь, Урал, все южные просторы нашей родины от Дуная до Амура. Тот же Лев Толстой, который не склонен был идеализировать казаков, сказал в свое время: «Вся история России сделана казаками». Это их кони пили воду из Влтавы, Одера, Рейна и Сены. Не стихийная ли память об этом бродит в крови мальчишек, тоскующих по коням?
Тридцать три года назад было решено: чтобы научиться трудиться — надо трудиться. Настала пора соединить традиционную работу ученических бригад с широким земледельческим мировоззрением. В этих краях выковывалось единство меча и плуга, пахаря и всадника. И сейчас, прежде чем стать земледельцем, молодой человек должен отслужить в армии, пересесть из кабины комбайна в башню танка. Это все та же символика плуга и меча. Ну а разве казаку чужда музыка? Вспомним их прославленные мужские хоры. В историческом плане казаки заменили на рубежах России богатырскую заставу былинных богатырей. А у русского витязя часто на поясе меч, а в руках — гусли. Вот вам и идейная основа будущей программы ученической бригады, когда труд на полях будет соединен с курсом истории отечественного земледелия. На стене появятся портреты Докучаева, Тимирязева, Северцева, Вернадского, Сукачева.
А для мальчишек возведут редут в чистом поле с конюшнями, бойницами, очагом и бронзовыми пушечками у входа. Пусть лучше в труде удостоятся чести быть посвященными в казаки с правом надеть кубанку, папаху да взлететь в седло.
И дирекция школы, и правление колхоза «Россия» сознают, что на их школе, ставшей родоначальницей движения ученических бригад, лежит особая ответственность. В какой-то мере они отвечают за то, каким путем пойдет завтра многомиллионное движение сельских школьников. Многое из планов григорополисцев пока только замыслы, предположения, надежды. Но за четверть века они доказали, что умеют воплощать в жизнь задуманное.
Для чего все это надо? Для того чтобы вернуть людям благороднейшего труда самоуважение к себе. Иначе сколько бы мы ни насыщали село чудесами современной бытовой техники, да «жигулями», да телевизорами, сколько бы ни говорили молодежи о том, что деревня, дескать, почти сравнялась с городом, он все это выслушает, а сам про себя подумает: «Говори, говори, а я вот еще немного погляжу да в город подамся». Вся печать и агитация будут бессильны, пока у него с детства не выработают земледельческое воззрение на мир и чувство высокого социального престижа его труда, соединив это с историческим самосознанием личности.
Ученическую бригаду ждут новые ритуалы, символика и структура, уходящие корнями в отечественную почву, ибо забвение ничего не строит — созидает только память.
Сейчас, когда ребята, вернувшись с поля, отдыхают, им, бывает, читают лекции по политпросвещению, и читают те же учителя, которых они весь год видят на уроках. После трудного дня им кажется порой, что школьный учебный процесс растянут на все двенадцать месяцев. Лето же должно быть полным отдыха. Можно дать и детям, и учителям отдохнуть друг от друга, а воспитателями приглашать студентов из города да ребят живых и эрудированных.
А будь моя воля, я бы вечер за вечером рассказывал им о прославленных полях России — полях сражений: поле Куликово, Бородинское, Полтавское, местах великих битв и о прославленных земледельческих полях, садах, усадьбах. В последние годы возрос интерес к старинным усадьбам, связанным с именами известных поэтов, писателей и художников. Это говорит об интересных сдвигах в сознании наших людей. Однако этот интерес односторонен и с перекосом. Тысячи людей смакуют мельчайшие детали интимной жизни поэтов, порой забыв напрочь об их поэзии. В сознании молодых клишируется представление о русском обществе, которое только писало стихи, романы, музицировало и между этими делами критиковало существующий строй. Бессознательно такая модель может становиться программой, коли таковы образцы. Они ничего не знают об усадьбах, где десятилетиями шла незаметная работа, где создавалась мощь страны, где выводили орловских рысаков, бестужевскую, сычевскую, ярославскую породы крупного рогатого скота. Это для них сказал Вергилий: «Дети, пасите коров, как прежде, быков разводите».
* * *
Во второй раз я приехал в станицу прямо из Рязани. А в Рязань я попал из-за григорополисских мальчишек, что крадут коней и скачут в упоении по родной степи. В топоте коня и восторге мальчика мне послышался гул громадного подземного сдвига, того, который в тридцатых годах американские писатели уловили на своем континенте и выразили целый литературный поток емкой формулой-призывом: «Назад, домой!» За две тысячи лет до них величайший из поэтов Вергилий Марон Публий бросил соотечественникам тот же клич. Я перебирал бумаги то из первой григорополисской тетради, то из рязанской. Теперь я знал о лошадях для любителя даже слишком много. Из-за этих мальчишек я до Рязани объездил конные заводы Дона и увлекся историей русского конезаводства. Выспрашивал у коневодов секреты их ремесла. Теперь в станице я уже знал, что лошадь впервые в мире освоена под верх арийскими племенами в южнорусских степях за три тысячи лет до Вергилия. Перечитываю записки, чтобы рассказать мальчишкам станицы то, что мне не давало покоя после первого приезда сюда.
Нельзя было забыть мозоли, скромность и пытливость станичных ребят. Я убедился тогда, что они в главных основах личности крепче и мудрее своих городских сверстников и, что важнее, намного культурнее их! Но уклад и психологический настрой общества против них, и сельским ребятам, и их родителям кажется втайне, что судьба милостива только к городским. Мне хотелось бы внушить им, что они — опора державы и нет культуры выше деревенской.
«Мантуей был я рожден, Калабрией отнят. Покоюсь в Партенопее. Воспел пастбища, села, вождей».
Говорят, эти слова просил выбить на месте своего последнего успокоения один из величайших поэтов Земли, крестьянский сын Вергилий, звавший «отеческих мест постигнуть обычай и способ». Его могилу уверенно показывали еще в новое время. Полторы тысячи лет была местом поклонения гробница поэта, два из трех произведений которого («Буколики» и «Георгики») — агрозоотехнический обстоятельный труд, переложенный в чудные песни, и неразгаданная тайна Вергилия.
В ней ли разгадка любого художественного творчества?
Не знаю, будут ли люди читать через две тысячи лет «Дон Жуана», которого Байрон скромно считал равноценным «Илиаде» Гомера. А вот песни, посвященные разной глубине пахоты, о двоении пара или совет «лишь бы ты почву сырым удобрил щедро навозом» живут и будут жить, пожалуй, пока на земле колосятся поля и зеленеет «мир... что плывет под громадою вогнутой свода».
Этот античный «деревенщик» поставил перед нами труднейшую философскую задачу.
Он создал бессмертные песни «по специальному заказу правительства», как сказали бы сейчас. Песни его подытожили столетия народного земледельческого опыта.
Выходит, производственная тема может быть бессмертной!
Умолк навсегда латинский язык. А вот строки из прославленной четвертой эклоги «мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе» волнуют и в переводе, волнуют и зовут за околицу. Мальчик должен помочь родной земле в его станице, где из двадцати тысяч гектаров угодий под пашней все девятнадцать тысяч. Земля, увы, возделана, она живет и плодоносит на пределе. Перепахано все. Ни лугов, ни пастбищ, ни пустырей и выгонов. Мальчик возмется за дело с умом. Сократит посевы и даст сочные луга своему коню. Земля заслужила отдых.
Свойства земли изложу — какое в какой плодородье, Цвет опишу, и к чему различные почвы пригодней, Не боялся забвения и мог отважно воскликнуть: Мчитесь, благие века!Не могу себе представить поэта более современного, более злободневного и поучительного, чем Вергилий. Не в психоанализе, выходит, не в сюжете и рефлексии, не в критике вечность, а в теме:
Лишь бы и впредь любить мне поля, где льются потоки, Да и прожить бы всю жизнь по-сельски, не зная о славе.Потому в этом очерке, если попадутся впредь стихотворные строки без указания имени автора, это значит— они принадлежат Вергилию. Тем самым он по заслугам будет нашим нынче современником и собеседником. Здесь речь о породе, просторе и племени и детях. Вергилий, говорят, более других сельских работ любил пчеловодство, «что до коней, то подбор и у них производится так же». Он знал все о родной земле, «как урожай счастливый собрать, под какою звездою землю пахать». Он с любовью смотрел, как дымятся сельские кровли, покрытые дерном, как лег брошенный в борозду крупный ячмень. Вергилий любил землю и знал, что Рим необорим до тех пор, пока крепок в стране слой мелких землевладельцев, откуда Рим черпал свои победоносные легионы. Он знал, что нет солдат лучше, терпеливее и отважнее, чем из деревни. И в этом его убеждения совпали с помыслами божественного Августина. Спасти от оскудения и запустения сёла— это значит спасти державу. И поэт взял лиру, чтобы привлечь к деревне внимание образованных сограждан.
Уж в отдаленье — смотри — задымились сельские кровли, И уж длиннее от гор вечерние тянутся тени.Вергилий был не одинок в своем убеждении о спасительности земледелия. Он опирался на великую традицию.
Еще за два столетия до него другой римский «деревенщик», с детства знакомый с плугом, в восемнадцать лет израненный в сражениях с Ганнибалом, страстный боец на Форуме, глубокомысленный писатель, вождь легионов, рачительный хозяин, вошедший в историю абсолютной неподкупностью и бесстрашной ненавистью ко лжи, Марк Катон Старший, который оставил нам обстоятельный труд «Земледелие», а сотням поколений школьников запал в сознание знаменитой непримиримостью к финикийской торгово-ростовщической республике, ибо кончал все речи на Форуме страстный оратор словами: «Сверх того, я полагаю — Карфаген должен быть разрушен».
Да, это Марк Катон Старший. В труде «Земледелие» и на поле он распоряжался навозом так, будто отдавал приказы в виду наемных полков Карфагена:
— Старатель, охраняй козий, овечий, коровий и всякий прочий навоз... Очищай его и размельчай...
Далее он гремит, как будто требует от конницы охватить фланги противника:
— Навоз дели так: половинную долю вывози да ниву, где будешь сеять корма... четвертую долю положи под окопанные маслины... другую четверть сохрани для луга...
Как истинный аристократ, Катон запахи теплого хлева предпочитал любым ароматам города. Через две тысячи лет эта традиция дольше всех будет держаться в самом уединенном уголке Европы, на Британских островах, где самое знаменитое руководство для «настоящих мужчин», как уже говорилось выше, начинается со слов: «Джентльмен обыкновенно живет в деревне».
Англичане будут вновь нам сопутствовать. Когда речь идет о животноводстве, породе и отборе и земледелии, без них не обойтись, и вряд ли какая другая страна в мире могла дать в прошлом веке Дарвина, кроме Альбиона.
Коневодство родилось из земледелия и оседлости, и лошади приручены позже коров. И кочевники-степняки не сами одомашнили лошадь, а получили ее от древних оседлых ираноязычных арием, по нашим учебникам, скифов. Память — сила творческая, древняя и благородная, и вряд ли историческое чувство родилось в XIX веке, как полагал Флобер. Он же считал, что это самое историческое чувство — лучшее, что дал XIX век. Как знать? Однако, когда он говорит, что штурм Карфагена ломит ему кости, веришь ему.
Пора нам вернуться к себе в среднюю полосу России и южнорусские степи, пора нам в казачий край, на родину коневодства, где «смурую мглу там солнце рассеять не в силах». Это конечно же Вергилий. Мы условились не упоминать каждый раз сносками его имя. Это последний раз. Сделаны эти наброски, как я говорил, зимними вечерами.
«Вожа» для русского слуха как раскаты весеннего грома, как благовест. На реке Воже, у Рязани, за два года до Куликова поля русские дружины разбили ордынцев.
Рязань приняла первый удар орды, когда «прииде безбожный царь Батый на роусскоую землю». Евпатий Коловрат был в ту пору в Чернигове. Услышал страшную весть, понесся он с малою ратью к родному городу. Если штурм чужого Карфагена ломит кости французу Флоберу через две тысячи лет, то что же тогда чувствовать русскому всего-то через семьсот пятьдесят лет после того, как вырезана Рязань, и как перенести миг, когда дружина Коловрата, спешившись с дымящихся коней, не нашла ни единой живой души: «Множество народа лежаша ови побьены и посечены а ины позжены ины в реце истоплены». И «еоупатий вскрича в горести...»
И крик Евпатия стал вечным спутником его народа.
Крик Коловрата слился с гулом копыт коней его молчаливой дружины.
Они нагнали орду. И таранили ее.
Тысяча семьсот всадников против несметной армии степняков.
Эпическая песнь об этом еще будет написана.
Они выбрали верную смерть. И враги почувствовали, что «ни един от них может съехати жив с побоища». После увиденного в Рязани они не могли уже ни «съехати», ни жить на земле.
Эти тысяча семьсот безвестных всадников. Даже враги были подавлены и смущены духом нагнавшей их дружины и донесли Батыю: «Сии бо люди крылаты и не имеющи смерти тако крепко и моужественно ездя бьющеся един с тысящею и два со тмою».
Рязань всегда первая принимала удары орды — как позже и Ставрополыцина, и Дон.
Лучшая часть казачества унаследовала и сберегла дух коловратовой рати.
Все истинные казаки — дети Евпатия, дети русского порубежья.
Южнее Ставрополья раскинулась станица Невинномысская. По местному преданию, название свое станица получила после трагического события. Все мужчины, кто умел держать оружие, ушли в поход. Враг воспользовался отсутствием мужчин и сжег станицу, перерезал стариков и детей и взял в полон женщин. Вернувшись, казаки пережили те же минуты, что и Коловрат с дружиной в Рязани.
Увы, этот самый трагический сюжет есть и самый типичный для русской земли с былинных времен.
Потому-то Русь и выделила из своих недр «старого казака» Илью Муромца «со товарищи». Потому и мальчишки, послушные таинственному зову заступника, взлетают на неоседланных лошадей, как говорит поговорка, родившаяся в этих краях: «Конь — казаку крылья».
Не будем же подрезать крылья слеткам.
Рязань — земля Коловрата. Коли Брянщина по праву называет себя землей Пересвета, то Рязань — земля Коловрата, как Дон — земля Ермака. Мысленно переношусь в занесенный снегом, утонувший в сугробах маленький поселок. Научное поселение. Сюда с начала шестидесятых годов текущего столетия переехал единственный в стране институт коневодства. Он носит название «всесоюзный» и пытается с достоинством нести свое нелегкое бремя. Район называется Рыбновский. От Москвы три часа на электричке. В самом Рыбном еще один институт, пчеловодческий, с лучшим в мире музеем пчеловодства, где можно увидеть ульи в рост человека с пасеки царя Алексея Михайловича, в форме храмов и теремов. «Пчел доносится гул из священного дуба». Директор института Белаш Григорий Данилович, подвижник пчеловодства, живой и непосредственный, ибо он знает, что Вергилий пропадал на пасеке, роняет из «Георгии»: «Ты удивишься, как жизнь подобная по сердцу пчелам». Не каждый район имеет в своих владениях два института, каждый из которых единственный в стране. На территории района у крутого берега Оки есенинское Константиново, рукой подать.
Зимние вечера были долги. Перебираешь в памяти беседы в институте, встречи на молочной ферме, в конюшнях, манеже или листаешь пожелтевшие страницы тисненных золотом книг со штампом «Императорского скакового общества»... Выписки... И невольно уже захвачен заботами, преданиями и нравами отечественного коннозаводства с его мировыми взлетами, досадными упущениями, прерывистостью, горячей деятельностью и вялым безразличием общества, а то и напротив, лихорадочной гиппоманией, что охватила русское дворянство и к юности Пушкина ушла на убыль. Но еще в его пору, в году 1824, в России было 1339 конских заводов с 221 тысячью кобыл и с 22 тысячами жеребцов, и это только учтенных несовершенной статистикой. Каждый день в манеже и институте учишься вникать в суть суждений и язык людей, беззаветно отдавших жизнь служению лошади. То особый мир, когда-то широкий и всепроникающий, как жизнь, и ставший с моторами теперь почти кастово замкнутым. Здесь своя лексика, еще недавно бывшая всенародной (кто теперь отличит гнедую масть от саврасой?), и своя же, с вызовом, гордость знатоков, а порой и высокомерие по отношению к невежде, у которого — подумать только — «рысаки скачут». Эта горсточка людей, как бы оставшихся верными «древней вере», где в центре культа — золотистый конь, что был всегда символом огня и солнца. Они ревниво относятся ко всему, что связано о лошадью, и в глубине души уверены, что бензинный мир не отвернулся от лошади. Нет, хуже. Он предал ее..»
Предал, не перенеся ее благородства.
Лошадь выпала из быта, из жизни, из программ и планов, но самое печальное, что лошадь выпала из сознания людей. Они с горечью рассказывают, что лошадь забыли не все, ибо их крадут по-прежнему. Но крадут потому, что никто не охраняет, а пропадет — никто не ищет. Милиция бросается на поиски, если пропал поросенок. Ибо это собственность, к тому же с осязаемой стоимостью. Лошади осиротели. Для милиции «искать лошадь» звучит так же,. как искать динозавра. Они ни в одном циркуляре не фигурируют и остались в сознании как нелепый пережиток старины. Но этот «пережиток» принимают на мясокомбинате и оплачивают в десятки раз дороже поросенка. А без лошади человечество, как и прежде, не может жить. И чем дальше, тем больше будет возрастать ее роль в судьбе нашей и в нашей хозяйственной и духовной жизни.
Мы знаем, что принесли с собой в мир всадники.
Но смогут ли владельцы моторов, не шофера только, но все, кто за счет новых «лошадиных сил» хотел бы восполнить свою природную неоснащенность, дадут ли они миру то, что дали всадники?
Мотоциклист юный, черепную коробку которого сжимает шлем, мозги оглушены воем, не видит никого и сам не знает, куда летит.
Но есть надежда.
Дети, те, что наше будущее, всем сердцем преданы лошади. Я взял у директора института одно из многочисленных писем от школьников. Пишет девочка из Комсомольска-на-Амуре Ира Бугаева.
«Извините, что опять пишу без вашего имени. Спасибо вам большое! У меня аж сердце прыгает от радости. А моя сестра Олеся тоже очень рада. Папа мне пообещал купить жеребенка-тяжеловоза, только если я кончу хорошо русский, математику и аккордеон. Если вы можете выслать несколько книг о лошадях — вышлите, пожалуйста. А мы сразу потом вышлем деньги. Я сейчас смотрю на фотографию и до сих пор не могу успокоиться от радости. Что вам надо, вы пишите. Я буду очень рада выполнить вашу просьбу. Я маме говорю, что пойду учиться на конюха или не знаю, как называют эту профессию, а она говорит, еще передумаешь. Я учусь в 5-м классе и еще обучаюсь музыке на аккордеоне. Ну, до свидания.
Напишите свое имя. Ира».
В письмо Ира вложила свою крохотную фотографию. Очень смешная и милая девчонка. Мне понравилось, что директор несколько раз мне напомнил, чтоб я вернул письмо. Дескать, ему надо ответить девочке.
Начконы умеют ценить любовь к лошади. До войны сильнейшие конные заводы страны были в военном ведомстве. Начальником завода обыкновенно был генерал, а его первым заместителем и главным специалистом — зоотехник в чине полковника, по табели начальник конной части, сокращенно — начкон. Это были в большинстве своем люди с умом, характером и деловой хваткой. Лучшие заводы были, как и до революции, на Дону и Кубани. А в казачьих краях уважение к воинскому служению впитывается с молоком матери и давно уже часть генетического кода. Заводов военных давно уж нет, а слово «начкон» сохранилось в народе как символ настоящего коневода — зоотехника, как эталон не просто рачительного хозяина, а боевого хозяина. И сейчас на конных заводах Дона старый пастух, завидев начкона, бывает, привстанет в стременах и невольно вскинет руку к козырьку — так укоренилось в народе уважение к истинному хозяину. Не зря же все конные заводы, несмотря на плановую немилость к коню и несмотря на большие поголовья «рогачей», все, как один, рентабельны и крепки. Начкон «единственный, рожденный земледелием» тип сегодня, который отлился в образ и узнаваем. На всех конных заводах страны вам расскажут о потоке писем от ребят. Многие приезжают после восьмого и девятого класса на лето. Упрашивают родителей, пристают к начконам. Спят иной раз в яслях.
Это глубокий сейсмический толчок. Стрелка безошибочно качнулась к живому, к природе, к истокам.
Дискотеки могут удовлетворить разве что спинной мозг. Бездушный двигатель один не в силах занять духовность. Запад подбрасывает компьютер не как помощника человеку, а как азартную забаву в надежде сделать из юноши компьютерного примата с вывихнутой рок-психикой.
А вот письмо, как благая весть, что прилетела из Комсомольска-на-Амуре, вселяет надежду. Зеленые побеги пойдут в рост. Зашумит еще «звонкозвучной листвой» «племя младое, незнакомое». «Звонкозвучная листва» — из Вергилия, а «племя младое, незнакомое» — пушкинская строка. Порукой тому зимние заботы института. Они уже готовятся к Всесоюзным конным состязаниям на приз Евпатия Коловрата.
Восьмого июля, как обычно, повалит в институтский поселок «вся Рязань». Поедут автомашинами, электричками и легковыми. Институт подарил этот праздник рязанцам как память об одном из самых необычных в истории войн поединке, что стоит в ряду с подвигом трехсот спартанцев Леонида и стольких же арагвинцев, вышедших из Тбилиси одиноко навстречу громадной рати и погибших все, как один. Эти подвиги говорят о величии человека и бессмертии его. Но дружина Коловрата и здесь стоит отдельно от опыта человеческого, как и вся судьба России. За спиной у спартанцев и арагвинцев были теплые очаги, и жены, и детишки, которые надеялись, ждали и воодушевляли их. За спиной Евпатия и его дружины — перерезанная и догорающая Рязань. Есть в этом событии что-то неизреченное, от чего немеет язык, что за пределами человеческого понимания. Словом, не только невыразимое, но и непереносимое. Казалось бы, народ, за плечами у которого подобное горе, должен стать сплочен, молчалив и зорок, как ни одно племя в мире.
Нет, «историческое чувство» не дитя девятнадцатого столетия. Оно родилось с человеком как память об ушедших из мира отца и матери. Это память, что сделала человека человеком. Это печаль утраты, что одухотворила его природу и придала смысл существованию. Память — величайшая из творческих сил и спасительная, без коей нет будущего и нет смысла, надежды и любви.
А теперь вернемся к лошадям. Что до коней, то подбор и у них производится так же: Тех, кого ты взрастить пожелал в надежде на племя, С самых младенческих дней окружи особливой заботой. Прежде всего на лугу племенных кровей жеребенок Шествует выше других и мягко ноги сгибает. Первым бежит по дороге, в поток бросается бурный И не боится шаги мосту неизвестному вверить, Шумов пустых не пугается он; горда его шея, Морда точеная, круп налитой, и подтянуто брюхо.Римляне понимали в породе толк, что и говорить. Понимали, пока цензором нравов был Катон Старший. Суровость и прямодушие его характера нажили ему много недругов, потому он 44 раза был призываем к суду и ни разу не был осужден.
Однако чем больше дорог вело в Рим, тем реже стали попадаться на Форуме римляне катоновской породы, которые могли сказать открыто, как он: «Воры, обокравшие честных людей, проводят жизнь в острогах и цепях, а общественные воры — в золоте и пурпуре».
Поклонялись породе римляне в образе родных богов, пока не смешались с другими племенами. То была кара за завоевания. Между прочим, вместе с победоносными походами войска пригоняют с собой не только пленных, но и скот с чужих пастбищ. Происходит, как говорят начконы, прилитие чужой крови. А это уже прямо касается нашей темы. Что до Рима, то последним наследником жизни Древней Италии остался бык кианской породы — национальная гордость Италии, серой масти, крупноголовый, с могучей шеей и глубокой грудью. От полутора тонн монолитной мощи исходит грозное спокойствие. Он пережил все исторические бури на зеленых холмах Умбрии.
Лошадь одухотворяет земледельческий труд, связь человека с лошадью полна теплоты, глубокой живой взаимности. Благородное животное как бы придает трудам и дням человека новую составляющую и помогает воспринимать многомерность мира, не говоря о том, что лошадь как уже много раз доказано, именно сейчас стала и экономически выгодна. Есть еще одна особенность у коней. Они лучше любых призывов и заклинаний закрепляют кадры на селе. Общаясь с лошадью с детства, мальчик пускает незримые и сильные корни в родную землю. Когда Вергилий говорит: «Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе», он имеет в виду умное деланье — нравственное возделывание земли. Конь для родных просторов что парус на море. «Конь — казаку крылья». Помните?
Офицеры атомных подводных лодок признавались после долгих автономных плаваний, что, когда нервы бывали на пределе и сердце сжималось тоской в темных глубинах океана, выстоять им помогали воспоминания о курсантской практике под белыми парусами, полными ветра. Если бы так же офицеров с детства обучали только на подлодках среди механизмов, вряд ли они выдержали бы. Лошадь нужна юным механикам на селе, как парус, как сильный скрытый бессознательный ресурс.
Помню, уезжал из станицы в первый раз пораженный выносливостью подростков, их трудолюбием и скромностью. Но, как педагог с многолетним тренерским опытом, почувствовал я в этих успехах и нагрузках скрытую угрозу. Если завтра я стану на «новаторский» путь и буду обучать детей, не сидящих за партами, а стоящих, может быть, даже на одной ноге, то первое время они будут опережать сверстников, внимание к эксперименту, статьи в печати — все это действует на детей, как допинг, и они искренне удваивают рвение, а новатор возбужден от удачи. Но даром это не проходит. Это видно по американской школе, которую «новаторы» расшатали экспериментами до основания. Мне тогда показалось, что бригада работает на предельных нагрузках, подстегиваемая рапортами. Слишком много на наших глазах сошло со сцены юношей-спортсменов, подававших надежды мирового порядка. Сгорели до срока. Подстегиваемые успехом и наставниками, дети бросаются грудью на трудности. В них нет иммунной защиты взрослого, они не станут мудро распределять силы, беречь себя. Втройне возрастает наша ответственность в таких случаях. Колхоз ничего не жалеет для бригады. Председатель правления Врана говорит:
— Мы не боимся признать, что несем полную ответственность за трудовое воспитание детей и разделяем ее, эту ответственность, со школой, а коли надо, берем на себя и большее бремя. Кадры, о которых мы трубим и мечтаем, растут в школе, мимо которой мы ходим каждое утро.
Здесь каждое слово правда, испытанная на деле уже треть века. Колхоз на развитие бригады со дня ее рождения вложил пять миллионов рублей. Выходит, что два полных года весь многоотраслевой колхоз от мала до велика работал только на бригаду. У школы теплица, мастерские, тир, гаражи. За бригадой закреплено 12 тракторов, 10 комбайнов, грузовики и тысяча гектаров земли. От сбыта полученной школьниками продукции колхоз получил уже семь миллионов рублей. Это очень серьезные цифры. Из учащихся седьмых и восьмых классов созданы звенья, которые обслуживают 60 дойных коров, 400 голов молодняка, «рогачей», как называют зоотехники крупный рогатый скот. Одних свиней за ними 1200 голов. Здесь нужно существенное дополнение сделать. Бригада, естественно, не отвечает за этих животных круглый год. Они подменяют взрослых, помогают им, дежурят.
Начала бригада, если помните, на двадцати двух гектарах. Потом Лыскин нарезал им еще сто. А школьников тогда было в бригаде сто двадцать человек, не меньше,
чем сейчас. Сто двадцать тогда, пятьсот — восемь лет назад и тысяча сейчас. Разница велика, даже при сверхмеханизации. Мне кажется, школьник должен взрастить и полюбить родное поле в глубоком понимании земли через качество труда. Только на этом принципе можно сберечь его силы и расширить внутренний горизонт. Мне кажется, школа не должна поддаваться валу. Все-таки в школу ходят, чтобы прежде всего учиться.
Ребята работают много и хорошо. Если описывать даже главные их деяния, понадобится книга. В 1983 году 64 учащихся создали свой «уборочно-транспортный». Как вы думаете, что? Конечно же, комплекс. Почему бы не сказать «отряд»? Он, этот «комплекс», стал полноправным подразделением взрослого уборочно-транспортного тоже комплекса. Я не вылавливаю эти «комплексы». От них просто рябит в глазах. Если не упомяну о них, значит, грубо искажу язык сегодняшней деревни. Ведь этот «комплекс» на сотни ладов перекатывают во рту дети ежедневно, и им калечат родную речь. В 1970 году ребята в жатву впервые стали помощниками комбайнеров. Через десять лет они уже своим звеном намолотили шесть тысяч центнеров зерна. Еще через три года, в 1983 году, уже более 10 тысяч центнеров. Колхоз поверил в них и выделил им четыре комбайна тогда на дюжину славных ребят. Где бы ни плыли по полю школьные комбайны, впереди них всегда размеренно и умело движется по золотой ниве вожак. Это комбайн их наставника Ивана Михайловича Асеева. Он учит их неспешной бережливости. При поломке приходит на помощь.
Ребята в колхозе всюду. Убрал, скажем, колхоз 65 тонн яблок — из них 61 тонна сорвана руками детей. Это не мало, согласитесь.
Правление выделило ребятам целый корпус на нетелинном, разумеется, «комплексе». Обещаю впредь избегать и не употреблять этот жаргонный термин. На этой ферме три тысячи голов молодняка. Девочки управляются. В другой раз дали девочкам отсталую группу коров. Школьницы увеличили надой на этих буренках на пятьдесят процентов и выиграли соревнование на ферме у взрослых доярок. Может, и я убедил уже вас, что родина ученических бригад умеет трудиться.
Да и сколько можно о труде говорить?
Те, что создавали вокруг труда ореол героизма, должно быть, обладали врожденной неприязнью ко всяческому ТРУДУ. У них и жатвы в газетах стали битвами. Так много говорить о труде, согласитесь, даже подозрительно и может только отпугнуть от него и сделать из радости поденщину.
Гостиница, в которой я единственный посетитель, на самом деле двухэтажная вилла на берегу Кубани. Ковры, зеркала, крахмальное белье, сервизы — все это было приготовлено не для меня. Эта опрятная усадьба выстроена была, быть может, еще Лыскиным. В ней чувствуется государственный размах. Колхоз, видимо, ждал однажды высоких гостей и хотел встретить их, как подобает доброму хозяину.
Попались мне строки из выступления секретаря крайкома А. Коробейникова об ученических бригадах.
В ученических бригадах зародились интересные традиции, несущие в себе высокий политический и нравственный потенциал: праздники весны, первой борозды, посадки леса, урожая, трудовой славы, торжественные посвящения в хлеборобы и др.
Прекрасно, что эти традиции заложены юностью.
А что до посадок леса, они должны были бы приобрести общенациональный характер.
Человек, чей портрет я мечтал увидеть на стане бригады, — Дмитрий Иванович Менделеев в своем «Познании России», которое есть завещание потомкам и адресовано, можно сказать, прямо григорополисцам и каждому из нас, сказал:
«Я думаю, что работа в этом направлении настолько важна для будущего России, что считаю ее однозначной с защитой государства, а потому полагаю, что было бы возможно принять особые сильные меры для этой цели и даже освобождать семьи, засадившие известное число деревьев в степях юга России, от обязательной военной повинности и давать им иные льготы как земские, так и общегосударственного свойства».
К традициям, зародившимся в ученических бригадах, о которых упоминал выше секретарь обкома, необходимо добавить главную, без которой нет земледельческого мировоззрения, нет корней и достоинства и без которой, сколько ни пичкай полевой стан магами, гитарами и наглядной агитацией, он, по сути, не оправдает названия «культстан», так как лишен «культа». Полевой стан должен стать не культстаном с дежурным красным уголком, а станом-усадьбой. И жемчужиной стана-усадьбы должна быть библиотека, золотое ядро которой составят лучшие отечественные книги, созидающие земледельческое, патриотическое мировоззрение. Именно к этим книгам относятся менделеевские «К познанию России» и «Заветные мысли». Их немедленно следует издать в «Просвещении» для школьных библиотек. Они стали бы украшением и всех городских школ. Такие книги просятся в золотое тиснение, хорошую бумагу без крохоборских полей. Как ни странно, когда мы были бедны в тридцатых годах, у нас хватало мудрости именно так издавать книги. Я бы начал с книги самого великого русского агронома, бывшего боевого офицера, которую он сам оставил нам под названием «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». Эта книга не уступает лучшим страницам русской прозы. Непонятно, почему спекулянты могут драть по тысяче рублей с дореволюционного издания, а мы не можем повторить издание хотя бы 1931 года.
Лучшее, чем гордится наша страна в области сельскохозяйственной науки, нашло свое место в трудах «Вольного экономического общества» за полтора плодотворных столетия, с 1765 по 1915 год. Общество возникло трудами Ломоносова и было средоточием всего передового, подвижнического и разумного в России. Переиздание из разных трудов общества было бы благородным вкладом в перестройку.
Книги для ученических бригад должны быть таковы, чтобы стать украшением библиотеки, и школьника, и академика, и секретаря обкома, и агронома.
Вернадский писал, что «Ломоносов является не только первым русским почвоведом, но и первым почвоведом вообще». Преклоняясь перед именем великого помора, библиотеку на стане-усадьбе должны открыть труды любимца Ломоносова — Петра Великого, которого можно уверенно причислить к величайшим деятелям отечественного земледелия (увы, он был первым и последним среди русских государей, кто деятельно влиял на жизнь пахаря). Это Петр первым в России ввел в повсеместное употребление косы. До этого у нас жали в основном серпами. Ему мы обязаны первыми посевами картофеля. От помещиков он требовал, чтобы их крестьяне «дабы оные под хлебной сев землю добре снабдевали и более всякого хлебного сева умножали».
Воеводам предписывал: «Смотреть неоплошно, чтобы пахали и жали в подобное время, а не испоздав, и худым б Семены не сеяли».
Знал своих подданных Петр, что и говорить. Его указания и сейчас злободневны. Руководителям коммерц-коллегии, которая выполняла роль нашего агропрома, он указывал:
«О состоянии, натуре и плодородии каждой провинции и запустелых дворов и земель накрепко уведомляться и наипаче о том стараться, чтобы, как возможно, запустелые дворы и земли по малу паки населять и всякой пустоты осторожным домодержавством впредь предостерегать и отвращать... Тако же земледелие, скотские приплоды и рыбные ловли везде по возможности умножать, к приращению приводить, и того ради иметь коллегиум с губернаторы и воеводами прилежно корреспондировать».
Он же отбирал и завозил племенных лошадей, тонкорунных овец, начал возделывать впервые у нас виноград и табак, издал указ о «размножении во всех губерниях льняного и пенькового промысла» — да разве все перечислишь, когда дело касается Петра, но две книги надо бы переиздать.
Первую — «Георгика Куриоза» о немецком сельском хозяйстве, изданную в 1716 году в Нюрнберге.
Петр сам отобрал книги, изучил их, собственноручно составил наставление для переводчиков. Весь характер петровских заимствований виден из его отношения к этой книге. Он ее не перепечатал угодливо, как его эпигоны и хулители. Не зря Петр предуведомлял приближенных, что, когда мы возьмем у Европы лучшее, мы «повернемся к западу задом».
Одну главу из «Георгики Куриоза» он выбросил и вместо нее написал новую, «о бережении земледельцев», в которой высоко отозвался о роли крестьянства и земледелия для могущества державы.
Петр же приготовил к изданию «Флоринову экономию» и в сопроводительном письме написал: «Трактат о хлебопашестве выправил и для примера посылаю, дабы по сему книги переложены были без излишних рассказов».
Вышла книга после смерти царя, уже в 1738 году.
Эти деяния государя лучше всего говорят о «великой», по словам Достоевского, «вполне русской воле Петра». А «великая» она еще потому, что Петр отбирал лучшие в тогдашнем мире книги для своей страны. А теперь вспомним, сколько мы издали за последние сорок — пятьдесят лет лучших в мире книг по сельскому хозяйству для школьников и агрономов.
Может ли библиотека ученической бригады, которую давно пора называть «полевой школой», обойтись без «Русского чернозема» В. Докучаева, или «Пяти континентов» Н. Вавилова, или «О системах земледелия» А. Советова. Наши дети должны и сегодня чувствовать актуальность волнующих слов Андрея Болотова: «Мы находимся ныне в таком состоянии, что во многих вещах не только не уступаем нимало народам иностранным, но с некоторыми в иных вещах можем и спорить о преимуществах».
Это слова бывшего боевого офицера, который из деревеньки в три развалившихся двора сделал одно из самых цветущих в Европе имений.
Другой образованный артиллерийский офицер Александр Энгельгардт, который за народовольство был некоторое время осенен даже Петропавловкой, сделал из своего смоленского запущенного имения в селе Батищево «мекку» русских земледельцев. К нему,много раз наезжали Докучаев, Костычев, Вернадский. Его книгой «Письма из деревни» зачитывались поколения россиян.
Мы посылаем в села книги о роке, битлзах, строим в Григорополисской станице в подвалах дискотеки, откуда, осоловелые от децибелов, с мутными глазами, выбираются на поверхность юные комбайнеры и доярки. Теперь ты ему скажи словами Ивана Комова, современника А. Болотова: «Земледелие есть мать всякого ремесла и промысла».
Он криво ухмыльнется и скажет, ага, мать всему, — балдеж, только вот беда: в деревне не та дискотека, что в городе. Впрысните ему еще дозу чужого диско, а потом на слова того же Комова Ивана, сына священника, который ездил в Англию на много лет не за дефицитом и сертификатами, а до изнурения изучал земледелие ради своих соотечественников, что «государство без земледелия, как без головы, жить не может».
Вы получите ответ, сдобренный доброй порцией «русской латыни». Не той, увы, латыни, которую имел в виду Жуковский, когда записал в дневнике: «Англия последний акт воспитания, как латинский язык — первый акт».
Мы утратили важнейшее звено в традиции, которое в силах еще восстановить. Мы не издаем настольных книг для земледельцев. Современник А. Болотова академик В. Севергин, выходец из народа, в год рождения Пушкина издал но призыву «Вольного экономического общества» «Деревенское зеркало или общенародная книга» на добротном русском языке. Первая часть «Деревенского зеркала» была посвящена земледелию и животноводству, вторая — лесоводству, домашнему хозяйству и быту, третья — врачеванию. Крестьяне по трудовым копейкам в складчину покупали эти книги. Народ сразу распознал ту литературу, которая ему нужна. Мы изводим тысячи тонн бумаги на многомиллионные тиражи журналов, полных захлебывающихся статей о досуге, но найдите за полстолетия хотя бы одну книгу подобного рода для наших сельских тружеников.
О чем сейчас пишут наши известные сельские публицисты?
Они въедливо вникают во все детали сельхозтехники и севооборота, именно детали, упиваются частностями отраслей, но они идут все от знания, от специализации, от радио, все думают как бы рентабельнее, а идти надо ради всех перечисленных качеств и той же рентабельности от любви к школьнику и его родителям, от человека на земле, а не от проблемы на земле.
«Овсяный кисель» Жуковского может сделать для закрепления кадров на селе больше, чем вся публицистика, вместе взятая.
Начинать надо с любви, а любовь сразу вызовет величайшую творческую силу на земле, память, и мы невольно оглянемся на сделанное для нас нашими предшественниками, и, создав библиотеку, вернем детям то, что принадлежит им по праву наследства.
Написал страничку о библиотеке, и немного отлегло от сердца, будто долг какой-то носил с собой. Восемь лет, все мысленно возвращаясь к станице, думал об этой библиотеке. Здесь только набросок. Не буду об этом здесь больше писать. Во-первых, думаю, и так отвлекся от бригады, а с другой стороны: отвлекся ли? Не находится ли все изложенное здесь о книгах в самом средоточии сегодняшнего дня, не есть ли оно выпавшее звено в золотой цепи преданий?
* * *
А в окна усадьбы влетает головокружительный запах цветущей акации. Вся станица в белом цветении. Тяжелые гроздья источают сладостный весенний аромат. Внизу кухня и буфет, где можно получить домашний обед. .Только написал об акации, усилились голоса двух женщин. Это бранилась буфетчица (она же хозяйка усадьбы-гостиницы) с худой, навсегда насупленной и злющей поварихой. Стряпуха сердита на весь мир, на все порядки в станице, на правление, а более всего на бывшего мужа. Спустившись вниз в добром расположении духа, я спросил ее, чем она недовольна такой цветущей весенней порой. Она буркнула и загремела кастрюлями. Тут бы мне и отстать от нее, или, как говорят французы, «если женщина виновата, извинись перед ней». Вместо этого я обронил самую неудачную и взрывоопасную фразу, выразив восторг от станицы. Самый невинный смысл ее выкриков был таков: мол, сами не хотят здесь жить, бездельничают в города и еще набираются нахальства хвалить эту проклятую дыру.
Буфетчица загнала ее на кухню, но и оттуда доносились проклятия в адрес всех приезжих и станичного начальства. Повариха нашла способ еще раз оторваться от кастрюль, чтобы бросить последнее проклятие в адрес всех мужчин, и особенно пьющих. Я заметил, что от жизни с ней не то что водку — начнешь хлестать тормозную жидкость. Повариха чуть не запустила мне в голову сковородой, но вовремя вплыла буфетчица и перевела разговор на пережаренную картошку. Получив неожиданный бодрящий заряд от стычки, я пошел в школу, размышляя над словами поварихи о том, что надо бежать из деревни. Я смотрел на голубое небо, на сиреневую кипень, на добротные усадьбы крестьян и не мог отвязаться от ощущения прикосновения к некоей разрушительной тайне, будто дохнуло из бездны некоей метафизической истерией... Откуда это беспокойство? Что это за болезнь? Как людьми овладевает паническое ощущение, что самое плохое место — это то, где они живут? Что чужое лучше? Сначала город лучше деревни. Потом будет заграничное лучше своего. Потом... Этому кровопийце-пауку — зависти — нет насыщения. Кто-то им уже внушил злую идею о непрестижности сельского труда. Коли так, то недовольство своим уделом становится доминантой психики. Вспомнил, как еще перед моим первым приездом в станицу академик Эрнст говорил:
— Дайте доярке четыреста рублей в месяц, она все равно сбежит на почту клеить марки за сто рублей.
Ей кажется, что, потеряв в деньгах, она выиграла в «престиже».
Женщина не верит во всесилие денег — ранг для нее важнее.
Вот как досближали город с деревней. Охваченная «престижной» истерией, крестьянка круглые сутки пилит мужа, понукая его покинуть село.
Эта самая разрушительная работа никогда не берется во внимание, потому что на всех уровнях главная категория общества — а именно семья — выпала из планов, из отчетов, из мыслей как начальства, так и публицистов, которые больше любят беседовать «о проблемах» с начитанными экономистами. Последние же черпают осведомленность из западных популярных книжек и посредством «испорченного телефона» одаривают социологическими рецептами инстанции. Только вместо старой «кухонной латыни» идет набор наукоидных иностранных слов, где самое понятное все тот же «комплекс».
Председатель колхоза Врана Вольдемар Францевич говорит:
— Надо с ранних лет готовить ребят к жизни напряженной, трудовой, реальной. Станица молодеет. Средний возраст в колхозе снизился за десятилетие с 46 до 40 лет. Судите сами. Только за последние годы из семисот принятых в колхоз шестьсот тридцать человек — это молодежь. Я верю, что приходит время оттока из городов, возврата к земле.
Главный смысл ученической бригады в связи поколений. У нас привычны совместные заседания партбюро школы и парткома колхоза, педсовета и правления. Школа и колхоз — единомышленники. В каждой бригаде колхоза висят школьные стенные газеты, «голос школы». Десять бригад колхоза заключили договор содружества с классами школы. Колхоз, говоря языком ребят, дружит со школой. Бригада дружит с классом. Ученик дружит с колхозником. На том стоим. Где начинает рабочий день директор школы?—обращается Врана к сидящему напротив директору школы Н. Беляеву и сам за пего отвечает: — Вот здесь, в этом кабинете, на планерке у председателя колхоза.
— Школа выбрасывает трудовые десанты на прорывы, — вмешивается в разговор директор школы. — На уборку томатов, на свеклу, на кукурузу. Школьники паши замещают на фермах ушедших в отпуск животноводов.
Нас ждет колхозный автобус, чтобы подвезти к культстану. Директор школы продолжает свой рассказ о бригаде по пути к машине.
— Мы соревнуемся с ученической бригадой из совхоза «Темижбекский». Дружеские встречи, матчи по футболу, баскетболу, ручному мячу. Совместные с ними проводим вечера отдыха. Ну там сами знаете, викторины, КВН. В конце трудовой четверти лучшие из ребят получают путевки на море.
Я говорю, как выглядит один день летом в бригаде для человека несведущего. Чем он заполнен? Директор охотно отвечает, гостей у него много, до одури, потому на иные вопросы он может, не задумываясь, отвечать:
— Питание бесплатное. Работают четыре часа. Неделю на стане. Воскресенье — домой в станицу. В лагерной смене сто человек. Оплата только на четверть ниже, чем у взрослых, за тот же труд. Часть денег, им заработанных, идет на нужды бригады, а часть — ему лично... Ну что еще?
Летом все деньги идут школьнику. Бригаде он не отчисляет... На жатве дюжина мальчиков по трое на комбайн. За уборочную мальчики получают в среднем по пятьсот рублей. Работают до обеда — поедят и спать. После чая, с 16 часов, два часа на благоустройство стана. Вечером линейка — итоги дня. Победитель опускает флаг. У стана сами для своих нужд посадили огород и кормимся. Вот так и живем... Забыл упомянуть, что бригада сейчас на хозрасчете, — добавил он.
Последние фразы директор произносил уже на выходе из автобуса около столовой культстана. При слове «хозрасчет» в разговор вмешалась агроном — наставник ученической бригады Ирина Никитична Цикалова. Я знал ее по первому приезду. Цикалова более десяти лет уже с детьми. И первый раз она удивила меня прямодушием, самостоятельностью суждений и требовательностью.
— Вот, вот, заладили опять: хозрасчет да рентабельность, — говорит она, — очень уж деловые стали. Зачем себя и детей обманывать? Сеялки кто отлаживает? — спрашивает Цикалова и сама себе отвечает: — Взрослые дяди! Комбайны кто готовит? Тоже взрослые. Свеклу на 30 гектарах кто сажает? Те же взрослые. Это верно, что полют дети и труд мозольный. Но убирают те же взрослые. А вы — хозрасчет... На ферму-то дети ездят не круглый год, а в неделю раз — в производственный день. Хорошо работают девочки, спору нет. Метут, доят, убирают, кормят телят. Бывает, и полный месяц берут на себя заботу о стаде. Но в году еще одиннадцать месяцев. Приучаются к труду?.. Да! Помогают?.. Да! Но какой тут, скажите на милость, хозрасчет?.. Какая рентабельность?.. И как не стыдно из года в год рапортовать для галочки? Сеют иной раз дети, это верно, но не пашут... Полей не удобряют, потому что до 18 лет нельзя работать с удобрениями... На десяти опытных гектарах, вы правы, пашут, сеют, культивируют, боронуют ребята. Это верно. Но ведь и там, на опытных полях, нельзя без удобрений. А техника чья? Колхозная. А бензин чей? Опять же колхозный.
Кто-то ей пытается возразить, чтобы не ронять престиж перед гостем. Но Цикаловой это только как масло плеснуть в огонь.
— Давайте, — говорит она, — вот тут, при детях, и подобьем итоги вашей выдуманной рентабельности. Хватит гнать вал. Надо ли детям работать на родных полях со взрослыми? — И по обыкновению сама отвечает: — Да! Надо ли ребятам участвовать в создании годовых производственных планов? Да. Надо ли школьникам отстаивать, обосновывать и вникать в свой план? Пусть защищают свои экономические расчеты на расширенном заседании правления, как это бывает. Пусть составляют хозяйственные отчеты... Закрывают наряды... Пусть упражняются в денежных расчетах, чтобы почувствовать финансовые рычаги. Пусть учатся ясному финансовому языку. Пусть и еще раз пусть. Но при чем тут рентабельность?!
Цикалова говорит, что лучше ее не заводить. А что до печати, пусть, мол, на нее ссылаются, и она на любом уровне докажет, что рентабельность бригады — это очковтирательство.
Я с ней согласен. Мы уже начали лбы расшибать. Не следует из хорошего и честного труда ребят делать один из пунктов ретивых рапортов. Очень хорошо, что такая искренность и глубина суждений прозвучали именно в Григорополисской школе. Это говорит о том, что и через тридцать лет школа чувствует свою моральную ответственность за судьбу всех ученических бригад.
Если школа не убыточна, то жизнь взрослого поколения обессмысливается. Их роль заключается в подвижнической и бескорыстной отдаче детям. Дети работают не ради прибыли, а для воспитания любви к земле, любви к семье и обществу — что потом даст отдачу сторицей. Кто настаивает на рентабельности детского труда под любой благовидностью, тот закладывает страшные убытки в будущее. Если они будут работать на прибыль, то к 17 годам сгорят и сойдут с дистанции до срока, как сходят
юные спортсмены. Колхоз с утра до ночи настроен и без того на интенсификацию и прибыль. Он имеет ее. Три миллиона рублей ежегодно. Если на русском Севере пустуют села и земли, то на русском Юге нет уже, увы, ни клочка пустоши. Детский труд должен обладать не рентабельностью, а песенностью. Вот тогда дыхания ему хватит на всю жизнь. Решил на месте провести опыт с ребятами и проверить их отношение к земле. Ведь за время пребывания в станице не одна повариха проявляла свою неприязнь к селу. Чаще всего это были женщины.
Я попросил оставить меня наедине с десятью лучшими мальчиками бригады. На скамейке в цветнике расселись девятиклассники в основном уборочного звена. Скромные, крепкие ребята с пытливыми глазами. Поговорив о том о сем, я без нажима и акцента выяснил, что из десяти ребят семеро готовы после школы остаться в колхозе. Во всяком случае, такая мысль им показалась вполне приемлемой.
Затем я попросил Цикалову послать ко мне для беседы десять лучших девочек бригады. Ни одна из них даже мысленно не могла представить свою жизнь после школы в колхозе. Они отвергали эту судьбу напрочь.
Вот корень всех корней. Сколько бы мы ни тратили средств, усилий, призывов, до тех пор пока не изменим социально-психологический климат во всем обществе по отношению к земледелию, нам не совладать с этой сферой. Не все из этих десяти девочек выберутся сразу в город. Но можете быть уверены, если она останется здесь и выйдет замуж, то она сживет со света мужа, если он не переедет в город, чтобы «жить как люди».
Почему девочки против села? О, это великий камертон и звук его — предмет размышлений для высочайшего уровня. Мы планируем, громоздим и вкладываем капиталы в пустоту, потому что исходим не из семьи, не из живых ростков, не из теплого гнезда, а из бессмысленного и отвлеченного «на тысячу человек». Вот вам девочки и дали исчерпывающий ответ и не где-нибудь, а в колхозе, который восемь лет назад парторг Мирошниченко называл «той же Россией, только в малом масштабе». Эти девочки убеждены телевидением с детства, что «джентльмен обыкновенно живет в городе». Они знают даже, как он выглядит. Он весь в импорте, и с «магом» японским, на худой конец — с гитарой. Это их увальни могут разобрать, собрать комбайн, водят машины и мечтают попасть в десант. А тот, «городской», он знает целую дюжину названий заграничных ансамблей. Ах, они звучат так волшебно-заморски. У него весь зад в «лейблах», он умен потому, что критикует все родное и считает всех взрослых скучными дураками. В городе «культура», там никто почти не работает. Кругом асфальт и магазины. А телевидение подбрасывает еще и еще жару.
Девочки помогли осознать мне то, что мешало мне жить в станице, несмотря на цветение сирени и полные цветники в палисадах. В станице, куда ни придешь, везде вас настигает всепроникающая атмосфера необходимого, какая-то беспрерывная гонка плана. Ни тебе пустоши и уединения, ни пруда и парка, ни очаровательной беседки или дворца — все отдано производству. Каждая пядь разграфлена. На всем печать какого-то оцепенелого беспокойства. В классе — графики, в конторе — планы, на фермах — обязательства, всюду «даешь!»... «Дадим!»... «Выполним!»... Цифирь, плакат и рапорт. Механизмов на селе стало много, а теплоты, тишины и любви — все меньше и меньше. Когда-то на самом лучшем месте станицы был воздвигнут кафедральный собор. Рядом теперь типовое, плоское, приземленное здание правления, которое влетело колхозу в копеечку. Собор стоит рядом без головы, без окон, в грудах развалин. Хотели убрать совсем с глаз долой, но кладка больно сильна. Строили на века — не стекло и алюминий да бетон. Пытались взорвать, но стены таковы, что они будут и после взрыва стоять, а вот монолит правления рухнет.
Все есть как будто в колхозе, а главного нет. Нет памяти, нет музея станицы и колхоза, нет парка. А где нет памяти, там нет культуры, даже если ты в импорте от холки до хвоста. Что дает память, парк, музей, самобытная, а не типовая архитектура людям? Они дают ощущение неуязвимости, духовности и корней. Голое производство, даже сверхрентабельное, одуряет, беспокоит, ожиряет.
Первыми это ощущают девочки. Виноват ли колхоз? Нисколько. Он и так делает для своих детей больше любого хозяйства. Врана — хозяин умный, смелый и упорный. Если бы ему дали правильный духовный курс. Откуда ему было знать, что на свете нет ничего более убыточного, чем поглощенность рентабельностью. Все проблемы надо проверять на преуспевающих производствах, потому лучшей модели, чем колхоз «Россия», трудно желать.
С Лыскиным — отцом ученической бригады — мы все
же встретились во время его наездов в Москву из Ворсино. Лыскин был бы не Лыскиным, если бы захудалое, убыточное хозяйство недалеко от Обнинска (Николай Фадеевич предпочитает подчеркивать: «рядом с родиной Жукова») не сделал бы сильнейшим хозяйством Калужской области. В Москве у него квартира, и, разумеется, пустая. По-походному скупо и его жилье в Ворсине. Аскетическое презрение к благам и недвижимости он принес с собой из тридцатых годов. Лыскин приехал в Ворсино после шестидесяти лет, да таких лет, что хватило бы на эпос. Теперь уже двадцать лет он по обыкновению временами сотрясает коридоры областного начальства, будто из другой эпохи ожил вдруг мамонт или какой иной крупный зверь, и трясет, и гоняет, и придавливает к стенам кабинетов аппаратную мелочь, обставленную телефонами. Лыскин — характернейший «реликт» той эпохи, которую теперь именуют «сталинской». Николай Фадеевич начинал путь со Стахановым и был дружен с ним. До войны Лыскин уже командовал совхозом в Сальских степях, а потом даже побывал директором совхоза «Гигант» — флагмана всего тогдашнего советского зернового хозяйства. Оттуда была дорога только в Москву и не ниже замминистра. Но Лыскин предпочел станицу Григорополисскую, из задонских степей двинул в соседнюю Кубань. О таких хозяевах в старину говорили: воротила. Он вошел ко мне домой на Арбате, и даже большая старинная барская квартира показалась мала. Вошел чуть сутулый мужчина, взгляд снайперский, исподлобья, старого орла. Нетороплив, но в мыслях и решениях быстр. Вошел в сопровождении шофера и зама и чувствовалось: каждый из свиты готов по его кивку сделать все и без малейшей тени подобострастия, из радостного признания, что под началом у атамана, который любит вкус риска.
Мы сразу стали вспоминать Сальские степи — родину прославленных донских лошадей.
Если ж тебя привлекает война и жизнь строевая, Первое дело — чтобы конь приучился к оружью и духу Воинских схваток, привык и к трубному звуку, и к стону Тяжеловесных, колес, и к бряцанью удил на конюшне.Вергилий в Сибири когда-то и привел меня в знойные Сальские степи. Лютыми сибирскими зимами приходилось в Новосибирске добираться на автобусе каждое утро тридцать километров. Пальтишко легкое, ботинки тонкие, а автобусы зимой в Сибири не всегда топят в отличие от Крыма. Подойдет к стоянке автобус, когда ты уже съежился от мороза, а на полу с ночи тонкая корка льда. Доберешься до города в этом морозильнике полуживой. Едешь, и, чтоб спастись, грезишь, закрыв глаза, о раскаленных Сальских степях, где не был никогда, где пасутся табуны донских лошадей, и клянешься себе, что сбежишь из Сибири на полное и долгое лето, наймешься табунщиком. И вечером, когда луна взойдет большая над равниной, упадешь в выжженной рубахе на неостывшую землю и слушаешь под звон цикад, как храпят золотистые лошади Дона — детище атамана Платова. Царапаешь ногтем заиндевевшее окно автобуса и твердишь:
Колосом нежным уже понемногу зажелтеют, И с невозделанных лоз повиснут алые гроздья.Последнюю, клянешься себе, зиму ты в Сибири. А с первой капелью назад, на Дон, — выбежать в поле и, как Вергилий свою родину, приветствуешь: «Здравствуй, Сатурна земля, великая мать урожаев».
Лыскину я ни слова, разумеется, о Вергилии, откуда ему знать, что он прямой продолжатель древней традиции и занят всю жизнь деятельностью, благодаря которой и Рим стал всего прекраснее в мире.
Доимператорский Рим и остался для всего человечества единственным Римом, а Рим Нерона и Калигулы — это уже, если угодно, «второй Рим» и загнивающий. А Константинополь, стало быть, если любят его церковные книжники, так это уже «третий Рим». Потом будет «четвертый Рим» в мире для «священной Римской империи германского народа». Когда наши недоучившиеся византийцы в своей далеко неправославной гордыне хотели из Москвы сделать «третий Рим», он уже мог быть только «пятым Римом». Москва есть и будет одна. Как был только один Рим, земледельческий и республиканский, — город Катона и Гракхов. Незачем заниматься этой суетливой бухгалтерией и становиться в очередь «за Римами». А в Сибири я провел еще пятнадцать зим и полюбил ее навсегда, но в Сальские степи все же добрался.
Кто же из нас не вынес с детства этих таинственных географических названий: Кума и Маныч — рек, по бассейнам которых проходит граница между Азией и Европой на Северном Кавказе, «по кумаманыческой впадине», как гласят наши учебники. Эта «кумаманыческая впадина» в детстве была для нас куда более загадочной, чем Бермудский треугольник. До нее я тоже добрался. Впадину приезжий человек не увидит. Вокруг, насколько охватить можно взглядом, бескрайняя равнина. Серебрится ковыль на склонах балок, низины устилает душистый чебрец, над головой заливается жаворонок да кружат ястребы в поднебесье. Не эти ли просторы в сочетании со школьными воспоминаниями натолкнули Лермонтова на следующие строки Софье Карамзиной:
«Так как Вы обладаете глубокими познаниями в географии, то я не предлагаю Вам посмотреть на карту, чтобы узнать, где это; но, чтобы помочь Вашей памяти, скажу, что это находится между Каспийским и Черным морем немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта, а главное — довольно близко от Астрахани, которую Вы так хорошо знаете».
Надо полагать, что адресат Лермонтова так же хорошо знал Астрахань, как и Шанхай. Письмо писано по-французски из Ставрополя 10 мая 1841 года и полно чисто гвардейской галантности и мальчишеского озорства. В этом же ключе, но с большей точностью можно добавить, что город, откуда поэт отправил письмо, находится на одинаковом расстоянии как от Северного полюса, так и от экватора. А что касается рек Кумы и Маныча, то увидел их наконец своими глазами. В особенности поразила меня Кума-хлопотунья. Речка с виду неказистая, но важная. Воды ее не просто мутны — они неправдоподобно мутны. Кажется, это не вода течет, а гонит кто-то глину во взвешенном состоянии. Кума быстра и проворна. Но даже такая энергичная река не добегала еще недавно до Каспия, а терялась, обессиленная в песках, за Нефтекумском. Теперь ее, Куму, как «под руки», каналами бережно до моря доводят. А в перепаханных теперь Сальских степях нашел я в зимовниках последние табуны донских лошадей, которые перед первой мировой войной обеспечивали две трети ремонта русской кавалерии. Лыскин хозяйничал по соседству. То й дело в литературе и даже классике нашей появляется штамп о выносливой, но «низкорослой и мохнатой» казацкой лошади, на которой любил перед войсками появиться Суворов.
На самом деле донские лошади крупны, великорослы, прекрасной золотистой масти и действительно выносливы. Платов знал, как и Гораций, что «сильные и лучшие — родятся от сильных и лучших». Потому он терпеливо и долго отбирал, как говорят англичане, «The best to the best» (лучшее к лучшему).
Лыскин и здесь отличился. Он помнит, как наезжал Буденный на конные заводы, решительно отбирал у начальников личные машины и требовал от них ездить только верхом и в пролетках. Я жил в том же «люксе», что был когда-то приготовлен для Семена Михайловича в Зимовниках. По сравнению с виллой в Григорополисской, которую отгрохал Лыскин для большого начальства, буденновский «люкс» с земляными полами как хижина перед Зимним дворцом. Старые конюхи рассказывали, как в страшном 33 году запылили черные эмки по сельским проселкам. К морю через Донские степи ехал Сталин. К дороге сгоняли остатки стад со всего края, чтобы хозяин увидел не распухшие от голода детские трупы, а мирно пасущиеся стада и почти счастливых «пейзан». Лыскин все помнит, все отпечатал в сердце, и, кажется, горе народное придало ему какую-то свирепую живучесть, чтоб пережил всех и за все и не сдался. Он сам как символ фантастической народной неистребимости. Это, видимо, веет от него, и потому молодой шофер его так радостно исполнителен. Лыскин фальшь в человеке мгновенно засекает. Сам он прям и прост, но далеко не простодушен. Коли надо, то никому на свете не проникнуть в последние тайники его души. Он знал всех глав государства. И сейчас может позвонить «самому» не колеблясь. После войны выбил для григорополисцев прямо в кабинете Сталина трактора и ресурсы. Дело делал, но ни разу не лебезил. Беспощаден был к себе и к другим. Время высушило все сантименты с юности. Никаких полутеней. В войну гнал за Волгу отборные стада. Донская лошадь перед первой мировой войной наряду с орловским рысаком была на всех выставках главным национальным богатством России. Лыскин и сам, как дончак, который выжил в сальских степях в неслыханно суровых условиях. Здесь степь не любит шуток и ничего не делает наполовину. Коли жара, то сорок в тени и трещит земля, и пересыхают речки, опаленные зноем, коли мороз, то тоже под сорок и те же речки промерзают до дна. А коли задует летом черная буря, то пиши пропало, — вой, стон над землей, мрак кромешный, не то чтобы солнца, а пальцев вытянутой руки не видно. Здесь никогда даром хлеб не ели еще со времен генерал-поручика Суворова, командира кубанского корпуса, основателя и станицы Григорополисской, названной в честь создателя Новой России, покровителя Суворова, Потемкина городом Григория — Григорополис — на семисоткилометровой Азово-Моздокской линии от Дона до Куры. Коннозаводчики во времена атамана Иловайского, продолжателя дела Платова, называли сальские степи «латифундией дьявола». Именно эти места имел в виду Вергилий, когда писал Скафии:
Снег меж тем все идет и воздух собой заполняет; И погибают стада, стоят неподвижно, морозом скованы туши быков, под невидимым грузом олени Стынут, сбившись толпой, — рогов: лишь видны верхушки.Уж что выживет здесь — жить будет долго. В этой бескрайней степи «немного к югу от Москвы и немного к северу от Египта», где белеют на склонах балок кости, да кружат лениво ястребы в знойном мареве, на этих просторах не удивишься, если вдруг покажутся из-за холма, покачиваясь, пики всадников Святослава или Игоря, громивших здесь хазар, в этой степи, будто созданной богом, чтобы разворачивать для атаки конные лавы.
Как же обличья злодейств разнородны! Нет уже плугу Должной чести. Поля засыхают с уходом хозяев Прежних; и серп кривой на меч прямой перекован, Там затевает Евфрат, а там Германия брани, Здесь договоры порвав, города-соседи враждуют Непримиримо, и Марс во всем свирепствует мире.Это из «Георгии». Вергилий и впрямь наш современник. Платов когда-то предоставил войсковую Задонскую степь в бесплатное пользование всякому казаку, желающему разводить лошадей, без ограничения выпаса, сенокоса и распашки. При жизни Пушкина Николай I посетил Дон и Ставрополыцину, осмотрев казачьи, полки, он остался недоволен статью лошадей и высказал пожелание, чтобы «казак и его лошадь олицетворяли собой кентавра древних». Первые заводские книги вскоре были заведены талантливым коннозаводчиком атаманом Иловайским, и через некоторое время уже ни одно государство в мире не обладало таким огромным и самобытным коннозаводством верховой военной лошади на площади около восьмисот тысяч десятин, не знавших плуга, и с шестьюдесятью тысячами отборного поголовья золотых коней. Что мы знаем о своем еще вчерашнем прошлом? В слободе Владимировке, Кавказской области, Пятигорского округа, находилось хозяйство помещика А. Ф. Реброва. По признанию Московского общества сельского хозяйства, Ребров был первым шелководом России и оспователем русского шелководства. У него изготовлялся лучший в мире шелк! Иностранные купцы переплачивали за шелк Реброва.
Знают ли об этом школьники Ставрополья? Нет, ни они, ни их наставники не ведают ни о Реброве, ни о племенной работе Платова и Иловайского, ни о замечательном коневодстве вчерашней Ставропольской губернии.
Все несчастья, постигшие наше земледелие, проистекают от этой слабой иммунной памяти.
А как научишься ты читать про доблесть героев И про деянья отца, познавать, что есть добродетель.Это из той, четвертой эклоги, где мальчика ждет невозделанная земля. Вергилий, чей бюст стоял во всех школах Рима, на античной скульптуре очень похож лицом на Шукшина. Он умер за 19 лет до рождения Христа. Четвертая эклога приводила в сильное волнение первых христиан — они видели в образе мальчика пророческое предчувствие пришествия. Иммунная память дарует здоровье, близкое к абсолютному. Любовь к родине проявляется в преданности детям, в сильной привязанности к семье. Как для офицера любовь к солдату есть проявление любви к отечеству. Когда эти узы слабеют, то школа в Григорополисской становится малолюдней каждую осень, а школа для так называемых умственно отсталых в центре станицы все многолюдней. Помещается это скорбное заведение в старинной школе, построенной станичными казаками еще до революции для своих здоровых детей. Стоишь у ограды подолгу и наблюдаешь за жизнью этой школы, испытывая отчаяние, что не можешь помочь этим невинным детям.
По приезде в Григорополисскую первым делом стал выспрашивать в школе, почему не видно Николая Ивановича Бутенко, того, что восемь лет назад, в мой первый приезд, был заместителем директора школы по производственному обучению, а практически главный, кто в школе отвечал за всю жизнь бригады. В нем заложены были хорошие начала, вынесенные из здоровой, трудолюбивой семьи, помноженные на верность своей земле и энергию, эти задатки могли послужить родной станице. Николай Бутенко, оказалось, уже директор Григорополисского сельского профессионально-технического училища. В этом училище учатся и живут при нем несколько сотен юношей — без преувеличения цвет и надежда местной нивы. Училище основано еще в 1915 году. Бутенко за счет своего отпуска сидел по архивам и изучал прошлое училища, которое готовило когда-то слесарей-механиков и мастеров столярно-колесного дела. Бутенко показывал училище с гордостью. Усадьба обширная. Механизмов целый полигон. Сегодня в земледелии применяют сто наименований машин. Выпускники должны разбираться в них, как в собственных мотоциклах. Те, кто приходят после восьмилетки, учатся три года. Выпускники средней школы осваивают курс за десять месяцев. Питание четырехразовое. В дореволюционном училище техники было не в пример мало, но сильней было самое главное для человека — глубокое понимание важности тайн ремесла, некоторая даже поэтика профессии, уважение к мастерству, порой даже переходящая в хорошую важность и неторопливую степенность. Что же сегодня нужно хорошему молодому директору вроде Бутенко и его юным воспитанникам, чтобы не дискотека в подземелье училища, разрисованная черными красками под веселую преисподнюю, казалась средоточием культурного досуга? Японцы умно и последовательно ведут свою страну к всеобщему высшему образованию, а мы лучшие силы народа — неокрепших подростков — начиняем до одури сельхозтехникой, без корней и истории земледельческой культуры. Разве воспитанники Бутенко не заслужили лучшей формы одежды, чем кирзуха, ватники и мешковатые фуфайки? Почему по окончании они но могут хотя бы за свои деньги на всю жизнь получить красивый и дорогой значок? Одежду форменную они бы и сами заработали, но она должна быть элегантна, строга и красива и разделена как на полевую, так и на парадную. Много ли для этого нужно ума? Бескрылая заземленность и унылые бюрократические шамкания — главные враги земледелия и юности. Когда Александр III как-то на время упростил форму в русской армии и унифицировал ее, ответом юношества было резкое сокращение притока желающих в военные училища. Одежда, как и обряд и ритуал, великие созидатели. Форма, по Гегелю, есть «свечение сущности». Сегодня все наши юноши в СПТУ города и деревни, судя по их форме, несут на себе свечение убогой сущности их руководителей. Если не все СПТУ, то лучшие из них, хотя бы по одному вначале на область, должны стать Болотовскими лицеями, сельскими колледжами с широкой культурной программой, пусть при тех же сроках обучения. «Поднятие крестьянского земледелия — самая существенная задача, прямо или косвенно касающаяся каждого русского гражданина». Эти слова К. Тимирязева сегодня более актуальны, чем при жизни ученого.
Теоретические основы земледельческой механики сложились в нашей стране раньше, чем где бы то ни было в мире. Основатель ее Василий Горячкин был, по существу, нашим современником и умер только в 1935 году. Он был первым в мире теоретиком в конструировании машин для земледелия. Проходит ли осмысленно его наследие в наших ОПТУ? Нет, разумеется. Впитывается ли в плоть и кровь юноши следующее положение Юстуса Либиха: «Возникновением и гибелью народов управляет один и тот же закон природы. Отнятие от стран условий, определяющих их плодородие, вызывает их гибель, поддержание же этих условий обеспечивает этим странам длительное существование».
Мы ходим по залам и коридорам училища с Бутенко. Сил он уже положил здесь много. Но кругом все те же обязательства, достижения, графики, механизмы, лозунги, плакаты, убивающие в подростке все живое, пытливое и радостное. Бутенко ловит новое на лету. Хозяин он дельный, но кто ему поможет донести до ребят в ватниках и кирзе, что именно они — служители искусств, не работники эстрады, кино и театра, а прежде всего они, а потом уже все .остальные. «Земледелие — первое, самое важное из искусств» — это не цитата из Альберта Великого, нет, это прежде всего каноническое, незыблемое положение для всех времен, ибо далее Альберт Великий, чтобы не оставить сомнений, заключает: «Истинное богатство доставляется только землей, кто улучшает свои земли, торжествует победу».
Или нет у нас за плечами богатой и славной земледельческой традиции? Разве не по нашей земле в 1888 году прошел первый в мире гусеничный трактор? Создан он был бывшим бурлаком Федором Блиновым в городе Балакове. Ученик Блинова — Я. Мамин создал в 1911 году первый русский дизельный трактор. Мамин был принят в 1918 году Лениным в Кремле и получил одобрение и поддержку на постройку первого в России тракторного завода, который в Саратовской области выпускал тракторы конструкции Мамина — «Гном» и «Карлик».
Осмыслили ли мы свой путь? Мы в 1928 году применяли еще на пахоте 4,6 миллиона сох, косуль и сабанов. Если их было миллионы в 1928 году — это не значит, что через десять лет они исчезли. Нет. Мы встретили нашествие фашизма еще крестьянской страной. В этом, кстати, была наша не только слабость, но и сила прежде всего. Наш воин взял в руки винтовку, а кубанские и донские казаки, взяв клинки, отставили сохи, которыми орал еще их предок Микула Селянинович. Мы пошли на врага, не растратив еще былинной уравновешенности психики и эпического душевного склада. Способны ли мы вернуть внукам этих богатырей непоколебимую веру, что истинные работники искусств живут только в деревне? Если мы это сделаем, мы будем самой богатой и самой культурной страной мира — как нам и подобает по историческому жребию.
Если мы начнем с укрепления иммунной памяти, мы одолеем все. Тогда по нашим родным полям не будут двигаться чудовища вроде того, что в первый приезд я видел в Григорополисской. Ужас от этого впечатления не прошел и поныне. Однажды с Соловьевым мы ездили по полям целый день. И вот прикатили на один из полевых станов. Главный агроном молча показал в сторону группы сельскохозяйственных машин. Все машины хлебороба имеют одну как бы тайную и органичную задачу, как бы внешне не рознились. В землю бросается семя. Приходит время, и колос срезается. Больше всего два орудия нужны были крестьянину. Соха и серп. Сейчас машин много, но все они обслуживают семя, брошенное в землю, — плуги, сеялки, жатки, культиваторы, у всех у них знакомые с детства очертания. А тут в поле среди машин и механизмов, знакомых со школы, вдруг вижу стоит что-то зловещее, чужое и недоброе. Луноход не луноход, трактор не трактор. Видно сразу только, что не пашет, не сеет и не жнет. Размеры больше, чем чудище из фантастических романов, все обвешанное емкостями и стальными резервуарами, нечто вроде стальной мерзкой жабы.
Я ее с первого взгляда различил и невольно подобрался, как при встрече со смертельным врагом. Хорошо рассматривать картинки с механизмами на Марсе, но среди родных полей это видение пробуждает в вас древний и властный инстинкт отбрасывания. Это была купленная за золото машина для отравления земли ядами. Взглянул на Соловьева — он молчит и хмурится. Производительность ее ядовитости соответствует ее размерам и шири кубанских полей. Все наши машины в соседстве с ней кажутся полны человечности, теплоты и домашности. Как жаль, что нельзя ее тут же, не уходя из стана разрезать своими руками, автогеном и закопать вместе с радиоактивными отходами на дне океана, чтоб землю не поганить. Нет, не автоген бы, а связку гранат под ее мерзкое брюхо. И стоит же не где-нибудь эта импортная гадина, а на лучшей в мире почве — на национальной гордости и главном богатстве страны — стоит на русском черноземе, «благодатной почве, — по Докучаеву,— которая составляет коренное, ни с чем не сравнимое богатство России». Говорит человек, благодаря которому русские народные названия почв — «чернозем», «подзол», «солонец» и другие приняты всем миром как научные термины. Эти слова задолго до слова «спутник» обогатили мировую лексику. Произошло это в светлые и плодотворные 80-е годы прошлого столетия — время мирового взлета русской культуры и мысли.
Нигде на земле природа не создала ничего равного русскому чернозему. И вот теперь на этих полях увидеть этого механического убийцу русского чернозема. Вот к чему приводят потеря иммунной памяти и неуважение к отеческим преданиям. Чтобы победить это видение, я испытываю непреодолимую потребность восстановить связь времен и опереться на спасительный опыт нашего общенационального наставника Суворова. Приведу письма, написанные им в свои деревни из этих мест, когда он поселял здесь казаков Волжского и Хоперского полков, строил редуты, дома, рубил церкви и замирял степняков. Без этих писем не выбраться на большак, не победить смертоносной машины, не узнать тайны тысячелетнего русского земледельческого уклада и не понять тайны суворовской народности и его военного гения.
Итак, канун новой русско-турецкой войны, когда в степи древнего русского Юга вышла после времен Ильи Муромца новая богатырская дружина — Ушакова, Потемкина, Салтыкова, Румянцева, Суворова, — все дети Петра.
Суворов — крестьянам села Ундол:
«Лень рождается от изобилия. Так и здесь она произошла издавна от излишества земли и от самых легких господских оброков. В привычку вошло пахать иные земли без навоза, от сего земля вырождается и из года в год приносит плоды хуже. От этой привычки нерадение об умножении скота, а по недостатку оного мало навоза, так что и прочие земли хуже унавоживаются, и от того главный неурожай хлеба, который, от чего Боже сохрани, впредь еще хуже быть может. Чего ради пустоши Какотиху и Федейцево определяю одиножды навсегда на сенные покосы, и в них впредь никогда земли не пахать и в наймы не отдавать, а поросший на ней кустарник расчистить. Под посев же пахать столько, сколько по числу скотин навоз обнять может, а не унавоженную землю не пахать и лучше оставшуюся, навозом не покрытую часть, пустить под луга, а кустарник своевременно срубать. Но и сие только на это время; ибо я наистрожайше настаивать буду о размножении рогатого скота и за нерадение о том жестоко вначале старосту, а потом всех наказывать буду.
Единожды размноженную скотину отнюдь не продавать и не резать и только бычков применивать на телушек с придачею. Самим же вам лучше быть пока без мяса, но с хлебом и молоком. Разве чрез прошествие нескольких лет прироста скотина окажется лишнею против земли, и вся нынешная земля укроется навозом, тогда можно и в пустоши лишний навоз вывозить. У крестьянина Михаила Иванова одна корова! Следовало бы старосту и весь мир оштрафовать за то, что допустили они Михайлу Иванова дожить до одной коровы. Но на сей раз в первые и в последние прощается. Купить Иванову другую корову из оброчных моих денег. Сие делаю не в потворство и объявляю, чтобы впредь на то же еще никому не надеяться. Богатых и исправных крестьян и крестьян скудных различать и первым пособлять в податях и работах беднякам. Особливо почитать таких неимущих, у кого много малолетних детей. Того ради Михайле Иванову сверх коровы купить еще из моих денег шапку в рубль.
Ближайший повод к лени — это безначалие. Староста здесь год был только одним нарядником и потворщиком. Ныне быть старосте на три года Роману Васильеву и вступить ему в эту должность с Нового года. Ежели будет исправен, то его правление продолжится паче, ежели в его правление крестьяне разбогатеют, а паче того, коли из некоторых выгонит лень и учинит к работе и размножению скота и лошадей раздельными, то в работах ему будет помощь от мира, а все случающиеся угощения — земские — отправлять вотчиной. А он оных чужд. Моим дворовым людям никаких посулов давать не дерзать; ибо теми посулами откупаются виноватые: а кто из них отважится оных посулов требовать, то означать его имя прямо ко мне в отписках».
Потому и стали возможны Кагул, Рымник и Нови, что Александр Васильевич не был профессионален, не был чисто военным спецом, в этом и тайна его народности. Уж коли Григорополисское ОПТУ перевооружать в Болотовское училище, то я первым делом начал бы с музея Суворова. Разве вы не почувствовали внутреннюю его духовную связь с Катоном Старшим? Только дипломированные эстеты думают, что Суворов в Питере стоит на пьедестале в римских доспехах. Это стилизация под Рим. Между русской богатырской заставой и Римом куда более глубокая связь, идущая от земледельческого уклада и усадебной культуры. В средние века говорили: «Тот, кто утром пашет землю, после обеда участвует в турнире».
В языке Суворова, в его лексике и ритме слышна лыскииская речь и его склонность к ясности и сути. Не могу удержаться и не привести еще одно письмо Суворова, которое, по мне, не уступает любой странице русской прозы.
Вот его письмо управляющему М. И. Поречневу за август 1785 года.
«Не упусти время в ундольском саду вместо подсохших березок насадить осенью новые, а коли можно, то и елками, а подле частокола метельником, чтобы оный со временем гуще разросся, был красив и пустых мест в нем бы не было. Також аллеи и дороги с куртинами липняком и кленником дополнить и украсить. К Ундолке-речке против ворот пришпектом по приличеству мест березками, липками, коли ж можно, и елкою, а подле самой речки чаще ветлинником обсадить...
Птичью горницу оставить по-прежнему. Рощу в ней с Покрова или в свое время учредить на разных птиц. Больше прошлогоднего наловить; особливо как большой недостаток был в щеглятах. И на покупных птиц я не жалею рублика-другого во Владимире и Москве, Но на это нечего надеяться, лучше уж свои. Роща чтоб так чиста была, чтоб нам
можно было бы в ней и зимою кушать. Корыта для птичьих семян в ней должны быть приличны, неказисты, да и плошки надобно получше. В полдюжины кадок должно поставить с лучшей землею. Посадить сюда березок, елок, сосенок, и которые из них отойдут и будут к весне расти — чего ради их хранить и поливать.
Ведай, что у меня денег нет; а долг есть, и год целый я тратился на церкви. Чем меньше мы издержим по Ундоле, чем больше по уплате долга, останется нам денег на тамошние ризы к Божией церкви. Вот тебе, Поречнев, вся загадка, и можешь это объявить священникам. Смотри строго за благонравием, чтобы шалости все вывелись, чтобы ничто худое пред тобою затаено не было, как пущему на месте вместо меня, и по этому преимуществу можешь ты виноватого наказывать. Проси священников, — чтобы и они тебе помогали. Им сделать рясы приличные, как у московских городских священников...»
С сожалением пропускаю точные и выразительные строки об охоте, об оркестре, о хоре, о театральном искусстве. «Помни музыку нашу — вокальный и инструментальный хоры, и чтоб не уронить концертное». По мне, так более трогательно его отеческое попечение о детях, чтобы покойно им было, жить, «тепло, не ветрено, не душно и не угарно и чтобы мне моих малых ундольцев избавить, сколько можно, вовсе от постоя». Однако очерк наш весь о детях григорополисских, потому в заключение приведу еще одно краткое письмо Суворова:
«Ундольские крестьяне не чадолюбивы и недавно в малых детях терпели жалостный убыток. Это от собственного небрежения, а не от посещения Божия, ибо Бог злу невиновен. В оспе ребят от простуды не укрывали, двери и окошки оставляли полые и ненадлежащим их питали, и хотя небрежных отцов должно сечь нещадно в мирском кругу, а мужья — те с их женами управятся сами. Но сего наказания мало, понеже сие есть человекоубийство, важнее самоубийства. Порочный, корыстолюбивый постой проезжих тому главною причиною, ибо в таком случае пекутся о постояльцах, а детей не блюдут...»
Современные крестьяне не более чадолюбивы, чем их ундольские предки. В противном случае не наполнена была бы школа в центре Григорополисской жалостным убытком. Повывелись на Руси учители общества с суворовской отеческой строгостью и заботой. Этой злокачественной школы могло и не быть, если бы не тешили родители их утробу свою алкоголем. А те, кто сбежал в город из деревни, еще меньше ума набрались, чем их родичи на селе. Разложение-то идет не из деревни в город, а наоборот. Сегодня у наших школьников здоровье стоит на седьмом месте, а у американских детей на первом. Думаете, дети наши виноваты? Нет. Это их родители в погоне за вином и импортом одарили их этой делекарственной шкалой ценностей.
Отметили мы тысячелетие крещения Руси. В Григорополисской, богатейшей станице, даже в честь тысячи лет и то не отремонтировали храм. Будь ты хоть трижды атеист, но если под этими сводами крестили, венчали и отпевали твоих предков, то какой же надо быть... (извините, сами подберите слово), чтобы эту святыню не восстановить любовно всем миром. Чем была церковь для крестьян, видно из письма Суворова во Владимирскую вотчину:
«Указано моими повелениями в соблюдение крестьянского здоровья и особливо малых детей прописанными в них резонами и лекарствами, как и о находящихся во сне, чтобы таких отнюдь на ветер и для причащения в Божию церковь не носить. Сия болезнь неминуемо каждого человека исходит. Бережливость от ветра теплотою, а не ветром. Но ныне, к крайнему моему сожалению, слышу, что из семьи Якова Калашникова девочка оспой померла, и он квартирующему у него подлекарю сказал: «Я рад, что ее Бог прибрал; а то она нам связала все руки». С прискорбностию нахожу нужным паки подтвердить, что бы во всем сходно крестьяне прежние мои приказания исполняли. Неисполнители наказаны быть имеют следующим штрафом: Калашникова при собрании мира отправить к священнику и оставить на три дня в церкви, чтобы священник наложил на него эпитимию, чтобы впредь так говорить об умерших своих детях не мог; а старался бы о воспитании и присмотре за ними, яко он и сам от отца рожденный. Старосту же за несмотрение поставить в церковь на сутки, чтобы он молился на коленах и впредь крепко смотрел за нерадивыми о детях отцами и не дозволял младенцев, особенно в оспе, носить по избам, от чего чинится напрасная смерть; в противном случае будет поступлено веще. О прочих крестьянах не моего владения я ничего не говорю. Но только запрещаю, буде у них в оспе есть дети, в домы не ходить и детей малых туда не пускать».
Без таких национальных наставников и заступников народ — сирота, хоть ты удовлетвори до макушки его растущие материальные потребности. Стали ли мы от перестройки умнее? Время покажет. Но обнадеживающих симптомов мало. Вот хотя бы эти письма. Подготовил, научно описал и издал громадный фолиант кинорежиссер Вячеслав Лопатин. Стало ли это предметом общенародного обсуждения? Нет. Выдвинул ли ученый совет Центра русской культуры имени Андрея Рублева Лопатина на соискание ученой степени доктора «гонорис Кауза»? Нет. Кто в стране вообще печется о приращении духовных ценностей? Для чего же тогда был создан Фонд культуры СССР? Сейчас все бросились читать в наркотическом угаре разоблачения. Думаете, чтобы засучить рукава? Нет, чтобы броситься в наш отечественный вид повального спорта под названием «Охота за козлом отпущения». Сколько мы распаляли себя классовым зубовным скрежетом по поводу крепостного права? А все ли мы знаем о прошлом нашей родной деревни?[5] Потому у нас и прилавки пустые, что прошлое забыли. Кто на первое место ставит материальные потребности, у того никогда не будет изобилия.
Без личности на селе не будет продукции, не будет прибыли, как бы не суетились эпигоны казарменного коммунизма и не вытирали по телевизору пот со лба, и не кричали громче всех о прибыли и умении хозяйствовать. Без достоинства земля не рожает. Ей, земле, нужен хозяин, а потому есть только один способ и путь к силе и процветанию — это вернуть землю единственному ее хозяину, тому, кто ее поливает своим потом. Сегодня село очень неоднородно. Скорбным свидетельством тому школа для умственно отсталых в станице Григорополисской. Нужен отбор хозяев, город может помочь, если бросить клич отобрать мужчин-механиков с золотыми руками в городе и дать им льготы и ссуды. Словом, пришла пора нового возрождения усадебной культуры и людей суворовского здравого смысла и служения. Юношей надо воспитывать чести с молоду, чтобы перед смертью каждый из нас имел бы не больше поводов к сожалению, чем было их у Катона в последний час. Он, говорят, перед смертью сожалел только о трех своих поступках. Однажды он поплыл морем, когда мог достичь этого места сушей. Другой раз, когда впервые в жизни доверил государственную тайну жене. И третий случай: он отложил на один день написание завещания.
В этом очерке автор, как мог заметить читатель, не скупился на цитирование из народных наставников. Это вовсе не потому, что я испытываю особое пристрастие к цитатам или чужим мыслям или не способен опереться на собственные суждения. Нет, сегодня пришла пора позвать в прямые собеседники наших подвижников, не клясться их именем, а дать им слово и ввести их речь в контекст наших непростых будней и нашей прозы.
Было бы неловко забыть отца нашей новой педагогики К. Ушинского и напомнить всем ученическим бригадам страны, что в его лице они имеют такого же заступника, как Суворов. Вот его замечание о воздействии родной земли на нас:
«А воля, а простор, природа, прекрасные окрестности городка, а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая и золотистая осень разве не были нашими воспитателями? Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога».
* * *
У школы великолепное здание, которое могло бы украсить любую столицу, но нет своего парка и сада. На школьных делянках вместо цветов, кустарника и деревьев повсюду засажены необходимые для опытов растения. Будто их мало на десяти гектарах только опытных полей школы. В школе средней сейчас пятьсот учащихся, а заложена она на вдвое больший контингент. В классах и рекреациях просторно. Когда создавалась бригада, было три десятых класса. Теперь один, небольшой. И с каждым годом меньше. Почти все учителя — выпускники школы и прошли через бригаду. Сколько выслушано в печати нападок на нашу школу! Я же беру на себя смелость заявить, что школа наша лучше американской и при всех ее недостатках она одна из самых достойных, упорядоченных и действенных структур нашего государства. Познакомишься с учителями любой школы, особенно на селе и в поселках, и понимаешь, что школа все еще хранит великую традицию. До революции лучшие подвижнические образованные силы России сосредоточены были в учительстве и медицине. Не берусь судить о последней сфере, но школой нашей мы еще вправе гордиться. Только надо ей помочь, а не экспериментировать. Надо бы, к слову, не тысячу гектаров пашни закреплять за бригадой, а в первую очередь сто гектаров колхозного сада, что гораздо более созвучно детству. Все равно убирают фрукты школьники. Так же как сами дети выращивают и убирают урожай на десяти гектарах под картошкой, луком, редиской, свеклой — всем, что надо для их столовой. Словом, если бы меня спросили, чего не хватает в деревне, я бы ответил: в деревне деревни недостает. Утрачена душа деревни — самое драгоценное, что было в ней. Из города кроме механизмов заимствуется не порядок и удобства, а внешнее.
В сознании сельского жителя одним из самых легкоусваиваемых и внешних атрибутов является асфальт. Видимо, как антитеза непролазной грязи родной, сельской. Потому асфальтом стали заливать все, что попадется. Часто то, что не надо. Дорожки, которые стали бы украшением с гравием или битым кирпичом, заливаются асфальтом. Разровнял, залил, укатал — ума не надо, и сердито. В школе спортплощадки тоже залиты асфальтом не без цивилизаторской гордости. Зеленела площадка, заросшая вьюнком. Устыдились этого деревенского сорняка и решили залить асфальтом. Почему по вьюнку хуже гонять мяч, чем по асфальту, непостижимо. Залили, а вьюнок пробился сквозь смолу по трещинам. Они его зальют, а он опять высовывается. Тогда убрали асфальт, сняли слой земли, выжгли землю селитрой и снова залили асфальтом. Но вьюнок все же кое-где снова пробил асфальт. Жаль, что нельзя поставить памятник неистребимому вьюнку.
Деревья в этих краях для посадок выбирают как будто для галок в отчетах. То, что воткнешь и растет, то приветствуется. Хороши для отчетов ивы, березы, тополя. Дубы, что держат почву, не в почете — требуют длительного ухода, долгого дыхания. Дорожки из гравия или вымощенные плиткой тоже требуют прилежания, опрятности, внимания. Асфальт залил и дальше поехал, вот если бы не проклятый вьюнок, который выдает человеческую глупость. Асфальт — это нечто чуждое деревне, потому что он убивает землю. Никто не против хорошей дороги. Но асфальтом стали заливать все походя. Смола, застыв, душит почву. В мертвенной серости асфальта предостережение от смерти тому, кто забывает живую, теплую землю, которая «мать сыра земля». В асфальте есть законченный символ беспамятства. Деревне бы повернуться лицом к самой себе. Вспомнить лучшее в наследии, взять у города только технологию и бытовые удобства. И повторю слова Монтескье о том, что «глупость есть порождение цивилизации». А усилить бы во всех ученических бригадах ту часть, за которую отвечает учитель биологии Геннадий Семенович Данилов. Его сфера — это опытничество — та область, которая открывает детям неоглядные духовные дали. Данилов на опытных делянках уже сорок лет. Когда вернулся домой с войны, родной дом был разворочен бомбой. Под обломками погибли его родители. Данилов получает из ВИРа[6] семена из коллекции вавиловского собрания. Высаживает каждый год. С каждой делянки снопик. Показывает детям разные расы пшеницы. Есть злаки с черным зерном, и красным, и золотым. Соберет урожай 85 разновидностей и видов пшеницы. Бесценные семена со всех континентов. Только сорго и проса 62 сорта. К 30-летию бригады получил особенно хороший урожай на опытных делянках. Надоело Данилову из года в год выращивать, потом собирать и часть дарить другим бригадам, а что не разберут, выбрасывать. Просил учитель создать музей злаковых из этих урожаев. Иметь свой маленький ВИР. Это одухотворит детей, раздвинет их кругозор, расскажет об одном из величайших ученых Н. Вавилове. Но ему отказали. «Мышатник, говорят, разведешь в школе. Как мыши попадут в закрытые стеклянные банки, не стали объяснять. Отмахнулись».
Это в том же ряду, что и отсутствие музея в станице, разваленная церковь в центре, и нет в десятитысячной станице парка. Отсюда и сизифовы делянки Данилова. Выращивает из зерен, не имеющих цены, и выбрасывает урожай. Пусть не подумают, что это критиканство. Мне нравится бригада, и я хочу ей добра — пусть она будет., лучше, григорополисцы этого заслуживают. На тех же опытных полях 15 сортов озимых испытываются по заданию правления.
Главный агроном Соловьев ежегодно дает юным опытникам задание на выявление высокоурожайных сортов пшеницы и ячменя для последующего внедрения в производство. Ребята внедрили в производство такие сорта, как «ильичевка», «партизанка», амфидиплоид. Опытничество — великий рычаг воспитания, где сливаются труд, интеллект и искусство. Ребята там же ведут опыты по получению гибридных семян подсолнечника, огурцов. На базе бригады проходят нередко даже выездные заседания ВАСХНИЛа. Опытническая работа ребят по достоинству оценена ВДНХ. Грамотами на Выставке награждены 120 учащихся школы, а 48 вручены медали «Юный участник ВДНХ». Педагоги школы награждены медалями. А всей школе вручена медаль И. В. Мичурина.
Есть, однако, и у бригады резервы неиспользованные.
Они знают много полезных частностей, но к широкому земледельческому мировоззрению надо бы приложить культуру земледельческого труда через знания о породе, сортах, семенах с рассказами о замечательных испытателях и создателях пород животных. Когда я беседовал с десятью девочками на стане, выяснилось, что ни одна из этих девятиклассниц не знает, какую породу коров она доит и сколько в год литров дает ее корова. В числе десяти девочек была и бригадир всей бригады Лена Меренчукова. Она, кстати, смутилась, когда я спросил ее, что значит хозрасчет.
Кстати, те же мальчики, которые заняты техникой, знали, что колхоз приобрел коров черно-пестрой породы, которые дают до шести тысяч литров молока в год. Верховодят мальчики, знают они неизмеримо больше, хозяйству преданы, а бригадиром назначают девочку. Спрашивается: для чего? Удобства, видимо, ради. Это, увы, тенденция не григорополисская, а рудименты застойности. Из школы мы зашли к парторгу колхоза Зинаиде Ивановне Чернышевой. Она из первого набора бригады, ставшего теперь почти легендой. Зинаида Ивановна не расставалась со станицей эти десятилетия. Дочь ее Галя кончила школу и была в свое время бригадиром ученической бригады, сейчас она Галина Александровна, завуч школы по воспитательной работе. Бригадирствовала с 1974 по 1976 год. Ей довелось принять награду бригаде — премию Ленинского комсомола.
Мы беседовали с парторгом о колхозе. Вспомнили Лыскина, первые годы становления, поговорили о станице, об оттоке в город. Сравнили уклады города и деревни, и Зинаида Ивановна, всю жизнь честно проработавшая на благо родного колхоза, с горечью заметила, что ее ровесницы в городе выглядят гораздо моложе ее. В этой простой реплике много было наболевшего и бездна недосказанного. Я выразил сомнение в особой моложавости городских дам. Зинаида Ивановна горячо возразила и сказала, что у нее сестра в городе, которая старше ее на десять лет. А когда Зинаида Ивановна приезжает к ней в гости, то все спрашивают, не старшая ли она сестра. Какое монолитное единство сегодня проявили женщины в отношении к селу — от поварихи до парторга, а между ними десять лучших девочек, все, как один, недовольны в глубине души своей судьбой, глухо, непрерывно ропщут. Мы должны им дать единственно то, что им нужно: чувство престижа и высокого социального ранга их оли. Мы начали очерк с этого и пришли к тому же. Деревня, погнавшись за городом, утратила драгоценную часть своего наследия — одухотворенность и нравственность своего бытия.
Пешком я добрался через всю станицу в свою гостиницу-усадьбу в пойме Кубани. Вечерело. Хлопали калитки. Ушли на насест куры. С характерным звуком ударили в днища ведер струи парного молока. Звезды высыпали на небосклон. Я стал перечитывать страницы, написанные в станице, и подумал, что лучшее из былого мы должны взять с собой, а кое-что и вновь вживлять и прививать к деревенскому стволу жизни. Пушкин зря не бросался словами. Он о Жуковском сказал: «Никто не имел и не будет иметь слога, равного в могуществе и разнообразии слогу его». Жуковский, как никто постиг тайну души нашей деревни, быть может, потому, что он был величайшим педагогом России — как-никак в прямых его учениках не только Пушкин и Гоголь, а главное, он знал тайну всех тайн учительства, которая вылилась в строки его любимого изречения: «Все в жизни к прекрасному средство».
Мне хотелось бы заключить эти записки субботним вечером прославленным стихотворением Жуковского «Воскресное утро в деревне» (тоже из Хебеля), без которого также не обходилась ни одна хрестоматия. Стихи эти очень нужны здесь. Не назидания или противопоставления ради и не для украшения, а только ради воспоминания, которое, по Пушкину, есть сильнейшее свойство человеческой души. Оно нужно нам, чтобы напомнить о той задумчивости, которая уходит из села и удержать которую мы еще в силах.
— Слушай, дружок — говорит Воскресенью Суббота. — Деревня Вся уж заснула давно; в окрестности все уж спокойно; Полночь близка!.. — И только успела Суббота промолвить: «Полночь!» — А полночь уж тут и ее принимает безмолвно В тихое лоно. — Моя череда! — говорит Воскресенье; Легкой рукою, тихонько двери свои отворило, Вышло и смотрит на звезды, звезды ярко сияют; На небе темно и чисто; у солнышка завес задернут. Долго еще до рассвета; все спит; иногда навевает Свежий ночной ветерок, сквозь сон встрепенувшись, как будто Утра далекий приход боясь пропустить. Невидимкой Ходит, как дух бестелесный, неслышной стопой Воскресенье: В рощу заглянет — там тихо, листья молчат; сквозь вершины Темных дерев, как бесчисленны очи, звездочки смотрят; Кое-где яркий светляк на листочке горит, как лампада В келье отшельника. По лугу тихо пройдет — там незримый Шепчет ручей, пробираясь по камням; кругом вся окрестность, Холмы, деревья в неверные тени слилися и молча Слушают шепот. Зайдет на кладбище — могилы в глубоком Сне, и под легким их дерном как будто что дышит свободным, Свежим дыханьем. В село завернет — и тай все покойно. Пусто на улице; спят петухи, и сельская церковь С темной своей колокольней, внутри озаренная слабым Блеском свечи перед иконой, стоит, как будто безмолвный Сторож деревни. Спокойно на паперти сев, Воскресенье Ждет посреди глубокой тьмы и молчанья, чтоб утро На небе тронулось... Тронулось утро; во тьму и молчанье Что-то живое проникло; стало свежее, и звезды Начали тускнеть... Петух закричал. Воскресенье тихонько Подняло занавес спящего солнца, тихонько шепнуло: «Солнышко, встань!»... И разом подернулся бледной струею Темный восток; началось там движенье, и, следом за яркой Утренней звездочкой, рой облаков прилетел и усыпал Небо, и луч за лучом полились, облака зажигая... Вдруг между ними, как радостный ангел, солнце явилось. Вся деревня проснулась и видит — стоит Воскресенье В свежем венке из цветов, и сияя на солнце, «Доброе утро!» всем говорит. И торжественно-тихий Праздник приходит на смену заботливо-трудной неделе; Благовест звонкий в церковь зовет — и в одежде воскресной Старый и малый идут на молитву... В деревне молчанье; В церкви дымятся кадила, и тихое слышится пенье.В допетровской Руси учебники были полны еще высокого учительства и староотеческих наставлений о том, как прожить человеку достойно жизнь. Теперь эту мудрость мы называем народной. Каждый малыш по слогам читал тогда:
«Не ищи, человече, мудрости, ищи кротости; аще обрящеши кротость, то и одолеши мудрость; не тот мудр, кто много грамоте умеет; тот мудр, кто много добра творит».
Сможете ли вы выбросить хоть слово из этого поучения? Разве что заменить слово «кротость», к примеру, на «скромность». Из всех западных мыслителей более всех на русскую педагогику повлияли взгляды английского философа того же, XVII века Джона Локка. Это он отвергал школьную премудрость с ее схоластикой, программой, начетничеством и казенными теориями и требовал, чтобы обучение было как можно ближе к жизни.
Мы начали этот очерк с английского джентльмена, который «обыкновенно живет в деревне». Что, если мы и кончим англичанином Локком, который был убежден, что «молодому английскому джентльмену нужны самые простые вещи, не толстая и не теплая одежда, простая
пища, приученные к холоду ноги, жесткая постель, свежий воздух, здравый рассудок, знание людей и природы, привычка молиться боту утром и вечером, правдивое сердце». Простим и великому мыслителю веру в бытие бога. Вместо привычки молиться не грех было бы упражнять историческую память в стихах и прозе.
Скажете: а при чем тут ученическая бригада? Сегодня нет школы или бригады, которых не касались бы и эти идеи. Именно в этой стратегии нуждается наша школа. Когда в обществе думают, спорят и пишут о воспитании писатели, учителя, инженеры, военные, это признак нравственного пробуждения и здоровья. После Локка в следующем столетии француз Дюкло скажет: «У нас много выучки, но мало воспитания; из нас образуют ученых, всевозможных художников, но еще не надумались образовать людей, то есть воспитывать их друг для друга...»
Люди со всей страны, собравшиеся в Москву на учредительную конференцию советского Детского фонда имени В. И. Ленина в Колонном зале Дома союзов, не читая ни Дюкло, ни азбук XVII века о мудрости, другими словами говорили взволнованно о том же. Что отвлеченность и эгоизм высушили души и породили сиротство. В зале многие плакали, слушая рассказы о судьбах детей, брошенных родителями. В перерыве в коридорах вдруг показалась фигура высокого и широкоплечего мужчины, он шагал широко, как в поле. То был Вольдемар Францевич Врана, председатель колхоза «Россия», ученик Лыскина. Врана был глубоко растроган тем, что услышал в зале. Он, человек, который сделал для своих сельских детей, как мало кто в России, обрадовался неожиданной встрече, а потом, вздохнув глубоко, сказал с искренним сокрушением:
Эх, если бы раньше знать. Сколько можно было бы сделать для детей. Прозреешь — а жизнь прошла!
«Тот мудр, кто много добра творит». Уверен, Врана увидит новыми глазами родную станицу.
Примечания
1
Театр потерял в 1987 г. 3 миллиона зрителей (из газет).
(обратно)2
Хессе Герман — немецко-швейцарский писатель, лауреат Нобелевской премии.
(обратно)3
Либих Юстус — немецкий ученый, один из создателей агрохимии.
(обратно)4
Хебель Иоганн Петр (1760—1826) — немецкий писатель.
(обратно)5
Привожу в сноске очень важное примечание, сделанное составителем «Писем Суворова» В. Лопатиным. «Следует помнить, что в Европе XVIII в. крепостное право не было исключительным явлением. В Шотландии, например, рабочие угольных и соляных копей вплоть до конца XVIII в. фактически находились на положении крепостных. Крепостное право существовало в Чехии и Моравии до 1781 г., в Дании до 1800 г., в восточных землях Германии до первых десятилетий XIX в., в Венгрии до 1848 г. Причем подавляющее большинство крестьян в Чехии, Польше, Восточной Германии были крепостными; в Дании в 1750 г. доля крепостных составляла 85% общего числа крестьянских хозяйств. Что же касается России, то удельный вес крепостных в массе крестьянского населения Великороссии, Сибири, Прибалтийских губерний и Украины составлял в 1766 г. 52%, в 1796 г. — 57%. (См.: Илюшечкин В. П. Система и структура добуржуазной частнособственнической эксплуатации. М.: Наука. 1980. Вып. 2. С. 261—263.) Неодинаковым было и правовое положение крепостных. В Прибалтике еще в XVII в. «виселицы в имениях бывших вассалов Ливонского ордена были явлением бытовым». Необычайно жестокий характер носила крепостническая эксплуатация в восточногерманских землях, и особенно в Пруссии, где еще в начале XIX в. помещик обладал правом присуждать своих крепостных к смерти. Польские помещики вплоть до 1768 г. имели юридическое право казнить своих крепостных. В России помещики никогда формально не располагали правом жизни и смерти в отношении своих крепостных крестьян (см. там же. С. 117—118).
(обратно)6
ВИР — Всесоюзный институт растениеводства.
(обратно)
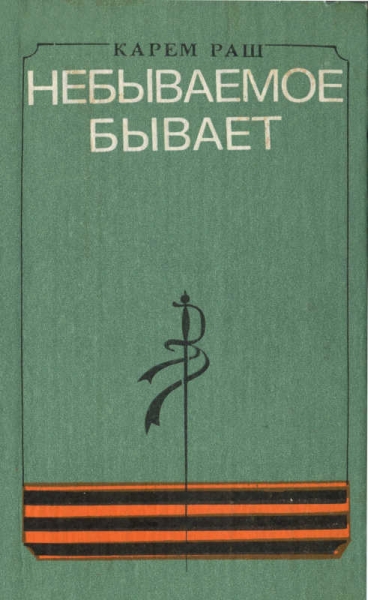



Комментарии к книге «Небываемое бывает», Карем Багирович Раш
Всего 0 комментариев