Кирилл Соловьев Самодержавие и конституция Политическая повседневность в России в 1906–1917 годах
Первый день
«Государь прибыл во дворец вместе с императрицей со стороны Невы на паровом катере, так как в это время он уже переехал на жительство в Петергоф. Было настолько тепло, что дамы в придворных платьях вышли на открытый балкон Зимнего дворца, чтобы в ожидании приезда государя полюбоваться чудной картиной залитой солнцем Невы с массой разукрашенных флагами судов на фоне величественной Петропавловской крепости и зеленеющих уже деревьев Петровского парка». Это было 27 апреля 1906 года. В тот солнечный, очень теплый, почти летний день Зимний дворец ждал «лучших людей» – депутатов Первой Государственной думы. Директор Санкт-Петербургского телеграфного агентства А. А. Гирс занес в свой дневник: «Сегодня открытие Государственной Думы. На улицах флаги. Погода летняя. Для нас открывается новая страница в книге нашей истории».
Депутат Первой Думы И. И. Попов вспоминал: «На улицах их (депутатов. – К. С.) ждал народ. Стиснутой полицией и жандармами, он неудержимой лавой течет по пути следования депутатов и приветствует их восторженными криками. Тысячи рук тянутся к избранникам народа, шапки мелькают в воздухе… тысячи голосов слились в один клик: „Да здравствует Дума! Слава избранникам народа…“» За пролеткой народного избранника от Тверской губернии Родичева с криками «ура!» бежали люди, среди которых был студент историко-филологического факультета Московского университета поэт Андрей Белый.
Придворные дамы в ожидании Николая II
Церемониал открытия Думы долго обсуждался в ближайшем окружении императора. Николай II предлагал принять депутатов уже после начала работы, подобно тому как он принимал чиновников. Граф К. И. Пален, отвечавший за церемонии при Высочайшем дворе, ему возражал. Поскольку во всех конституционных государствах сессии парламента открывает монарх, он настаивал на том, чтобы так было и в России, предлагая императору принять у себя во дворце депутатов Думы и членов Государственного совета.
«Государь, бледный как полотно, отчетливым и звучным голосом начал речь, уперев особенно на слова „лучшие люди“. Все были растроганы: у императрицы, великих княгинь и дам – слезы на глазах, а у нас, не скрою, какое-то щекотанье в горле. Только у левых депутатов был какой-то вызывающе насмешливый вид…» – записал в дневнике 27 апреля 1906 года директор канцелярии Министерства иностранных дел А. А. Савинский. Ф. И. Родичев, депутат всех четырех Дум, вспоминал об этом так: «Я наблюдал [великого князя] Владимира Александровича. Он страшно волновался. Правой рукой рвал перчатку на левой и кончил тем, что разорвал ее. Из глаз текли слезы. Одна крупная слеза скатилась по носу и повисла на кончике носа. Владимир Александрович пальцами смахнул ее, стараясь сделать это незаметно: он не хотел признавать своих слез и вынуть платок. Молодежь, стоявшая сзади, была в игривом настроении. Они шушукались между собой, пальцем указывая на иных депутатов, на Петрункевича. Нельзя сказать, чтобы эти молодые люди были хорошо воспитаны. Кто-то: Золота-то на этом пузе сколько – целую деревню можно бы зиму прокормить».
Правительственные чиновники, пристально вглядывавшиеся в лица депутатов, приходили в отчаяние: «На фоне блеска и торжественности толпа „депутатов“, кто в пиджаках и косоворотках, кто в поддевках, нестриженные и даже немытые, немногие в сюртуках, один-два в фраках, являлась резким и вызывающим контрастом. В первом ряду выделялся В. Д. Набоков, стоявший с надутым видом, засунув руки в карманы, рядом с ним отталкивающий Петрункевич, кривая рожа Родичева. Косые, хмурые взгляды ответили на речь государя, полную доверия к призванным от России людям», – вспоминал бывший тогда товарищем министра внутренних дел С. Е. Крыжановский. Министр императорского двора барон В. Б. Фредерикс, возвращаясь домой с первого заседания Думы, заметил своему начальнику канцелярии А. А. Мосолову: «Эти депутаты скорее похожи на стаю преступников, ожидающих сигнала, чтобы зарезать всех сидящих на правительственной скамье. Какие скверные физиономии! Ноги моей больше не будет в Думе».
Впрочем, у противоположной стороны настроение было схожее. По словам кадета князя В. А. Оболенского, «это были два враждебных стана, расположившиеся друг против друга: пестрая с золотом толпа царских сановников и серо-черная с цветными крапинами толпа депутатов. Старые, седые сановники, хранители этикета и традиций, надменно, хотя не без страха и смущения, разглядывали „улицу“, приведенную во дворец революцией, и тихо между собой перешептывались. Не с меньшим презрением и ненавистью смотрела и серо-черная толпа на золотые мундиры».
Депутат от Тверской губернии В. Д. Кузьмин-Караваев так писал о своих впечатлениях: «Сегодня пала стена между Россией и Западом… Какое будет завтра? Быть бесцветным оно не может. Но завтра – или конец революции или ее начало». Известный юрист А. Ф. Кони 27 апреля тоже находился в Зимнем дворце и слушал тронную речь императора. Они с С. А. Муромцевым, которому несколько часов спустя было суждено стать председателем Думы, говорили о необычайной важности этого исторического дня, о том, сколько пришлось выстрадать в его ожидании. Кони отмечал, что глаза у Муромцева тоже были «на мокром месте».
На набережную Невы для депутатов подали маленькие финские пароходики, которые и отвезли «лучших людей» к Таврическому дворцу. Из собравшейся толпы им кричали «ура» и махали шляпами, даже из окон знаменитых «Крестов» их приветствовали белые платки: так выражали свое одобрение происходящему содержавшиеся там заключенные.
В ожидании депутатов зеваки облепили решетку Таврического дворца, улица была запружена народом. Когда из кареты появился Родичев, в воздух полетели шапки, послышались аплодисменты. Чуть погодя толпа так же радостно приветствовала И. И. Петрункевича: имена этих лидеров Конституционно-демократической партии были широко известны всей России.
Когда через несколько часов завершилось первое заседание, депутаты обнаружили, что толпа так и не разошлась. «Кто-то подхватил Родичева на руки, и его длинная фигура заколыхалась над толпой. Петербургского депутата, профессора Кареева, тоже пронесли мимо… Он беспомощно трепался на чьих-то плечах, махая широкополой шляпой, а седая грива его волос развевалась по ветру». В. А. Оболенский с трудом пробирался в это время через толпу к кадетскому клубу, что на углу Сергиевской и Потемкинской улиц. А там, с балкона, уже ораторствовал перед восторженной публикой Родичев.
Тем временем в будуаре Александры Федоровны императрица-мать Мария Федоровна застала своего сына в удрученном состоянии. Сидя в кресле, он не мог сдерживать слез, а стоявшая возле кресла на коленях Александра, «гладя голову государя, повторяла: я все это предвидела… предвидела… я говорила… Вдруг он сильно ударил кулаком по локотнику кресла и крикнул: я ее создал и я ее уничтожу. Верьте мне», – свидетельствовала мать.
С тем, что у них на глазах рождалась новая Россия, соглашались все: и депутаты, и их оппоненты. Член Государственного совета Н. С. Таганцев так вспоминал этот день: «Думалось, что повернулась страница бытописания родины, что увенчались алмазным венцом мечты и чаяния представителей минувших поколений, принесших кровавые гекатомбы – жизни, здоровья, свободы за дорогое счастье родной земли. Все было окрашено розовыми цветами надежды; все было согрето теплыми животворными лучами веры…»
Оставалось лишь объяснить самим себе, что представлял собой новый государственный порядок. Отвечать на этот вопрос пришлось прежде всего правоведам, которые опирались на Основные государственные законы, Учреждения Думы и Государственного совета, а также избирательное законодательство. Но хотя источники у них были одни, интерпретировали их везде по-разному.
Глава первая. Начало
Мечта о конституции
Словосочетание «Государственная дума» впервые встречается в записке М. М. Сперанского от 1809 года. Это так и не созданное в начале XX века учреждение должно было стать высшим законодательным представительным органом империи. Готовя политическую реформу, Сперанский сформулировал положение, которое, с некоторыми поправками, вошло в Основные государственные законы от 23 апреля 1906 года: «Никакой новый закон не может быть издан без уважения Думы. Установление новых податей, налогов и повинностей уважаются в Думе… Закон, признанный большинством голосов неудобным, оставляется без действия». В какой-то момент его проект был близок к осуществлению: в 1810 году Александр I реформировал Государственный совет, как это предлагал Сперанский, однако до созыва Государственной думы дело все же так и не дошло, и о конституции оставалось лишь мечтать.
Все последующее столетие о конституции в обществе говорили, избегая даже упоминания самого этого слова. Нужно «увенчать здание», «достроить купол», «да здравствует Костина жена» – так проявлялись призывы к установлению конституционного порядка, понятные как его сторонникам, так и противникам. Еще 17 января 1895 года Николай II, твердо обещавший проводить политику своего отца, охладил горячие головы, сказав представителям земств и городов: «Оставьте ваши бессмысленные мечтания». И хотя о конституции никто из них не упомянул, все прекрасно поняли, о чем идет речь. В конце XIX столетия идею о необходимости полномасштабной государственной реформы в России разделяли сторонники самых разных взглядов. Ее желали и либералы, и консерваторы, этой точки зрения придерживались многие видные государственные деятели. Конституционные проекты (при всей условности этого понятия) разрабатывали Н. Н. Новосильцев, П. А. Валуев, М. Т. Лорис-Меликов и др. Сторонником политической реформы был даже министр внутренних дел В. К. Плеве, как будто бы далекий от «конституционных мечтаний», убитый в 1904 году эсером Е. Созоновым в Петербурге.
Слово неминуемо обращалось в дело. Россия даровала конституцию Финляндии и Царству Польскому, российские чиновники готовили основной закон Валахии, Молдавского княжества и Болгарии. Благодаря России (точнее, лично Александру I) в 1814 году конституционная хартия была дарована Франции. Возникал естественный вопрос: почему в России все еще не было конституции, в то время как Болгария ее уже получила из рук российского государя. И хотя не все представители общественности склонялись к мысли о необходимости установления именно конституционного порядка, противники политической реформы не находили поддержки даже среди консерваторов.
Ожидания реформы государственного строя набрали силу к концу 1904 года, когда общественность многих городов Российской империи, отмечая 40-летие судебной реформы, собралась за праздничным столом, поднимая тост за будущую конституцию. В ноябре того же года в Петербурге состоялся земский съезд, на котором деятели местного самоуправления также высказались за введение конституции в России. Определенные надежды общественности были связаны с именем министра внутренних дел князя П. Д. Святополк-Мирского, сменившего Плеве и готовившего проект реформирования Государственного совета. В него предлагалось включить выборных представителей земств и городов. Однако и этот проект остался на бумаге. Тем не менее общественное возбуждение не спадало. Россия уверенно шла к революции, начало которой традиционно датируется «Кровавым воскресеньем» 9 января 1905 года.
В Петербурге судорожно искали выход из сложившегося положения. 18 февраля 1905 года император поручил новому министру внутренних дел А. Г. Булыгину составить проект представительного учреждения в России: в сущности, Николай II согласился на то, что немногим ранее советовал ему предпринять Святополк-Мирский. Для подготовки соответствующего решения начала работать специальная правительственная комиссия.
Тем временем российское общество самоорганизовывалось. По всей стране возникали профессиональные объединения – союзы врачей, адвокатов, инженеров, учителей, фармацевтов, конторщиков и т. д., которые в мае 1905 года объединились в «Союз союзов». Нарастало стихийное, но при этом масштабное крестьянское и рабочее движение. Происходили волнения в армии и на флоте. Правительство стремительно утрачивало контроль над положением в стране, и ему приходилось идти на существенные уступки. 6 августа 1905 года был обнародован Манифест о создании Государственной думы с законосовещательными функциями. В публицистике, а затем и в научной литературе эту так и не созванную Думу стали называть «булыгинской» – в честь министра внутренних дел А. Г. Булыгина. Однако такая мера уже мало кого устраивала. В обществе все громче раздавались требования созыва законодательной Думы и введения конституции.
Манифест 17 октября 1905 года
Осенью 1905 года забастовочное движение охватило всю Россию, в нем участвовало 120 городов. 10 октября остановилось движение идущих из Москвы поездов, через два дня забастовал Центральный телеграф. В тот же день было прекращено и движение поездов, отправлявшихся из Петербурга. К 17 октября 1905 года во Всероссийской октябрьской политической стачке участвовали уже 2 млн человек. Во многих городах было отключено освещение, не выходили газеты, не работали водопровод и телефон. Собирались деньги на создание вооруженных дружин. В столице был образован Петербургский совет рабочих депутатов.
Нужно было принимать срочные меры. Николай II обратился за советом к недавно вернувшемуся из США после подписания Портсмутского мира с Японией С. Ю. Витте, который так определил развилку, перед которой стояло правительство: или диктатура, или конституция. К диктатуре власть была не готова, поскольку не имела очевидного кандидата на пост диктатора. При этом даже один из претендентов на эту роль дядя царя великий князь Николай Николаевич требовал незамедлительного введения конституции.
15 октября совещание у Николая II продолжалось до глубокой ночи и было необычайно бурным. На нем присутствовали С. Ю. Витте, О. Б. Рихтер, В. Б. Фредерикс, великий князь Николай Николаевич. Ожидавший высочайшего приема военный министр А. Ф. Редигер был поражен царившим за дверью возбуждением. Когда в час ночи царь все же принял его, он «был взволнован: лицо раскраснелось, и голос был неровен». По словам В. Б. Фредерикса, великий князь Николай Николаевич, отправляясь к царю, заявлял: «Надо спасти государя! Если он сегодня не подпишет манифеста, то я застрелюсь у него в кабинете! Если я сам этого не сделаю, то ты обещай застрелить меня!» Правда, эти угрозы были явно излишни, так как, по сведениям начальника Главного управления Генерального штаба Ф. Ф. Палицына, император принял решение подписать манифест еще до прихода своего дяди.
19 октября, подводя итог столь знаменательным дням, Николай II писал матери: «Тошно стало читать агентские телеграммы, только и были сведения о забастовках в учебных заведениях, аптеках и пр., об убийствах городовых, казаков и солдат, о разных беспорядках, волнениях и возмущениях. А господа министры, как мокрые курицы, собирались и рассуждали о том, как сделать объединение всех министерств, вместо того, чтобы действовать решительно». По мнению царя, насильственных мер бояться не следовало и одна угроза их применения способствовала бы наведению порядка в столице. Однако и император признавал, что столь востребованная решительность не отменяла потребности в преобразованиях. Именно поэтому был подписан Манифест 17 октября 1905 года, провозглашавший политические свободы и, главное, скорый созыв законодательной Государственной думы. «Мы обсуждали его два дня и, наконец, помолившись, я его подписал. Милая моя мама, сколько я перемучился до этого, ты себе представить не можешь! Я не мог телеграммою объяснить тебе все обстоятельства, приведшие меня к этому страшному решению, которое, тем не менее, я принял совершенно сознательно… Единственное утешение это – надежда, что такова воля Божья, что это тяжелое решение выведет дорогую Россию из того невыносимого хаотического состояния, в каком она находится почти год». В этом письме император прямо и недвусмысленно заявлял, что подписанный им документ «это, в сущности, и есть конституция».
Конституция по-русски
В соответствии с подписанным царем Манифестом Государственная дума становилась законодательным органом власти, а его подданным гарантировались основные свободы (совести, слова, собраний, союзов, неприкосновенности личности). Совет Министров, до того времени практически не функционировавший, с 19 октября стал выполнять функции объединенного правительства, и его председателем был назначен С. Ю. Витте.
Тем не менее Манифест 17 октября 1905 года – это декларация о намерениях, и его нельзя назвать конституцией, как это делают некоторые исследователи. Зато на это определение могут претендовать Основные государственные законы от 23 апреля 1906 года, так как именно они закрепляют распределение полномочий между императором, Советом министров, Государственным советом и Государственной думой.
Именно тогда, к концу апреля 1906 года, власти также пришлось определиться, каким образом будут осуществлять свои полномочия народные представители. Это произошло незадолго до открытия Думы. В ходе работы над документом царские чиновники старались свести эти полномочия к минимуму. Тем не менее царь уже не мог взять назад данное 17 октября 1905 года слово: Государственная дума была законодательным учреждением и без ее одобрения законопроект не мог стать законом. Это не касалось только вопросов, связанных с обороноспособностью страны, внешнеполитическим курсом, Положением об императорской фамилии. Этими вопросами занимались царь и его министры, депутаты в эти сферы вмешиваться не могли.
Порядок принятия законов был следующим. Подготовленный правительством или депутатами законопроект шел на одобрение Думы, затем – на утверждение Государственным советом (половина членов которого теперь назначалась императором, а половина избиралась)[1]. Далее требовалась подпись царя, за которым оставалось последнее слово. Император мог отклонить законопроект (то есть обладал правом абсолютного вето).
Дума созывалась на 5 лет и могла быть распущена императором по его усмотрению. Правительство непосредственно от депутатов не зависело, министры назначались императором и отвечали только перед ним.
Полномочия депутатов были весьма ограниченными. И все же создание Государственной думы стало огромным шагом на пути установления в России конституционной монархии.
Как уже отмечалось, на первых порах факт учреждения в России конституционных порядков признавал сам царь: в уже цитированном письме матери и в откровенном письме столичному генерал-губернатору Д. Ф. Трепову. Накануне принятия Манифеста Николай II писал: «Я сознаю всю торжественность и значение переживаемой Россией минуты и молю милосердного Господа благословить Промыслом Своим нас всех и совершаемое рукой моей великое дело. Да, России даруется конституция. Немного нас было, которые боролись против нее. Но поддержка в этой борьбе ни откуда не пришла. Всякий день от нас отворачивалось все большее количество людей, и в конце концов случилось неизбежное. Тем не менее, по совести, я предпочитаю даровать все сразу, нежели быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и все-таки прийти к тому же». Император был не одинок в подобной оценке. Уже после того, как Манифест 17 октября был опубликован, самарский губернский предводитель дворянства А. Н. Наумов спрашивал недавно назначенного премьер-министра С. Ю. Витте, можно ли говорить в сложившихся обстоятельствах о сохранении в России самодержавия. Глава правительства определенно отвечал, что нет.
Страх, который охватил ближайшее окружение императора осенью 1905 года, постепенно прошел, изменилось и отношение к Манифесту. 16 февраля 1906 года на царскосельских совещаниях С. Ю. Витте доказывал, что в России конституции нет и государь вправе взять обратно все дарованные им права. Даже весьма консервативные чиновники, участвовавшие в совещаниях, не поддержали премьера. «Не подлежит… никакому сомнению, что Россия будет управляться по конституционному образцу», – утверждал К. И. Пален. С ним соглашались и другие. Но именно Витте был ближе всех к пониманию позиции императора. В конце февраля 1906 года, принимая одну из делегаций, царь уверенно заявлял: «Я не потерплю никакого умаления самодержавия».
9 апреля 1906 года Николай II поделился с участниками царскосельских совещаний своими сомнениями относительно привычного определения самодержавной власти как неограниченной: «Имею ли я перед моими предками право изменить пределы власти, которую я от них получил?» Но в самый последний момент работы совещаний император, во многом под давлением высших сановников империи, согласился исключить слово «неограниченный» из Основных законов. И все же, при наличии конституционных учреждений, он оставался самодержцем.
Статья 86 Основных государственных законов определенно заявляла о законодательных полномочиях Думы: «Никакой новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы и восприять силу без утверждения государя императора». И все же все точки над «i» так и не были расставлены. Правовая система России напоминала слоеный пирог, в котором уживались нормы и институты разных эпох. Новое чаще всего не упраздняло старое, а лишь добавлялось к нему, так что описанная конструкция власти думского периода не дает верного представления о ее характере. Здесь особенно важны детали, где, как обычно, и скрывается дьявол.
Многие особые прерогативы императора восходили к прежним, дореформенным временам. Так, он имел исключительное право создавать и упразднять министерства и прочие высшие административные учреждения, распределять между ними обязанности. Только император определял порядок пожалования титулов и орденов. Исключительно от его имени заключались международные договоры, объявлялись война или мир. В его руках была и обороноспособность страны. Своей волей он вводил в том или ином регионе империи чрезвычайное положение. В некоторых случаях государь имел право делать исключения в законе: например, даровал милости отдельным лицам. С. Ю. Витте так писал по этому поводу: «Доколе отдельные отрасли законодательства нашего не будут переработаны, допущение изъятий из закона необходимо… Передача же этих дел на разрешение законодательных учреждений практически едва ли осуществима, ибо это по преимуществу мелкие и требующие спешного разрешения дела, для которых сложный законодательный порядок слишком громоздок и вообще неподходящ, так как Государственная дума и Государственный совет от более важных и плодотворных общих занятий отвлекались бы разбором сравнительно неважных, частных случаев».
Как уже говорилось, император обладал правом абсолютного вето. Его слово было решающим при принятии любого законопроекта. Однако в этом не было российской специфики. В начале XX века такое право было предоставлено большинству монархов, которые, правда, пользовались им чрезвычайно редко. Так, английский монарх последний раз ветировал законопроект в 1707 году. Пруссия вовсе не знала таких случаев. В России царь воспользовался своим правом только два раза[2].
Традиционно большое внимание правоведов привлекала статья 87 Основных законов. В соответствии с этой нормой император подписывал указы, имевшие силу закона, в перерывах между сессиями Думы. Правда, такое решение следовало внести в Думу не позднее, чем через два месяца с момента возобновления ее работы – иначе указ утрачивал силу. Современные исследователи порой утверждают, что именно статья 87 свидетельствовала о незыблемости самодержавия и иллюзорности полномочий Государственной думы. В действительности даже те правоведы начала XX века, которые критически относились к этой норме, полагали, что ее наличие в целом обосновано. Порой жизнь обязывает исполнительную власть принимать оперативные решения, пренебрегая официально прописанной (и обычно очень долгой) процедурой. В большинстве европейских стран конституции позволяли правительству прибегать к чрезвычайно-указному праву. Более того, оно применялось даже там, где было официально запрещено: например, в Сардинском королевстве: только в 1848–1849 годах там было принято 66 постановлений чрезвычайно-указного характера. Для сравнения: в России за годы работы Третьей Думы (1907–1912) правительство прибегло к этой мере шесть раз. Кроме того, сам факт наличия этой нормы подчеркивал конституционный характер «обновленного строя»: она фактически определяла рамки правительственного волюнтаризма.
Проблема была не в 87‐й статье, а в сохранении старых, чиновничьих путей законотворчества (через Военный совет, Адмиралтейств-совет, Комитет финансов и др.), в туманном определении функций Совета министров, в не соответствовавших времени бюджетных правилах, подходивших для назначаемого Государственного совета, а не для избираемой Думы, и т. д. Все это свидетельствовало об архаике российской правовой системы, которая менялась лишь частично.
Вопреки сомнениям современных исследователей, большинство правоведов начала XX века не сомневались в том, что в России в 1906 году установилась конституционная монархия; она не походила на английскую, но вполне соответствовала немецким образцам. Об этом писали В. М. Гессен, Б. А. Кистяковский, С. А. Котляревский, Н. И. Лазаревский и многие другие. Да, конституция была «куцей», полномочия Думы – весьма ограниченными. Тем не менее император в большинстве случаев отныне не мог законодательствовать самостоятельно. Впрочем, встречалась и иная точка зрения. Так, А. С. Алексеев полагал, что и после 1906 года не было подлинной конституции, однако можно было говорить о конституционных началах, провозглашенных Манифестом 17 октября. Причем это был не подарок царя, а явленная всем воля общества, отстоявшего свои права.
Принципиально иную позицию отстаивали юристы правомонархических взглядов (например, П. Е. Казанский). Не будучи специалистами в области государственного права, они предпочитали анализу Основных государственных законов метафизические конструкции. Им представлялось, что царь не мог умалить собственную власть, даже если сам того желал. Кроме того, император даровал конституцию, а значит, он мог забрать дарованное назад: он оставался неограниченным самодержавным правителем, и факт созыва Думы мало что менял.
С тех пор прошло более ста лет. За это время было издано по меньшей мере шесть тысяч публикаций, посвященных Государственной думе. Многим авторам хотелось поставить точку в бесконечном споре о конституционной монархии. Советские историки в большинстве своем придерживались точки зрения правых монархистов и отрицали наличие конституционной монархии в России. С формально-юридической точки зрения эта позиция не выдерживает критики. Монархия может быть абсолютной либо конституционной. Конечно, абсолютные монархии бывают разными, равно как и конституционные отличаются друг от друга. Однако это соображение нисколько не колеблет основательность той простой классификации, которая сложилась в юридической науке и базируется на одном критерии: если полномочия монарха хоть в чем-то ограничены представительным учреждением, эта монархия конституционная, а не абсолютная. Основные законы не оставляли никаких сомнений на этот счет. Причем на практике сфера прерогатив представительных учреждений скорее расширялась, чем сужалась (о чем речь пойдет ниже).
Проблема конституционного характера политического режима в 1906–1917 годах не может считаться научной в полном смысле этого слова. Вместе с тем долгие годы она заслоняла собой важные вопросы функционирования представительных учреждений и, шире, всей политической системы России в преддверии революции 1917 года. Конституция у нас в крови – шутят англичане, у которых, как известно, конституция отсутствует. И они правы. Конституционный порядок – не совокупность документов, но определенные устои, привычные для политических игроков. Как говорили еще в начале XX веке, писаные акты – это скелет, который должен обрасти «мясом», чтобы правовой организм смог полноценно существовать.
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ
Таврический дворец был построен в конце XVIII века по проекту известного архитектора И. Е. Старова. Первым его хозяином был могущественный фаворит Екатерины II светлейший князь Г. А. Потемкин-Таврический. Здесь в 1791 году он устроил пышные торжества, посвященные своей благодетельнице. В том же году Потемкин и скончался, а дворец забрали в казну. В последние годы жизни императрица любила проводить здесь время. С воцарением Павла I дворец попал «в немилость». Тут устроили казармы Конногвардейского полка; по роскошным паркетам Таврического скакали бравые кавалеристы. Многое изменилось в России после убийства Павла в марте 1801 года, по-новому зажил и дворец, который вновь стал императорской резиденцией. Понадобилось немало усилий, чтобы восстановить во многом утраченные интерьеры. Теперь здесь жили представители императорской фамилии, почетные гости царя. В 1826 году во дворце скончался проживавший здесь придворный историк Н. М. Карамзин. И все же у здания не было определенного хозяина. И только в 1906 году дворец его обрел в лице Государственной думы.
Таврический дворец пришлось перестроить, дабы он соответствовал новым задачам. Для пленарных заседаний Думы был преобразован зимний сад. Это помещение не вполне подходило для работы парламента. Основная проблема – плохая акустика. Многих депутатов, не обладавших достаточно звонким голосом, не было слышно. «С акустикой этой много возились, ставили перегородки, снимали их, вешали занавески и тоже снимали. Была образована даже научная комиссия для нахождения способов улучшения акустики… но это ни к чему не привело, и акустика оставалась такая же невозможная», – вспоминал депутат С. И. Шидловский. В Думе не раз говорили о необходимости построить новое здание для представительного учреждения. Однако и первые, и последние свои заседания депутаты Думы провели в Таврическом дворце.
Обосновавшись в Таврическом дворце, Дума преобразила всю округу. К началу XX века Литейная часть была мало заселена. Отныне цены на жилье в этом районе Петербурга неуклонно росли. Здесь снимали или покупали квартиры депутаты, политические лидеры, популярные журналисты. На Шпалерной улице, в считанных шагах от Таврического дворца, поселился один из лидеров правых, скандально известный В. М. Пуришкевич. Его соседом по лестничной площадке стал публицист и литератор В. В. Розанов. На Фурштатской улице снял десятикомнатную квартиру председатель Думы М. В. Родзянко. В 1912 году он присоединил к своим апартаментам соседнюю четырехкомнатную квартиру. Согласно данным современного исследователя О. А. Патрикеевой, годовая плата за две квартиры составляла 3600 рублей, то есть большую часть годового жалованья депутата. На углу Потемкинской и Сергиевской улиц, напротив входа в Таврический сад, в 1906 году располагался кадетский клуб. Здесь же снимал квартиру наиболее видный оратор от той же партии В. А. Маклаков. «В квартире имелся громадный зал на сто человек с балконом, большая комната для библиотеки, две столовых, комната для Центрального Комитета, для канцелярии. Словом, квартира поместительная и роскошная». В этом же доме в 1912–1916 годах проживали Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. После 1913 года на Бассейной улице (ныне улица Некрасова) поселился лидер кадетов П. Н. Милюков. Прежде он жил в Эртелевом переулке (ныне улица Чехова) по соседству с председателем Совета министров И. Л. Горемыкиным. Новый дом на Бассейной обладал всеми современными удобствами: отоплением и горячей водой; на первом этаже размещались прачечная, гладильня, химчистка, парикмахерская, аптека, булочная, пекарня, мясная, молочная лавка и, наконец, кинематограф.
В 1913 году в Литейной части появился электрический трамвай, а в 1914‐м – Мальцевский рынок, где держатели думского буфета могли покупать продукты.
Партии готовятся к выборам
По словам французского политолога М. Дюверже, партии только и существуют, чтобы побеждать на выборах. Если принять эту точку зрения, то в большинстве своем российские партии партиями не были: их лидеры о выборах не заботились. Первые партии возникли на окраинах империи: в Польше, Закавказье, Финляндии… За ними последовали социалисты, готовившиеся к революции, а не к избирательным кампаниям: Партия социалистов-революционеров (эсеров), годами складывавшаяся в единую организацию[3], и Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП), которая прошла не меньший путь, чтобы на своем Втором съезде (1903) в полный голос заявить о себе и тут же размежеваться на фракции большевиков и меньшевиков.
Партия – живой организм, требующий особой почвы, необходимых условий для развития. Она не может возникнуть вдруг, по мановению волшебной палочки. Российские партии прошли долгий путь от салонов и кружков к большим общенациональным объединениям. Интенсивная общественная жизнь конца XIX – начала XX века способствовала складыванию протопартийных организаций: кружка «Беседа», «Союза освобождения», Союза земцев-конституционалистов, Русского собрания, Аграрно-социалистической лиги… В этих объединениях возник политический язык, были выработаны партийные программы, достигнуты важнейшие договоренности, а главное, именно там общественные деятели решили заняться политикой. Благодаря этой питательной среде политические партии появились именно в тот момент, когда были особенно нужны, то есть в преддверии выборов в Думу.
После появления Манифеста 17 октября следовало ожидать скорой избирательной кампании. По этой причине вполне понятно, почему создание значимых общероссийских политических партий пришлось на октябрь – ноябрь 1905 года. В октябре оформилась Конституционно-демократическая партия (кадеты); в начале 1906 года она взяла себе второе имя – Партия народной свободы. В этом объединении был представлен цвет российской интеллигенции: историки П. Н. Милюков, А. А. Корнилов, А. А. Кизеветтер, Н. П. Павлов-Сильванский, юристы С. А. Муромцев, П. И. Новгородцев, Ф. Ф. Кокошкин, Л. И. Петражицкий, Г. Ф. Шершеневич, В. Д. Набоков, филолог А. А. Шахматов, экономисты П. Б. Струве, М. Я. Герценштейн, А. А. Мануйлов, адвокат В. А. Маклаков, естествоиспытатель В. И. Вернадский, земские деятели И. И. Петрункевич, Ф. И. Родичев, князья Павел и Петр Долгоруковы, князь Д. И. Шаховской и др. Это было популярное в обществе, довольно многочисленное политическое объединение. К апрелю 1906 года в партии состояло более 70 тысяч человек. Кадеты ориентировались в первую очередь на городского избирателя; в губернских центрах и обеих столицах они безусловно лидировали.
Краеугольный камень программы кадетов – упрочение ценности человеческой личности в России. Для этого следовало прежде всего гарантировать основные гражданские права (свободу совести, слова, печати, собраний и др.). Кадеты предлагали наделить равными правами всех подданных Российской империи вне зависимости от их национальной, религиозной и сословной принадлежности. Однако это нельзя было сделать, не изменив государственный строй. Партия выступала за установление в стране конституционных порядков английского образца, когда монарх царствует, но не управляет. По мнению кадетов, парламент должен был формировать правительство и, соответственно, определять политический курс в стране. Конституционно-демократическая партия настаивала на коренных социальных реформах, в частности на национализации большей части помещичьих земель и распределении их среди крестьян на правах пользования. В программе кадетов предлагалось и решение проблем, волновавших рабочих: речь в ней шла о праве на собрания и стачки, о введении 8-часового рабочего дня. Программа кадетов – результат эволюции европейского либерализма за XIX столетие, благодаря которой он учился говорить с массовым избирателем. «Новый» либерализм сильно отличался от классического либерализма начала XIX века: он ставил вопрос не только о праве человека на жизнь, но и о его праве на достойную жизнь; не только о праве на собственность, но и об обязательствах, связанных с этим правом.
Кадеты не боялись революции. Просто они ее понимали иначе, чем социалисты, которые делали ставку на организованное давление на действующую власть, вооруженное сопротивление режиму. Кадеты же полагали, что подлинная революция происходит в головах людей, которые начинают по-новому мыслить, оценивать правительство. Если власть перестает быть авторитетной в их глазах, она утрачивает способность повелевать. В этом случае бесполезными оказываются многочисленные пушки и ногайки. Пожар недовольства становится повсеместным, и его не затушить. Правительству приходится отступать под давлением всеобщего недовольства. Такую революцию нельзя организовать. Это стихия истории, которую надо верно понимать и предугадывать. Кадеты полагали, что они умеют это делать и их программные требования – непременное будущее России завтрашнего дня. Это придавало им оптимизм, веру в собственную победу, которая наступит рано или поздно.
Примерно тогда же был создан «Союз 17 октября» (партия октябристов), тоже либеральное объединение, более умеренное по своим взглядам. Его лидеры – крупные промышленники (А. И. Гучков, Э. Л. Нобель, П. П. Рябушинский) и видные земские деятели (граф П. А. Гейден, М. В. Родзянко, М. А. Стахович, Н. А. Хомяков, Д. Н. Шипов). Именно земцы определяли политическое лицо октябризма. Характерно, что в период выборов в Третью и Четвертую Думу «Союз 17 октября» мог рассчитывать на голоса в первую очередь тех губерний, где работали земские учреждения. Среди октябристов были и историк В. И. Герье, и ювелир К. Г. Фаберже, и архитектор Л. Н. Бенуа, и адвокат Ф. Н. Плевако. Безусловным лидером партии был А. И. Гучков. В 1906 году у октябристов было 200 местных отделений, в которые входило 75–77 тысяч человек.
Правда, «Союз 17 октября» был именно союзом, а не партией. Он не претендовал на монолитность, объединив сторонников разных взглядов. Многих октябристов можно было отнести к консерваторам, но лицо объединения определяло его левое либеральное крыло. Октябристы были сторонниками конституционной монархии, не английского (как кадеты), но немецкого образца, согласно которому сам монарх формировал правительство. Они ратовали за гражданское равенство, за социальные реформы, но при этом, в отличие от кадетов, были в большинстве своем против национализации помещичьей земли (которая предусматривалась лишь в исключительных случаях). По их мнению, экономические проблемы крестьян следовало решать прежде всего за счет повышения эффективности их труда.
И кадеты, и октябристы выступали за сохранение России как унитарного государства. Кадеты считали необходимым предоставить статус автономии Польше и Финляндии. Октябристы – только Финляндии. При этом кадеты ставили вопрос о необходимости национально-культурных автономий, которые позволили бы различным народностям России учиться на родном языке, печатать на нем газеты, исповедовать близкие им религиозные культы, придерживаться ценностей, характерных для их культур.
В отличие от кадетов октябристы рассчитывали на диалог с правительством. Они полагали, что 17 октября 1905 года между царем и общественностью был заключен своего рода контракт. Это подразумевало обязательства с обеих сторон. Правительство должно было принимать в расчет мнение общественных деятелей. Тем, в свою очередь, следовало держаться исторических принципов монархического государства, характерных для России. Впоследствии, в период работы Третьей Думы, ставка на конструктивный диалог с властью отчасти оправдалась. Депутатам от «Союза 17 октября» многое удалось сделать во взаимодействии со столыпинским правительством. Однако это сотрудничество не было безоблачным. Вера в наличие негласных договоренностей с «исторической властью» подвергалась немалым испытаниям и в итоге их не выдержала. Лидеры октябристов разочаровались в своих прежних установках, разуверившись в возможности влиять на правительственный курс. Это стало началом крушения «Союза 17 октября». Пока же, на заре думской России, его руководство полно надежд и оптимизма.
В 1905 году начали формироваться правые монархические организации. Они с гордостью именовали себя черносотенными, памятуя нижегородские черные сотни Кузьмы Минина эпохи Смутного времени. Самой крупной и влиятельной черносотенной организацией был Союз русского народа. Его лидерами были А. И. Дубровин, Н. Е. Марков, В. М. Пуришкевич и др. Впоследствии Союз русского народа распался. Из него выделился Русский народный союз имени Михаила Архангела (1908), в котором безраздельно господствовал бессарабский депутат Пуришкевич. В 1910 году – новый раскол: «марковцы», привычные к работе в Государственной думе, отделились от «дубровинцев», не признававших никаких конституционных учреждений. В этом была своя закономерность. Правомонархические организации объединяли очень непохожих друг на друга людей: малоземельных крестьян и помещиков-латифундистов; многие программные вопросы по-разному ими понимались, но все же многое их объединяло. Правые категорически выступали против конституции, формальных ограничений власти царя, который, по их мнению, и после подписания Манифеста 17 октября 1905 года оставался подлинным самодержцем. Правые полагали, что именно император, стоявший выше всех сословий и наций, обеспечивал социальный мир империи, был добрым «отцом» для всех подданных. Члены Союза русского народа отмечали особую роль в России русского народа, который, по мнению правомонархистов, должен обладать преимуществом в политике и экономике. При этом многих правых отличал крайний антисемитизм.
Правомонархические организации были весьма многочисленными. Сами они утверждали, что членами их состоят несколько миллионов человек, что было сильным преувеличением. Тем не менее можно с уверенностью говорить, что в лучшие годы они насчитывали более 400 тысяч – явно больше, чем все остальные политические объединения. Позиции правых были наиболее сильны на территории современных Украины и Белоруссии. Там они себя чувствовали хозяевами в ходе избирательных кампаний в Третью и Четвертую Думу.
Этот перечень политических партий далеко не полон без либерального центра: партии демократических реформ (январь 1906), партии мирного обновления (июль 1906) и прогрессистов (Прогрессивная партия; 1912). Он были малочисленны, но их лидеры пользовались несомненным авторитетом в обществе и в Государственной думе. Не было пока речи о Всероссийском национальном союзе (1908), влиятельном объединении, созданном в значительной степени усилиями правительства П. А. Столыпина. Едва ли есть смысл подробно говорить о леворадикальных и национальных партиях, которые не ставили перед собой задачу работать в Государственной думе. В целом членами политических партий в России в период Первой русской революции состояло около 0,5 % населения. Казалось бы, не так много. И тем не менее даже такой результат наглядно свидетельствовал о существенных изменениях в жизни российского общества.
Выборы
Как бы партии ни относились к созываемой Думе, в большинстве своем они готовились к предстоявшей избирательной кампании. Правительству оставалось лишь определиться, каким будет порядок выборов, 11 декабря 1905 года был обнародован избирательный закон. Выборы в Думу не стали всеобщими, прямыми и равными, что соответствовало бы настроениям значительной части общественности. Однако в этом отношении Россия исключением не была. В 1905 году всеобщего избирательного права не было и в европейских странах.
В России не имели права голоса те, кто не достиг 25-летнего возраста, женщины, неправоспособные (заключенные, умалишенные), бродяги, учащиеся (в том числе студенты), военные, чиновники Министерства внутренних дел, отвечавшие за организацию выборов. В деревне голосовали лишь домохозяева – отцы семейств. Важнейшая особенность избирательной системы в России заключалась в том, что выборы в большинстве случаев были не прямыми, а многоступенчатыми. Подданный империи голосовал не за депутата, а за выборщика, голосовавшего за другого выборщика или уже непосредственно выбиравшего депутата. Избиратели, принадлежавшие к разным социальным или сословным группам, голосовали в особых собраниях – куриях. Были курии крестьянские, землевладельческие, городские, рабочие, казачьи, инородческие. У каждой категории избирателей был свой путь в курию. Крестьянин, чтобы участвовать в ее работе, должен был пройти две предварительные стадии. Мелкий землевладелец – одну. Богатый землевладелец участвовал в работе курии без всяких выборов. Возможности влиять на состав Думы у разных курий были разные. То есть подданные Российской империи не имели равных избирательных прав. Тем не менее Положение о выборах 11 декабря 1905 года было составлено так, что большинство депутатов должно было избираться крестьянством, на чью верность престолу полагалось правительство. Но при этом не было ни социальных, ни национальных групп, лишенных права голоса. По словам социалиста В. В. Водовозова, от избирательной системы, действовавшей согласно закону 11 декабря 1905 года, ко всеобщему избирательному праву оставался один шаг. В итоге состав Думы оказывался на удивление демократичным. Около половины Первой и Второй Думы составили крестьяне, немало было рабочих. Этим не могли похвастать ни немецкий рейхстаг, ни английская палата общин.
Выборы в Первую Думу прошли практически без вмешательства правительства. Полицейские, присутствовавшие на митингах, редко пытались влиять на ход собрания. Кадет Н. М. Кишкин рассказывал, как к нему обратился городовой, обязанный следить за порядком, который сконфуженно попросил разрешения присутствовать на митинге. Полицейский оказался давним пациентом Кишкина по невропатологической клинике: раньше он скрывал от врача место своей службы. Кишкин не стал возражать и указал ему место за столиком. Полицейский сел за него и за время собрания не издал ни звука. Это был не единичный случай. Полиция была столь терпимой к митингующим, что не обращала внимание на речи тех, кто говорил о преступной деятельности правительства.
Во время выборов во Вторую Думу власть была намерена не совершать прежних ошибок. В июле 1906 года Столыпин докладывал императору: «Правительству следует отрешиться от того безразличия, с которым оно относилось до сих пор к ходу выборов, и на будущее время самому выступать на них стороною. Необходимо всеми средствами поддерживать умеренную столичную и местную печать, не останавливаясь в этом отношении ни перед какими затратами. Необходимо заранее наметить на местах тех кандидатов в члены Государственной думы из числа умеренных партий или внепартийных, которые представлялись бы наиболее желательными с точки зрения правительства, и кандидатов этих поддерживать на выборах всеми не противными закону способами, снабжать их, равно как приверженные правительству и вообще умеренные партии и средствами для избирательной борьбы. Необходимо разъяснить всеми способами всем зависимым от правительства лицам обязанность их поддерживать в этом деле правительство и отношение свое к этим лицам определять в соответствии, между прочим, и со степенью поддержки, которую они окажут при выборах… Необходимо содержать, в противовес партийным, правительственных агитаторов, которые выступали бы на всякого рода общественных собраниях, разъясняя всю несбыточность и совершенную непосильность для государства тех имущественных обещаний, которые щедрой рукой расточаются сторонниками крайних партий».
Если бы все эти усилия были напрасными, Думу можно было бы распустить. Правительство все же надеялось дождаться созыва такого законодательного собрания, с которым можно было совместно работать. В феврале 1907 года Столыпин разъяснял публицисту П. А. Тверскому: «Прусской власти, при переходе к представительному строю, пришлось распустить семь парламентов подряд. Что же делать? Разве можно работать производительно, если между правительством и палатами соглашение недостижимо? Приходится терпеливо ждать, пока общество успокоится и образумится настолько, что даст Думе такой состав, который вместе с правительством пойдет к одной цели. Устанут бесплодно фрондировать, когда найдут, что из-под профессионального агитаторства ушла почва; захочется чего-нибудь нового».
Всего было четыре избирательных кампании – в четыре Думы. С каждыми новыми выборами правительство было все более настойчивым в своем желании провести необходимых депутатов. Такого рода деятельность требовала навыков, знаний и даже талантов. Одним из незаменимых специалистов по выборам среди российских чиновников был С. Е. Крыжановский. По этой причине в сентябре 1911 года новый премьер-министр В. Н. Коковцов просил назначить Крыжановского на должность государственного секретаря, несмотря на антипатию к нему государя: «По уполномочию покойного статс-секретаря Столыпина на сенатора Крыжановского возложено все сложное дело подготовления выборов в Государственную думу, имеющих произойти в 1912 г. Ему же предоставлено распоряжение всеми сравнительно значительными негласными основными средствами. Передача этого щекотливого и сложного дела другому лицу, недостаточно подготовленному и не отличающемуся такой ловкостью, как сенатор Крыжановский, – может принести правительству крупное разочарование. Для устранения их было бы крайне желательно не отделять этого лица от активной правительственной деятельности, а с этой целью всего более желательно было бы назначить его на должность государственного секретаря».
У правительства был широкий арсенал средств влияния на исход выборов. Например, Сенат мог разъяснять нормы законодательства, устраняя таким образом неугодных кандидатов. В ходе выборов во Вторую Думу, благодаря сенатским разъяснениям, было исключено двойное представительство крестьян, часто голосовавших сразу по двум куриям – крестьянской и землевладельческой. Сенат уточнил понятие «квартира», наличие которой предусматривалось избирательным цензом. Боролись с разнообразными фиктивными цензами. Жертвой Сената стал и лидер партии кадетов П. Н. Милюков. Он баллотировался в Думу как приказчик книжного склада «Общественная польза», что явно не соответствовало действительности. Сенаторы проявили в этом вопросе принципиальность даже вопреки просьбам Крыжановского, который полагал, что в Думе Милюков может оказаться менее вредным, чем вне ее.
Основная работа по «правильной» организации выборов падала на местные власти. В июле 1912 года, в преддверии избирательной кампании в Четвертую Думу, полтавский вице-губернатор Я. Г. Гололобов писал одному из лидеров правых А. С. Вязигину: «Главное, на чем теперь сосредотачивается внимание – выборы в Государственную думу. Здесь на этот счет твердо: ни один левый не пройдет, также не будет и „октябрей“ гучковского типа»[4]. В январе 1913 года костромской губернатор П. П. Шиловский жаловался князю В. П. Мещерскому на свои несчастья. Виной всему был товарищ министра внутренних дел А. Н. Харузин. Он требовал, чтобы губернатор гарантировал избрание в Думу правых. Шиловский полагал, что для этого не было предпосылок. Харузина это не смущало: он предлагал создать их. Видимо, Шиловский был прав: несмотря на все усилия правительства депутатами стали кадеты, социал-демократы и трудовики. Но губернатор был наказан: переведен в Олонецкую губернию.
Черниговский губернатор Н. А. Маклаков (впоследствии министр внутренних дел) был одним из самых активных на этом поприще. Несколько подчиненных ему чиновников только и занимались избирательной кампанией. И сам губернатор работы не боялся: лично объездил всех городских голов и уездных предводителей дворянства. Помощник Маклакова Скаржинский редактировал списки избирателей. При желании он мог исключить ту или иную фамилию, воспользовавшись любым предлогом: например, переменой адреса или задолженностью по уплате квартирного налога. В ряде случаев избирателям приходилось доказывать свое право участвовать в выборах; это делали, конечно, не все. Списки избирателей были опубликованы с недельным опозданием, что затрудняло их обжалование.
Немалой изобретательностью в деле проведения выборов в Четвертую Думу отметился нижегородский губернатор А. Н. Хвостов. Он был весьма решительным и не собирался реагировать на «выкрики» печати. Хвостов назначил выборы на 8 часов утра. Вечером предыдущего дня он приказал развести мосты через Оку и занять все имевшиеся лодки до 10 утра. Таким образом, заречная – рабочая – часть Нижнего Новгорода была изолирована. «Напрасно они (рабочие. – К. С.) метались по берегу и звали лодочников. В 10 часов по одиночке стали появляться лодки, начали наводить мост. Выборщики бросились в город, но оказалось поздно. Выборы уже были закончены…»
Как и прежде, следить за избирательной кампанией должны были полицейские. Они присутствовали на предвыборных собраниях, старались пресекать противоправительственную агитацию, что для большинства из них было непросто: образовательный уровень полицейских был невысоким; часто они оказывались не в состоянии верно оценить выступление «неблагонадежного» оратора. «Что, он не опасно говорит?» – спрашивал пристав своего помощника. «А черт его знает, – шепотом отвечал помощник, – кажется, пока ничего». Один немолодой полицейский как-то попросил кадета А. А. Кизеветтера: «Уж вы, профессор, будьте так добры, если я вас буду останавливать, не подымайте меня на издевку». Действительно, порой случались комические ситуации. В. А. Маклаков, выступая на митинге, постоянно использовал местоимение «мы». «Кто это „мы“»? – перебил его пристав. «Я и мои единомышленники», – отвечал Маклаков. «Я запрещаю говорить „мы“, вы принадлежите к партии кадетов, а это партия преступная, о ней говорить нельзя», – постановил пристав. «Хорошо, вместо „мы“ я буду говорить „они“». Толпа дружно засмеялась, а пристав остался доволен.
Правительство пыталось координировать свои действия с правомонархическими силами. В октябре 1911 года обер-прокурор Святейшего синода В. К. Саблер принимал лидеров думских правых: А. С. Вязигина, Г. Г. Замысловского, Н. Е. Маркова. Саблер спрашивал, в чем нуждались представители Союза русского народа, подробно записывал их пожелания, некоторые тут же удовлетворял. В январе 1912 года министр внутренних дел А. А. Макаров провел подобную консультацию с лидером Правой группы Государственного совета Д. И. Пихно.
Наконец, правых кандидатов можно было финансировать. А. Н. Наумов (в прошлом предводитель самарского дворянства) впоследствии вспоминал, что весной 1906 года С. Е. Крыжановский предложил ему 25 тысяч рублей на издание газеты «Голос Самары» и предстоявшую избирательную кампанию. Деньги предлагал и другой товарищ министра – В. И. Гурко: «Возьмите у нас побольше денег – без них при этих выборах, пожалуй, не обойтись… Умоляем вас – дайте в Думу хороших людей». Когда же к Крыжановскому пришел московский губернатор В. Ф. Джунковский, товарищ министра открыл железный шкаф, встроенный в стену кабинета. Там лежали пачки денег. Джунковскому было предложено 15 тысяч рублей. Существенно большую сумму на те же цели получил московский градоначальник А. А. Рейнбот.
Немалые средства поступали Союзу русского народа. Серьезные суммы передавались А. И. Дубровину, В. М. Пуришкевичу, отцу Иоанну Восторгову. Получали деньги и другие лица. В ходе выборов в Четвертую Думу в Бессарабской губернии семейство Крупенских потратило 2000 рублей из государственных средств и планировало потратить еще 5000 рублей из того же источника.
По сведениям С. Е. Крыжановского, правительство тратило на избирательные кампании около 3 млн рублей в год. Правда, эти деньги расходовались неэффективно. Нередко они выделялись организациям и газетам, о которых мало кто слышал. И все же среди получавших правительственные дотации были известные лица. «Все промелькнули перед нами, все побывали тут», – отмечал министр финансов Коковцов. Среди них не было кадетов, мало – октябристов; преимущественно это были правые (Г. Г. Замысловский, Н. Е. Марков, В. М. Пуришкевич и др.) и националисты (А. И. Савенко и др.). Правда, приходилось отказывать и им. Незадолго до роспуска Третьей Думы правые депутаты – Н. Е. Марков, П. В. Новицкий, В. М. Пуришкевич – запросили ссуду в 960 тысяч на предстоявшую избирательную кампанию. Премьер-министр Коковцов удивился, почему они не просят миллион. «Мы хорошо знаем, что вы любите точные цифры, и отказались от всякого излишества», – ответил Марков. «Скромность» не помогла народным избранникам: Коковцов им решительно отказал.
Чтобы добиться желаемого исхода многоступенчатых выборов, надо было оказывать влияние на избирательную кампанию на ее ранних стадиях, формируя коллегии выборщиков. Правительство пыталось мобилизовать послушного избирателя, каким виделся прежде всего священнослужитель. Ставка на духовенство была сделана в некоторых губерниях еще в 1907 году, во время выборов в Третью Думу. Например, в Вологодской губернии большую часть уполномоченных по землевладельческой курии составляли священники (83 из 86), в пяти уездах Пермской губернии – 56 из 57, в четырех уездах Вятской губернии – 21 священнослужитель и ни одного мирянина, в девяти уездах Пензенской губернии – 55 священников и 6 мирян, в Калужской губернии – 81 священник и 14 мирян, в Тверской – 182 и 17, в Воронежской – 96 и 15, в Рязанской – 202 и 29, в Киевской – 424 и 14 и т. д. В результате духовенство порой доминировало в землевладельческой курии. Так, в Астраханской губернии из восьми выборщиков семь были священниками, в Вологодской губернии из 30 – 21, в Вятской губернии из 49 – 33, в Киевской из 78 – 42, в Пермской из 47 – 39, в Волынской губернии из 62 – 31.
В 1912 году этот опыт был использован с большим размахом. Как удачно пошутил депутат В. А. Маклаков, Синод превратил «стадо Христово в избирательное стадо». В дни выборов церкви закрывались, богослужение не проводилось, требы не исполнялись – священнослужители голосовали. Эта тактика принесла свои плоды. Так, в Киевской губернии по землевладельческой курии избрали 477 священнослужителей и 76 помещиков. В Подольской губернии – 399 священнослужителей и 4 помещиков. В Рязанской губернии – 244 представителя духовенства и 39 светских лиц. В целом же по России из 2365 выборщиков по землевладельческой курии 771 представляли духовенство. Для сравнения: за пять лет до этого было 533 священника.
Церковное начальство опасалось, что священники могут поддаться вредному влиянию. Такая бдительность излишней не была. Священники оказались послушным орудием в руках архиереев. Епископ Филарет, в сущности, сам выбирал депутатов, не интересуясь мнением местных властей. По свидетельству современника, «И. М. Страховский (вятский губернатор. – К. С.) и К° хотели иметь депутатов поумереннее и поприличнее, а Филарет дал им совсем черных и одни убожества».
Воронежские архиереи, отчитываясь перед властями, указывали, сколько удалось провести в выборщики «надежных» крестьян (34: 18 правых монархистов и 16 беспартийных, зато «вполне надежных»). Кроме того, в губернское избирательное собрание прошли 19 «самых лучших» священнослужителей. Архиереи ставили себе в заслугу и то, что из списка городских избирателей был исключен кадет А. И. Шингарев и другие менее известные его однопартийцы. И все же у церковного начальства были неудачи. Немного удалось сделать в противостоянии с октябристами. Например, не удавалось помешать А. И. Звегинцеву. Его можно было «провалить» на выборах по Бобровскому уезду, где все было для этого подготовлено. Однако итоги состоявшихся выборов не были утверждены, и выборы перенесли на более поздний срок. Это «отсекало» священников от дальнейшего участия в голосовании: дважды мобилизовать их было невозможно. Архиереи утверждали, что это объяснялось интригами «Звегинцева и К°», которые вели к триумфу «левых» сил. Духовенство ждало инструкций из столицы относительно поведения священнослужителей в губернском избирательном собрании. Следовало ли открыто выступить против октябристов, раскрывая свои карты, или стоило «затеять тайную игру»? Однако это создавало риск прохождения в Думу кадетов. Но, похоже, местное духовенство это не смущало: фигура Звегинцева вызывала у них сильное раздражение. Во время выборов в Третью Думу он сам мобилизовал духовенство, рассчитывая на его поддержку: свозил священников на избирательный съезд, обещал им одно депутатское кресло. Однако обманул. Помещиков на съезде оказалось больше, чем Звегинцев предполагал. Голоса священников не понадобились, их кандидаты были забаллотированы. Духовенство потребовало от Звегинцева объяснений, и он, не смущаясь, ответил: «На кой черт вы нам теперь нужны».
Теперь же, в 1912 году, многие помещики чувствовали себя лишними: они были бессильны противостоять многочисленному духовенству и потому вынужденно покидали избирательные съезды. В ноябре 1912 года октябрист, депутат Третьей Думы П. В. Каменский писал юристу и общественному деятелю А. Ф. Кони: «Быть избранным членом новой партии „губернаторско-архиерейской“, носить на себе ярлык „с дозволения его превосходительства, с благословления его“ – как-то неспокойно для совести».
В конце концов правительство само испугалось «поповской опасности». Влияние архиереев на формирование Думы многим чиновникам казалось чрезмерным. В итоге в ряде случаев пришлось умерить пыл церковного начальства, выделив священнослужителей в особую курию. Представительство духовенства в губернском избирательном собрании оказалось скромным: 14,5 % выборщиков (вместо планировавшихся 70 %). Но даже в этом случае духовенство, благодаря своей сплоченности и дисциплинированности, оказывало серьезное влияние на исход выборов. Оно «торговалось» с другими группами избирателей, добивалось от них необходимых уступок. Например, некоторые октябристы были избраны в Думу при условии, что поддержат финансирование церковных школ.
И все же было бы неверным говорить о всесилии правительства в избирательной кампании. Оно не могло быть в полной мере уверено даже в собственном чиновничьем аппарате, что с удивлением отмечали иностранные посланники. Как-то Столыпин в присутствии испанского посла пожаловался на ход избирательной кампании. Дипломат искренне удивился: «Не понимаю, о чем вы беспокоитесь? У нас делается это очень просто. Мэры в руках правительства, а потому как председатели избирательных бюро они своевременно засыпают в урны столько бюллетеней угодной правительству партии, сколько требуется для успеха, а затем допускают избирателей. Получается большинство, нужное правительству, и все довольны». Примерно то же самое объяснял и румынский посол: «Обратите внимание… когда у нас, то есть в Румынии, происходят выборы, правительство все ставит на карту: и свое влияние, и обещания поддержки, и ордена, и даже, если нужно, подкуп, а у вас оно не делает ничего, чтобы создать себе в Думе работоспособное большинство. Выборы – очень хорошая вещь… но правительство должно взять их в свои руки, или оно должно уйти».
В России местное чиновничество порой действовало вопреки воле своего начальства и даже напрямую поддерживало оппозицию. Например, в ходе выборов в Первую Думу некоторые члены избирательных комиссий при входе на участок раздавали готовые бюллетени с кадетскими списками. Во время избирательной кампании во Вторую Думу податные инспекторы Орловской губернии, не таясь, агитировали в пользу кадетов. Аналогичная ситуация имела место в Ярославской и Саратовской губерниях.
И все же главная проблема была в другом: результаты выборов часто не поддавались какому-либо прогнозу. Большинство избирателей были абсолютно аполитичны. Их поведение невозможно было предсказать. Ни у одной партии не было большинства ни в одной губернии. Очень многое зависело от случайных блоков и союзов. Октябрист Н. В. Савич, характеризуя ход выборов в Первую Думу в Харьковской губернии, отмечал, что в губернском избирательном собрании сложились три группы: многочисленная крестьянская, умеренная земская, близкая к октябристам, и кадетская, к которой примыкали видные представители общественности (среди них был М. М. Ковалевский). Никто из них не мог рассчитывать на однозначную победу. Приходилось искать союзников. Кадеты надеялись на блок с октябристами, но в этом вопросе встретили противодействие своего Центрального комитета.
Аналогичная ситуация имела место в любом избирательном собрании в течение всех думских лет. Так, во Владимирской губернии во время выборов в Четвертую Думу для победы нужно было получить 45 голосов выборщиков. 40 голосов гарантированно имели правые и националисты. 11 – октябристы. Остальные голоса были у «левых». В Екатеринославской губернии нужно было собрать 54 голоса. 52 было у правых и националистов, 24 – у октябристов. В Калужской губернии для победы требовалось 39 голосов. 35 было у правых, 11 – у октябристов.
Ситуация осложнялась тем, что далеко не всегда было ясно, кто правый, а кто левый. Партии не пользовались большой популярностью в обществе даже в 1906–1907 годах. В дальнейшем их значение будет только падать. Партийные предпочтения крестьян оставались загадкой, их взгляды не укладывались в прокрустово ложе партийных программ. Например, псковские крестьяне полагали, что Дума – «большое челобитное собрание», цель которого – скорейшая прирезка общине земли. Им казалось, что там, в Думе, крестьяне будут вместе с царем пить чай и обсуждать народные нужды. От Псковской губернии баллотировался граф П. А. Гейден. Крестьяне обвиняли его в том, что он утаивал от них тот факт, будто государь даровал им землю. Некоторые крестьяне выступали с целой программой реформ. Они предлагали упразднить все центральные ведомства, кроме Министерства внутренних и иностранных дел, руководителям которых предлагали положить жалованье в 500 рублей в год. В помощь министрам они предлагали держать по два писаря с окладом 300 рублей в год. В результате все центральное управление обошлось бы казне всего в 2200 рублей.
В большинстве случаев у крестьян не было партийных пристрастий. Как вспоминал князь В. А. Оболенский, во время выборов в Первую Думу крестьяне не были склонны голосовать за «господских» кандидатов и предпочитали им «своих», таких же крестьян. Эта ситуация сохранялась и в дальнейшем.
Было бы наивным ожидать проявлений высокой политической культуры и у городских избирателей, в том числе столичных. В феврале 1906 года жена видного историка и члена партии кадетов Е. Я. Кизеветтер записала в дневнике беседу трех московских приказчиков. Они спорили, в какую партию им «податься»:
Хочу записаться завтра в «Союз 17 октября», да не знаю – берут там деньги?
– Нет, там даром: они богатые, своих много, – говорит [его] товарищ.
– Вот если сюда придешь, к конституционалистам-демократам, тут возьмут с тебя…
– Много?
– Ну, там копеек 50, а если квартирный налог платишь, так по расценке. Ну а если к социал-демократам пойдешь – будут просить рублей 20. Это нам не под силу.
Узнав об этом, А. А. Кизеветтер долго смеялся: «Мыто читаем, читаем, проповедуем им разные идеи, а у них вот какая оценка – где дешевле!»
Красноречивым было и отсутствие избирателей. Конечно, это не отменяло энтузиазма, охватившего многих еще в 1906 году. А. А. Кизеветтер так описывал выборы в Первую Думу в Москве: «Избиратели шли к урнам густо. Все были в приподнятом, одушевленном настроении. Были трогательные эпизоды. Один больной генерал велел на носилках нести себя к урне, чтобы подать свой бюллетень. Была такая сцена. Приходит в вестибюль городской думы пожилой господин. Кучка подростков бросается к нему, предлагая партийные бюллетени. „Да неужто вы думаете, – говорит он, – что у меня еще не приготовлен свой бюллетень. Ведь я всю жизнь мечтал об этом дне, мечтал дожить до него“».
И все же такие настроения разделяли не все. Например, в 1906 году в Орловском уезде из 1020 числившихся городских избирателей пришли 80 человек. В Брянском уезде Орловской губернии на съезд мелких землевладельцев явились 40 избирателей из 3088. В Карачаевском уезде из 1500 мелких землевладельцев приехали 74. Подобная ситуация была и в других губерниях. Так, в Симферопольском уезде Таврической губернии из 4000 мелких землевладельцев на выборы пришли 88 человек. По городской курии Симферополя голосовала лишь четверть зарегистрированных избирателей. В Курске по городской курии голосовал 121 человек вместо зарегистрированных 3300. В Курском уезде на съезд мелких землевладельцев явилось 43 избирателя вместо положенных 1200. В городской курии Симбирской губернии голосовали 1876 избирателей вместо 6145. В Ковенском уезде (ныне Каунас, Литва) на съезд мелких землевладельцев явился 41 избиратель вместо 1740. В Шавельском уезде Ковенской губернии – 69 вместо 1013. В Тульском уезде – 150 вместо 750. В Харьковском уезде – 123 вместо 4223. В Тверском уезде – 236 вместо 1400. В Пензенском уезде – 48 вместо 1303. В городской курии Козельского уезда голосовали 217 избирателей вместо 1868. В Воронежском уезде 256 человек – вместо 2225. В Одесском уезде 360 человек – вместо 3691.
Эта проблема оставалась и в дальнейшем. Так, на выборы в Четвертую Думу в Симбирской губернии явились около 30 % городских избирателей. В 1912 году общая явка по России редко превышала 50 %. По мнению чиновников Министерства внутренних дел, это свидетельствовало о безразличии избирателей к выборам.
Была и проблема другого свойства. Не всегда было ясно, каковы партийные пристрастия будущих депутатов. В 1912 году бывший председатель Думы Н. А. Хомяков жаловался на народных избранников депутату от Самарской губернии И. С. Клюжеву: «Что это за время, которое нам приходится переживать? Где у нас настоящие люди, истинные граждане? Их нет ни здесь, ни в провинции. Возьмите в пример хотя бы нашу Смоленскую губернию или вашу Самарскую. Кого выбрать в Думу, в губернское земское собрание? Все те же лица – обыденные, будничные, беспринципные, неустановившиеся, неустойчивые, смотрящие на вещи сегодня так, а завтра – по-другому». Схожим образом описывал ситуацию депутат-октябрист Н. В. Савич: «На выборах не было яркого разделения между разными оттенками политических настроений среди того антиреволюционного блока, который объединил все консервативное, умеренное и просто перепуганное „иллюминациями“ и разгромами имений глубоко мирное, имущее и цензовое большинство обывателей провинции. Выбирали не по принадлежности к той или другой партии, в этом еще не разбирались, а излюбленным кандидатом являлся тот, кто проявил наибольшую активность во время выборных кампаний против левого картеля». Хотя бы по этой причине правительственные прогнозы исхода выборов редко сбывались. Так, в 1907 году в МВД были уверены, что в Третьей Думе сложится устойчивое правое большинство. В действительности ничего подобного не случилось.
Наконец, многие мечтали о депутатском мандате, имея в виду преимущества, связанные с обладанием им. Для крестьян это было 10 рублей суточных (в Первой, Второй, в начале работы Третьей Думы). Для многих других – возможность завязать ценные связи. В октябре 1912 года в Министерстве внутренних дел отмечали: «Жалованье играет тут сравнительно вторую роль. Ищут влияния, которое дает деньги куда более значительные, чем всякое жалованье. Провинция полна легенд о местах в банках, о концессиях, о готовности правительства давать по просьбе членов Думы места, награды, даже перерешать судебные дела».
При таких обстоятельствах выборщик чаще всего был «темной лошадкой». В октябре 1912 года в Департаменте полиции были сведения о 5012 выборщиках Европейской России из 5159. По сведениям этого информированного органа власти, в 20 губерниях Европейской России (из 51) лидировали правые, в 7 губерниях – националисты, в одной губернии – независимые националисты и лишь в 8 губерниях – оппозиция. При этом в 14 губерниях ни у одной политической силы не было явного перевеса. Там многое зависело от октябристов. Таким образом, в 28 губерниях должны были победить правые, а в 22 – либеральные и даже леворадикальные силы. Полиция полагала, что правым удалось «отобрать» у оппозиции пять губерний (Вятскую, Нижегородскую, Пермскую, Ставропольскую и Ярославскую), а у октябристов – целых девять (Витебскую, Воронежскую, Казанскую, Московскую, Орловскую, Пензенскую, Рязанскую, Харьковскую и Черниговскую). Если же иметь в виду общую численность выборщиков, то расклад был таким: из 5012 человек 2542 (то есть 57 %) составляли правые, 247 (или 4,8 %) – националисты, 130 (2,5 %) – умеренно-правые, 58 (1,2 %) – независимые националисты, 508 (10,1 %) – октябристы, 424 (8,4 %) – кадеты, 326 (6,5 %) – социалисты, 264 (5,2 %) – прогрессисты, 343 (6,8 %) – беспартийные. Иными словами, 65,5 % голосов выборщиков составляли правые, 23,7 % – либералы. Правда, в Думе расклад сил был совсем другой.
Иногда это объяснялось тем, что местная власть приукрашала ситуацию. Например, в 1912 году архангельский губернатор сообщал, что большинство выборщиков вверенной ему территории были правых взглядов. Местная печать небезосновательно считала, что выборщики в большинстве своем левые. Вологодский губернатор полагал, что из 44 выборщиков был один октябрист, один кадет и четыре беспартийных, а остальные были правыми. По мнению губернского предводителя дворянства, расклад был иным: в губернском избирательном собрании было 14 избирателей левых взглядов, пять из них были радикалами. По подсчетам полтавского губернатора, в избирательном собрании было всего 4 октябриста. Однако выборы показали, что октябристов было 17 (8 принадлежали к левому крылу партии). В Воронежской губернии полиция считала А. И. Алехина (отца Александра Алехина, чемпиона мира по шахматам) и Г. А. Фирсова правыми, в действительности они были октябристами. Еще сложнее было с воронежскими крестьянами. По сведениям А. И. Звегинцева, они в большинстве своем были не правее октябристов, «а по земельному вопросу – где им быть надлежит» (то есть значительно левее). Точно так же и воронежских священников нельзя было отнести к правым монархистам. Эту проблему вполне понимали в Министерстве внутренних дел: «К числу правых отнесены почти все крестьяне, особенно если они должностные лица. Окажутся ли все они правыми на губернском избирательном собрании… вперед сказать трудно».
В каждой конкретной губернии были свои причины правительственной неудачи. В 1912 году барон Б. А. Энгельгардт избирался от Могилевской губернии. Впоследствии он вспоминал, что на избирательном собрании тон задавало хорошо организованное местное духовенство во главе с епископом Митрофаном. Правда, у них было всего 15 голосов (из 115), однако именно они должны были решить исход выборов. И все же первоначальные планы были нарушены. «Между прочим, кто-то пустил слух будто бы только что получено известие о назначении епископа Митрофана в другую епархию, и это известие сразу подорвало дисциплину среди священников… Тут началась вакханалия сговоров. В одном углу заядлый националист шептался с поляком, в другом епископ Митрофан обрабатывал еврея…» В результате избрали Б. А. Энгельгардта, который не был губернаторским фаворитом.
В чем-то похожая ситуация сложилась в Саратовской губернии. Там правые еще до выборов праздновали победу. Из 120 голосов в губернском избирательном собрании у них было 46. Кроме того, они могли рассчитывать на голоса 19 священников. Иными словами, в их распоряжении было 65 голосов. У «левых» – 55. Священники помогали правым не вполне бескорыстно: им было обещано два депутатских кресла. И все же они не доверяли местным землевладельцам и обратились с просьбой к губернскому предводителю дворянства В. Н. Ознобишину сначала баллотировать кандидатов духовенства. Им нужны были гарантии, что правые сдержат свои обещания. Ознобишин весьма грубо им отказал. Священники не знали, как в таком случае поступить: прежние договоренности расстроились, новые пока не сложились. Баллотировка продолжалась до полуночи, но безрезультатно. Собравшиеся устали и решили перенести выборы на следующий день. Ночью «левые» и священнослужители договорились, и на следующий день победу одержал их альянс.
В Екатеринославской губернии в 1912 году верх должны были одержать правые. Выборами руководили местный архиерей и губернатор. Перед епископом стояла непростая задача: с одной стороны, он не должен был пропустить в Думу кадетов и левых октябристов, с другой – священники должны были дружно проголосовать за октябристов: М. М. Алексеенко и М. В. Родзянко. Ради успешного решения поставленной задачи местное духовенство не раз собиралось в уездных городах, «репетируя» будущие выборы. Своя политика была у губернатора. Он пригласил выборщиков-крестьян на чашку чая, чтобы убедить их голосовать с октябристами. Перспектива победы правых его не радовала. Расклад сил в губернском избирательном собрании был следующий: 45 голосов у правых, 30 выборщиков поддерживали Родзянко, а 30 – левых. Родзянко же, вопреки всем расчетам, решил блокироваться с левыми. Во-первых, он был против голосования за правого В. А. Образцова. Во-вторых, Родзянко хотел видеть среди депутатов своего племянника. В итоге он договорился с кадетами и прогрессистами, которым уступил три места в будущей Думе.
Выборы имели свою ярко выраженную региональную специфику, которая оказалась существеннее правительственных усилий. Так, в Бессарабской губернии безраздельно господствовала правая Партия центра. Речь шла не о партийных пристрастиях местного населения, а о доминировании семейства Крупенских, чьи интересы и защищало это объединение, которое принадлежало к националистическому крылу лишь с формальной точки зрения. В действительности в него входили представители самых разных взглядов. Некоторые из них даже одобряли программу кадетов. Сама партия Центра тяготела к альянсу с октябристами. Не случайно правые называли сторонников Крупенского «октябристскими подголосками». Для одного из лидеров правых В. М. Пуришкевича Партия центра – прямой конкурент на выборах в Бессарабии. Противостоя Крупенским, он был готов блокироваться с так называемой «земской партией», объединившей молдавских националистов.
В Курской губернии ничто не могло помешать победе Н. Е. Маркова и его сторонников. Местный губернатор Н. П. Муратов (1912–1915), перефразируя Людовика XIV[5], утверждал: «Губернское избирательное собрание – это Марков». Фактически ему подчинялись и губернский предводитель В. Ф. Доррер, и уездные предводители дворянства. В земском собрании он пользовался безусловным авторитетом. Примерно схожее влияние в Смоленской губернии было у Н. А. Хомякова. В Волынской губернии многое зависело от позиции архимандрита Почаевской лавры Виталия. В Курляндской губернии безраздельно господствовали остзейские бароны, которые могли провести любого кандидата. В Оренбургской выборы в немалой степени определялись симпатиями мусульман, которые поддерживали кадетов. В Херсонской губернии важную роль играли избиратели-немцы, традиционно голосовавшие за октябристов. В Одессе по второй городской курии было гарантировано прохождение кадетов благодаря поддержке еврейского населения. В Казанской губернии у октябристов были столь сильные позиции, что местная администрация не смогла помешать прохождению в Четвертую Думу представителей левого крыла партии – А. Н. Барятинского и И. В. Годнева. В Самарской губернии тон задавали купцы А. И. Соколов и В. М. Сурожников, поддерживавшие блок кадетов и прогрессистов.
В Москве расклад сил определялся позицией домовладельцев-арендаторов. Раньше они были аполитичными, но к 1912 году многое изменилось. Преимущественно они проживали в районах Марьиной рощи и «Бутырок». Значительная часть Марьиной рощи принадлежала графу С. Д. Шереметеву. В 1911 году среди арендаторов прошел слух, что Шереметев планировал продать землю французскому синдикату. Домовладельцы встревожились, чем попытался воспользоваться Союз русского народа, который обещал арендаторам поддержку. Тогда те собрали деньги и передали их своим защитникам в надежде, что те похлопочут за интересы москвичей. Из Петербурга вернулся активист Союза русского народа Орлов. Он уверял арендаторов, что только благодаря его заступничеству их проблемы уже решены, что Шереметеву запретили продавать Марьину рощу, вся принадлежавшая ему земля будет принудительно выкуплена, а условия аренды существенно облегчены. Наивные домовладельцы поверили Орлову. Но за первой радостью наступило разочарование: оказалось, что это простое бахвальство. Арендаторы отшатнулись от Союза русского народа. Теперь они искали поддержки у кадетов и прогрессистов и впоследствии голосовали за них. Аналогичным образом вели себя домовладельцы «Бутырок». Они рассчитывали на помощь в противостоянии с собственником земли – причтом Бутырской церкви. Примерно такая же ситуация сложилась в Киеве в районе Байковья, которое принадлежало митрополичьему двору.
Россия была слишком большой и пестрой, недостаточно исследованной и «недоуправляемой». В сущности, в каждой губернии действовали свои правила игры. Это сильно затрудняло правительственную задачу – контролировать ход выборов. Усилия власти порой приносили обратный результат, вызывая немалое раздражение у партий, оказавшихся под административным прессингом. Отсечь же их от выборов было невозможно: за ними стояли значимые социальные силы, серьезные экономические интересы, влиятельные общественные объединения, которых нельзя было игнорировать. В ходе четырех избирательных кампаний в Думу стали очевидными результаты развития русского общества за последние полстолетия, со всеми его издержками и диспропорциями.
Думские фракции
Результаты выборов не позволяли сформировать в Думе устойчивого большинства вплоть до 1915 года, то есть до образования Прогрессивного блока. В Первой Думе «пальма первенства» принадлежала кадетам. У них была самая большая фракция (178 депутатов из 496, то есть 35,6 %). И все же этого оказалось недостаточно, чтобы сформировать большинство. Кадетам приходилось договариваться с трудовиками (110 депутатов, то есть 22 %) и польскими депутатами (34 депутата польского кола и 14 – группы Западных окраин, всего 9,6 %). Такого рода соглашения требовали существенных уступок. Во Второй Думе кадеты и вовсе утратили всякий контроль над ситуацией (124 депутата из 517, то есть около 24 %). В Таврическом дворце численно доминировали социалисты разных мастей (78 трудовиков, 68 социал-демократов, 38 эсеров, 18 членов народно-социалистической фракции, то есть в совокупности около 40 %). Немало было и правых (49 человек, то есть около 10 %), которые не были готовы блокироваться с думским центром. В Третьей Думе сформировался так называемый «октябристский маятник», когда представители «Союза 17 октября» могли блокироваться как с более левыми (кадетами), так и с более правыми (правомонархистами и националистами), формируя тем самым большинство: у октябристов была самая многочисленная фракция (120 депутатов из 442, то есть 27,55 %). Немало было «соседей» справа (141 депутат, то есть около 32 %) и существенно меньше слева (52 кадета и 36 прогрессистов, всего 20 %). Казалось бы, «октябристский маятник» должен был гарантировать правительству послушную Думу. Однако это было не так. Механизм работал крайне не надежно, слишком разнородными и недостаточно дисциплинированными были фракции. В Четвертой Думе уже и маятника не было. Октябристы фактически утратили лидерские позиции. У них было 100 народных избранников из 442, то есть около 22 % всего депутатского корпуса. У левого крыла – кадетов 59 и прогрессистов – 48 депутатов, примерно 24,5 %. Зато правые (Партия центра, националисты и собственно правые) укрепили в Четвертой Думе свое положение. У них было 175 (39 %) депутатов. Примечательно, что в этой Думе все же сформировалось большинство, однако оно было левоцентристским, оппозиционным по отношению к власти.
Думцы
Все эти цифры, которые легко найти в справочниках и учебниках, немного говорят о раскладе сил в Думе. Любая фракция была неустойчивым объединением и находилась под угрозой распада с момента своего создания. Это можно сказать обо всех думских группах, от самых правых до самых левых. Склоки, интриги постоянно раздирали правомонархические силы. Лидер фракции правых в Третьей Думе А. С. Вязигин жаловался на зависть и козни своих коллег (Н. Е. Маркова и Г. Г. Замысловского), на драки среди соратников (Г. А. Шечкова и М. А. Сушкова). В Четвертой Думе председатель бюро фракции правых А. Н. Хвостов (в скором времени министр внутренних дел) признавался, что ему ближе позиция националистов, а не правых, которыми он руководил.
Среди правых было много крестьян и священников. Они весьма сдержанно относились к своему фракционному руководству и порой отказывались его поддерживать (как, например, весной 1913 года, когда лидеры правых вознамерились спровоцировать роспуск Думы). Заносчивым предводителям приходилось идти на попятную и «ухаживать» за крестьянами, которых обычно они просто не замечали.
Схожие и даже большие трудности переживали националисты. Одни депутаты фракции тяготели к правым, другие – к левым, к октябристам. Как это часто случалось в Думе, особую позицию занимали крестьяне и священники из фракции националистов. Иногда они голосовали вопреки мнению руководства объединения. По словам одного из лидеров националистов, А. И. Савенко, родная ему фракция – «как стадо без пастырей»: руководители авторитетом не пользовались, не собирали совещания, часто не являлись на заседания и прежде рядовых депутатов разъезжались на летние каникулы. Б. А. Энгельгардт свидетельствовал, что лидер националистов П. Н. Балашев «за время своего председательствования не выразил не только толковой, а попросту никакой мысли».
Наконец, националисты с большим трудом переносили друг друга. В самом начале работы Четвертой Думы, 5 декабря 1912 года, А. И. Савенко писал жене: «Зависть – первое дело. На этой почве я нашел немало врагов, ибо сразу выдвинулся во фракции. Против меня шипит даже часть киевлян, особенно после того, как я вошел во все главные комиссии. Борьба из‐за комиссий страшная, и лица, забаллотированные в бюджетную комиссию и комиссию по обороне (я попал в обе), устроили ряд бурных скандалов». О распаде фракции говорили задолго до ее роспуска. Еще в апреле 1914 года Савенко отмечал «полный раскол» в объединении: 20 правых националистов конфликтовали с большинством фракции. Объединение перестало существовать в августе 1915 года. 14 августа Савенко писал жене: «Ты уже знаешь из газет, что из национальной фракции вышел весь цвет фракции. Сегодня состоялось первое заседание нашей новой фракции. Радовались мы, как дети, что, наконец, вырвались из душной балашовской тюрьмы, где все мы задыхались от трупного запаха».
Столь же рыхлой была фракция октябристов. Противоречия раздирали ее и во Второй Думе, где октябристов было сравнительно немного. Депутат от Казанской губернии М. Я. Капустин отмечал: «На многие вопросы глядели мы различно. Это лишало нас силы сплоченности». За считанные месяцы работы Думы от фракции откололась группа крестьян, которые сочли, что лидеры октябристов занимают чересчур умеренную позицию в аграрном вопросе.
В Третьей Думе фракция стала существенно более многочисленной, но и проблемы нарастали. Большинство октябристов принадлежали к правому крылу, однако не они задавали тон. Из левого меньшинства рекрутировались лидеры октябристов, которые составляли большинство в бюро фракции. При этом депутаты настаивали на «свободе голосования», не будучи во всем солидарными со своими правыми коллегами. 13 июня 1908 года октябрист Н. В. Савич писал: «Дума превратилась в земское собрание; партийная дисциплина рушилась, всяк сам за себя». Председатель Третьей Думы Н. А. Хомяков вообще не считал «Союз 17 октября» партией и предсказывал его скорый распад. В пользу этого было множество аргументов. Так, М. В. Родзянко отказывался голосовать вместе с фракцией, а близкий человек к А. И. Гучкову А. И. Звегинцев, вопреки мнению фракции, не считал возможным договариваться даже с националистами.
Лидеры октябристов тяготились таким положением и рассчитывали укрепить дисциплину. Они регулярно ставили вопрос о консолидированном голосовании на пленарных заседаниях Думы, но это ни к чему не приводило. «Это полное неуважение к нашей работе, – отмечал Хомяков, – полнейшее невнимание к самой фракции, а через нее и к Думе. Нехорошо вообще, когда члены не посещают фракционные собрания, но еще хуже, когда они проводят это время за картами тут же, в следующей комнате, чуть не рядом».
Единство фракции в значительной мере обеспечивалось серьезными усилиями безусловного лидера – А. И. Гучкова. По словам А. С. Вязигина, «члены Думы многократно могли наблюдать, как в течение одного и того же заседания менялось настроение центра – могущественной фракции „Союза 17 октября“, что влекло за собой порой весьма неожиданный и неприятный для А. И. Гучкова исход голосования». Гучкову нельзя было отлучиться из Думы: в его отсутствие процессы могли стать неуправляемыми. Договариваясь, сглаживая острые углы, идя на уступки, Гучков старательно скрывал свои эмоции и личные симпатии. 27 мая 1908 года журналист И. А. Гофштеттер писал брату лидера октябристов – Ф. И. Гучкову: «Лидерство Ал[ександра] Ив[ановича] (Гучкова. – К. С.) – это нравственная каторга, это отречение от личной совести, подчинение своей мысли стадной равнодействующей. Он сам говорил мне, что завидует идиоту Пуришкевичу, который может молоть всякий вздор, все, что взбредет ему в голову, а Ал[ександр] Ив[анович] и на трибуне, и в партийных совещаниях чувствует себя точно в наморднике: говорит, да оглядывается, как бы не уклониться от партийной линии поведения, не внести раскола в свою партию, не вызвать протеста единомышленников».
Это объясняет, почему избрание Гучкова председателем Думы имело для октябристов драматические последствия. В октябре 1907 года, в самом начале работы Третьей Думы, октябристы отказались выдвигать его кандидатуру на эту должность, однако Гучков не преодолел искушения. Савич вспоминал об этом так: «Мы разом теряли руководителя думской работы, искусного председателя фракции, единственного из нас, кому по плечу было сглаживать острые углы внутрипартийных трений. Словом, кандидатура Гучкова нас резала насмерть».
Весной 1911 года, в ходе политического кризиса, Гучков ушел с председательского поста. Замену ему нашли в лице правого октябриста – М. В. Родзянко. После некоторых сомнений Дума его поддержала. А. И. Гучков, сидевший рядом с И. С. Клюжевым, заметил последнему: «Ну теперь Дума себя похоронила». День спустя левые октябристы поставили вопрос о создании собственной фракции. 25 апреля 1911 года Хомяков заявил на заседании октябристов: «Пора уже нам перестать хромать на обе ноги. Надо принять… то или другое решение. Нужно точно определить, во что мы веруем. Если мы конституционалисты, то должны стоять твердо под знаменем своим, „Союза 17 октября“, а если кто-либо из нас отступает от его принципов, то он должен выйти совсем из нашей фракции. Надо уже, наконец, поставить эту точку над i и баста».
Его инициатива не прошла. Тем не менее фракция была в смятении. Гучков теперь не занимался оперативным руководством объединения, а нового лидера не было. Остались лишь воспоминания о не существовавшем единстве. В результате депутаты-октябристы голосовали несолидарно и чаще всего даже не пытались договориться.
В Четвертой Думе ситуация стала еще сложнее. В нее не прошел А. И. Гучков, и фракции суждено было существование без «руля и ветрил». М. В. Родзянко остался председателем, популярный среди октябристов М. М. Алексеенко жаловался на здоровье и предпочел сосредоточиться на работе в бюджетной комиссии. Как писал депутат Г. В. Скоропадский, во фракции шла «страшная грызня». Левые октябристы во главе с Хомяковым все чаще консультировались о создании более левого объединения. В декабре 1912 года он разъяснял думским корреспондентам: «Уже три года, как я твердил одно – надо уходить. Разве могут сговориться люди с различной психологией, с различными взглядами на вещи. Во фракции создалось положение, что там занимались не политикой, а взаимонадувательством. Правые стремились проводить свою линию в отсутствие левых. Вместо того чтобы заниматься примирением непримиримого, гораздо лучше работать». Два месяца спустя депутат-октябрист князь С. С. Волконский предсказывал, что от фракции отколются 20–25 более левых коллег: «Но по значению это все генералы партии, а солдаты останутся с правыми октябристами». Наконец, в конце 1913 года фракция распалась. Левые октябристы составили группу «Союза 17 октября». Большинство вошли во фракцию земцев-октябристов. Некоторые не присоединились ни к кому, образовав группу независимых депутатов.
Единой фракции уже не было, а обиды остались. В феврале 1914 года левый октябрист И. С. Клюжев, говоря с думской трибуны о группе «Союза 17 октября», случайно назвал ее объединением «чистых» (вместо «истых») октябристов. Правые депутаты засмеялись, а правые октябристы обиделись. Алексеенко даже отказался подать руку Клюжеву: «Не хочу пожать Вас своей нечистой рукой». Е. П. Ковалевский пошутил: «Здравствуйте, чистый октябрист». Депутат М. И. Арефьев корил Клюжева за обидные слова. Мимо проходил Хомяков, который со свойственной ему иронией заметил: «Так что же? Иван Семенович [Клюжев] совершенно прав. Вам действительно не мешало бы немного помыться».
Не был монолитен и либеральный центр. Разногласия имелись даже в малочисленной фракции Партии демократических реформ в Первой Думе. 30 мая 1906 года лидер группы М. М. Ковалевский, общаясь с октябристом П. А. Гейденом, отметил серьезные противоречия между партиями. В Партии демократических реформ отстаивали принцип национализации земли, в «Союзе 17 октября» – неприкосновенность частной собственности. По мнению Гейдена, этот вопрос требовал учета региональной специфики. Ковалевский рассмеялся: он сам, выходец с Украины, был за частную собственность. «Вот тебе и программа его партии, состоящей пока из 5–6 лиц, и он, глава ее, с нею расходится», – писал жене Гейден.
Схожая ситуация имела место у прогрессистов. Депутат С. П. Мансырев писал: «У них не было ни дисциплины, ни пропаганды, ни каких бы то ни было местных организаций, с которыми существовала бы связь и на которые можно было бы опереться. Это была простая группа случайно сошедшихся в общем настроении милых обывателей-интеллигентов, которые между завтраком и обедом, благодушно кейфуя с хорошей сигарой, не прочь говорить об умных вещах, пофрондировать, а иногда и заняться случайно подвернувшимся делом, причем выполнять его весьма недурно. О незабвенный русский интеллигент, доктор Астров, сын Обломова, внук Рудина…» Близкую оценку дал лидер прогрессистов И. Н. Ефремов. Впоследствии, уже в эмиграции, он отмечал: «Не опираясь на партийную организацию и программу, не связанные партийной дисциплиной мы, прогрессисты, были, в сущности, свободны в наших индивидуальных думских выступлениях и голосованиях».
Особое положение занимала независимая группа М. А. Караулова в Четвертой Думе. В кулуарах ее именовали «дикой». Как-то Караулов предложил депутату С. П. Мансыреву присоединиться к «независимым». Мансырев отнесся к этому предложению серьезно и даже ознакомился с программой объединения. Буквально сразу, в первых строках, он обнаружил противоречия. «Ну так что же, – невозмутимо ответил М. А. Караулов, – это мы сейчас исправим; как вы хотите это изложить?» «Да позвольте, – поразился Мансырев, – ведь программа же утверждена партией, как вы будете ее единолично изменять?» «Вот еще, стоит стесняться», – парировал Караулов. На том переговоры завершились[6].
Кому-то могло показаться, что кадеты таких проблем не знали. В действительности это было не так. Противоречия во фракции возникли уже в начале работы Первой Думы. Даже С. А. Муромцев выражал недовольство партийной программой, которая, по его мнению, была лишь «боевым оружием», служившим исключительно агитационным целям. Во Второй Думе разногласия дали о себе знать в первые минуты ее работы. После вступительной речи товарища председателя Государственного совета И. Я. Голубева один из правых депутатов крикнул: «За государя императора – ура»! Этот возглас подхватили с правых скамей. Кадеты П. Б. Струве и С. Н. Булгаков встали, чтобы кричать вместе с залом, но остальные конституционные демократы молча сидели на своих местах. Струве и Булгаков опешили и сели на место.
Многие члены фракции с трудом переносили друг друга. 20 мая 1907 года Булгаков писал своей знакомой А. С. Соборовой: «Знаешь, вот уже три дня прошло после посещения мною Думы, а я никак не могу освободиться от чувства омерзения, возбужденного гг. [И. В.] Гессеном, [В. А.] Маклаковым и [Н. В.] Тесленко. Ох, какая это… Особенно же первые двое. Вообще депутаты от столиц – товар подмоченный и с душком. А Гессен – лучше уж не вспоминать». Многие депутаты-кадеты признавались, что не вполне сочувствуют программным установкам партии. Например, отец Г. С. Петров про себя говорил: «Я, собственно, анархист. Но к анархизму нужно идти через социализм, так как однако в настоящее время все практические требования неосуществимы, то я поддерживаю кадетов». Разногласия возникали по ключевым вопросам. Так, большинство фракции выступало против столыпинского аграрного законодательства. Однако входившие в нее крестьяне, похоже, сами были не против выйти из общины.
В Третьей Думе кадетов стало меньше, а разногласий во фракции, пожалуй, больше. Ситуация отягощалась недисциплинированностью депутатского корпуса. Редко случалось, чтобы на фракционное совещание являлось 20 народных избранников. Чаще всего приходило 7–8 человек. Многие лидеры партии обвиняли в этом Милюкова, не справлявшегося с обязанностями лидера. 2 декабря 1908 года князь Павел Д. Долгоруков объяснял А. А. Кизеветтеру, что Милюков «не ум[еет] сплотить фракц[ию] и не скрыв[ает] св[оего] к ней отношения свысока». Схожим образом его оценивали и близкие люди. В апреле 1909 года А. И. Шингарев так писал о Милюкове: «Полное влияние, фракция – в его руках. Да, он молодец, выручает, когда надо что-нибудь решить, скомбинировать. Но это только теперь, пока наша деятельность ограничивается критическими речами, когда нет практической деятельности».
Некоторые видные депутаты не пытались скрывать своих разногласий с партией. В марте 1908 года московский депутат В. А. Маклаков прямо говорил о своей неприязни к Милюкову. В феврале 1913 года, в период работы Четвертой Думы, Маклаков, в личной беседе заявил о желании покинуть ряды кадетов. Это было невозможно лишь по причине его обязательств перед московскими избирателями. Политическое кредо Маклакова сильно отличалось от кадетского: «Да, я кадет… но я не признаю двух пунктов кадетской программы – прямых выборов и ответственного министерства». Но так было не только с Маклаковым. Правые кадеты (Маклаков, Струве, Челноков и др.), хоть и были в меньшинстве, пользовались заметным влиянием. Партийцы регулярно предсказывали свой раскол, который, правда, так и не случился.
Но если у кадетов за спиной была партийная организация, у трудовиков такой организации не было. Группу составляли в значительной мере беспартийные социалисты, непривычные к организационному единству и партийной дисциплине. Объединение возникло практически случайно. Незадолго до начала работы Первой Думы его будущие лидеры – А. Ф. Аладьин, С. В. Аникин, И. В. Жилкин – оказались в одном вагоне поезда, где и набросали, что называется, под стук колес программу и план организации.
Как писал впоследствии кадет А. А. Токарский, эта фракция была чрезвычайно разнородной по своему составу: «Тут мирно уживаются большевики и меньшевики, социал-демократы, эсеры, более или менее партийные крестьяне, ерогинцы и совсем беспартийные, которые сами говорят, что нельзя нам уйти – группа названа „крестьянской“. Есть и такие, как саратовский Як[ов] Дитц, заявивший в газетах, что он левее Трудовой группы, хотя и записался в нее». Н. А. Бородин, исследуя депутатские анкеты, поданные трудовиками, выделил десять направлений, уживавшихся в одной группе: эсеры, социал-демократы, члены Крестьянского союза, внепартийные социалисты, радикалы, «свободомыслящие», «левее кадетов», «ближе к кадетам», автономисты, беспартийные и «прочие». Иными словами, это был конгломерат самых различных сил. Серьезные разногласия имели место и среди руководителей фракции. Ее большинство (приблизительно 60 из 100 депутатов) составляли крестьяне, обычно далекие от партийной ангажированности. В. В. Водовозов, один из инициаторов создания группы, описывал их так: «…И вот собралась крестьянская депутатская масса. В общем она была довольно серая… Было два совершенно безграмотных в буквальном смысле слова. Много было полуграмотных, и сравнительно немного было людей, писавших без грамматических ошибок. Политическое развитие сводилось к пониманию того, что мужику живется скверно, что мужику нужна земля и воля, что с настоящим правительством сварить кашу нельзя и что кадеты точно так же непригодны для разрешения аграрного и других вопросов. Это чувствовалось инстинктивно всей массой наших депутатов…»
Лидеры объединения пытались навести порядок среди депутатов-крестьян. Но, как это часто случалось, это привело к обратному эффекту. Крестьяне испугались своих суровых предводителей и потянулись в другие депутатские группы, например к октябристам, а именно к П. А. Гейдену. Оставалось лишь удивляться, почему их так качнуло вправо. «А потому, – объясняли крестьяне, – что свободу народную (то есть кадетов. – К. С.) ругают все газеты, а у нас в группе (трудовиков. – К. С.) говорили: „Уж лучше Гейден, чем Партия народной свободы, где одни жулики“. Ну, а Гейден – славный старичок…»
Крестьяне не поддавались «перевоспитанию». Они посещали заседания Думы лишь тогда, когда обсуждался аграрный вопрос, остальное их мало волновало. При этом их не устраивала чрезмерная резкость выступлений фракционных лидеров.
Во Второй Думе ситуация повторилась. Сначала ничто не смущало членов фракции, никто от них ничего не требовал, они голосовали как хотели и даже свободно посещали собрания других фракций. Однако такое положение не казалось лидерам группы естественным, а попытки восстановить порядок вызвали ропот среди крестьян. Как писала жена И. И. Петрункевича: «На самом-то деле вне Думы они не сочувствуют теориям левых и стоят за Думу и ее законодательную деятельность, но в Думе они беспрекословно, как бессмысленное стадо, подчиняются всем велениям своих деспотов, часто даже не понимая их и не зная, конечно, всех их последствий». Крестьяне-трудовики признавались П. Б. Струве, что их более устраивал кадетский законопроект аграрной реформы. Возникал вопрос: зачем они поддерживали инициативу трудовой группы? «Надо все-таки, чтобы свой [законопроект] был».
В мае 1907 года из группы вышли 19 украинских крестьян, сформировавших собственное объединение. В самом конце мая, незадолго до роспуска Думы, более 30 крестьян-трудовиков обратились к Челнокову с просьбой посодействовать их присоединению к кадетам.
После издания Положения о выборах от 3 июня 1907 года трудовиков в Думе стало существенно меньше. Тем не менее старые проблемы остались. По словам одного из членов группы, «особое затруднение нашей фракции заключается в том, что мы до выборов в Думу не были людьми одной партии и потому у нас нет общих положений, принципов, подразумевающихся само собой, с точки зрения которых мы оценивали подлежащие нашему рассмотрению вопросы».
Неудовлетворенность собой была характерна и для социал-демократов. 18 марта 1907 года один из членов социал-демократической фракции писал: «Работа фракции идет из рук вон плохо: депутаты нигде не показываются, сидят у себя на квартирах и обсуждают – осуждают тактику Думы. Это, конечно, не способствует жизни организации». Примерно тогда же депутат И. П. Марев отмечал несомненную анархию в объединении. С этим соглашались и в ЦК партии. Большевик Г. А. Алексинский обвинял фракцию в «духе оппортунизма». Самого же Алексинского думские социал-демократы считали демагогом. 11 мая 1907 года депутат И. Р. Романов так охарактеризовал положение в депутатском объединении: «Наша фракция… сама по себе влачит жалкое существование: чуть ли не половина членов отсутствует, в том числе и лучшие силы… Делами заправляют личности бесцветные, и деятельность получается такая же бесцветная». Даже самые активные думские социал-демократы не были вполне готовы к рутинной работе. Один из лидеров фракции так определял свои приоритеты: об общей политической ситуации он мог выступать более часа, о партийной программе – 20 минут, а о бюджете, правительственных законопроектах и т. д. – ни одной секунды.
Социал-демократам оставалось утешаться тем, что группа эсеров во Второй Думе представляла еще более печальное зрелище. Она демонстрировала полную недееспособность, а составлявшие ее крестьяне солидаризировались с правым крылом Думы. Об отсутствии у них фракции говорил и идеолог эсеров В. М. Чернов.
Практически все фракции трещали по швам. Мечтать о межфракционных блоках при таких обстоятельствах было бы наивным. Социал-демократы с подозрением относились к трудовикам, конкурировали с эсерами, с которыми даже не могли поделить крайне левые скамьи в зале общих собраний Думы. Кадеты же не вызывали симпатий у соседей ни справа, ни слева. К диалогу с ними не были готовы и октябристы, которых, в свою очередь, тоже недолюбливали в Думе. Фракции не стремились к сотрудничеству с депутатами даже близких политических убеждений. Так, в Четвертой Думе правые полагали националистов чересчур «левыми» и отказывались голосовать за них. Националисты, в свою очередь, считали правых «изуверами и дурачьем».
Партии сложились в России в период Первой русской революции, что будет давать о себе знать все последующие думские десять лет. В условиях всеобщей конфронтации мало кто задумывался о политическом и социальном мире. Партии создавались как инструменты беспощадной борьбы с оппонентами во имя утверждения одного единственно возможного идеала. Как только революционная волна схлынула, партии утратили свой общественный вес. Осталась лишь «верхушка айсберга» в виде центральных комитетов и думских фракций, а вместе с ними – всеобщая неготовность к диалогу по принципиальным вопросам. Такие партии плохо вписались в новые реалии 1907–1914 годов и не могли контролировать даже свои депутатские объединения. Многим из них оставалось лишь рассчитывать на новую бурю, которая вернет их к жизни.
«Дума народных надежд»
Открытие Первой Думы весной 1906 года, как уже отмечалось, вызвало возбуждение в обществе. От депутатов ждали скорых преобразований во всех сферах жизни, и народные избранники пытались соответствовать этим настроениям. Их не смущало, что полномочия Думы были ограничены. Депутаты подготовили законопроекты, которые должны были гарантировать права человека. Особое их внимание привлекал земельный вопрос. Депутаты разработали несколько проектов, предполагавших различные пути его решения. Наиболее обстоятельный был подготовлен кадетами – в соответствии с их программой. Наконец, депутаты верили, что благодаря их деятельности изменится и государственный строй России, который все более будет напоминать английский. Они полагали, что правительство будет вынуждено идти на уступки под давлением негодующего общества. Однако не все министры были с этим согласны. С апреля 1906 года во главе правительства стоял И. Л. Горемыкин, сменивший в этой должности С. Ю. Витте. Он был против значительных уступок Думе. Об этом премьер-министр заявил непосредственно депутатам, выступая перед ними 13 мая 1906 года. Народные избранники обрушили на него шквал критики и обвинений. Они не были готовы работать с действовавшим составом правительства, требовали формирования кабинета, ответственного перед Думой.
С ними соглашались некоторые министры и сановники из ближайшего окружения императора. Они вели переговоры с П. Н. Милюковым и С. А. Муромцевым о формировании кадетского правительства. Члены конституционно-демократической партии, предчувствуя скорую победу, занимали бескомпромиссную позицию, неготовые идти на уступки власти. Отчасти по этой причине кадеты упустили свой шанс стать правящей партией. К тому же твердость проявил и И. Л. Горемыкин.
8 июля 1906 года по его инициативе Первая Дума была распущена. Она просуществовала всего 72 дня. Депутаты готовились к роспуску, но он им представлялся так: «В Думе заседание. Сидят все на местах. Вдруг являются солдаты со штыками. Офицер предлагает „очистить зал“. Но никто не трогается с места. Все сидят спокойно и гордо на своих местах, а председатель твердо говорит: „Вы, господин офицер, знаете, что вы нарушили святость этого места. Вы совершаете преступление… и т. д. и т. д.“ Потом всех удаляют силой, некоторые ранены…» Но все оказалось намного прозаичнее.
Думские кулуары
По воспоминаниям члена ЦК партии кадетов А. В. Тырковой-Вильямс, «название кулуаров не подходит к великолепной Потемкинской бальной зале (Таврического дворца. – К. С.), которая была отведена для публики… Длинный и широкий покой, в котором при матушке Екатерине танцевали тысячи пар, поражал стильностью, красотой и размерами. Через высокие, от потолка до полу, окна можно было прямо выходить в сад… Под потолком сверкали старинные хрустальные люстры. А под ними, на блестящем, узорном паркете кружилась, суетилась, шумно волновалась пестрая, совсем не бальная толпа». Многое решалось именно там: кулуары, с ходоками, манифестациями, пламенными выступлениями и многочисленными журналистами предрешили судьбу Первой Думы, внушив ей уверенность в собственных силах.
Думские кулуары. Потемкинская зала
В дальнейшем правительство рассчитывало контролировать, кто и что будет говорить о работе представительных учреждений. С 1907 года чиновники пытались устанавливать собственные правила общения народных избранников с представителями прессы. Так, во Второй Думе сотрудники охраны Таврического дворца однажды запретили депутату П. Б. Струве давать интервью. С начала работы Третьей Думы большинство журналистов не допускались в нижние ложи, соприкасавшиеся с помещениями, отведенными для депутатов. С. Е. Крыжановский объяснял это тем, что под видом сотрудников газет в зал общего собрания проникали «неблагонадежные элементы». Исключения делались лишь для представителей крупнейших изданий. При этом журналисты работали в Думе только во время ее общих заседаний. О деятельности комиссий можно было узнать от их секретарей в особо отведенном для этого помещении.
Несмотря на все трудности, руководство Думы стремилось поддерживать тесные контакты с «газетным миром». Иногда думцам и «газетчикам» не удавалось договариваться. Тогда возмущенные депутаты ставили вопрос об ограничении доступа журналистов в Таврический дворец. «Газетчики» же стояли на страже своих корпоративных интересов. Для этой цели и существовало Общество думских журналистов, которое защищало своих сочленов вне зависимости от политического направления издания, которое они представляли. Работа корреспондентов высоко ценилась редакциями газет. Наиболее популярный из них – А. А. Пиленко – в 1910 году получал по 150 рублей в день (жалованье депутатов было 350 рублей в месяц).
Первый председатель
Сергей Андреевич Муромцев готовился к государственной деятельности с детства. Еще тогда он написал конституцию для родной деревни. Уже за несколько месяцев до созыва Первой Думы он не сомневался, что будет избран ее председателем. В январе 1906 года Муромцев начал составлять Наказ (регламент работы) Думы, а некоторое время спустя задумался, как должен одеваться председатель. Кандидатура Муромцева споров не вызвала. Профессор римского права пользовался безусловным авторитетом и среди крестьянских депутатов. Один из них так говорил про Муромцева: «Он председательствует как обедню служит». В председательском кресле он даже выглядел иначе. По словам депутата из фракции кадетов князя В. А. Оболенского, «нигде, ни при каких условиях он не забывал своего высокого положения. Выработал себе манеры, жесты такие, какие, согласно его артистической интуиции, должна была иметь его председательская особа. Мне казалось, что он даже ел и спал не так, как все, а „по-председательски“. И, несмотря на то, что во всем этом искусственно созданном им облике было много наигранного и напускного, всем казалось, что такой он и есть – торжественный, величавый и властный. Члены Думы не только уважали его, но и боялись». Муромцев был требовательным председателем. Он никого не пускал к себе на трибуну, запрещал депутатам читать выступления по бумаге. Беседуя с чиновниками думской канцелярии, Муромцев, как будто не замечая подошедших к нему высокопоставленных чиновников, спокойно договаривал то, что планировал сказать.
Для Муромцева это была не игра, а выработка парламентской процедуры, когда каждый прецедент может иметь значение. Как впоследствии писал П. Н. Милюков, «своей не только главной, но исключительной задачей на председательской трибуне Сергей Андреевич считал творчество обычного парламентского права, которое явилось бы непроницаемой броней парламентской свободы».
Муромцев трепетно относился к своим обязанностям, порой удивляя собственных коллег. Вечером 27 апреля 1906 года, в день открытия Думы, кадетское руководство – 10–15 человек – собралось на квартире М. М. Винавера, чтобы определиться с планами на будущее. Все они отдохнули дома, пообедали, сменили фраки и сюртуки на летние костюмы – день был на удивление жарким. Делать ничего не хотелось, и за работу они сели лишь в 10 вечера. Неожиданно для всех, прямо из канцелярии Думы, явился Муромцев, во фраке с белым галстуком. «Только накормите ради Бога, – умолял он, – с утра ничего не ел». В этом ритме председатель жил последовавшие 72 дня. В 10 утра он начинал работу в Думе, в 3 часа ночи возвращался домой, заслужив безусловный авторитет даже за пределами Таврического дворца. Спустя некоторое время после подписания депутатами (в том числе Муромцевым) Выборгского воззвания костромские крестьяне утверждали: «Муромцева не посмеют посадить в тюрьму».
Первые депутаты
Первая Дума была очень пестрой. Ее населяли яркие, не похожие друг на друга персонажи. Среди них – ученые с мировым именем: например, Л. И. Петражицкий и М. М. Ковалевский. Были и неграмотные крестьяне. И тех и других объединяло одно: у них не было опыта законотворчества. Зачастую они оказывались наивными политиками. Публика могла об этом только догадываться. Бросалось же в глаза внешнее несходство депутатов с тем, как они должны были выглядеть. Так, по сведениям товарища министра внутренних дел С. Е. Крыжановского, многие думские крестьяне, отсылая свои суточные (10 рублей) в родную губернию, были вынуждены искать дополнительный заработок, устраивались работать швейцарами, дворниками, открывали мелкую торговлю или курятню. Нередко они проводили ходоков в зал общего собрания Таврического дворца, и те по-хозяйски рассаживались в депутатских креслах. Приставам стоило немалых трудов выдворять непрошеных гостей. Двух депутатов-перводумцев задержали у Таврического дворца за торговлю входными билетами в Думу. В Министерстве внутренних дел располагали сведениями о том, что некоторые депутаты в прошлом имели судимости за мелкую кражу и мошенничество. И таких было немало – около 40 человек, 8 % депутатского корпуса. Спустя много лет Крыжановский вспоминал: «Члены Думы – крестьяне пьянствовали по трактирам и скандалили, ссылаясь при попытках унять их на свою неприкосновенность. Полиция первое время была в большом смущении, не зная, что можно и чего нельзя в подобных случаях делать. В одном таком случае сомнения разрешила баба, хозяйка трактира, которая в ответ на ссылку пьяного депутата на его неприкосновенность нахлестала его по роже, приговаривая: „Для меня ты, с…, вполне прикосновенен“, – и выкинула за дверь… Большие демонстрации устроены были на похоронах члена Думы… скончавшегося в белой горячке от пьянства; в надгробных речах он именовался „борцом, павшим на славном посту“».
Конечно, мемуары – не вполне надежный источник. К воспоминаниям Крыжановского это замечание относится в полной мере. Бывший товарищ министра внутренних дел, впоследствии государственный секретарь, не был добродушным наблюдателем. К депутатам Первой Думы он относился без всякой симпатии. Впрочем, и объективные показатели красноречиво свидетельствовали о недостатках депутатского корпуса первого созыва. В Первой Думе у 42 % депутатов было высшее образование, у 13 % – среднее, а 45 % не имели ни того ни другого. Отдельные депутаты откровенно признавались, что не умеют читать и писать. Спустя шесть лет ситуация существенно изменилась. В Четвертой Думе у 50,5 % депутатов было высшее образование, у 26,8 % – среднее, 0,2 % депутатского корпуса относились к числу «малограмотных» (в Первой Думе таких было 4 %). В Первой Думе у 15,9 % народных избранников было юридическое образование, в Четвертой Думе – у 20,9 %.
В совете министров
В работе правительства под председательством И. Л. Горемыкина порядка было немного. Заседания проводились не за столом, министры сидели в разных концах комнаты. В итоге совещания скорее напоминали салонные беседы, на которые руководители ведомств регулярно опаздывали. Наименее дисциплинированным был министр иностранных дел А. П. Извольский, который к тому же все время садился на стул лицом к спинке. По словам товарища министра внутренних дел В. И. Гурко, Горемыкин «председательствовал… вяло, но одновременно с таким видом, что, дескать, болтайте, а я поступлю по-своему». Корреспондент кадетской газеты «Речь» Л. М. Клячко вспоминал, что «в заседаниях Совета министров он (Горемыкин. – К. С.) никогда не спорил, никогда не возражал, не вносил никаких предложений. Он сидел в застывшей позе. Если он иногда вставлял несколько слов, то это отмечалось как исключительное явление. Единственно за чем он следил, это за тем, чтобы не нарушились прерогативы монархии». Горемыкин запомнился постоянно дремавшим, флегматичным человеком. В Думе его не могли разбудить шумные, всем недовольные депутаты: «Он даже не делал попытки бороться с одолевавшим его старческим сном. Лишь только садился в свое кресло, голова его опускалась, бакенбарды ложились на лацканы сюртука, и он крепко засыпал, просыпаясь лишь от подымавшегося порой шума. Тогда он медленно поднимал голову, обводил сонными глазами депутатские скамьи и снова засыпал». Этот образ в значительной мере обманчив. У Горемыкина был свой взгляд на многие вопросы, а также воля сделать по-своему, что в полной мере проявилось в те дни, когда решалась судьба Первой Думы.
Характер заседаний правительства при П. А. Столыпине (1906–1911) был совсем другим: более деловым, нацеленным на решение важнейших политических вопросов. П. П. Менделеев, бывший начальником канцелярии Совета министров в 1905–1909 годах, вспоминал о годах столыпинского председательствования: «Заседания Совета происходили довольно часто. Почти всегда вечером. Начинались в часов 10. Обыкновенно Совет обсуждал сперва вопросы общей политики в отсутствие канцелярии и представителей ведомств. Даже и товарищи министров часто не допускались на эти совещания. Иногда они затягивались на несколько часов и нас приглашали в зал заседаний далеко за полночь. Бывали же случаи, правда редкие, когда наши дела откладывались до следующего вечера, и мы разъезжались по домам, понапрасну потеряв несколько часов». Иногда случалось наоборот: вопросы общеполитического характера разрешались после заседания Совета, и в их обсуждении принимали участие лишь некоторые главы ведомств. Обычно такие беседы не протоколировались. Как правило, это происходило после 12 ночи и нередко продолжалось до 2–3 часов утра. Это было весьма утомительно, и в сентябре 1909 года было принято решение передавать вопросы технического порядка в ведение так называемого Малого Совета министров, состоявшего из товарищей министров и заседавшего под председательством министра финансов В. Н. Коковцова.
Объединенное правительство имело свои отличительные черты в период премьерства Витте, Горемыкина, Столыпина. Тем не менее эти кабинеты имели и нечто общее: они должны были играть особую политическую роль, что было немыслимо до 1905 года.
В октябре 1905 года С. Ю. Витте получил carte blanche на формирование правительства. С санкции императора он вел переговоры с общественными деятелями, предлагая им министерские портфели. Витте поддерживал контакты с Бюро земских съездов, членами только что образовавшейся партии кадетов, лично беседовал со всеми будущими министрами, рассматривая несколько кандидатов на тот или иной пост.
Во многих случаях кадровая политика Витте оказалась неудачной. Согласно воспоминаниям Гурко, министр внутренних дел П. Н. Дурново и министр юстиции М. Г. Акимов вовсе не считались с мнением Витте и решениями Совета министров. Причем если Акимов приходил на заседания кабинета и отстаивал свою точку зрения, Дурново их обычно даже не посещал: министр внутренних дел не скрывал своего критического отношения к большинству предприятий непосредственного начальника. Витте и Дурново постоянно и открыто конфликтовали. Витте приходилось даже письменно напоминать своему подчиненному о существовании объединенного правительства. В итоге заседания Совета министров зачастую принимали скандальный характер. Премьер буквально кричал на руководителей ведомств (прежде всего на Дурново и обер-прокурора Святейшего синода князя А. Д. Оболенского): «Так могут думать только идиоты», «это черт знает на что похоже», «я попрошу Вас молчать и слушать, когда я говорю».
Однако всех министров сплачивало общее дело. Правительство, претендовавшее на то, чтобы называться объединенным, готовилось к встрече с Первой Думой, разрабатывая целый пакет законопроектов. Сам Витте прилагал к этому немалые усилия. «Он хотел явиться в Думу не с пустыми руками, а с готовой программой широких преобразований во всех областях народной жизни. Подготовкой соответствующих законопроектов усиленно заняты были все ведомства. Некоторые из законопроектов обсуждались и в Совете министров. Для составления списка всех законопроектов, подлежащих внесению в Думу ко времени начала ее работ, образована была особая комиссия из представителей отдельных ведомств… Список вышел весьма внушительный». Эта работа была напрасной. Кабинету Витте не суждено было встречать Думу (в апреле 1906 года Витте подал прошение об отставке, и она была принята), а новому правительству нечем было «порадовать» депутатов.
В короткий период премьерства Горемыкина (22 апреля – 8 июля 1906) объединенное правительство существовало лишь номинально. А. П. Извольский дал чрезвычайно низкую оценку кабинету, в который входил и сам: «Кабинет Горемыкина – сходбище ничтожных людей, которые ожидают событий, но не в состоянии ни их предвидеть, ни их направлять». Впрочем, и Горемыкин весьма критично относился к собственному правительству. В частности, он жаловался императору на разногласия среди министров, которые выносили на суд царя даже второстепенные вопросы.
В период премьерства Столыпина (8 июля 1906 – 5 сентября 1911) положение правительства кардинально изменилось. По словам министра торговли и промышленности С. И. Тимашева, «кабинет П. А. Столыпина был действительно объединенным правительством, чего нам так недоставало как до, так и после него. Не согласные с ним министры уходили в отставку, а если они задерживались и начинали подпольную интригу, то в один прекрасный день находили у себя на столе указ об увольнении, как было с государственным контролером Шванебахом. Для проведения в Совете министров задуманной меры нужно было вперед заручиться поддержкой Петра Аркадьевича, и тогда успех был обеспечен».
Столыпин принимал самое деятельное участие в формировании правительства, добивался удаления из него нежелательных лиц. Так, в июле 1906 года он настоял на увольнении главноуправляющего землеустройством и земледелием А. С. Стишинского и обер-прокурора А. А. Ширинского-Шихматова, которые не принимали программу действий нового кабинета. В большинстве случаев премьер сам вел переговоры с будущими главами ведомств, предлагал их кандидатуры императору. Целенаправленная кадровая политика приносила свои плоды. 22 апреля 1909 года, после неутверждения Николаем II штатов Морского Генерального штаба (и, соответственно, после того как стали очевидны разногласия между царем и премьер-министром), весь состав правительства в знак солидарности со Столыпиным был готов подать в отставку (что, правда, не потребовалось).
Подобно кабинету Витте, столыпинское правительство обстоятельно готовилось к встрече со Второй Думой, разрабатывая пакет законопроектов и выступив с собственной программой реформ. Крайне критично относившийся к Столыпину государственный контролер П. Х. Шванебах так охарактеризовал эту работу: «Пошла спешная, лихорадочная реформаторская деятельность. Столыпин начертал себе какой-то календарь междудумья, в котором, вроде расписания экзаменов, распланировал чуть ли не по дням всю реформаторскую работу правительства. Канцеляриям были заданы уроки с таким расчетом, чтобы ко времени созыва Думы подоспел букет готовых реформ по всем отраслям управления».
Цитата из воспоминаний Шванебаха свидетельствует о том, что отношения в правительстве Столыпина были далеки от гармонии. Отнюдь не все министры назначались с учетом мнения премьера, а иногда это происходило вопреки его воле. В феврале 1909 года в Министерстве путей сообщения ходили небезосновательные слухи о том, что новый глава ведомства С. В. Рухлов назначен исключительно под давлением придворных сфер, сочувствовавших Союзу русского народа. Примерно тогда же, 5 февраля 1909 года, обер-прокурором Святейшего синода стал С. М. Лукьянов. Это произошло по инициативе его предшественника П. П. Извольского и без санкции премьер-министра. В 1911 году новым обер-прокурором был назначен В. К. Саблер – кандидатура, совершенно неприемлемая для Столыпина. Даже товарищ (заместитель) министра внутренних дел мог быть возведен в должность без одобрения его прямого начальства. В итоге Столыпину приходилось терпеть в качестве своего заместителя нелюбимого им П. Г. Курлова, который интриговал против премьера.
В таком правительстве не могло быть безусловной солидарности. В 1906–1907 годах государственный контролер П. Х. Шванебах открыто противостоял Столыпину. Особое положение в правительстве занимал министр финансов В. Н. Коковцов. Отчасти это объяснялось статусом «хранителя государственной казны», отчасти – характером Коковцова и заседаний Совета министров. Это были товарищеские беседы, происходившие на даче Столыпина или в Зимнем дворце, где жил премьер-министр. Председательствующий давал высказаться всем желающим, чем обычно злоупотреблял словоохотливый Коковцов. Большую часть заседаний занимали его бесконечные выступления. Они были умно составлены и не лишены изящества, однако поздний час (порой это происходило в три часа ночи) делал их нестерпимыми. Многих коробило и содержание выступлений. Согласно воспоминаниям Тимашева, «постоянное стремление Коковцова урезывать кредиты озабочивало и раздражало Петра Аркадьевича. Он прислушивался к сетованиям других министров на невозможность развивать деятельность при систематических возражениях финансового ведомства, и чувствовалось, что замена Коковцова другим, менее упорным министром, соответствовала бы его видам». И все же Коковцов не утрачивал влияния при решении сметных вопросов. Так, он регулярно добивался сокращения средств на содержание армии. В этом он находил поддержку прочих министров, рассчитывавших на увеличение сметы собственного ведомства. Но их надежды далеко не всегда оправдывались, не случайно Коковцов находился в натянутых отношениях едва ли не со всеми своими коллегами.
В столыпинском кабинете формировались коалиции министров, которые пытались совместно защищать интересы своих ведомств на заседаниях правительства. В сентябре 1909 года министр народного просвещения А. Н. Шварц отмечал «ясно выраженный, хотя по мне противоестественный» союз Коковцова с обер-прокурором Святейшего синода С. М. Лукьяновым. В мае 1908 года помощник военного министра А. А. Поливанов и товарищ морского министра И. Ф. Бострем заявили П. А. Столыпину об опасности формировании «блока» Коковцова, в который входили главноуправляющий землеустройством и земледелием А. В. Кривошеин и министр торговли и промышленности И. П. Шипов. В действительности эти опасения не оправдались: Коковцов находился в конфронтации как с Кривошеиным, так и с Шиповым. В то же время Кривошеин, Рухлов и государственный контролер П. А. Харитонов согласовывали свои действия, образуя своего рода неформальное объединение в правительстве.
В период премьерства Коковцова (9 сентября 1911 – 30 января 1914) проблемы лишь усугубились. Новое правительство охарактеризовал еще сам Столыпин в марте 1911 года, когда вопрос о его отставке казался решенным. Раздумывая о ближайших перспективах, Столыпин замечал: «Теперь два выхода: или реакционный кабинет, или бюрократический под знаменем продолжения прежней политики. По-видимому, избирается второй путь и будет назначен Коковцов».
Влияние Коковцова на министерские назначения было несопоставимым с тем, каким пользовался Столыпин. По сведениям Шварца, в 1912 году Н. А. Маклаков был назначен министром внутренних дел по предложению придворных дам, и прежде всего Е. А. Нарышкиной. В. А. Маклаков так характеризовал брата и обстоятельства его назначения: «Это обыкновенный карьерист, выдвинувшийся благодаря стоящим у трона старушкам, их прислужникам – гр. Игнатьевой, Мещерского и т. д.». Сам Коковцов полагал, что Маклаков был назначен с подачи влиятельного издателя газеты «Гражданин» князя В. П. Мещерского. При этом премьер не скрывал своего невысокого мнения о ближайшем сотруднике. «Ну блеска-то там что-то незаметно», – говорил Коковцов члену фракции кадетов М. В. Челнокову в январе 1913 года.
Коковцов чрезвычайно низко оценивал личные и деловые качества военного министра В. А. Сухомлинова: «Ведь это гусарский корнет, а в смысле военном легкомысленный человек». Сухомлинов отвечал ему взаимностью. Уезжая в отпуск, он наставлял своего помощника: «Чтобы вам ни предлагал Коковцов, не принимайте его предложения. Делайте наоборот». Осенью 1911 года председатель Совета министров безуспешно пытался убедить царя отставить Сухомлинова, которого уже тогда безосновательно подозревали в связях с австрийской разведкой. Премьер критически отзывался и о министре народного просвещения Л. А. Кассо, однако ничего с ним поделать не мог. «Положение министра народного просвещения крайне неблагоприятно, – писал Коковцов в ноябре 1911 года, – его критикуют и слева, и справа, и он дает, по правде сказать, много поводов для критики отсутствием знакомства со своим предметом. В большинстве случаев он упорно молчит, предоставляя другим разъяснять его же дела, и, таким образом, создается положение прямо-таки соблазнительное. Замена его другим лицом напрашивается, так сказать, сама собой, но произвести ее вовсе не так легко». По мнению Коковцова, сила Кассо – в поддержке «охранительной» печати. Статьи же правомонархистов в защиту его политики – серьезный аргумент для императора в пользу министра народного просвещения.
В апреле 1912 года Коковцов был категорически против отставки помощника военного министра А. А. Поливанова. Однако его мнение было проигнорировано. В декабре 1912 года А. А. Макаров был уволен с должности министра внутренних дел без предварительных консультаций с Коковцовым.
В правительстве премьер также не пользовался поддержкой. 16 января 1912 года в кулуарах Государственного совета Кривошеин сообщил одному из лидеров Правой группы Д. И. Пихно: «Коковцов думает одно, говорит другое, делает третье. В Совете министров ему никто не верит, а он надеется всех провести». Согласно сведениям товарища обер-прокурора Святейшего синода В. П. Носовича, к началу 1912 года в правительстве существовали два центра влияния: сам Коковцов и министр юстиции И. Г. Щегловитов. Опытные бюрократы были склонны поддерживать Коковцова, Щегловитов же рассчитывал на поддержку императора. 11 марта 1912 года петербургский прокурор Ф. Зингер писал своему одесскому коллеге А. В. Харитоновскому: «У нашего министра (И. Г. Щегловитова. – К. С.) продолжает идти борьба не на живот, а на смерть с Коковцовым, и при теперешних обстоятельствах трудно что-либо с уверенностью предсказать». По сведениям Ф. И. Гучкова на декабрь 1912 года, Коковцов по многим вопросам в Совете министров оставался в одиночестве. В значительной мере независимую позицию в правительстве занимал и министр путей сообщения С. В. Рухлов, на что премьер жаловался императору в марте 1912 года. Впоследствии Коковцов признавал, что многие члены правительства (Л. А. Кассо, А. А. Макаров, Н. А. Маклаков, В. К. Саблер, И. Г. Щегловитов) почти открыто ему оппонировали. К ним чаще всего примыкал военный министр В. А. Сухомлинов. Министр путей сообщения С. В. Рухлов предпочитал молчать, занимая выжидательную позицию. Обычно же поддерживали премьера морской министр И. К. Григорович, А. В. Кривошеин и С. И. Тимашев.
В январе 1914 года, за полторы недели до отставки Коковцова, Горемыкин был приглашен в Царское Село. Сразу после этой аудиенции у императора начались регулярные консультации с Горемыкиным и Кривошеиным. Но правительственное единство не окрепло и в период второго премьерства Горемыкина (31 января 1914 – 20 января 1916). По прошествии восьми лет со дня роспуска Первой Думы «горемыкинский стиль» ведения заседаний Совета министров не изменился. Министр земледелия А. Н. Наумов вспоминал: «Горемыкин был скуп на слова. В Совете министров Иван Логгинович производил на меня впечатление человека, который готов внимательно слушать прения, но вместе с тем думает про себя свою собственную думушку. Думушкой этой он делился лишь с одним своим государем, настраивая Его Величество следовать его, Горемыкина, взглядам и советам». При этом, по словам Наумова, существенного влияния на назначения министров Горемыкин не оказывал. Бывший государственный секретарь барон Ю. А. Икскуль считал, что подлинные бразды правления оказались в руках Кривошеина. В Государственном совете были уверены, что Кривошеин должен был сменить Горемыкина, когда «почтенный старец окончательно рассыплется». Министр финансов П. Л. Барк даже называл Кривошеина «душой» Совета министров. В. Н. Коковцов считал его «серым кардиналом», который намеренно выдвинул кандидатуру Горемыкина в премьеры, зная, что при этом главе правительства именно Кривошеин будет вершить дела, не принимая на себя никакой политической ответственности. Думские лидеры, искавшие контактов с правительством, вели переговоры с Кривошеиным, а не с Горемыкиным.
Правительство, как и прежде, раздирали внутренние противоречия. Н. А. Маклаков не скрывал своего неприятия Кривошеина и в беседах с малознакомыми людьми подвергал его беспощадной критике. У морского министра И. К. Григоровича были весьма натянутые отношения с министром путей сообщения А. Ф. Треповым и министром торговли и промышленности князем В. Н. Шаховским. Многие ведомства (в том числе Министерство внутренних дел) зачастую игнорировали позицию Совета министров. Решения военного, морского ведомств, Министерства иностранных дел часто становились «сюрпризом» для их коллег.
Объединенное правительство в полном смысле этого слова не сложилось. Едва ли это было возможно при наличии такого центра принятия решений, как царь, на которого привыкли ориентироваться все сановники империи. Совет министров напоминал европейский кабинет, пока это дозволял государь император.
Выборгское воззвание
Историк не может позволить себе снисходительного отношения к своим героям, которые-де чего-то не поняли или не уяснили. Его преимущество перед ними заключается лишь в том, что он знает финал драмы, который неведом современнику событий. Представления о будущем у современника чаще всего впоследствии опровергаются жизнью. Однако именно исходя из этих пускай ошибочных представлений, человек выстраивает свою линию поведения. Его мотивы объясняются психологией момента, которую сложно восстановить исследователю спустя столетия, десятилетия и даже годы. Сделать же это необходимо, чтобы герои исторических исследований обрели плоть и кровь, а значит, свойственные им страсти и эмоции.
В этом отношении случай 1906 года чрезвычайно показателен. В обществе царило возбуждение, многим казалось, что настоящая революция только начинается и события 1905 года были лишь прелюдией. По аналогии с Францией 1789 года, Первая Дума должна была стать Генеральными Штатами, а следовательно, спустя некоторое время – Учредительным собранием. За ее вполне вероятным роспуском должен был последовать социальный взрыв, который не мог оставить Россию прежней. Так воспринимали ситуацию многие депутаты, 9 июля 1906 года узнав, что Первой Думы больше нет.
Е. Н. Тимирязева, член партии кадетов, последние два месяца работала в библиотеке Думы. По ее ощущениям, самое начало июля предвещало бурные события. Правда, ближе к выходным страсти вроде бы улеглись, и Тимирязева решила, что Думу не распустят. Ее не смогли разуверить депутаты Д. А. Скульский и В. А. Оболенский, зашедшие к ней 8 июля в библиотеку. Они считали, что было бы лучше, если бы Думу распустили, а депутатов арестовали, чем жить в состоянии «томительной напряженности». Что такое «томительная напряженность», Тимирязевой напомнила ее же горничная в 11 часов вечера того же дня. Феня утверждала, что на Каменноостровском проспекте «народ бунтует»: кричит «ура», бросает шапки, поет песни, а по улицам толпами ходят хулиганы. Тимирязева записала в дневнике: «Я сейчас же оделась, взяла с собой Феню и поехала в клуб (Партии народной свободы. – К. C.), чтобы узнать что-нибудь, предполагая что-то неладное, вообще, и, в частности, декрет о роспуске Думы. На вопрос швейцару, есть ли кто-нибудь в клубе и там ли сейчас М[илюков], я узнала, что народа еще порядочно много, а М[илюков] только что уехали. Мне показалось успокоительным признаком, что П[авел] Н[иколаевич] уехал, и я отправилась домой…»
Утром следующего дня Е. Н. Тимирязева по обыкновению отправилась на работу в Таврический дворец. Когда она уже сходила с конки, кондуктор вдруг сказал: «Вы не в Думу ли? Дума закрыта». Не поверив услышанному, она направилась к дверям Таврического дворца, «которые действительно оказались запертыми громадным висячим замком… Ворота от правой стороны также были заперты, на решетках и со стороны улицы толпились солдаты». Там же ей повстречались встревоженные и растерянные депутаты. Никто не знал, что предпринять и где собраться. Тимирязева решила отправиться на поиски Милюкова. В клубе его не оказалось. Она поехала к нему на квартиру. Там, спросив Милюкова, она получила грубый ответ швейцара: «Ушел». «Он один ушел?» – спросила Тимирязева, опасаясь, что партийного лидера арестовали. Швейцар вновь не проявил особой любезности: «Много у нас тут делов-то, когда мне смотреть, с кем он ушел. Ушли в 4 часа утра». Другой человек тут же, на подъезде, к которому я (Тимирязева. – К. С.) обратилась с убедительной просьбой сказать, один ли ушел П[авел] Н[иколаевич], сообщил мне, что он сам приготовил велосипед, на котором они уехали в 4 часа утра». Решив, что здесь она больше ничего не узнает, Тимирязева отправилась в партийный клуб. Там ее встретил Н. А. Бородин, уже бывший депутат Государственной думы, вопросом: «Ну что? Ничего не узнали?» Тимирязева рассказала то немногое, что узнала, и заодно поделилась своими сомнениями относительно поведения и ответов швейцара. И ей стало еще тревожнее, когда Бородин заметил, что, кажется, «Милюков на велосипеде не ездит».
Но Бородин был неправ. Тем утром Милюков действительно воспользовался своим велосипедом, на котором разъезжал по городу, сообщая членам Центрального комитета о случившемся: около четырех утра некоторые члены фракции Партии народной свободы, в том числе Милюков, получили известия по телефону из редакций газет об указе о роспуске Думы, печатаемом в «Правительственном вестнике». Необходимо было собрать ЦК партии – этим и занялся Милюков. Местом для такого собрания была назначена квартира одного из самых известных депутатов Думы И. И. Петрункевича. Первым (около восьми утра) туда явился сам Милюков. Именно тогда, во время разговора Милюкова и Петрункевича, определилась основная мысль будущего воззвания. Идею подал Петрункевич. Главный специалист по правовым вопросам в партии Ф. Ф. Кокошкин, не зная о плане Петрункевича, предложил свой. Оказалось, что проекты Петрункевича и Кокошкина были идентичны. Основная идея – пассивное сопротивление как способ борьбы народа за свои конституционные права. «Оно и понятно: мысль была не вполне нова, – объяснял кадет М. М. Винавер факт столь любопытного совпадения, – она носилась в воздухе с момента тревожных известий о роспуске на каникулы…» Сформулировать эту мысль на бумаге было поручено Милюкову. Его «изолировали» в находившейся по соседству квартире брата И. И. Петрункевича, Михаила Ильича, также депутата Думы. «Как сейчас помню, там, в пустой комнате, стоя у рояля, я набросал на пыльной крышке карандашом свой черновик», – писал П. Н. Милюков о создании первого варианта текста обращения депутатов к стране, которому впоследствии суждено было получить наименование Выборгского воззвания.
Всего на квартире Петрункевича собралось около двадцати человек. Как вспоминал А. А. Корнилов, бывший на тот момент секретарем ЦК партии, возражений по сути предложенного документа не было. Вносились лишь незначительные поправки, которые тут же записывал Милюков, и к двенадцати часам был готов исправленный текст с учетом этих замечаний. На том же собрании было решено обсудить предполагаемое воззвание в Выборге (Финляндия), так как в столице распущенной Думе заседать не дадут. Пока продолжались совещания депутатов в Петербурге, в Выборг поехал Д. Д. Протопопов, член ЦК партии кадетов, чтобы определиться с помещением.
П. Н. Милюков пишет воззвание на крышке рояля
Если Протопопов ехал из Петербурга в Финляндию, то Винавер примерно в это же время отправлялся из Финляндии в Петербург. В 9 утра его разбудила телеграмма Петрункевича: «Приезжайте немедленно, крайне нужно». Как вспоминал впоследствии Винавер: «Догадаться, в чем дело, было не трудно. С ближайшим поездом, отправлявшимся в Петербург в 11‐ом часу, я уехал. Проезжая мимо моей городской квартиры, узнал от швейцара, что „господин Милюков на велосипеде часов в 7 утра были“. Догадка превращалась в уверенность. Я ехал к Петрункевичу, оглядывался, искал на лицах людей, искал на мертвых камнях отражения нашего несчастья. Сонливые пешеходы, сонливые лошади, сонливое солнце. Безлюдье – никакой жизни, никакого признака движенья. Кричать хотелось от ужаса и боли».
Винавер подоспел на квартиру Петрункевича к тому моменту, когда Милюков уже закончил свою работу над исправлением первоначального текста. Этот вариант документа Винаверу не понравился: в нем не было «крика», «стихийной негодующей силы», «блеска молнии», которая должна была бы «осветить перед населением истинный смысл того, что совершилось». Кроме того, текст показался ему слишком длинным. Любопытно, что на вторую часть воззвания, говорившую как раз о пассивном сопротивлении, вызвавшую большие споры и разногласия в недалеком будущем, Винавер не обратил особого внимания. «Да это казалось – особенно в эту первую минуту – столь элементарно простым и естественным, минимумом, жалким минимумом действий, оставшимся в нашем распоряжении». На критику Винавера Петрункевич ответил просто: предложил написать новый текст, однако Винавер, подумав, от этого предложения отказался.
Примерно в это время на квартире Петрункевича появились представители трудовиков. Один из них, C. И. Бондарев, как вспоминал Корнилов, спросил, не согласятся ли кадеты призвать народ к возмущению. Петрункевич спросил Бондарева, верит ли он в то, что этому призыву последуют. «Бондарев несколько опешил, а Иван Ильич ответил ему тогда, что члены партии не будут призывать народ к возмущению, а отправятся все в Выборг, где ими будет предложено определенное обращение к народу». Выборг как место собрания членов Думы вызвал определенные сомнения у трудовиков. Тот же Бондарев пробовал было возражать, но вскоре и сам пришел к мнению, что в Петербурге, «кроме драки, ничего не выйдет». Так вспоминал о происходившем Винавер. Трудовики позднее рисовали более героический образ своих сотоварищей, пришедших на заседание кадетов. Слова, сказанные ими напоследок, якобы звучали так: «Хорошо, мы едем, но знайте, что этим мы губим дело освобождения народа…»
У трудовиков роспуск Думы особых сожалений не вызвал. Напротив, депутаты этой группы почувствовали облегчение. «Наша совесть теперь может быть покойна, – говорили они. – Правительство сбросило с себя маску, оставило игру в парламент, и мы избавлены от участия в недобросовестной игре…» Еще накануне один из лидеров фракции И. И. Субботин признавался в письме, что ждал роспуска Думы с нетерпением, так как он должен ускорить развязку. Наступал момент расплаты. «Мы уже распущены, – писал Субботин жене 9 июля. – Не пиши, жди адреса. Настроение у меня, как у Наполеона, когда подошел к Москве. Если перестану писать, значит – несвободен… Быть крови».
В это время депутаты-кадеты стекались в клуб Партии народной свободы. Среди них был и В. А. Оболенский. Когда он зашел в зал фракционных заседаний, там было около тридцати его сотоварищей по Думе. Они столпились вокруг стула, на котором стоял П. Б. Струве, возбужденно рассказывавший о случившемся. Закончил он свою речь сообщением о решении ЦК партии, согласно которому депутаты в тот же день, 9 июля, должны были собраться в Выборге, дабы обсудить вопрос, как реагировать на роспуск Думы.
Это предложение было неожиданно для всех присутствовавших, и со стороны некоторых… вызвало резкие возражения. Отъезд депутатов из Петербурга в такой момент мне (В. А. Оболенскому. – К. С.) представлялся в известной степени подчинением указу о роспуске, а отъезд в Финляндию, почти заграницу, – дезертирством с ответственного поста и уклонением от открытой борьбы, которая одна достойна избранников народа. Все подобные возражения в довольно сумбурной форме раздавались из толпы, окружавшей Струве, а он, перекрикивая нас, вопил:
– Поймите, что если Дума останется в Петербурге, начнется кровопролитие… Мы не можем допустить кровопролития… Менять решения ЦК нельзя… Будет дезорганизация… Левые согласились уже ехать в Выборг…
Струве слез со стула и направлялся к выходу. Мы шли за ним, а он, отмахиваясь руками, весь красный от волнения, кричал на ходу:
– В Выборг, в Выборг!
«Занавес открылся, возможно, перед последним актом величайшей драмы русской революции. И ныне народ и правительство стоят лицом к лицу…» Так писала о событиях в России New York Tribune 22 июля, то есть 9 июля по юлианскому календарю.
«Вчера прибыло в Выборг около 150 депутатов кадетской партии с Муромцевым во главе, и с разрешения полицмейстера стали собираться в гостинице „Бельведер“. Губернатор прибыл из деревни поздно вечером и полагал, что это собрание имеет частный характер: теперь выяснилось, что депутаты совещаются о напечатании воззвания к народу по поводу распущения Думы», – гласило донесение генерал-губернатора Финляндии от 10 июля. На самом деле в Выборг отправились не только кадеты, но и трудовики, социал-демократы, представители Партии демократических реформ. Всего 9 июля в Выборг приехали, по подсчетам Винавера, около 180 человек (из них примерно 120 – кадеты). Правда, многие видные народные избранники приехать не смогли: это Ф. И. Родичев, М. М. Ковалевский, М. Я. Острогорский, А. Ф. Аладьин, А. А. Свечин, И. М. Васильев: они в это время представляли Думу в Англии, на конгрессе Межпарламентского союза.
Большая часть фракции Партии народной свободы прибыла на место около семи вечера. Депутаты, партийные деятели, студенты, журналисты и, конечно, те, кто за ними следил, – все искали комнату, номер в гостинице или хотя бы кровать. В этом преуспели не все, и среди «неудачников» оказались некоторые активные участники будущего совещания. Например, Кокошкин, прибывший в Выборг с женой, смог обрести лишь деревянный диван, предназначенный для хранения керосина. Винавер также не нашел места в гостинице и вынужден был делить комнату с двумя своими коллегами.
Собрание началось в зале гостиницы «Бельведер» в 22:15. Открыл его Петрункевич. Председателем единогласно избрали Муромцева. Его товарищами (заместителями), как и во время думских заседаний, стали Н. А. Гредескул и П. Д. Долгоруков, за стол секретаря уселся Д. И. Шаховской. После проверки состава присутствующих оказалось, что в зале гостиницы «Бельведер» собрались 178 человек.
К 23:30 обсуждение закончилось, было решено сформировать редакционную комиссию, состоящую из шести человек: по два человека от фракции. От кадетов в нее вошли Кокошкин и Винавер, от трудовиков – И. В. Жилкин и С. И. Бондарев, от социал-демократической фракции – Н. Н. Жордания и С. Д. Джапаридзе.
Приближалась ночь, но спали далеко не все. Публицист В. В. Брусянин вспоминал, что некоторые депутаты и представители прессы с минуты на минуту ожидали «набега карательного отряда на гостеприимную финляндскую гостиницу». Наиболее робкие предпочли поскорее уехать.
Не спали и члены редакционной комиссии. Они поднялись в ресторанную комнату, где, среди объедков и пустых бутылок, и должен был составляться текст воззвания. В качестве докладчика выступил Кокошкин: он зачитывал документ, который редактировался отрывок за отрывком. Об этой работе Субботин вспоминал так: «Комиссия проработала до утра. Форма соглашений проектов воззваний была установлена, но эта равнодействующая прошла так близко к проекту к партии народной свободы, что от проекта трудовиков не осталось почти ничего». Впрочем, трудовики все же оказали влияние на окончательную редакцию. Так, заголовок документа «Народу от народных представителей» был предложен Бондаревым.
Спор в комиссии шел относительно степени резкости тех или иных выражений. Правда, трудовики в этой дискуссии принять участия не смогли: побороть сон им не удалось. К 4:30 утра работа была завершена. Оставалось лишь «слить в один текст» отредактированные предложения, чтобы они обрели целостный и законченный вид. Это было поручено Кокошкину, но его знобило, и работать он больше не мог. Ведь «все эти три месяца существования Думы Ф[едор] Ф[едорович] работал по 14–15 часов в сутки, причем с первого до последнего дня его не покидала повышенная температура. Не знаю, чем бы все это кончилось – не последуй роспуск Думы», – вспоминала его жена М. Ф. Кокошкина. Высокая температура была у ее мужа и в ту ночь, так что работу взял на себя Винавер. Со своей задачей он справился за три часа, и к 7:30 текст был готов. Винавер понес его наверх, к трудовикам, чтобы те переписали проект в несколько рук к открытию заседаний. «Наверху, в коридоре и в комнатах, спали люди вповалку крепким сном; я (Винавер. – К. С.) то и дело спотыкался о груды депутатских тел; храп стоял исполинский. В угловой комнате на кроватях лежали человека по два, по три. Еле добудился кого-то, всучил ему бумагу и отправился к себе в ночлег».
Спать ему долго не пришлось, так как уже в 9 часов началось общее заседание, а заседание фракции кадетов состоялось еще раньше. Столь утомительная ночь не позволила Винаверу председательствовать, вел фракционное собрание В. Д. Набоков. Присутствовали на нем лишь 60 человек. Споры, не законченные прошлым вечером, утром разгорелись с новой силой. В качестве основного оппонента предложенного проекта выступил М. Я. Герценштейн, его поддержала целая группа депутатов. Голосование же выявило, что эта группа составляла большинство присутствовавших. У тех, кто накануне выступал от имени большинства фракции, а сегодня оказался в меньшинстве, возникал очевидный вопрос: насколько правомочна группа из 60 человек решать за всю фракцию. Но споры пришлось отложить: раздался звонок председателя и началось новое заседание бывших членов распущенной Думы.
Споры продолжились. Говорили о бесполезности предлагаемых мер, об их противоречии партийным программам, наконец, об их незаконности. Судя по всему, последней точки зрения придерживался С. А. Муромцев, который, правда, не спешил делиться своими взглядами на обсуждаемый документ. Когда же он на это решился, Петрункевич перебил его и не дал толком высказаться: председатель не имел права влиять на собравшихся. «Нами владели политические страсти. Мы горели негодованием против тех, кто дерзнул посягнуть на первый русский парламент, воплощавший мечты стольких русских поколений», – вспоминала А. В. Тыркова-Вильямс.
Фракционные совещания начались около часа дня. Спорили как и о самом проекте воззвания, так и о необходимости меньшинству подчиниться решению большинства. Обсуждение последнего вопроса проходило чрезвычайно бурно. Столов в комнате, где совещалась фракция, не было. В качестве ораторской трибуны служил стул. «Не успел Набоков с него сойти, – вспоминал Оболенский, – как на стуле оказалась А. В. Тыркова, с чрезвычайной запальчивостью обрушивалась на нас за наши (Оболенского и Набокова. – К. С.) еретические мысли». Столь же яростно она набросилась на тех, кто возражал против текста воззвания.
– Ариадна Владимировна, пощадите, – обращался к Тырковой Н. Н. Ковалевский, депутат от Харьковской губернии. – Ведь это же чепуха. Никто нас не послушает. И подати платить будут, и под ружье станут. Курам на смех.
Я (Тыркова. – К. С.) со своего стула, как с трибуны, громила Ковалевского:
– А что вы предлагаете? Проглотить? Промолчать? Смирнехонько разойтись по домам? Если не протестовать, надвинется реакция еще более темная, чем раньше. Неужели вы согласны покориться такому нарушению прав Думы, прав народа? Готовы проглотить все оскорбления?
Все кругом меня поддерживали, смотрели на него с возмущением. Из моих глаз, вероятно, сыпались искры. Добродушный Н. Н. Ковалевский, могучий степной красавец, виновато озирался:
– Да нет. Я что же. Я согласен, что протестовать надо…
Его хором прерывали:
– Протестовать на словах? На это вы согласны? А с нас довольно слов. Наговорились. Пора начать действовать…
Бедный Николай Николаевич (Ковалевский. – К. С.) под конец сдался…
– Ну, хорошо. Подпишу.
Большинство фракции высказалось за воззвание. Меньшинство вынуждено было подчиниться. Князь Г. Е. Львов, который никак не мог согласиться с решением фракции, тут же заявил о своем выходе из Партии народной свободы.
Около двух часов дня выборгский губернатор вызвал Муромцева из зала заседания, и депутаты вынуждены были прервать прения. Губернатор приезжал в гостиницу «Бельведер» еще 9 июля в 11:30 вечера: ему пришлось срочно вернуться с дачи, как только стало известно, что в Выборге собрались бывшие депутаты. А на следующий день он вызвал к себе председателя собрания. Вместо Муромцева вначале прибыл П. Д. Долгоруков, который, согласно донесению финского генерал-губернатора, сообщил, «что собрание депутатов остановилось на мысли обратиться к народу с протестом против закрытия Думы и что они заняты составлением воззвания». Это было тут же передано в Гельсингфорс, и генерал-губернатор принял решение немедленно закрыть собрание. В 14:10 ему было доложено, что приказание выполнено, депутаты готовы подчиниться решению властей и уехать из Выборга с первым же поездом.
В четверть третьего заседание фактически было закрыто: примерно в это же время Муромцев вновь предстал перед депутатами. Бледный, сильно взволнованный, он подошел к своему председательскому месту и заявил, что только что имел беседу с губернатором, который говорил ему о гибельных последствиях, которые может иметь продолжение заседания. Муромцев счел своим долгом дать губернатору слово, что он не будет продолжать собрание, полагая, что «долг всех нас по отношению к Финляндии – уехать из Выборга». Раздались возгласы неудовольствия, изумления, крики: «Останьтесь, останьтесь!» Но Муромцев заверил, что это для него дело чести, остаться он не может, поклонился и немедленно удалился.
«В зале воцарилось неописуемое волнение. Громкие возгласы, движения стульев, люди вскакивали с мест, наступают друг на друга, перекрикивают друг друга. Растерянность полная… Так прошло минуты две». Кто-то крикнул наконец: «Пусть Иван Ильич председательствует!» И по всей зале пошел крик: «Иван Ильич, Иван Ильич!» Но Петрункевич крикнул в ответ: «Князь Долгоруков, наш товарищ председателя». «Долгоруков, Долгоруков!» – пошло по залу. И Долгоруков занял место председателя. Энергично потряхивая звонком, он пытался успокоить присутствующих, что в конце концов ему и удалось.
Поднялся Петрункевич: «Господа, бросим обсуждать дальше. Вопрос ясен, и не в редакции дело. Не разъедемся отсюда, не совершив этого акта. Подпишем воззвание как оно есть». Гром рукоплесканий. До сего момента аплодисменты пресекались по конспиративным соображениям. Ныне же всеми овладел энтузиазм. Вслед за Петрункевичем поднялся М. Я. Герценштейн: «Я был противником воззвания, но всецело присоединяюсь к этому призыву. Я подпишу воззвание». Л. И. Петражицкий вскочил на стул и объявил при общих криках одобрения, что хотя он тоже противник воззвания и знает, что рискует государственной службой, но все же воззвание подпишет. Наконец прозвучали слова председательствующего: «Голосую предложение: принять всю вторую часть воззвания, как она доложена, без дальнейших прений. Согласных прошу поднять руки. Принято единогласно».
Осталось лишь собрать подписи. Был найден переписчик, которому Винавер и отнес свой черновик манифеста. Так появился на свет подлинник Выборгского воззвания, текст которого уже не подлежал какой-либо редакции, а принял свой окончательный вид:
Граждане всей России! Указом 8-го июля Государственная Дума распущена. Когда вы избирали нас своими представителями, вы поручили нам добиваться земли и воли. Исполняя наше поручение и наш долг, мы составляли законы для обеспечения народу свободы, мы требовали удаления безответственных министров, которые, безнаказанно нарушая законы, подавляли свободу; но, прежде всего, мы желали издать закон о наделении землею трудящегося крестьянства путем обращения на этот предмет земель казенных, удельных, кабинетских, монастырских, церковных и принудительного отчуждения земель частновладельческих. Правительство признало такой закон недопустимым, а когда Дума еще раз настойчиво подтвердила свое решение о принудительном отчуждении, был объявлен роспуск народных представителей.
Вместо нынешней Думы правительство обещает созвать другую через семь месяцев. Целых семь месяцев Россия должна оставаться без народных представителей в такое время, когда страна находится на краю разорения, промышленность и торговля подорваны, когда вся страна охвачена волнением и когда министерство доказало свою неспособность удовлетворить нужды народа. Целых семь месяцев правительство будет действовать по своему произволу и будет бороться с народным движением, чтобы получить послушную угодливую Думу, а если ему удастся совсем задавить народное движение, оно не соберет никакой Думы.
Граждане! Стойте крепко за попранные права народного представительства, стойте за Государственную Думу. Ни одного дня Россия не должна оставаться без народного представительства. У вас есть способ добиться этого: правительство не имеет права без согласия народного представительства ни собирать налоги с населения, ни призывать народ на военную службу. А потому теперь, когда правительство распустило Государственную Думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег. Если же правительство, чтобы добыть себе средства, станет делать займы, то такие займы, заключенные без согласия народного представительства, отныне не действительны, и русский народ никогда их не признает и платить по ним не будет. Итак, до созыва народного представительства не давайте ни копейки в казну, ни одного солдата в армию. Будьте тверды в своем отказе, стойте за свои права все, как один человек. Перед единой и непреклонной волей народа никакая воля устоять не может. Граждане! В этой вынужденной, но неизбежной борьбе ваши выборные люди будут с вами.
Пока в маленькой комнатке на первом этаже гостиницы работал переписчик, в зале заседаний уже шел сбор подписей. Он продолжился, когда в зал принесли подлинник: подписи ставились уже непосредственно под ним. Потом подлинник был отправлен в гостиницу к Муромцеву, откуда вернулся уже и с его подписью.
В 4 часа дня все депутаты вышли на улицу. «День был ясный, теплый, с моря дул легкий ветерок. И на душе было легко. Один только человек бродил среди нас мрачный, с насупленными бровями». Речь шла о С. А. Котляревском, известном юристе, депутате от Саратовской губернии, члене партии кадетов. Он не успел на обсуждение воззвания, так как роспуск застал в Москве, куда отправился на выходные. «Нервно пощипывая бородку, он подходил то к одному, то к другому и с ужасом спрашивал, как это мы, умные люди, допустили до такого шага… Мы шли в городской сад обедать, и он шел все время с нами, все время донимая нас упреками, с тем же выражением скорби обходил нас и за ресторанным столиком, все укоряя, и, наконец… не выдержал и отправился подписывать воззвание». В ресторан отправились и те, кто не подписал и не собирался подписывать манифест. Например, П. А. Гейден. Он, Н. Н. Львов и М. А. Стахович, лидеры Партии мирного обновления, приехали в Выборг лишь около трех часов назад, в начале второго, и сделали это по настоянию Д. Н. Шипова. Их целью было уберечь Думу от антиконституционных актов, в том числе от подписания воззвания, но с задачей своей они не справились.
Сколько же депутатов присоединились к воззванию, определенно сказать нельзя. В подлиннике воззвания 170 подписей. Некоторые депутаты, не имевшие возможности непосредственно присутствовать в Выборге, спустя некоторое время просили присоединить свои подписи. Таких было 36 человек. Но депутаты подписывались уже и на печатных экземплярах воззвания, причем делали это как в Выборге, так и в Петербурге. Листы с подписями, по всей видимости, не сохранились. Стандартный же экземпляр отпечатанного воззвания содержал 181 подпись. Задача отпечатать воззвание была возложена на депутатов Н. А. Бородина и В. А. Оболенского. По дороге в типографию им встретился А. Букейханов, депутат от Семипалатинской области. Он добрался до Петербурга лишь после роспуска Думы. Узнав, что депутаты в Выборге, поехал туда. «Мы (Оболенский и Бородин. – К. С.) сообщили ему, что и в Выборг он опоздал. „Ну что ж делать? – покорно сказал он. – Пойду с вами в типографию“».
Нужно было еще найти русских наборщиков для экстренной работы, что в Выборге оказалось совсем не просто. Депутатам помог Н. А. Рубакин, писатель и книговед. Высланный из столицы, он жил в это время в Выборге, и у него было много знакомых среди наборщиков и печатников, которых и привлекли к работе. Уже через несколько часов Бородин читал и правил корректуру воззвания, «а к утру горы его были напечатаны и постепенно переправлялись через границу в Петербург».
«Дума в поезде». Прибытие депутатов из Выборга на Финляндский вокзал
Финские доброжелатели Первой Думы предложили посадить депутатов на корабль, дабы он плыл у берегов Финляндии. Так, по их мнению, парламент мог продолжать свою работу. Этот план, условно названный «Дума на корабле», Винавер счел фантастическим. Зато осуществился другой: «Дума в поезде»: большинство депутатов, участвовавших в обсуждении выборгского воззвания, отправились в столицу 11 июля в 12 часов дня.
«Мы были уверены, что при въезде в Петербург на Финляндском вокзале что-нибудь произойдет, могут всех нас арестовать. Народ отзовется на это дружным негодованием и поднимется на освобождение своих избранников. Вместе с тем это послужит началом и к собственной его свободе и счастью… Петропавловская крепость, куда, казалось, все мы будем посажены, заменит собою Таврический дворец и сделается главным штабом народной революции». Таким рисовалось возвращение Думы в столицу трудовику Г. К. Ульянову. И. И. Субботин вспоминал, что перед отбытием поезда среди депутатов ходили слухи, что в Петербурге уже кое-где была стрельба, а Финляндский вокзал окружен войсками, получившими приказ арестовать депутатов. Настроения пассажиров этого необычного поезда были под стать их ожиданиям. Они будто бы ехали на войну и не знали, останутся живы или нет. Из вагонов поезда раздавались звуки «Рабочей марсельезы», развевались красные полотна, а на станциях из окон летели листки свежеотпечатанного воззвания.
На Финляндском вокзале тем временем собралось человек 200 встречающих (не считая, конечно, усиленных нарядов жандармерии). Толпу разогнали, осталось лишь 50 человек, заявивших, что они корреспонденты различных газет. Кроме них, остались немногочисленные представители Партии народной свободы, которым удалось отстоять свое право встретить своих товарищей. Ожидание становилось тягостным и мучительным, и те немногие, что собрались на платформе, в тревоге посматривали на часы. «Поезд приближался. Нервное состояние росло…» Наконец он остановился, и из него вышли около 100 депутатов. Кто-то кричал «ура», махал шляпой, громко приветствуя народных избранников. Его примеру последовали остальные. Этим «кто-то» оказался журналист В. В. Хижняков, которого отвели в участок, в отличие от депутатов, которых пока никто арестовывать не собирался.
Среди встречавших была уже упомянутая Е. Тимирязева, которая так описала сцену встречи членов Первой Думы: «Впереди показалось измученное лицо Бородина. Я напряженно искала глазами. Показался Протопопов… Промелькнуло лицо Френкеля, Шапошникова и др[угих]… Машинально здороваясь, я смотрела вперед, не видя П[авла] Н[иколаевича] и Струве. Наконец. Ну вот они… „Где М[илюков]?“ – тревожно вырвалось у меня. „Там, сзади“, – ответил Петр Б[ренгардович] (Струве. – К. С.), и я против течения толпы устремилась дальше… „Да, где же М[илюков]?“ Мой возглас был так неожидан для меня и других, в голосе было столько тревоги, почти отчаяния, что я не услышала реагировавший мне голос Долгорукой: „Да вот он“».
Выборгское воззвание осталось без ответа. Крестьянство, как и прежде, не слишком регулярно платило прямые налоги, которые при этом поступали земству, а не правительству. Депутатский манифест в этом отношении ничего не изменил. Случаев же уклонения от службы в армии в 1906 году стало даже меньше, чем в прошлом, 1905‐м. Ожидание «грозы» не оправдалось. Наступил мало кем предвиденный «штиль», который не стал затишьем перед бурей. Партийцы различных направлений докладывали своим руководителям, что местное население находится в состоянии «растерянности» и занимает «выжидательную позицию». Это должно было придать бывшим депутатам сдержанный оптимизм и надежду, что еще не все потеряно. Однако для этого не было серьезных оснований. Отдельные села или даже города (например, Ставрополь) могли вступаться за своих избранников, подлежавших аресту, но это не касалось России в целом. В этой связи князь Е. Н. Трубецкой писал в сентябре 1906 года: «В действительности у нас не затишье и не буря, а мертвая зыбь. Мы видим разрозненные волны, которые несут без направления и без цели. Неизвестно, какой ветер и куда их гонит. Определенного ветра вообще не чувствуется; нет того общего стремления, которое бы объединило разбушевавшуюся стихию».
И все же у Выборгского воззвания были определенные последствия. 16 июля 1906 года против подписавших воззвание бывших членов Государственной думы было начато уголовное преследование. 1 октября 1906 года кадетская газета «Речь» так подвела итоги работы Первой Думы: 1 депутат убит (М. Я. Герценштейн. – К. С.), двух подвергли истязаниям, 10 скрываются, 5 высланы, 33 подвергнуты обыску, 24 заключены в тюрьму и 182 привлечены к суду. К этим цифрам можно добавить и другие: 13 бывших депутатов были лишены занимаемых ранее должностей, 36 исключены из числа земских и думских гласных, 15 – из состава дворянских обществ. А еще в селе Дьяково Орловской губернии был пойман психический больной. Он бегал и кричал: «Меня преследуют вооруженные, спасите!» Его приняли за вора и избили служащие Мальцевского завода. И лишь потом у него была обнаружена карточка, удостоверявшая, что это бывший депутат Государственной думы И. И. Лысенко.
Но эта «статистика» была бы неполной без учета числа осужденных за подписание Выборгского воззвания: таких было 165 бывших депутатов. Их приговорили к трехмесячному тюремному заключению и лишению избирательных прав. Почти все приговоренные были 10 июля в Выборге: тот же, кто несколько позже присоединил свою подпись к воззванию, осужден не был. Исключение составил Н. Н. Миклашевский: 10 числа ему оперировали руку в Петербурге, так что он не мог ни обсуждать, ни тем более подписать воззвание, но тем не менее он был осужден наряду с остальными народными избранниками.
Суд проходил 12–18 декабря 1907 года. По воспоминаниям Н. А. Бородина, эта неделя стала праздником для бывших депутатов, которые почти полтора года не видели друг друга, а теперь вновь оказались вместе. Вновь произносились яркие, зажигательные речи, и вновь «перводумцы» оказались героями публикаций, как в отечественной, так и в зарубежной прессе. «Per aspera ad astra (Через бездну к звездам)», – записал В. Д. Набоков в альбоме А. В. Тырковой как раз в дни процесса. «Мы еще повоюем!» – написал М. М. Винавер. А рядом с этой фразой карикатура с изображением все того же Винавера в виде «маленького, взъерошенного, готового к драке воробья». Ее сделал А. А. Корнилов, бывший на тот момент секретарем конституционно-демократической партии.
Но кто знал, какие «звезды» ждут депутатов Первой Думы? Кто знал, что на скамье подсудимых сидел будущий руководитель грузинского государства Н. Н. Жордания, будущий председатель Совета Министров Эстонии Я. Я. Теннисон, будущий президент Латвии И. Х. Чаксте? И кто знал, что в марте 1917 года бывший депутат Ф. Ф. Кокошкин обратится к бывшему депутату М. М. Винаверу с такими словами: «Вот мы опять с Вами… Смотрите, какая тут символика. Помните, как в летнюю ночь в Выборге писали мы вдвоем завет первой Думы. Теперь меня просят сочинить первый привет свободной России, манифест Временного Правительства. Начнем с того, чем кончили одиннадцать лет тому назад…»
Важнее, может быть, даже другое. События июля 1906 года внушили власти уверенность в собственных силах. Показателен разговор, состоявшийся 26 октября 1906 года между императором и А. А. Будбергом, главноуправляющим Канцелярии Е. И. В. по принятию прошений. «…Раз Россия проглотила роспуск Думы, – рассуждал Будберг, – вся либеральная Россия ничего не стоит, а раз она ничего не стоит, Ваше Величество, еще можете с нею сделать, что хотите. Ближайший же вывод тот, что, пока власть сильна, следует, не стесняясь, изменить избирательный закон». Государь благосклонно выслушал это предложение, отметив, что он уже думает об этом, и признался, что вполне согласен с оценкой либерального движения: «Да, это активное или пассивное воздействие – какая чепуха! Откровенно говоря, я от них ожидал больше ума. Неужели они не видят, что за ними никого нет».
Вторая дума
В день роспуска Первой Думы было сформировано новое правительство. Его возглавил Петр Аркадьевич Столыпин, за которым осталась и должность министра внутренних дел. Столыпин рассчитывал на диалог с обществом, намечал программу реформ, которую рассчитывал представить Второй Думе. Поначалу Столыпин предполагал привлечь в состав своего правительства общественных деятелей, однако переговоры с ними не увенчались успехом. И все же он не терял надежды, что с новой Думой удастся договориться.
В действительности же Вторая Дума оказалась значительно более оппозиционной, чем Первая. Кадеты утратили былые позиции, у них всего было 98 депутатов. У трудовиков – 104, у социал-демократов – 65, у эсеров – 37, у правых и октябристов – 54. Таким образом, значительная часть депутатов представляла левых. Тем не менее председателем Думы был избран кадет Ф. А. Головин. Конституционные демократы как будто сохранили лидерство в законодательном собрании. Однако это была лишь видимость. Представляемый ими думский центр был сжат с двух сторон – справа и слева. Для социалистических партий Дума была средством революционной агитации, к каждодневной законотворческой работе они не были готовы. Для правых же революционная Дума была неприемлема: они всячески блокировали ее деятельность. Правительственная программа реформ, оглашенная Столыпиным 6 марта 1907 года, в таких условиях не могла быть реализована. Дума оказалась неработоспособной, и ее роспуск был предрешен.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВТОРОЙ ДУМЫ
О председателе Думы Ф. А. Головине некоторые депутаты высказывались так: «Закрученные к верху усы, высокий крахмальный воротник, картавый голос производили при первом знакомстве немного комическое впечатление. Предубеждение из‐за внешности, конечно, разлетается при более близком общении, как оно разлеталось у тех, кто, например, имел дело с Кокошкиным, который по внешнему виду на Головина походил. Но у Головина не было ни умственного блеска Кокошкина, ни его дара слова и мысли. Он никому не импонировал, и с ним не стеснялись». Служивший в думской канцелярии Г. А. Алексеев не испытывал симпатии к председателю: «С грустью в сердце приходится констатировать, что во главе Государственной думы стоит очень и очень плохой председатель». У Головина не было ни опыта, ни теоретических знаний. Он часто терялся на председательском кресле. «Вместо того чтобы руководить прениями и по выяснении вопроса ставить его в ясной форме на баллотировку, он то и дело вносит свои собственные предложения и, не слыша на них возражений, без всякой баллотировки объявляет их принятыми». В канцелярии были недовольны легкомыслием Головина, который «улетучивался», как только завершались пленарные заседания. Он предпочитал проводить свободное время со своей знакомой А. В. Скуридиной. Более того, Головин и не думал отвечать на письма Столыпину. За него это делал Н. Н. Щепкин: «Да вы напишите там что-нибудь, а я подпишу». Не случайно за креслом Головина постоянно сидел фактический руководитель канцелярии Думы Я. В. Глинка, который должен был периодически приходить на помощь председателю.
Вторая Дума раздражала даже кадетов. Депутат из их фракции, философ и богослов С. Н. Булгаков писал супруге: «У меня внутренне все больше складывается убеждение, что эта Дума не только не работоспособна, но и неспособна даже дать работать другим». Булгаков полагал, что «не знал в мире места с более нездоровой атмосферой, нежели общий зал и кулуары Государственной думы». По его мнению, депутаты слишком уж не подходили для той роли, которую сами себе определили: «Это уличная рвань, которая клички позорной не заслуживает. Возьмите с улицы первых попавшихся встречных, присоедините к ним горсть бессильных, но благомыслящих людей, внушите им, что они спасители России, к каждому слову их, немедленно становящемуся предметом общего достояния, прислушивается вся Россия, и вы получите Вторую Государственную думу». Спустя некоторое время другой депутат-кадет Н. Н. Кутлер признавался Булгакову, что ежедневно просыпался с мыслью о сложении депутатских полномочий: работа в Таврическом дворце приводила его в уныние. Депутат А. А. Кизеветтер не сомневался, что столь беспомощная Дума должна быть в скором времени распущена. И депутаты Первой Думы недолюбливали Вторую. Признанный «патриарх» партии кадетов И. И. Петрункевич писал: «Вторая Дума не возбуждает особых симпатий. Москва и Петербург дали талантливых и способных депутатов, провинция послала, за немногими исключениями, и малокультурных, и неспособных выполнить выпавшую на их долю задачу».
Действительно, депутатский корпус отличался своеобразием. Общественный, а впоследствии государственный деятель А. Н. Наумов вспоминал, как, будучи предводителем самарского дворянства, должен был анкетировать новоизбранных депутатов Второй Думы. Особенно поразил его кузнец В. С. Абрамов – «здоровенный, лохматый, неграмотный мужик, с распухшей от пьянства и драки злобной физиономией. Вошел сей тип, исподлобья глядя осовелыми глазами, в кабинет и не знал – стоять ли ему или развалиться на кожаном кресле». Ему были заданы необходимые вопросы. «Ответы получались невнятные, больше слышалось какое-то мычанье и, лишь услыхав заданный… вопрос: к какой политической партии он принадлежит – косматая физиономия Абрамова сразу ожила. Послышался немедленный и внятный ответ: „Бомбист“…»
Конечно, «бомбистов» во Второй Думе было немного. И все же столь «демократичный» состав народного представительства неизбежно отражался на ходе работы. «Состав депутатов, несомненно, поражает свежего человека большим количеством неинтеллигентных лиц, большим сравнительно количеством молодых людей, почти мальчишек, довольно-таки хулиганистого типа, – отметил в дневнике бывший министр народного просвещения граф И. И. Толстой. – Большинство во время речей ораторов занимается чтением газет и разговаривает между собой, причем отдельные личности бегают по рядам кресел и о чем[-то] совещаются».
Думская работа очевидно не спорилась. Удрученный член фракции кадетов П. Б. Струве полагал, «что на месте правительства он служил бы молебны о нераспущении Думы, которая сама по себе мало по малу [себя] съест, и на месте оппозиции, в особенности крайней, делал бы все для роспуска, чтобы не компрометировать представительства». И левые, и правые депутаты мешали законотворчеству. Как писал Н. Н. Кутлер, «крайне левые элементы так сильны в Думе, а требования их так несообразны, что о правильной деятельности этой Думы нельзя и мечтать… Справа от нас – поразительное отсутствие способностей, а на самом крайнем фланге – хулиганство. Слева – та же малоспособная, но разрушительная масса, коневодами которой являются интеллигенты и полуинтеллигенты, отуманенные страстью к демагогии, утратившие всякий государственный смысл (если, впрочем, имели его когда-либо) и всякую меру. Сама же эта масса состоит из людей совершенно необразованных и неразвитых, до которых культура коснулась лишь с внешней стороны и только испортила их. Эта масса, а отчасти даже руководители ее – тоже хулиганы. Если к этому прибавить, что и в составе нашей партии входит много малокультурных элементов, а польское коло преследует свои особые национальные задачи и может в каждую минуту отступиться от нас по важным общегосударственным вопросам, – то тягость положения еще более определится». Председатель Головин, глядевший на депутатов с высоты думского президиума, не мог скрыть своего отвращения к большинству народных избранников: «Общая масса левых отличалась тупым самомнением опьяневшей от недавнего неожиданного успеха необразованной и озлобленной молодежи». По мнению Головина, и правые были не лучше: «На это крыло, шумевшее, гоготавшее, кривлявшееся было противно смотреть как на уродливое явление».
Такая Дума была непредсказуемой. Иногда случалось, что правые и левые блокировались. Левые отстаивали свои принципы, а правые потакали им, рассчитывая тем самым ускорить роспуск Думы. Помимо того, депутаты нерегулярно ходили на думские заседания. Соответственно, трудно было подсчитать, сколько голосов будет у каждой фракции на конкретном заседании. Депутатские группы (в том числе леворадикальные) недолюбливали друг друга и часто конфликтовали. Наконец, во всех объединениях страдала дисциплина: солидарного голосования не было практически никогда.
Coup d’état
В начале мая 1906 года председатель Совета министров И. Л. Горемыкин попросил товарища министра внутренних дел С. Е. Крыжановского подготовить проект нового избирательного закона. Горемыкин раздумывал на эту тему и после своей отставки. 19 июля 1906 года он подал записку Николаю II, в которой признал, что реализовался вариант, который изначально казался маловероятным. Дума оказалась менее хитрой, более радикальной и самонадеянной, чем на то рассчитывал Горемыкин. Во имя спасения правопорядка ее пришлось распустить. Однако царское слово нельзя взять назад: Думу следовало сохранить при всех обстоятельствах. Правительство не могло стать в полной мере «реакционным». Это лишь способствовало бы дестабилизации положения в стране. Тем не менее у Горемыкина не было сомнений, что новая Дума окажется хуже предыдущей. Следовательно, ее также придется распустить, подготовив новый избирательный закон – залог плодотворного общения правительственных чиновников и депутатского корпуса.
Об этом думал не только Горемыкин. По словам весьма информированного публициста генерала А. А. Киреева, уже в ноябре 1906 года Николай II и П. А. Столыпин обсуждали изменения избирательного законодательства, если Вторая Дума окажется не лучше своей предшественницы. Несколько месяцев спустя государственный контролер П. Х. Шванебах говорил царю о необходимости готовиться к роспуску Второй Думы и, более того, изменению Положения о выборах. Шванебах, почувствовав поддержку императора, рассказал об этом Столыпину. Премьер был недоволен: «Вы ломитесь в открытую дверь».
Столыпин полагал необходимым в целом сохранить сложившуюся электоральную систему. Избирательный закон должен был способствовать новому раскладу сил в Думе, но при этом не следовало кому-либо отказывать в праве голоса. «Это было задание о разыскании квадратуры круга, но спорить не приходилось», – объяснял С. Е. Крыжановский.
В мае 1907 года министры уже детально обсуждали проект Положения о выборах. На сей счет были разные точки зрения. Министр финансов В. Н. Коковцов и П. Х. Шванебах полагали, что новый избирательный закон должен быть одобрен Государственным советом. Братья Извольские (Александр Петрович – министр иностранных дел, Петр Петрович – обер-прокурор Святейшего синода) предлагали не спешить с изданием закона о выборах, считая, что прежде власть должна почувствовать, каковы настроения в обществе. Министр юстиции И. Г. Щегловитов не считал нужным менять избирательное законодательство. И все же большинство членов правительства соглашались со Столыпиным. Совет министров склонялся к той схеме выборов, за которой закрепилось прозвище «бесстыжая». Ее поддерживал и царь. «Когда Столыпин докладывал дело государю и, смеясь, упомянул об этом определении, то государь, улыбнувшись, сказал: „Я тоже за бесстыжую“».
29 мая об этих словах узнали в правительстве. При этом вопрос о дне роспуска еще не был окончательно решен. Крыжановский и его немногочисленные помощники работали два дня без отдыха, чтобы подготовить необходимый проект. К 2 июня все было сделано. Курьер Министерства внутренних дел Меншагин поздно вечером проник в покои императора и подкараулил его, уже собиравшегося спать. Царь все подготовленные документы подписал.
Как раз в те часы депутаты от фракции кадетов С. Н. Булгаков, В. А. Маклаков, П. Б. Струве и М. В. Челноков приехали к Столыпину. Правительство было в сборе. Министры ждали, пока их председатель полтора часа общался с думцами о возможности исполнительной власти, наконец, договориться с законодательным представительством. Беседа длилась до начала второго ночи, но результата не принесла. Министры не спешили расходиться. Около двух часов ночи из Петергофа прибыл курьер с бумагами, подписанными императором. Их тут же передали в сенатскую типографию.
3 июня 1907 года Николай II записал в дневнике: «Простояла чудная погода. Настроение было такое же светлое по случаю разгона Думы». В Петербурге в тот день в саду ресторана «Донон» обедали члены Государственного совета М. Г. Акимов, П. Н. Дурново и В. М. Андреевский. Беседа не клеилась, сотрапезники молча о чем-то переживали, волновались. Вдруг они увидели обер-прокурора I Департамента Сената Н. А. Добровольского. Тот подошел к ним, кивнул и сказал: «Принято». А потом добавил: «Е-ди-но-глас-но». Речь шла о новом Положении о выборах, за которое проголосовал Сенат.
Согласно этому Положению, отныне больше всего депутатов в Думу должны были посылать не крестьяне, а землевладельцы (то есть помещики). Сократилось представительство от Кавказа и Польши. Утрачивали избирательное право жители Средней Азии, а также удаленных территорий Сибири и Дальнего Востока. Городская курия была поделена на две, что обеспечивало права наиболее состоятельных горожан. Особые права получили губернаторы, которые теперь могли делить избирательные съезды в зависимости от имущественного положения или конфессиональной принадлежности избирателей. Это открывало дополнительные возможности для административного произвола. В соответствии с Основными государственными законами, новое Положение о выборах должна была утвердить Дума, но было очевидно, что ни эта Дума, ни созванная согласно прежнему закону новая, в силу своей оппозиционности, такое Положение о выборах не утвердят. Тем не менее император имел право распустить Думу по своему усмотрению, и он это сделал, одновременно приняв новое Положение о выборах и назначив новые выборы в Думу. Фактически закон был нарушен. По этой причине роспуск Второй Думы и назвали Третьеиюньским переворотом (coup d’état).
Среди правых это событие вызвало восторг. В их клубе разливали шампанское, а 4 июня в том же самом «Дононе» В. М. Пуришкевич и П. Н. Крупенский «кутили на радостях с пьяным „ура“ за государя». Кадеты не радовались, но вполне оценили значение события. Ф. И. Родичев в эти дни ощущал себя так: «Точно меня сбросили на двор с 5-го этажа… Жив, но оглушен и ничего не чувствую».
Тогда кадеты многого не знали. К июню 1907 года уже не стоял вопрос о реформе избирательного законодательства. Альтернатива была иная: сохранить или не сохранить законодательную Думу. Уже в эмиграции, в 1929 году, Крыжановский сообщил Коковцову о намерениях императора, которые вполне могли обрести силу закона: «После издания закона 3 июня 1907 года был составлен на случай его неудачи новый, гораздо более радикальный проект, а именно о совершенном упразднении Государственной думы с разделением Европейской России на области с образованием в каждой из них областного земского собрания… Общегосударственное законодательство сосредоточилось в Государственном совете, несколько измененном в его составе».
Глава вторая. Дума за работой
Третья дума и ее председатели
Годы, когда П. А. Столыпин возглавлял правительство, преимущественно пришлись на время работы Третьей Думы. Ее избрали в соответствии с новым законом, и состав народного представительства существенно изменился по сравнению с предыдущими созывами. Наиболее влиятельная фракция принадлежала «Союзу 17 октября» (у них было 154 депутата из 442). Это был думский центр. Все три председателя Государственной думы были октябристами: это Н. А. Хомяков (1907–1910), А. И. Гучков (1910–1911), М. В. Родзянко (1911–1912).
Первый председатель Третьей Думы Н. А. Хомяков поначалу вызывал симпатии и слева и справа. Сын отца-основателя славянофильства А. С. Хомякова, крестник Н. В. Гоголя и сам славянофил, он был прирожденным барином, ленивым и добродушным, при этом остроумным и язвительным. Он не боялся быть собой, высказывать точку зрения, которая шла вразрез с точкой зрения собственной партии. Правда, он плохо разбирался в Наказе, однако, что делало ему честь, не стеснялся этого факта, открыто консультировался с руководителем канцелярией Я. В. Глинкой. Правые смеялись над этим, что смущало скорее Глинку, чем Хомякова. Председатель успокаивал своего сотрудника: «Плюйте на это. Ведь ясно, для чего вы сидите. Не для того же, чтобы мне чесать затылок». В ноябре 1907 года октябристы долго уговаривали Хомякова баллотироваться в председатели. Он опасался, что не найдет во фракции серьезной поддержки. Так в итоге и случилось. Глинка отмечал, что сами октябристы «топили» Хомякова. Один из видных членов фракции Н. П. Шубинский стоял у президиума, указывая на Хомякова, и громко говорил: «Давно пора переменить». Товарищ секретаря Думы Н. И. Антонов стучал по пюпитру, выражая недовольство председателем. Лидеры партии хотели видеть в председательском кресле А. И. Гучкова.
Поначалу председательская работа хорошо давалась Гучкову. Глинка свидетельствовал, что он ведет «заседание очень хорошо, точно дирижирует большим оркестром, его „молодцы“ Лерхе, Крупенский и другие все время бегают к нему с донесениями о настроении фракций, о принятых решениях. Чувствуется сила. Зал спокоен». Гучков умело вел прения, выделяя главное, отсекая все лишнее и не позволяя ораторам говорить не по существу. «При докладе он очень ловко дает понять, что обстоятельства дела уже ясны и не требуют дальнейших пояснений, и заставляет вас, таким образом, переходить или к следующим доказательствам или предметам подлежащим обсуждению». Председатель мог исподволь влиять на решение того или иного вопроса. В марте 1910 года Гучков задержал обсуждение законопроекта о Финляндии, распорядившись не раздавать его депутатам до обсуждения в Общем собрании.
Правда, впоследствии столь благоприятное впечатление от Гучкова померкло. Он с явным трудом сдерживал наиболее пылких думских ораторов. Громкие разговоры и беспрестанный шум продолжались, несмотря на его бесконечные замечания. Все это имело свои печальные последствия: «Разнузданность нравов и языка в Государственной думе с трибуны и с мест в настоящее время не знает пределов. Систематически проявляется неуважение как к самому учреждению, так и по отношению друг к другу. Государственная дума входит в поговорку, когда поднимается беспорядок или шум начинают, в обществе и на улице говорят: здесь не Государственная дума, я вам не член Думы».
При Гучкове многое изменилось в отношениях между думским руководством и министрами. Вопреки сложившейся традиции, он предпочитал беседовать с руководителями ведомств в министерском павильоне, а не у себя в кабинете. Многие заседания Думы Гучков не посещал. Вместо этого он писал записки министрам на листочках крошечного формата. Он писал их так много, что, по свидетельству того же Глинки, было совестно перед курьерами. Приходилось придумывать иные способы пересылки сообщений. Например, записки передавались через дежурного чиновника особых поручений при премьере или же через личного секретаря председателя Думы. Гучков и Столыпин перезванивались несколько раз в день. Председатель нижней палаты часто выполнял роль посредника между Столыпиным и различными общественными группами, организовывал встречи председателя Совета министров с делегациями из провинции.
Гучков занял пост председателя, рассчитывая на тесное сотрудничество с императором. Однако этот расчет не оправдался. За время их недолгого общения отношение царя к Гучкову резко ухудшилось. Сперва беседы императора с председателем Думы носили весьма доверительный характер. Так, в ноябре 1910 года они обсуждали самый широкий круг проблем, явно не входивший в сферу компетенции нижней палаты. Они говорили о внешнеполитических вопросах, Николай II рассказывал о своей недавней встрече с германским кайзером. Гучков, в свою очередь, жаловался на беспорядки в морском и военном ведомствах. Эта беседа имела практические последствия. На следующий день император вызвал к себе военного министра В. А. Сухомлинова, сообщил ему о замечаниях Гучкова, предлагая на них отреагировать. Гучков не сдержался и рассказал о своих победах Совету старейшин Думы. В результате слова Николая II стали достоянием широкой гласности, будучи даже опубликованными в газетах. По мнению Савича, именно тогда высочайшая оценка Гучкова радикально изменилась. Впоследствии Сухомлинов в докладах императору регулярно подчеркивал вмешательство Гучкова в дела армии. Император же в ответ называл бывшего председателя Думы «подлецом» и не возражал против того, чтобы эти слова дошли до Гучкова. Встречи с ним он считал предосудительными, а одному из министров прямо говорил, что «Гучкова мало повесить».
Пока Гучков сидел в председательском кресле, его фракция постепенно распадалась на части. Раскол был усугублен событиями 1911 года, когда законопроект о введении земства в Западном крае (то есть на территории части современной Украины) был проведен в порядке чрезвычайно-указного права. Гучков, ушедший в отставку с поста председателя Думы в знак протеста против этого решения, считал, что октябристы должны были занять принципиальную позицию. Однако безусловный лидер «Союза 17 октября» оказался в этом вопросе в одиночестве. Абсолютное большинство его однопартийцев желали голосовать в пользу правительственной инициативы, которая, впрочем, изначально исходила именно от «Союза 17 октября». Возмущенный Гучков вышел из состава бюро фракции и вскоре уехал на Дальний Восток.
Практически шесть лет, вплоть до 1917 года, председателем Думы был М. В. Родзянко. Он имел высокое мнение о своей персоне, считая себя вторым человеком в империи. Родзянко полагал, что городовые должны отдавать ему честь. Он и от депутатов требовал признания своего высокого звания. В ноябре 1913 года Родзянко сообщал сотрудникам думской канцелярии: «Ведь сегодня хоры будут ломиться от публики. Всем, кому будут мною даны карточки, оказать содействие в получении мест. Ведь на меня идут, как на Шаляпина». Родзянко выражал недовольство, что правительственные телефонистки не спешили отвечать на его звонки. В 12 часов ночи он позвонил премьер-министру В. Н. Коковцову: «Владимир Николаевич, сделайте распоряжение, чтобы ваши телефонные барышни немедленно отвечали на звонок председателя Государственной думы». Коковцов был поражен: «Михаил Владимирович, вы в здравом уме и в твердой памяти?» Родзянко пришлось перевести разговор в шутку. Председатель Думы как подлинный государственный деятель много думал и о будущем. 19 февраля 1917 года, накануне революции, его волновал один вопрос: как организованы похороны председателя бюджетной комиссии М. М. Алексеенко? И чем траурная церемония будет отличаться от той, что будет организована в случае кончины самого председателя Думы?
Родзянко любил повторять: «Я председатель, я имею право». Председатель постоянно выражал недовольство поведением окружающих, которые проявляли недостаточное почтение к его персоне. «Я… крайне недоволен непочтительным ко мне отношением многих ваших чиновников, – отчитывал он руководителей канцелярии 11 мая 1912 года. – Так, я заметил, что они при встрече на улице мне не кланяются и не уступают дороги. Это крайне невежливо с их стороны и непочтительно к председателю Думы». Примечательно, что Родзянко практически не был знаком с сотрудниками думского аппарата. И все же среди них были «любимцы» (точнее – любимицы) председателя. Глинка застал Родзянко, диктующим свой доклад. Это происходило в зале общего собрания Думы. Рядом с председателем сидели две любимые стенографистки и переписчица, которую Родзянко называл Дусей. Каждые три минуты председатель прерывался, рассказывал забавные истории, угощал сладостями, рассматривал туалеты, прически девушек. Он потребовал от них доказательств, что они не носят парики, и по этой причине поочередно дергал их за волосы, а те в свою очередь весело взвизгивали.
Депутаты работают
В Думе существовало работоспособное ядро, которое несло основное бремя законотворческой деятельности. Понятно, что они составляли меньшинство. Большинство же никак не отметились в истории Думы. За все годы работы Третьей Думы 1 депутат из фракции правых выступал 374 раза на пленарных заседаниях, 1 прогрессист – 324 раза, от 251 до 300 раз выступали 2 депутата, от 201 до 250 – 3, от 151 до 200 – 7, от 101 до 150 – 11, от 51 до 100 – 48, от 26 до 50 – 54, от 11 до 25 – 78, от 4 до 10 – 92, 3 раза – 22 депутата, 1 – 48 народных избранников. 93 депутата Думы ни разу не выступили на пленарном заседании.
Еще более интересна информация о докладчиках. Один октябрист выступал с докладом 171 раз. 4 депутата выступали от 81 до 120 раз, 10 депутатов – от 40 до 80, 25 – от 21 до 40, 28 – от 11 до 20, 33 – от 6 до 10, 53 – от 3 до 5 раз, 33 – 2 раза, 39 – 1 раз. 261 депутат ни разу не выступил с докладом. За все время работы Третьей Думы октябристы сделали 1882 доклада, националисты – 341 доклад, кадеты – 150, правые – 141, члены польско-литовско-белорусской группы и польского кола – 85, правые октябристы – 60, прогрессисты – 55, представители мусульманской фракции – 10, трудовики – 9, беспартийные – 12. Члены социал-демократической фракции не выступали с докладами на пленарных заседаниях Думы. Такой фракционный перекос вполне объясним: оппозиция не возглавляла думские комиссии и, соответственно, не участвовала в распределении докладов.
Депутаты не отличались особой дисциплинированностью. Нередко так случалось, что народные избранники подъезжали на извозчике к Таврическому дворцу, оставляли его у дверей, регистрировались (дабы избежать штрафа за прогул) и тут же уезжали домой. Некоторые из них расписывались в журнале на следующий день. В таком случае требовалось лишь найти соответствующий список в думской канцелярии. Проблема возникала при поименном голосовании. Тогда приходилось обзванивать мнимо присутствовавших по телефону и в срочном порядке вызывать их в Думу. В обычные дни депутатов насчитывалось 100–180 человек (для кворума требовалось 140). Изредка их число достигало 280. В период работы Третьей Думы «рекорд» был поставлен в момент выборов А. И. Гучкова председателем палаты: тогда проголосовали 340 депутатов.
Особенно депутаты не любили ходить на вечерние заседания, что порой приводило к недоразумениям. Вечером 25 апреля 1912 года на заседании практически отсутствовал думский центр и было мало правых. В итоге, неожиданно для себя, решения принимала оппозиция. М. В. Родзянко, не чувствуя поддержки большинства, предпочел не мешать весьма дерзкому выступлению социал-демократа И. П. Покровского. В конце заседания в зале общего собрания оказался пьяный Г. В. Скоропадский (октябрист). Он непременно желал выступать с трибуны, что не вызывало восторга в президиуме. Но товарищи по фракции предложили ему «плюнуть на Думу и уйти лучше в буфет опохмелиться».
С приближением каникул – рождественских, пасхальных или летних – депутатов становилось еще меньше. В середине декабря и конце мая было чрезвычайно трудно обеспечивать кворум. К концу мая 1914 года, за месяц до окончания сессии, взяли отпуск более 100 депутатов. Недовольный Родзянко приказал отпуска не выдавать. Это возмутило депутатов, и председателю пришлось пойти на попятную. Буквально через несколько дней официально отдыхали уже 124 народных избранника. Сотрудники канцелярии Думы упрашивали по телефону Н. А. Хомякова приехать на заседание, а бывший председатель отвечал: «Ну их к черту».
Многие депутаты были так или иначе связаны с работами на земле: кто-то был земледельцем, а кто‐то – землевладельцем. Уже по этой причине им часто приходилось навещать родные места, чтобы контролировать ход полевых работ. Более всего депутатов волновали частные и региональные вопросы. Как вспоминал С. П. Мансырев, «большинство ограничивало свою деятельность хлопотами и ходатайствами о разнообразных, большей частью мелких нуждах своего района: какая-нибудь церковь, школа, железнодорожная ветка, а то и просьба по частному делу. Поэтому в общих собраниях и комиссионных заседаниях их почти не было видно: они являлись только тогда, когда их лидеры считали нужным мобилизовать все силы, и послушно голосовали по указке своих софракционеров. Прочее время они проводили в бесконечных посещениях разных канцелярий и министерств. А ведь таких было более четвертой части членов Думы».
Парламентарии «интеллигентных профессий» испытывали острую нехватку средств и нуждались в дополнительном заработке: депутатского жалованья им не хватало. Депутат Второй Думы Н. И. Иорданский вспоминал, как сразу после заседания, в 7 часов вечера, он по телефону диктовал статьи московской редакции «Русских ведомостей» (писал же он их во время самих заседаний). В Третьей Думе депутатам было назначено фиксированное жалованье в 4200 рублей. Однако в ряде случаев и его не хватало. Некоторым пришлось сложить с себя депутатские полномочия. Другие планировали найти дополнительный заработок: «За членами Думы не мелкого калибра была большая погоня на должности всяких директоров, членов правления в финансовых предприятиях, очень охотно принимали их в состав сотрудников редакций всяких газет».
Немногие депутаты прославились на ниве законотворчества. У народных избранников не было не только опыта, но подчас и желания посвятить себя этому делу. Для большинства частные интересы стояли выше общегосударственных. Однако этот бесспорный факт не умаляет значения дореволюционной Думы и выборов в нее. Самая честная избирательная кампания не дает гарантий качества депутатского корпуса. Чаще всего выбирают не самых умных, не самых опытных, не самых талантливых. Здесь важнее другое: депутатов все же выбирают. Это их заставляет хотя бы изредка задумываться о собственной репутации в глазах избирателей, а значит – время от времени представлять региональные или корпоративные интересы, в том числе в диалоге с правительством. В то же время исполнительная власть помнит о выборах, а следовательно, так или иначе учитывает потребности различных групп населения. И самое главное: диалог правительства с депутатами разворачивается в публичном пространстве. За ним наблюдают газеты, а вместе с ними и вся страна. Конечно, не обо всем журналисты узнают. Многое от них намеренно скрывается, о чем-то они даже не могут догадаться. Однако даже то, что представляет верхушка «айсберга», вынуждает участников законотворческого процесса учитывать фактор общественного мнения.
Газетный мир
Вокруг газет строились партии, с журналистами пытались подружиться министры, корреспондентов побаивались политики… Массовая газета – важный знак времени и прежде всего новых, неведомых ранее скоростей передачи информации, складывания общественного мнения. Начиная с эпохи Великих реформ в России неуклонно росло число периодических изданий. В 1870 году таковых насчитывалось 350, в 1894‐м – 785, а в 1901‐м – 1002. Однако даже с учетом этой динамики взрывообразный рост 1906 года представляется революционным. В 1905 году в Санкт-Петербурге издавалось 419 периодических изданий, а в 1906‐м – больше на 106 газет и 250 журналов. Иными словами, число печатных органов практически удвоилось. Аналогичные явления имели место в Москве и провинции. Конечно, в большинстве случаев эти издания не были долговечными. Тем не менее такой рост сам по себе весьма красноречив, он свидетельствует о том, как менялось российское общество.
Даже столица не успевала прочитывать все выходящие издания. 7 июня 1906 года писатель С. Р. Минцлов записал в дневнике: «Книжный рынок пресытился, захлебнулся тем страшным количеством книг и брошюр, что выбрасывается на него теперь ежедневно. Перестали даже идти разные социальные брошюры – еще так недавно нарасхват разбиравшиеся публикой. Мы пережили период книжной вакханалии: печать вырвалась из проклятых лап цензуры и закрутилась, как дервиш в пляске».
У газет и журналов чаще всего был свой очевидный политический окрас. Петербургская газета «Речь» – фактически официоз партии кадетов. Примечательно, что в подготовке этого издания принимали участие не только кадровые политики. Так, логотип газеты придумал художник Л. С. Бакст. С «Речью» тесно сотрудничали художник А. Н. Бенуа, музыкальный критик В. Г. Каратыгин, литературные критики Ю. И. Айхенвальд и К. И. Чуковский. Много писал для газеты сатирик А. Т. Аверченко. На ежегодно отмечаемых днях рождения «Речи» выступали известные артисты (бас Ф. И. Шаляпин, начинающий композитор С. С. Прокофьев), по стенам были развешены карикатуры из газеты. Политика и искусство часто пересекались – в особенности на страницах периодических изданий.
Это не было привилегией «Речи». Карикатуры, литературные пародии, фельетоны, написанные популярными авторами, – необходимый атрибут любой серьезной общественно-политической газеты того времени: например, авторитетнейшего московского издания «Русские ведомости». Оно тоже представляло либеральную общественность, преимущественно симпатизировавшую Конституционно-демократической партии. «Голос Москвы» – газета Гучковых, отстаивавшая позицию «Союза 17 октября». На его страницах едко высмеивались деятели партии кадетов – основные конкуренты октябристов на выборах в Думу в Первопрестольной. Газета существовала практически исключительно на средства Гучковых. Прочие московские промышленники ей не симпатизировали (как, собственно, и «Союзу 17 октября»). С 1907 года в Москве на деньги П. П. Рябушинского издавалась газета «Утро России». Это была газета молодого поколения московских предпринимателей, которая с 1912 года представляла партию прогрессистов. Петербургское «Новое время» – пожалуй, единственное сравнительно авторитетное издание, занимавшее консервативные и националистические позиции. В целом правомонархические газеты и журналы большой популярностью в России не пользовались.
Впрочем, «Новое время» сложно однозначно отнести к какому-либо лагерю. Газета занимала гибкую позицию и часто ее меняла в зависимости от конъюнктуры. Для «Нового времени» и его издателя А. С. Суворина на первом месте стоял коммерческий успех, что подразумевало необходимость угадывать настроения публики. Не случайно к 1906 году в газете все громче звучали оппозиционные голоса, которые вскоре быстро затихли.
Схожую позицию занимал И. Д. Сытин, издававший в Москве газету «Русское слово». Тактика себя оправдывала: газета стала по-настоящему массовой. К 1916 году ее тираж достиг 700 тысяч экземпляров. Такое издание было доходным мероприятием, дававшим немалое жалованье авторам и редакторам. Даже в далеко не самой популярной газете «Речь» ведущие сотрудники получали приличные оклады: И. В. Гессен – 13 тысяч рублей в год, П. Н. Милюков – 9 тысяч, А. Н. Бенуа – 6 тысяч[7]. Авторы же зарабатывали до 50 копеек за статью.
В начале XX века в русской журналистике появились фигуры, пользовавшиеся широкой популярностью: например, Влас Дорошевич и Александр Амфитеатров. «Дорошевич – эпоха; Дорошевич – российское изобретение. Эпоха – потому что ни до него, ни после него так не писали и не будут писать; а российское изобретение – потому что нигде в мире нет и не может быть явления Дорошевича. Он глава школы, новатор, творец фокуса, короновавшего его королевской короной… В этом смысле он выше… и своего ворога – Амфитеатрова», – так писал о своих коллегах И. И. Колышко, тоже весьма влиятельный и популярный журналист. За Дорошевича сражались петербургские и московские газеты, но он так и остался в «Русском слове» у Сытина, который не жалел средств для своего самого известного сотрудника. Не меньшей славой пользовался Амфитеатров. По словам все того же Колышко, «на Руси не было писателя… который бы извлек из своего пера столько золота, как Амфитеатров. Пожалуй, и не было писателя, который бы столько извел чернил и бумаги. (На амфитеатровском пальце имелся подлинный мозоль от пера.) А об амфитеатровских получках из издательских касс, равно как и о размахе амфитеатровской жизни ходили легенды». Характерно, что свою карьеру Амфитеатров начинал в консервативном «Новом времени», продолжил в газете «Россия», финансируемой Саввой Мамонтовым. Там он прославился фельетоном «Господа Обмановы», в котором можно было усмотреть сатиру на царскую семью. Цензура статью пропустила, но в Министерстве внутренних дел спохватились, арестовали Амфитеатрова и сослали в Минусинск. Так сотрудник Суворина волей-неволей стал оппозиционным журналистом. При первой возможности он выехал за границу, где издавал журнал с говорящим названием «Красное знамя». Амфитеатров поселился в Италии, в Феццано, где его соседом и приятелем стал лидер эсеров В. М. Чернов. В 1916 году, в самый разгар Первой мировой войны, он вернулся в Петербург, где оказался чрезвычайно востребован. По настоянию министра внутренних дел А. Д. Протопопова Амфитеатров получил особняк и автомобиль. Публицист должен был возглавить газету «Русская воля» – печатный орган, подконтрольный столь непопулярному в России министру.
Таких влиятельных и широко известных журналистов, конечно, было немного, но все же следует еще назвать несколько значимых имен: М. О. Меньшиков, А. А. Пиленко, В. В. Розанов, С. Н. Сыромятников…
Законотворчество
Большинство законопроектов готовилось не депутатами, а правительством. В Первую Думу министерства внесли 16 законопроектов, во Вторую Думу – 287, в Третью – 2567, в Четвертую – 2625. Для сравнения: депутаты Первой Думы внесли 16 законопроектов, Второй Думы – 44, Третьей Думы – 207, Четвертой – 217. За время работы Третьей Думы всего было принято 2197 законов. Из них два по инициативе Государственного совета и 34 – депутатов Думы (за пять лет шесть законопроектов внес Государственный совет, а депутаты Думы – 265). Один из депутатов-октябристов писал в феврале 1909 года: «В работе Думы совершенно не видно плана – разбирают законы, которые подваливает правительство. Не Дума ведет свою линию, а правительство». В этом не сказывалась российская специфика. Подобное положение было характерно для любого законотворческого механизма. Говоря словами М. Вебера, лишь чиновник, имеющий в своем распоряжении разветвленный бюрократический аппарат, обладал «служебным знанием» – многочисленными сведениями, без которых сложно принимать решения. В этой связи в Великобритании в 1853–1861 годах были приняты решения, ограничивавшие число пленарных заседаний, посвященных рассмотрению депутатских биллей. В результате в 1895–1900 годах британское правительство вносило около 65 законопроектов в год. 187 биллей готовились депутатами. В итоге 45 правительственных законопроектов (около 70 %) и лишь 14 депутатских (около 7 %) обретали статус закона. В 1901 году 90 % времени депутаты тратили на обсуждение правительственных биллей и 10 % посвящали депутатским.
Большинство законопроектов в Думе представляли собой, по словам С. Ю. Витте, «закончики». Ф. А. Головин именовал их «хомяковской вермишелью». «Закончики» не имели большого значения для страны в целом, но были важны для отдельных городов, университетов, гимназий и т. д. Многочисленность «вермишели» объяснялась традициями дореформенного законотворчества. Прежде даже малозначимые подзаконные акты нуждались в подписи царя. Правда, для разных категорий законопроектов требовались различные процедуры. После 1906 года ситуация существенно изменилась. В январе 1908 года один из лидеров «Союза 17 октября» барон А. Ф. Мейендорф объяснял депутатам: «При прежнем строе существовал один нормальный законодательный порядок и наряду с этим приблизительно столько же законодательных путей, сколько проходов между сидениями в этом зале. Некоторые из этих путей были подлиннее, другие покороче, и я скажу, что некоторые были так коротки, что они для своего прохождения не требовали срока, превышающего период горения хорошей сигары. И вот жизнь заставляла идти различными законодательными путями, если включить всеподданнейшие доклады министров, достигавшие количества, по крайней мере, 20… Этими 20 путями удовлетворялись жизненные потребности на всевозможных поприщах – и временные, и постоянные изменения штатов, всевозможные финансовые меры». При новых обстоятельствах путь законотворчества был, в сущности, один. «Теперь одну Думу заставляют делать все то, что в прежнее время делали 20 путями». Мейендорф не сомневался в том, что это заметно затрудняло работу депутатов.
По словам В. А. Маклакова, уже Вторая Дума, «очевидно, не могла поспеть за министерской плодовитостью. В нее ежедневно поступали и мелкие, и крупные законопроекты, заготовленные канцеляриями на досуге междумского отдыха, и число внесенных таким образом законов в первые недели Думы превысило цифру 300». Было принято решение рассматривать «мелкие» законопроекты два раза в неделю от 7 до 10 вечера. В первую сессию Третьей Думы около трети времени депутатов тратилось на «вермишель».
Депутаты искали пути оптимизации законотворчества, ориентируясь на зарубежный опыт. С. И. Шидловский с некоторой завистью описывал в воспоминаниях английскую парламентскую процедуру обсуждения «закончиков»: раз в неделю в 7 часов утра заместитель спикера открывал заседание Палаты общин, если присутствовал хотя бы один депутат. Они вдвоем имели право пропускать всю «вермишель» сразу во всех чтениях. В Думе сложилась схожая практика. Так, в 1909 году 200 условных кредитов следовало утвердить за 1–2 заседания. Чаще всего это приходилось делать в конце сессии. В мае 1911 года в ежедневной повестке стояло около 100 законопроектов. В итоге на каждый тратилось полторы минуты. «Ни докладчики, ни сам председательствующий князь Волконский не знали, что они голосуют, и когда возбуждался кем-либо какой вопрос, они отвечали: „Там разберутся“, то есть Канцелярия [разберется]». В феврале 1912 года, когда до завершения работы Третьей Думы оставалось несколько месяцев, Я. В. Глинка записал в своем дневнике: «Все (депутаты. – К. С.) нервничают, хотят побольше пропустить до конца полномочий законов, времени не хватает, кидаются от одного закона к другому, получается, по меткому выражению одного из членов Думы, законодательная чехарда». В этом «калейдоскопе» могли затеряться и действительно важные инициативы. Проекты докладывались «с кинематографической быстротой, когда слово „принято“, оглашаемое председателем, уподоблялось тиканью часового маятника».
Рутинная законотворческая деятельность затруднялась долгими прениями по бюджету. На них тратилась большая часть пленарных заседаний. В марте 1912 года октябристы приняли решение посвящать обсуждению государственной росписи пленарные заседания в понедельник, вторник, пятницу, субботу, среду же отводить крупным законопроектам, а четверг – «вермишели».
Думская работа – это не только «большие дни» обсуждения правительственных деклараций, не только дискуссии о важнейших правительственных инициативах, но и налаженная рутинная законотворческая работа, нередко скучная и серая, тем не менее чрезвычайно важная. Готовность Думы к такой деятельности свидетельствовала о ее зрелости, способности стать в полном смысле этого слова органом власти.
Думские комиссии
Не секрет, что законотворческая деятельность разворачивалась в комиссиях, а не на пленарных заседаниях, где депутаты выступали для журналистов, а следовательно для избирателей. В комиссиях шла работа. Она эволюционировала вместе с самой Думой. Депутаты первого созыва спешили с подготовкой законопроектов и не собирались учитывать уже имеющееся законодательство. Один из членов Думы писал домой уже 29 апреля 1906 года: «В Питере сразу попал в вихрь думской деятельности, довольно беспорядочной по новизне и самого дела и горячности новых деятелей, достаточно самонадеянных, чтобы считать себя способными в несколько вечеров построить проект автономии для разных областей России, кои для себя пожелали сию штуку – автономию завести: Литву, Польшу, Белоруссию, Малороссию, всякие Ляндии, Кавказ, Поволжье, Сибирь и т. д. Я лично того мнения, что надо бы хоть для образца познакомиться с каким-нибудь существующим основным законом, ибо кропать прямо из головы автономные конституции – как раз угодишь под перо Щедрина…» В думских комиссиях депутаты не стеснялись в выражениях и, по словам В. Н. Коковцова, ставили перед собой цель «покуражиться» над министрами.
Во Второй Думе работа комиссий так и не наладилась. «В комиссиях, по словам наших чинов, не умеют взяться за работу ввиду неподготовленности и неумения работать вообще», – писал императору П. А. Столыпин. Немногие депутаты обладали необходимыми знаниями. Без них работа останавливалась, что внушало пессимизм народным избранникам: «Может случиться опасная вещь: если наши комиссии окажутся в таком бессилии, то Дума умрет собственной смертью, подавленная громадным количеством министерских законов, которых она не сумет разбить критикой, чтобы поставить на их место свои законы».
Леворадикальное большинство Думы не интересовалось работой комиссий. Чаще всего его представители приходили на заседания комиссий лишь к моменту голосования, игнорируя обсуждение законопроектов. Может быть, по этой причине во Второй Думе характер работы комиссий существенным образом отличался от пленарных заседаний. В комиссиях преобладал деловой тон. А. А. Кизеветтер с удивлением наблюдал, как в комиссии о неприкосновенности личности либеральный общественный деятель В. Д. Кузьмин-Караваев читал лекцию социал-демократу А. Л. Джапаридзе по правовым вопросам. Рядом же «тихо-смирно» сидел правый граф В. А. Бобринский.
В Третьей Думе многое изменилось. Бросались в глаза даже внешние признаки такой метаморфозы. В декабре 1907 года министр финансов Коковцов пришел на заседание бюджетной комиссии. Ее члены, независимо от фракционной принадлежности, вежливо встали с кресел, отвечая на поклон главы ведомства. В Первой и Второй Думе это было немыслимо.
Главное, конечно, было в другом. За пять лет депутаты накопили немалый опыт законотворческой деятельности, отчасти компенсировали дефицит профессиональных навыков, отсутствие отлаженного механизма обсуждения законопроектов. Проблем было великое множество. Например, большая часть народных избранников участвовали в работе сразу нескольких комиссий (в среднем – двух). В ноябре 1907 года октябрист Г. Г. Лерхе на заседании фракции сообщил, что 59 октябристов не попали ни в одну комиссию, 54 состояли в одной, 32 – в двух, 14 – в трех, 2 – в четырех, 1 – в пяти. Бюро фракции высказалось за то, чтобы депутат участвовал в работе двух «главных» комиссий и одной «второстепенной» (редакционной, библиотечной или по запросам). «Странное дело, – отмечал октябрист Клюжев, – всем хочется попасть в ту или другую комиссию, а как попадут, сейчас же манкируют своими обязанностями».
По оценке Н. А. Хомякова, в Третьей Думе треть членов бюджетной комиссии не являлась на ее заседания, а треть приходила от случая к случаю. Причем это касалось самых активных депутатов. К февралю 1908 года из восьми заседаний комиссии о неприкосновенности личности В. А. Маклаков присутствовал на трех, М. С. Аджемов и Ш. Ш. Сыртланов – на двух, О. Я. Пергамент – на одном. Это объяснялось прежде всего тем, что заседания комиссий проходили в одни и те же часы. Депутатам, входившим сразу в несколько комиссий, приходилось пропускать заседания, а те, в свою очередь, могли не состояться по причине отсутствия кворума. Дабы избежать этой проблемы, всех расписавшихся в явочном листе полагали присутствовавшими. И все же к моменту голосования кворума чаще всего не было. Депутаты бегали по соседним комнатам в поисках своих «заблудших» коллег.
Правда, не всегда эти ухищрения приносили результат. Иногда приходилось отменять заседания из‐за отсутствия кворума. Причины могли быть самые разные. Например, в 1908 году были отменены заседания земельной комиссии в связи с именинами председательствовавшего. 24 ноября 1911 года многие депутаты не пришли на заседание комиссий: это был день святой Екатерины. «Далеко не все готовы променять именины на думские дела», – записала в дневнике жена И. С. Клюжева. 8 мая 1912 года тот же Клюжев упрашивал своих нерадивых коллег явиться на вечернее заседание комиссии по народному образованию. У всех была серьезная причина отсутствовать: епископ Митрофан должен был проводить церковную службу. Г. Х. Еникеев ссылался на то, что обсуждавшийся законопроект его не устраивал, так как ущемлял права национальных меньшинств. Об этом же говорили и польские депутаты. Надежда была на А. М. Масленникова, который вроде обещал прийти. Однако его знакомые не были столь наивны: «Он не сдержит своего обещания по присущей ему лени». Октябрист Д. А. Леонов говорил об усталости, кадет М. С. Воронков – о неприятии законопроекта. У октябриста И. В. Годнева не хватало времени: он рассчитывал в скором времени вернуться домой, и ему надо было срочно укладывать багаж. Оставалось лишь возмущаться: «Одни, как Годнев, укладываются, другие проводят вечера в клубе за карточной игрой и многие, как говорят, очень проигрались, третьи уехали в отпуск, четвертые улаживают свои делишки. Все, кто не рассчитывают попасть в следующую Думу, запасаются себе протекцией для получения тепленького местечка. Да и те, кто думает пройти на предстоящих выборах, все-таки на всякий случай заботятся об этом же».
Комиссии работали с разной степенью эффективности. Бюджетная комиссия за годы работы Третьей Думы внесла 514 докладов на рассмотрение депутатов, дала заключение по 1222 законопроектам. Лишь 23 законодательные инициативы остались без рассмотрения (меньше 2 %). Сельскохозяйственная комиссия подготовила 48 докладов, так и не рассмотрев двух законопроектов (4 %). Комиссия по государственной обороне за время работы Третьей Думы внесла 422 доклада. 18 законодательных инициатив она рассмотреть не успела (то есть более 4 %). Комиссия по народному образованию за те же пять лет составила 313 докладов, не рассмотрев 16 законопроектов (4,6 %). Вместе с тем финансовая комиссия внесла на обсуждение 307 докладов, не изучив 47 законопроектов (около 14 %). Комиссия по судебным реформам подготовила 116 докладов, не справившись с 20 законопроектами (более 14 %). Комиссия по местному самоуправлению внесла 20 докладов, оставив без внимания 7 законопроектов (около 26 %). Земельная комиссия подготовила 21 доклад, 13 законопроектов (более 38 %) остались нерассмотренными.
Многое для комиссий значил ее председатель. По общему мнению, эффективность работы бюджетной комиссии определялась деловитостью ее руководителя – М. М. Алексеенко. Это отмечали и депутаты, и министры. Коковцов разъяснял императору, что позиция Алексеенко – важный фактор при принятии законов. В итоге председателя бюджетной комиссии регулярно приглашали на рауты к министрам, а все его личные просьбы обычно удовлетворялись. Депутаты его побаивались. Порой им легче было обратиться за помощью к премьер-министру Коковцову, чем к Алексеенко. Председатель бюджетной комиссии чувствовал свою силу и позволял себе резкие высказывания в отношении министров. В октябре 1913 года он прямо заявил, что кредиты на большую судостроительную программу в Думе не пройдут: «„Кораблики“ нужны только морскому министру, а мы не так богаты, чтобы исполнять фантазии каждого министра».
В комиссии по государственной обороне в 1907–1910 годах «диктаторствовал» А. И. Гучков, что раздражало многих депутатов. Лидер правых Н. Е. Марков, в частности, заявлял: «Комиссия по государственной обороне не существует – существует комиссия А. И. Гучкова и больше ничего. В этой комиссии допускается к обсуждению только то, что угодно А. И. Гучкову. То, что ему не угодно, решается в его кабинете и как готовое решение выносится в комиссию государственной обороны». В итоге секретные кредиты, которые шли на содержание Военного и Морского министерств, обычно согласовывались тремя лицами: представителем ведомства, Гучковым и Алексеенко. Комиссии оставалось лишь утвердить это решение.
В комиссии по судебным реформам Третьей Думы тон задавал Н. П. Шубинский[8]. Он своим решением пресекал прения, форсировал обсуждения законопроектов. Подобным образом себя вел председатель комиссии по народному образованию В. К. Анреп. Он противился прохождению законопроектов, которые вносил не сам, а коллеги из комиссии. Так случилось с проектом об учительских семинариях, который был составлен Клюжевым. Тот не мог самостоятельно побороть сопротивление Анрепа. В итоге Клюжев обратился за помощью к Гучкову и даже министру народного просвещения Л. А. Кассо. Анрепу пришлось уступить. В комиссии законопроект был существенно изменен, но при этом доклад никак не утверждался. В ноябре 1911 года Клюжев спросил Анрепа, когда будет рассмотрен доклад по его законопроекту. Ответ был определенный: «Никогда». По словам Анрепа, на эту депутатскую инициативу просто не было времени. Клюжеву пришлось вновь обращаться к Гучкову: «Александр Иванович, Вы, конечно, знаете, что Анреп никогда не сочувствовал моей идее подготовки начального учителя, но знаете ли Вы о том, что несмотря на то, что совещание по этому вопросу [внесло] в комиссию [по народному образованию] составленный им законопроект еще в мае прошлого года, он [Анреп] тем не менее все откладывал этот законопроект, а в настоящее время совсем отказывается в его рассмотрении. Если такое отклонение законопроекта, на составление которого потрачено три года времени при участии многих авторитетных и вообще сведущих в той области лиц, исходило с правой стороны, то с этим еще возможно было бы помириться. Но раз оно идет от нас – октябристов, то это едва ли может служить хорошей рекомендацией перед выбором». Гучков обещал, что переговорит с Анрепом, но за успех не ручался. У Анрепа было много способов добиться желаемого. Он мог закрывать заседание комиссии раньше времени, препятствуя обсуждению нежелательного вопроса. Мог просить октябристов не приходить на заседание комиссии и тем самым сорвать его. Или же, напротив, просил не расходиться слишком рано. Тогда в конце заседания он мог провести нужное решение. В некоторых случаях Анреп даже менял редакцию законопроекта, не ставя в известность своих коллег по комиссии и даже докладчика.
Помимо председателя, в комиссиях активно работали немногие депутаты. В Третьей Думе в комиссии по государственной обороне основные решения принимались пятью лицами (из 33): А. И. Гучковым, А. И. Звегинцевым, Н. В. Савичем, И. В. Барятинским и П. Н. Крупенским. На них ложился большой груз ответственности. В марте 1907 года А. И. Шингарев писал домой: «Живем мы совершенно угорелые от работы: ни читать, ни заниматься чем-либо основательно, ни даже спать некогда. Я попал в продовольственную комиссию и занят теперь буквально полусуток. Еле утром пробегаю газету, и с трудом успеешь ответить на обильную корреспонденцию, а ее много, очень много».
Судьба законопроектов в комиссиях складывалась по-разному. Одни обсуждались годами, другие принимались почти моментально. Законопроект об учреждении волостного земства обсуждался в соответствующей подкомиссии 60 заседаний, а в комиссии по местному самоуправлению – 19. Законопроект об образовании Холмской губернии рассматривался в течение 16 заседаний, о введении земства в шести западных губерниях – 12. Целая сессия потребовалась земельной комиссии, чтобы обсудить законопроект, подтверждавший Указ 9 ноября 1906 года (инициировавший начало столыпинской аграрной реформы). Проекту судебной реформы было посвящено 45 заседаний комиссии. В этой связи Шубинский вспоминал, что его коллеги «работали с 11 часов утра и до… не знаю, до какого часа, потому что часов в руках у нас не было, а расходились, когда уже отказывалась работать голова». Вместе с тем некоторые законопроекты недолго задерживались в Думе. Проект о порядке издания законов, относившихся к Финляндии, был внесен в комиссию 22 марта 1910 года, а доклад по нему поступил в общее собрание Думы 8 мая того года.
Практически всегда на заседаниях комиссий присутствовали представители министерств и ведомств. Иногда случалось, что министры и их товарищи (заместители) напрасно приезжали в Думу. Кворума не было, и заседание переносилось на другой день. Тем не менее чиновники относились к думским занятиям со всей ответственностью. Министр финансов Коковцов никогда не пропускал заседаний бюджетной комиссии даже в дни работы Второй Думы, настроенной весьма радикально. В мае 1914 года обер-прокурор Святейшего синода В. К. Саблер присутствовал на заседании думской комиссии в скором времени после тяжелой болезни. Ему нужно было провести консультации с депутатами о прохождении ведомственных законопроектов. В декабре 1915 года министр земледелия А. Н. Наумов, больной гриппом, с высокой температурой, вопреки требованиям врачей, приехал в Думу на заседание бюджетной комиссии.
Случаи, когда министры игнорировали заседания, были сравнительно редкими: глава ведомства, игнорировавший комиссионную работу, неизбежно подрывал свой кредит доверия у депутатов. Так вел себя военный министр В. А. Сухомлинов, который в Думу предпочитал не ходить, посылая туда своего помощника А. А. Поливанова. Недолюбливали депутаты министра внутренних дел Н. А. Маклакова. После назначения он интересовался у коллег по правительству, стоит ли ему посещать заседания бюджетной комиссии. Министры предложили ему посылать в Думу своих товарищей (заместителей). Маклаков так и делал. В Таврическом же дворце говорили: «Вот все ездят, а Маклаков плюет».
Порой в работе комиссий участвовали сразу несколько руководителей ведомств. Так случилось 9 февраля 1908 года. На заседании комиссии по государственной обороне выступали Столыпин (4 раза), министр иностранных дел А. П. Извольский и Коковцов (который говорил один раз, но целых 50 минут).
Министры деятельно участвовали в работе комиссий. Они были теми немногими, кто разбирался в обсуждавшихся вопросах. Чаще всего предварительно с законопроектом был ознакомлен докладчик и еще 2-3 депутата. Прочие народные избранники предпочитали знакомиться с вопросом по ходу обсуждения. Это не мешало им высказываться и даже вносить правки в законопроект. Лиц, обладавших специальными знаниями, на заседаниях практически не было. Как вспоминал товарищ министра финансов (а впоследствии министр иностранных дел) Н. Н. Покровский, «были дельцы, были некоторые бывшие чиновники финансового ведомства. Но в массе за незначительными исключениями это были дилетанты, только здесь знакомившиеся с теми вопросами, которое им предстояло решать».
Многим депутатам не хватало терпения досидеть до конца заседания. Одни приходили к началу и в скором времени покидали коллег, другие специально подходили к концу. Соответственно, мало кто слышал объяснения министра и речи докладчиков, тех немногих, кто был знаком с законопроектом. Министр торговли и промышленности С. И. Тимашев вспоминал: «Припоминаю и такие случаи, когда к моменту голосования оказывалось, что кворума не имеется, начиналось приглашение отсутствующих членов, их отыскивали на прогулке в зале или Таврическом саду, привлекали в комнату заседаний, и тогда происходило голосование. Если на поиски шли сторонники законопроекта, которые приводили своих единомышленников, то дело проходило благополучно. В противном случае законопроект отклонялся или в него вводились нежелательные поправки».
Несмотря на все эти трудности, работа в комиссиях позволяла депутатам и чиновникам налаживать отношения, выходившие за рамки официального протокола. С неформального общения чаще всего и начиналась работа. Представители ведомств и депутаты завтракали вместе, решая за трапезой многие волновавшие их вопросы, в том числе частные. Военный министр А. Ф. Редигер регулярно приглашал на «чашку чая» 5–6 наиболее деятельных сотрудников Комиссии по государственной обороне. Во время чаепитий глава ведомства и народные избранники даже пытались выстроить общую линию поведения в отношении правительства, и в первую очередь Министерства финансов. Военное ведомство вполне могло рассчитывать на поддержку Думы.
Комиссия по государственной обороне (в Четвертой Думе – по военным и морским делам) периодически проводила «закрытые» совещания. На них приглашались видные представители Военного министерства. Иногда такие совещания проводились на частных квартирах (например, у П. Н. Крупенского). На эти заседания приходили помощник военного министра А. А. Поливанов, генералы, офицеры Генерального штаба.
Они собирались на частных квартирах по той причине, что присутствие экспертов на заседаниях комиссии строго воспрещалось правительством. П. А. Столыпин полагал, что, приглашая экспертов и независимо от правительства собирая необходимые сведения, депутаты подменяли собой исполнительную власть. Попытка депутатов игнорировать требование правительства встречала жесткий ответ. 31 марта 1907 года охрана не пустила в Думу Н. И. Астрова, который работал в канцелярии Таврического дворца в должности «состоящего при секретаре Государственной думы».
В комиссиях господствовала совершенно особая тональность разговора о законопроектах. Фракционные разногласия сходили на нет. Депутаты различных партийных пристрастий учились договариваться друг с другом. Князь А. Д. Голицын вспоминал, что «работа в этой комиссии (по реформе местного самоуправления. – К. С.) шла под председательством Юрия Глебова в столь же дружном общении, как и в переселенческой. В нее вошли в подавляющем количестве земцы, от правых и до трудовиков. Царивший в ней дух вполне соответствовал нашим обычным земским собраниям, где каждый отстаивал свою точку зрения в зависимости от своих взглядов, уважая в то же время чужое мнение и оспаривая его в приличной и выдержанной форме. Благодаря работе в этой комиссии у нас создался дружный кружок единомышленников, тесно сплоченный не только в пределах думских и фракционных работ, но и вне их». На партийной конференции конституционных демократов 24 мая 1909 года А. И. Шингарев поражался плодотворности трудов комиссии: «По результатам своих работ эта комиссия является чуть ли не самой ценной из всех думских комиссий. В ней мы могли убедиться в том отрадном факте, что люди 3-го июня оказались воспитанными в земских традициях; несмотря на свою в общем политическую безграмотность, октябристы обнаруживают стремление проводить принципы самоуправления, пытаются оградить земство от бюрократической опеки». Октябристы в свою очередь удивлялись готовности кадетов к диалогу. А. Д. Голицын по этому поводу писал: «Я должен удостоверить, что в комиссии земского самоуправления тот же Шингарев ничем не обнаруживал своей принадлежности к оппозиции ради оппозиции и принимал участие в общих прениях, выражая свое мнение так же точно, как это обычно имело место в заседаниях наших земских учреждений».
В итоге правительственные законопроекты подвергались существенной правке. В мае 1909 года А. И. Шингарев рассказывал однопартийцам: «Я принимал участие в подкомиссии по волостному управлению и могу засвидетельствовать, что правительственный проект подвергся здесь таким изменениям и улучшениям (мы старались переработать волость по типу земства), что возникло даже опасение, не возьмет ли правительство свой законопроект обратно. Правда, октябристы начали с утверждения цензового начала, против которого мы резко протестовали; но потом стал выдвигаться в качестве ценза принцип известной налоговой нормы, а налоговый ценз, как известно, представляет значительное улучшение по сравнению с имущественным». Помимо этого, был заметно снижен имущественный ценз, расширены полномочия волостного правления, предоставлено право голоса женщинам. Даже стилистически документ сильно изменился. В феврале 1911 года Шингарев так характеризовал новую редакцию: «Когда вы подойдете к лежащим перед нами параллельным законопроектам комиссии и правительства, то вы увидите здесь зрелище весьма интересное. Эти проекты отражают на себе необычайно характерные особенности и той, и другой группы, и чиновничества, бюрократии, и земских людей, они чрезвычайно ярко, выпукло рисуют определенные тенденции долголетней привычки и навыков, которые свойственны тем и другим. Правительственный проект говорит о волостном управлении, проект комиссии говорит о волостном земском управлении; правительственный проект берет старую терминологию и говорит о волостном старшине, а проект комиссии – о председателе волостной земской управы; правительственный проект говорит о волостном писаре, рисуя перед вами этим термином знакомую фигуру подневольных людей, попавших под начальственную указку, а проект комиссии говорит вам терминами земских учреждений».
Такая судьба ждала любой значимый законопроект, внесенный в Думу. Депутаты серьезно изменили законопроект судебной реформы. По словам Шубинского, «работа шла огневая, и мало-помалу правительство пошло на крупнейшие уступки. Раньше была мысль создать из реформы местного суда только пристройку к окружным судам со всею неизбежной зависимостью от этого типа судов. А комиссия настояла на том, чтобы дать народу свой мировой суд, основанный на народной совести… С большой энергией отстояли и выборное начало. И была сделана только одна уступка правительству – председатель съезда назначается, а не избирается». Причем в данном случае правительственный законопроект вызывал резкое неприятие в Министерстве юстиции, которое само внесло его во Вторую Думу. В итоге депутаты защищали законопроект от его же составителей.
Когда готовился окончательный вариант законопроекта, депутаты обращались в канцелярию Думы. Там опытные бюрократы редактировали текст, которой готовился для обсуждения в общем собрании. За ними следил докладчик по законопроекту. И все же правка могла быть существенной. Так случилось в феврале 1911 года. Тогда при редактировании законопроекта об учительских семинариях слова «русского происхождения» были заменены словосочетанием «русского подданства». Это меняло смысл готовившейся инициативы, что возмутило некоторых членов комиссии по народному образованию.
Современные исследователи порой сводят законодательную деятельность депутатов к подготовке и внесению соответствующих проектов в представительное учреждение. Это не вполне верно. В любом случае большинство законодательных инициатив готовится бюрократией, которая только и обладает необходимыми навыками и сведениями. У депутатов остается важная (и часто недооцениваемая) задача – отредактировать проект. Не обязательно при этом, что он станет лучше (хотя изменится, и иногда существенно). Может быть, в результате такой правки он утратит концептуальную целостность. Тем не менее проект в законодательном собрании пройдет общественную экспертизу, будет принят с учетом интересов, представленных в парламенте. Это оправдает закон в глазах многих, а главное – придаст легитимность самой процедуре принятия решений.
Пленарные заседания
Пленарные заседания Думы проводились четыре раза в неделю. В период работы Третьей Думы на понедельник и пятницу назначались дневные заседания (с 11:00 до 18:00); а на среду и дневное, и вечернее (с 8:30 до 23:00). В конце сессии заседаний становилось больше (иногда проводилось восемь заседаний в неделю). Каждое такое заседание вызывало интерес публики, о нем писали в газетах. Слова, произнесенные с трибуны Таврического дворца, получали общероссийскую известность.
В феврале 1906 года, до созыва Первой Думы, С. Ю. Витте предложил объявить все заседания Думы и Государственного совета закрытыми. Его предложение не нашло поддержки среди высших сановников империи. В итоге не был решен вопрос о правилах допуска в Таврической дворец. В период работы Первой Думы любой желающий мог там оказаться. В кулуарах проводились митинги, продавалась запрещенная литература. Много присутствовало партийных лидеров, не числившихся среди депутатов. По словам С. Е. Крыжановского, «П. Н. Милюков, не попавший в члены Думы, заседал в буфете и оттуда дирижировал кадетскими силами».
К открытию Второй Думы правительство попыталось исправить допущенные ошибки. Теперь билеты в Таврический дворец вручала охрана, подчиненная министру внутренних дел. Столыпин не собирался допускать в Думу посторонних: «Опыт первой Думы показал все неудобство подобного порядка для интересов спокойствия и правильности ее занятий. У самых дверей залы заседания образовывались шумные митинги, на которых самозванные советчики из посторонней публики и представители политических партий пытались диктовать членам Думы их поведение в последней, чего нередко и достигали. Случалось при этом, что посторонние лица проникали в самый зал заседания, а однажды приставом Думы были замечены и удалены два посторонних лица, сидевшие в зале на местах, предназначенных для членов Думы, и принимавшие участие в голосовании…»
К началу работы Второй Думы зал Общих собраний был заметно переоборудован, вокруг мест для публики установили металлические барьеры. Были ликвидированы двери, которые вели в зал заседаний из гостевых лож. Это техническое решение имело политическое значение: правительство пыталось оградить депутатов от прямого воздействия публики хотя бы на время думских прений.
В период работы Первой и Второй Думы, когда законотворческая деятельность не вошла в свою колею, непомерно много значили именно пленарные заседания. Пытаясь воздействовать на общественное мнение, депутаты рассчитывали изменить жизнь в России силой слова. Это отчасти объясняет многословность народных избранников. 16 апреля 1907 года Столыпин писал императору, что после 5 часов вечера Думе предстояло выслушать еще 45 ораторов.
Впоследствии, в годы Третьей Думы, был выработан особый ритм работы общих собраний. Обычно сессия начиналась в конце октября – начале ноября. Не все депутаты сразу съезжались в столицу: кворум оставался весьма неустойчивым. В первую очередь ставились спешные вопросы. К тому же депутаты еще оставались под впечатлением своего недавнего пребывания в провинции. Они пытались вносить запросы или устраивали разного рода политические акции. На повседневное законотворчество им не хватало времени. А уже в декабре народные избранники разъезжались по домам: начинались рождественские каникулы. Депутаты возвращались в столицу лишь в середине января, законотворческий процесс налаживался к концу месяца. К этому времени общее собрание Думы приступало к обсуждению бюджета. Это занимало большую часть времени депутатов вплоть до мая-июня, когда бюджет утверждался.
На остальные вопросы времени отводилось немного. Чаще всего удавалось списками утверждать решения комиссий. Это происходило в полупустом зале. Немногочисленные депутаты переговаривались друг с другом, чаще всего не обращая внимания на докладчика. «Всем мерещились зеленеющие луга и нивы, всех манило на деревенский простор, всем хотелось отдохнуть после продолжительного томления в бесчисленных, подчас невыносимо скучных, заседаниях… Не успели проголосовать один законопроект, как появляется на трибуне другой докладчик, который невнятным голосом, среди общего шума и оглушительных звонков председателя старается объяснить сущность следующего проекта. После него вбегает на трибуну кто-либо из членов Думы, вносит поправку или высказывает пожелание, часто весьма неопределенное, мало идущее к делу. Докладчик, – иногда по малому знакомству с предметом (нередко докладчиком в последнюю минуту являлось случайное лицо, за неприбытием официального докладчика), иногда с целью не затягивать прения, – не возражает». Законопроект ставился на голосование. Противники вставали, сторонники продолжали сидеть. Немногие следили за ходом «дискуссии», соответственно, большинство продолжали сидеть, и решения принимались. В июне 1908 года Н. В. Савич сетовал на то, что депутаты «в пять минут перерешают самые сложные дела, изученные и решенные в 2–3 комиссиях». Общие собрания Думы проводились ежедневно, даже в праздники, утром и вечером. В итоге не доставало времени для заседаний комиссий. Тем не менее депутатам не удавалось провести все необходимые законопроекты, которые приходилось откладывались до следующей сессии.
Речи в Думе произносились для журналистов, а также, при их посредничестве, – для избирателей. Редко случалось, что на общем собрании Думы действительно решалась судьба законопроекта. По словам депутата-октябриста А. В. Еропкина, «в Думе вопрос обсуждался лишь для печати, для страны, которая знакомится с прениями в Думе по отчетам газет. Никакими самыми горячими речами в Думе нельзя никого убедить, и как бы ни старался убедить меня Чхеидзе или Пуришкевич, все равно я с ними голосовать не буду уже в силу партийной дисциплины». Выступление в Думе должно быть максимально эффектным. Именно по этой причине в Третьей Думе октябристы редко выставляли А. И. Гучкова в качестве оратора. Сам факт, что лидер партии выходил на трибуну, обеспечивал эффект от его выступления. Это отмечали и думские журналисты: «Руководитель Третьей Думы скуп на выступления. Он никогда не подымается на трибуну ради какого-нибудь текущего вопроса, как бы он ни волновал Думу. Молчаливо, с тяжелыми, угрюмыми складками около плотно сжатого рта, следит он со своего центрального места за ходом парламентской машины. Нет сомнений, что его рука направляет курс тяжелого, окруженного рифами корабля. Но сам он только изредка показывается на капитанском мостике».
В некоторых случаях оратор через голову депутатов обращался к верховной власти. Так поступал и Гучков, когда 9 марта 1912 года говорил о Г. Е. Распутине. На следующий день он писал своему брату Ф. И. Гучкову: «Вчера я сказал в Государственной думе, чем болел все это время. Не судья я тому, как это вышло… Впечатление есть. Каков будет результат? Я ведь имел в виду одного только слушателя. Внемлет ли он? В левых кругах бешенство: я отнимаю почву из-под их ног. В правых – частью сочувствие, частью смущение». Это было не первое подобное выступление Гучкова. 21 мая 1908 года, рассуждая о смете военного ведомства, он подверг сокрушительной критике великих князей как безответственных руководителей армии и флота. Никто не знал предварительно о содержании его речи, в том числе и председатель Думы Хомяков. «Это произвело потрясающее впечатление, – вспоминал Гучков. – Я говорил быстро, чтобы не дать возможности председателю Государственной думы меня остановить. И он не остановил, потому что сам растерялся. Он просто закрыл заседание, когда я кончил. Сделал перерыв, потому что в голову такие вопросы не приходили. Я вышел из зала заседаний… Вижу, бежит за мной Милюков и говорит: „Александр Иванович, что вы сделали – ведь распустят Государственную думу“. Я тогда засмеялся и говорю: „Нет. Из-за чего другого распустят Думу, но по этим вопросам не распустят. Я убежден, что вся армия и народ с нами. Не решатся“». Столыпин выразил неудовольствие Гучкову, что тот не согласовал текст выступления, которое до чрезвычайности возмутило царя. Премьер-министр полагал, что такой демарш мог лишь упрочить положение великих князей. Гучков «ответил, что думал об этой стороне дела, но не согласен: на первых порах вы будете правы с вашими предсказаниями, в ближайшее время меры не будут приняты. Но все-таки вокруг этих слов, которые впервые так открыто высказаны, образуется целый ком общественного мнения, и в конце концов эта мысль победит». Прав оказался Гучков. Скоро прошла реформа военного управления, ограничившая полномочия представителей династии.
Выступления требовали от депутатов больших усилий. Например, Клюжев перед выходом на думскую трибуну мало спал, сильно худел и даже выглядел состарившимся. Все свое время он работал в библиотеке: читал и очень волновался. Готовясь к выступлению, следовало иметь в виду специфику аудитории. Во-первых, надо было учитывать плохую акустику зала. Во-вторых, депутаты чаще всего не слишком интересовались выступлениями коллег. В январе 1908 года Е. Я. Кизеветтер записала в дневнике: «В зале несмолкаемый гул, ораторов не слушают, уходят, од[ин] священник, кажется, спит». Она отметила, что во время выступления Г. Г. Лерхе В. А. Маклаков бегал по залу и собирал подписи под своим запросом. Ф. И. Родичев вспоминал, что и Милюков на заседании Думы обычно писал передовицы для кадетской газеты «Речь».
Думская трибуна
Вторую Думу ругали и слева, и справа. Тем не менее именно в дни ее работы на политическом небосклоне вспыхнули настоящие звезды. Одна из наиболее ярких – кадет В. А. Маклаков, обладавший всеми признанным ораторским дарованием. Его выступления вызывали всеобщий интерес, в том числе в зале заседаний. 13 марта 1907 года чиновник думской канцелярии Г. А. Алексеев писал отцу, что, по общему признанию, «не только в нынешней, но и в Первой Государственной думе не было такого оратора, как Маклаков. О содержании его речей вы можете судить по газетным отчетам. Хотя не думаю, чтобы они могли передать хотя бы тысячную долю того впечатления, которое они произвели на слушателей. Слушая красивую, умную, захватывающую речь В[асилия] А[лексеевича], я положительно дрожал от восторга. При этом я следил за Столыпиным. Обыкновенно спокойный, бесстрастный, не меняющийся в лице, он весь покраснел и согнулся: видно было, что он страдал». «И что это за способность, – поражался октябрист И. С. Клюжев, – говорить два часа и ни разу не запнуться, не затрудниться ни на момент в подыскании нужного выражения. Слова у него находятся сами собой и таки умело, красиво, гладко и сильно. Точно он заучивает наизусть да и говорит по свежей памяти. А какая логика, последовательность, цельность и убедительность – право, нельзя не удивляться. Он захватывает внимание всей Думы, и его слушают так, как никого». Думские выступления Маклакова вспоминались и многие годы спустя. Депутат Второй Думы Н. И. Иорданский писал в воспоминаниях: «Маклаков умел действовать на чувства своей задушевностью и искренностью. Часто у него это было искусственным приемом. Он мог говорить очень убедительно и трогательно даже о том, в чем сам вовсе не был убежден. Он говорил совершенно свободно, видимо многое говорил экспромтом, тут же творя на трибуне. Успех его речей был громадный. Он мог действовать и держать под обаянием своей речи не только центр, но и весь правый сектор Думы». Так, при обсуждении военно-полевых судов правые отказались поддержать эту инициативу именно под влиянием речи Маклакова. Граф В. А. Бобринский впоследствии заявлял, что таким ораторам, буквально гипнотизирующим публику, следует запретить выступать перед законодателями. Маклакова любили и думские журналисты. Они буквально бегали за ним, подхватывая меткое слово или яркое сравнение. В конце апреля 1908 года бюджетные прения были отложены из‐за болезни наиболее известного оратора нижней палаты. Вопреки устоявшемуся убеждению, выступления Маклакова не были импровизацией. Он к ним тщательно готовился: сначала писал, потом «начитывал» на диктофон, затем шел к приятелю депутату Думы М. В. Челнокову и репетировал перед ним, выслушивая его замечания.
Совсем другим (но отнюдь не менее ярким) оратором был Ф. И. Родичев. Еще во времена Первой Думы один из лидеров октябристов П. А. Гейден поражался его выступлениям: «Странная вещь, кажется, все мы сидим в думской зале спокойно, и ничего страшного нет. А вот Родичев заговорил: „Кровавые призраки реют в этом зале, и их нужно убрать“. И вот в самом деле чувствуется присутствие этих призраков». По мнению дочери Родичева, это объяснялось нервным напряжением самого выступавшего: «Иногда после речей приходилось сушить одежды отца: не только белье, рубашку и воротник, но и жилет и пиджак». Н. И. Иорданский писал, что «это был оратор-трибун, демагог… Он чувствовал острую ненависть к деспотическому правительству и мог говорить очень сильные речи, полные гнева. Он, кажется, слова бросал, как молот. Во время речи он сам вдохновлялся и заряжался своим красноречием. Иногда он делал паузы, когда выковывал свои жгучие фразы. Он краснел и дрожал. На свежего человека, никогда его не слышавшего, он производил впечатление человека как бы в каком-то ненормальном состоянии, даже как пьяного. Недаром правые хулиганы ему кричали с мест: „Должно быть из буфета пришел“».
Выступления, обращенные не столько к депутатам, сколько к читателям завтрашних газет, нередко провоцировали острые конфликты в Думе. Так, слова Ф. И. Родичева о «столыпинском галстуке», сказанные на пленарном заседании 17 ноября 1907 года, произвели ошеломляющее впечатление на присутствующих. Именно тогда он обвинил правительство в репрессивной политике, отметив, что премьер-министра запомнят по «столыпинскому галстуку» – то есть по виселице. По словам С. В. Паниной, «было ощущение от этих слов, что это удар хлыста по лицу». «Поднялась буря, – вспоминал Родичев. – Все, что были направо, вскочили с мест и вопили. Помню Пуришкевича, который с ругательствами кинулся меня бить. Его остановил плечистый Гегечкори. Помню Крупенского, ругавшегося матерными словами… Больше всех поразил меня Плевако. С развевающимися волосами он спускался по переходу сверху вниз и неистово ругался матерными словами… Заседание в страшном шуме прервано». Депутат Третьей Думы октябрист Н. А. Мельников вспоминал, что находившийся рядом с ним П. А. Неклюдов кричал: «Вон, скотина, мерзавец!» А сидевший сзади И. В. Годнев колотил кулаком по спине Мельникова и тоже что-то кричал. Всю ночь Ф. И. Родичеву «мерещились физиономии черносотенцев, желавших его побить». Он все время повторял: «Опять эти рожи… Что они со мной сделали». Он так и не заснул, а утром шум на лестнице разбудил весь дом: целая вереница людей пришла выразить Родичеву свое сочувствие.
Такого рода конфликты ожидались публикой в «большие думские дни», когда попасть на «зрительские места» в Таврическом дворце было практически невозможно. К скандалам специально готовились. Самым известным думским скандалистом, настоящей достопримечательностью Думы, был правый депутат В. М. Пуришкевич. В Таврический дворец специально приходили поглядеть на бессарабского депутата. Это был чрезвычайно подвижный человек, который «не мог буквально ни одной минуты сидеть спокойно и все перебегал с места на место». Его выходки приобрели всероссийскую известность. Пуришкевич бросал стакан воды в голову Милюкова, порой отказывался выходить из зала заседаний, так что к нему приходилось применять силу. «Когда охрана Таврического дворца являлась, он садился на плечи охранников, скрестивши руки, и в этом кортеже выезжал из зала заседаний». Я. В. Глинка рассказывал и другую историю: «1 мая обычно левый сектор украшал себя бутоньеркой в петлице, красной гвоздикой. Пуришкевич выждал момент, когда появление его могло обратить всеобщее внимание: одетый в визитку, руки в карманах, с красной гвоздикой – где бы вы думали? – в прорехе брюк в непристойном месте». Иногда Пуришкевич демонстративно закуривал сигару на пленарном заседании и дерзко отвечал председателю на его замечания по этому поводу. «Пушка без прицела», – говорил о В. М. Пуришкевиче Н. А. Хомяков. Глинка так много рассказывал в семье об этом скандальном депутате, что его дети даже любили играть в «Пуришкевичей».
П. Б. Струве за думской трибуной
Говорил Пуришкевич с поразительной скоростью, произнося по 90 и более слов в минуту. Это чрезвычайно затрудняло работу стенографисток. И все же публика ловила каждое его слово. 23 марта 1907 года М. В. Челноков так описывал его выступление прямо из зала заседаний: «На кафедре беснуется Пуришкевич. Он говорит очень недурно, бойко, нахально, острит, безобразничает и вызывает гомерический хохот аудитории. Советую прочесть его речь: в ней много интересного. Вообще Пуришкевич – человек опасный, вовсе не такая ничтожная величина, как принято думать».
В общественном сознании имя Пуришкевича вполне оправданно ассоциировалось с думскими скандалами. А. И. Гучков вспоминал, как председательствовал во время речи П. Н. Милюкова о «финляндском законе». Невольно обращал на себя внимание сидевший на правых скамьях Пуришкевич: он заметно волновался. Затем подошел к председательствовавшему и спросил: «Александр Иванович, я хочу обложить Милюкова. На сколько заседаний вы меня исключите?» «На максимальный срок – на 10 заседаний», – отвечал Гучков. Разочарованный Пуришкевич вынужден был спуститься, сесть на свое место и терпеливо слушать ненавистного Милюкова.
Конечно, не все депутаты были прирожденными ораторами. Даже некоторые выдающиеся публицисты и общественные мыслители с думской трибуны выглядели неубедительно. Вот как выступал депутат Второй Думы П. Б. Струве: «Он прибежал на трибуну, держа в руках охапку бумаг и бумажонок. Разложил свое добро перед собой на пюпитре, несколько раз оправил всегда сползавшее в сторону пенсне, стал рыться в своих записях. Бумажки ерошились и громко шелестели. Слова оратора раздавались отрывисто и не очень внятно… Рыжая борода то наклонялась к пюпитру, то дыбилась против слушателей, которые с недоумением, смущенно смотрели на выступление этого уже прославленного… политического деятеля. Фразы доносились все более беспорядочные, точно Струве потерял нить мыслей и тщетно пытается ее найти в своих летучих листках. Все лихорадочнее перебирал он свои записки и кончил тем, что рассыпал их веером вокруг трибуны. Все бросились их подбирать: приставы, депутаты, сам оратор. На председательском месте Головин, крепко стиснув тонкие губы… с трудом сдерживался, чтобы не улыбнуться. Ну а в ложе журналистов и наверху, в публике, без церемонии смеялись». Октябристов В. К. Анрепа и Е. П. Ковалевского журналисты прозвали «Бобчинским и Добчинским» за их не слишком яркие выступления. Не снискал себе лавров оратора октябрист М. Я. Капустин. Его называли «болтуном, который по своей старости болтает всякую ерунду единственно лишь по одному невольному стремлению к такой пустой болтовне». Без особого успеха выступал прогрессист А. А. Бубликов: «Впечатление он не производит, слушают его невнимательно. Кругом говор, шепот, многие уходят из зала. Совсем не то, что во время речи Маклакова или Мейендорфа и особенно первого. Тогда вся зала как бы замирает, и пустых кресел очень мало».
Правда, в ряде случаев от депутатов требовался особый «ораторский талант». Иногда им надо было буквально усыпить присутствующих, чтобы те, не вдаваясь в детали, проголосовали за проект. Такая задача стояла перед И. С. Клюжевым, выступавшим в декабре 1911 года о реформе средней школы. Он обещал однопартийцам (октябристам), что вопрос дискуссии не вызовет. Это было особенно важно, так как времени до конца сессии оставалось мало, а нерассмотренных законопроектов – много. Соответственно, рядом законопроектов приходилось жертвовать ради прохождения наиважнейших. Не всех это устраивало. Депутаты бились за собственные инициативы. В их числе был и Клюжев. В день его выступления в ложе для прессы сидела его жена. Она записала в дневнике: «Ваня был уже на кафедре. Взяв в руки приготовленный им заранее текст того, что предполагалось сказать, он прямо прочитал написанное и притом сделал это своим обыкновенным голосом без всякого подчеркивания важности вопроса, а потому многие едва ли успели уловить даже его основную мысль. При безобразной акустике залы и слабом голосе оратора понять что-либо из произнесенной речи вообще очень трудно, в данное же время докладчик ничуть и не старался о том, чтобы его слушали… Докладчик кончил, зала молчит. „Возражений нет?“ – спросил председатель. Молчание. „Ставлю на баллотировку, – говорит по обыкновению Волконский. – Согласных прошу сидеть, несогласных встать“. Все сидят. „Принято“, – заявляет он и переходит к следующему докладу. Ваня торжествующе идет на свое место».
В зале общих собраний практически всегда присутствовали представители правительства: министры или их товарищи. Ведь часто приходилось отвечать на вопросы депутатов, реагировать на их инициативы. Товарищ министра финансов Н. Н. Покровский выступал в Думе тяжело больным, с температурой 39°, «готовый, казалось, из гроба встать на призыв служебного долга». Столыпин даже провел ночь в Таврическом дворце перед открытием Второй Думы. Премьер-министр присутствовал и на первом заседании Третьей Думы. В тот день, согласно впечатлениям Пуришкевича, Столыпин «пух от восторга». Десять дней спустя он выступил в Таврическом дворце с правительственной декларацией. Он так описал царю ход того заседания: «После правительственного выступления поляк Дмовский… а затем кадет Маклаков произнесли сильные речи против правительства. Боясь, что Дума останется под впечатлением этих речей, я выступил с разъяснением…»
Публичные выступления в Думе – вызов для бюрократа, с которым не все справлялись. В мае 1906 года председатель Совета министров И. Л. Горемыкин отнюдь не хотел зачитывать декларацию перед депутатами и даже планировал «взвалить эту ношу» на главноуправляющего землеустройством и земледелием А. С. Стишинского. Пришлось выступать именно Горемыкину, и нельзя сказать, что он снискал популярность как оратор: «Читал он глухим старческим голосом, без малейшей выразительности, запинаясь и делая паузы в ненадлежащих местах, так что даже сидевшие в первых рядах депутаты в этом невнятном бормотании могли расслышать лишь отдельные фразы». Восемь лет спустя Горемыкин вновь возглавил правительство. В апреле 1914 года ему вновь пришлось выступать в Думе. «Речь И. Л. Горемыкина – речь старого человека, давно ушедшего от жизни и не дающего себе отчета в той разнице, которая отделяет наши дни от обстановки современной ему эпохи», – отмечал октябрист С. И. Шидловский. «И. Л. Горемыкин пришел в Государственную думу в сюртуке, но впечатление получилось такое, словно он явился в халате и туфлях», – делился своими впечатлениями кадет П. В. Герасимов. Впрочем, среди чиновников немногие могли похвастать талантами ритора. «Я не привык говорить с кафедры (Думы. – К. С.), и посему наладить отношения с Думой по весьма щекотливым вопросам Главного управления (землеустройства и земледелия. – К. С.) мне будет не под силу», – писал А. В. Кривошеин П. А. Столыпину в мае 1908 года, отмечая свой недостаток в качестве будущего министра.
Депутаты откровенно скучали во время выступлений министра народного просвещения А. Н. Шварца. Не слишком успешно выступал в Думе министр путей сообщения Н. К. Шауфус. «Сейчас пишу тебе во время невероятно косноязычной речи Шауфуса. Вот уж сапожники, пекущие сапоги!» – поделился своими впечатлениями с женой член Государственного совета, член ЦК партии кадетов и профессор Московского университета В. И. Вернадский в мае 1908 года. Депутат-октябрист А. В. Еропкин полагал, что министры И. Л. Горемыкин, Н. А. Маклаков, В. А. Сухомлинов, В. И. Тимирязев именно во время пленарных заседаний продемонстрировали свою полную несостоятельность. Морской министр И. М. Диков отказывался ходить в Таврический дворец даже тогда, когда обсуждались вопросы, непосредственно касавшиеся подведомственного ему учреждения. Диков являлся в Думу чрезвычайно редко, обычно по личной просьбе Столыпина. Как уже отмечалось, схожим образом вел себя и военный министр В. А. Сухомлинов, посылая в Таврический своего помощника.
И все же были министры, обнаружившие в себе ораторский талант именно в Таврическом дворце. Первый среди них – П. А. Столыпин. Струве признавал его лучшим думским оратором. «Надо было слышать, как он произносил заранее приготовленные для него речи. Никогда наизусть. Читал по тетради. Но так, как будто импровизировал. С нужными паузами, с ярким выделением отдельных слов и выражений. А главное – с необыкновенным подъемом и темпераментом. Со свойственным ему каким-то особым придыханием, которое производило впечатление затаенного внутреннего волнения. Речи его всегда захватывали слушателей, вызывая у одних восторг, у других злобное раздражение. Равнодушным они не оставляли никого. А его блестящие реплики, тут же импровизированные ответы, производившие еще большее впечатление, чем самые речи!» – отмечал сотрудник канцелярии Совета министров П. П. Менделеев. С такой оценкой соглашались и представители оппозиции. Председатель Думы кадет Ф. А. Головин вспоминал: «Первое выступление Столыпина убедило меня в том, что это не только хороший оратор, но это человек с темпераментом и сильной волей. Перед Думой выступил политический деятель, способный мужественно и ловко бороться с врагом, стойко отстаивать свое положение и свои взгляды, не останавливаться перед самыми решительными действиями ради достижения победы». С точки зрения Головина, 6 марта 1907 года, в день провозглашения правительственной декларации, победа осталась за правительством.
Речи Столыпина – плод усилий многих людей – прежде всего сотрудников Министерства внутренних дел. «Департаменты и канцелярии досконально изучали предмет, составляли из кипы документов доклады, проверяли всевозможные данные, цитировали законодательства свои и иностранные и, наконец, представляли министру самые существенные выжимки их этого богатейшего материала. Не раз Столыпин требовал дополнительных сведений; всегда это бывало срочно, часто поздно ночью; вызывали в Департамент даже под утро», – вспоминал сотрудник Департамента общих дел МВД С. Н. Палеолог.
Сравнительно успешно выступал и В. Н. Коковцов[9]. Это отмечали депутаты самых разных фракций. В мае 1913 года правые и националисты решили не аплодировать после выступления премьер-министра. И все же 13 мая многие депутаты не удержались и хлопали удачной речи Коковцова. Князь В. А. Оболенский впоследствии вспоминал: «Я много в своей жизни слышал ораторов. Но Коковцов был в своем роде единственным. Он обладал совершенно исключительной способностью координации мысли и слова. Казалось, что все его мысли написаны на какой-то длинной ленте, которую он без всякого усилия разворачивает перед слушателями». Специально не писал тексты своих выступлений министр торговли и промышленности С. И. Тимашев, «так как убедился, что механическое запоминание того, что предполагается сказать, или еще хуже – чтение по рукописи, лишает изложение достоинств живого слова и ослабляет впечатление».
Сильное выступление в Думе – удачный способ повлиять на общественное мнение. Затянутое выступление могло сорвать неудобное парламентское заседание. Это был проверенный прием во многих законодательных собраниях. Впервые его использовали ирландцы в Британском парламенте в 1877 году. Этот прием стал востребованным. 28 октября 1897 года чешский депутат О. Лехер выступал в австрийском рейхсрате целые сутки: с 8:45 утра до 8:45 утра следующего дня. Об этой речи писали М. Твен и З. Фрейд. Некоторые депутаты взяли на себя труд превзойти этот рекорд. В том же 1897 году румынский народный избранник выступал 37 часов подряд. Были и другие способы обструкции. Австрийские консерваторы создавали из некоторых своих коллег особый ансамбль, снаряженный колокольчиками, бубенчиками, губными гармошками, тромбонами и барабанами для создания соответствующих шумовых эффектов.
Обструкции устраивали и в Думе. Их жертвой часто становился Милюков. В момент выступления лидера кадетов П. Н. Крупенский рассылал записки своим однопартийцам со словами «разговаривайте». «И начинался шум, среди которого оратора невозможно было расслышать». А весной 1908 года, когда Милюков вернулся из США, правые бойкотировали его выступление, покидая зал заседания, как только Милюков поднимался на трибуну. Это произошло дважды. В первый раз председательствующий объявил о перерыве заседания, во второй раз ему пришлось и вовсе его закрыть. В итоге выступление Милюкова не состоялось.
Думские стенограммы
Хотело того правительство или нет, на многих разворотах ведущих периодических изданий публиковались стенографические отчеты заседаний Думы и Государственного совета. За их распространение среди журналистов отвечала канцелярия нижней палаты. Это было тем более важно, что акустика Таврического дворца часто не позволяла разобрать выступления депутатов, и корреспондентам приходилось обращаться за текстами к служащим представительного учреждения. То, что оказывалось в распоряжении газет, подвергалось значительной редактуре со стороны как народных избранников, так и правительственных чиновников. Характерно, что министры, внося правку в стенографические отчеты, исправляли не только собственные выступления, но и речи депутатов. В феврале 1914 года министр юстиции И. Г. Щегловитов, исправляя стенограмму собственного выступления, после одной из своих фраз вставил слова «продолжительные рукоплескания», а в другом случае отметил, что аплодировали не только справа, но и в центре.
В расчете на публикации в прессе фракции готовили и «выступления» избирателей. В период работы Первой Думы депутаты инспирировали крестьянские наказы, приходившие в нижнюю палату. 30 мая 1906 года член фракции кадетов И. И. Кузнецов писал однотипные письма по разным адресам с таким пожеланием: «Желательно, чтобы у нас обществами или даже селениями составлялись приговоры и посылались на мое имя, в которых надо резко подчеркивать свою нужду, бесправие, полную зависимость от земских начальников. Затем еще то, что крестьяне вполне согласны и требуют того, что было высказано Думой Государю в ответ на тронную речь». И в дальнейшем депутаты не забывали об этом тактическом приеме. Весной 1913 года во фракции националистов обсуждалась возможность организации общественных (и будто бы не инспирированных из Петербурга) манифестаций, направленных против политики правительства В. Н. Коковцова: митингов и коллективных телеграмм.
Все это не оставалось секретом для правительства, которое организовало особую службу по сбору информации о работе и настроениях депутатов. Ее возглавлял чиновник особых поручений при министре внутренних дел Л. К. Куманин, который с 1907 года заведовал Министерским павильоном Таврического дворца. В Думе его в шутку называли «заведующий министрами». «Этот высокопоставленный чиновник отличался чрезвычайной вежливостью, но притом хранил некую холодную недоступность, – вспоминал В. В. Шульгин. – Я никогда не видел улыбки на его лице. Он был, как говорится, застегнут на все пуговицы, в переносном стиле, а в действительности не застегивал ни одной, потому что длинный черный сюртук, который он неизменно носил, застегивать не полагалось… Он носил крахмальные воротнички и галстук, заколотой золотой, но скромной булавкой. Если бы он не горбился слегка, его можно было бы назвать „радостью портных“. Он одевался, как Столыпин, то есть без щегольства, но изящно». Куманин практически ежедневно передавал в правительство сведения о настроениях в Думе, о кулуарных беседах, о тайных переговорах между фракциями. Он готовил необходимые материалы к выступлениям министров в нижней палате, сообщал имена желавших высказаться депутатов и предполагавшееся содержание их речей. В этом ему помогал бывший чиновник при петербургском градоначальнике, журналист Ю. В. Александровский, занимавший тогда должность редактора циркулярных телеграмм Санкт-Петербургского телеграфного агентства. Кроме того, у Куманина была своя агентура. Для постановки этого дела его посылали за границу изучать иностранный опыт. Собственная агентура среди думских журналистов была и у заведующего охраной Таврического дворца (с 1908) Г. П. Бертгольца.
Государственный совет
Когда речь заходит о думской России 1906–1917 годов, чаще всего вспоминается Таврический дворец, но забывается Мариинский, где заседал Государственный совет, еще одно законодательное представительство того времени. По мысли законодателя, он должен был оставаться носителем государственной мудрости, блюстителем правопорядка: «Для того, чтобы проявить… свое действие в полной мере и с наибольшим успехом, Государственный совет должен объединить в себе консервативные силы страны и, являясь сосредоточением опыта и государственного направления, иметь и соответственное этому значению его общественное признание». При реформировании Государственного совета в 1906 году власти старались учитывать западноевропейский опыт. Министр юстиции И. Г. Щегловитов отмечал, что верхняя палата не должна испытывать давление со стороны общественного мнения: для этого повышался имущественный ценз, ограничивался круг лиц, которые могли быть в нее избраны, вводился особый порядок ее пополнения (часто даже наследственный). Конечно, «палате лордов по-русски» следовало иметь свои отличительные черты. В «высших сферах» пришли к убеждению, что основу Государственного совета должны составить высокопоставленные чиновники. Лишь они обладали должным государственным опытом. Дворянство же в России как таковое не самостоятельно в материальном смысле, и не развито – в интеллектуальном. В соответствии с этой изначальной установкой было принято решение формировать палату как из назначаемых, так и из избираемых членов. И тех и других должно быть поровну.
Члены Государственного совета поделились на две практически равные части. Одна половина пользовалась привилегиями высокого звания, другая довольно интенсивно работала. Это было 70–75 человек (из 196), преимущественно назначенных. Как писал М. М. Ковалевский, «к немалому моему прискорбию, должен сказать, что бюрократические элементы в нашем Совете по уму, талантливости, знанию и практическому опыту выигрывают по сравнению с общественными деятелями».
В значительной мере благодаря опытным бюрократам, Государственный совет был весьма авторитетной инстанцией в области законотворчества. М. М. Ковалевский в этой связи писал, что Государственный совет мало в чем уступал аналогичным учреждениям Западной Европы: «Умелые руководители комиссий, как Романов, Манухин, Экесперре, Дмитриев, Тимирязев, а в более ранние года А. Ал. Сабуров, не говоря уже о таких осведомленных в мелочах русских законоведах, как товарищ председателя Голубев и бывшие государственные секретари профессор Сергеевский и барон Икскуль, не только умеют вести прения, но и раскрывают нередко скрытые недостатки, не сразу бросающиеся в глаза противоречия поступивших к нам законопроектов, и с общими тенденциями русского права и с теми или другими нормами, никем не отмененными. В знании законодательства и судебной практики, в частности, гражданского права и процесса, права торгового и вексельного, нельзя отказать ни бывшему сенатору Кобылинскому, ни Платонову, ни Манухину. Мы насчитываем в наших рядах таких криминалистов, как Таганцев и Кони. Наше земельное законодательство не представляет тайны ни для Стишинского, ни для бывшего главноуправляющего земледелием Ермолова. Русский бюджет в течение ряда лет составлял предмет, если не теоретического, то практического изучения не только графа Витте, но и его прежних товарищей и помощников – Коковцова, Дмитриева, Романова. Железнодорожное хозяйство хорошо известно генералу Петрову, и бывшему начальнику движения Киевского округа Немешаеву, и Экесперре».
Состав Государственного совета предопределял и «социальную психологию» этого органа власти. Как умудренным бюрократам, многим членам Государственного совета претила политическая дискуссия о законопроектах, которые нуждались в правке профессионального юриста и опытного чиновника. Председатель верхней палаты М. Г. Акимов в личной беседе с А. Н. Наумовым жаловался на своих коллег, которые разрешали вопросы не в соответствии с существом дела, а в силу своих идеологических предпочтений. «Подобный образ действий господ законодателей нашей с вами верхней палаты… превращает временами само учреждение в некоторого роду „трущобу“… из которой иногда всеми силами души хочется выбраться…» В частности, он упрекал бывшего министра юстиции С. С. Манухина, который расследовал дело о беспорядках на Ленских приисках, руководствуясь соображениями гуманности, а не государственной целесообразности.
Как раз в силу своего бюрократического прошлого члены Государственного совета с недоверием относились и к действующей администрации. По словам В. И. Гурко, это было характерно для Государственного совета и в дореформенные времена: числившиеся в нем отставленные министры недолюбливали своих преемников.
Такое положение сохранялось и после 1906 года. Члены верхней палаты тосковали по прежней государственной деятельности. 25 декабря 1913 года А. Н. Шварц писал С. И. Соболевскому: «Своих товарищей по Государственному совету, потерявших административные должности и не имеющих надобности подписывать бумаги… я от души… жалею». Им приходится «во время слишком обильных у нас досугов или кататься по свету, или дни и ночи сидеть за вистом. Зеленая скука их просто гложет». Весь нерастраченный азарт они пускали на критику своих сменщиков, порой весьма беспощадную. Так случилось 3 августа 1915 года, когда В. Н. Коковцов предрек скорый финансовый крах России, подготовленный, как он полагал, непрофессиональной деятельностью министра финансов П. Л. Барка.
Избранные члены, представлявшие земства, дворянские общества, биржевые комитеты, университеты, защищали в Совете свои корпоративные интересы, что получило фактическое оформление в законодательстве. «Мы тоже выборные, как и члены Государственной думы, но эти от случайных искусственных групп, а мы от наиболее культурного государственного слоя», – писал член Государственного совета С. С. Бехтеев А. А. Бобринскому 18 марта 1908 года.
Важнейшую роль в Государственном совете играл его председатель. С 1907 по 1914 год эту должность занимал М. Г. Акимов, близкий родственник двух министров внутренних дел – свояк А. Г. Булыгина и шурин П. Н. Дурново. Он жестко контролировал ход дискуссии, беспощадно останавливал ораторов. «Говорить в Государственном совете было очень трудно, – вспоминал И. Х. Озеров. – Акимов, председатель Государственного совета, был настоящей собакой, вмешивался даже в форму выражений и обрывал». Однажды, прерывая выступление М. М. Ковалевского, Акимов так определил свои обязанности: «Я здесь поставлен волей моего Государя, чтобы охранять свободу слова, но в границах, мною указанных». А. Ф. Кони шутя называл Акимова «наш держиморда». При этом Акимов соблюдал принцип равноправия всех членов палаты, перебивая их вне зависимости от фракционной принадлежности. Бессменным товарищем председателя был И. Я. Голубев, прекрасно осведомленный в вопросах права и делопроизводства. Своими подсказками он нередко выручал председательствовавшего.
Пленарные заседания Государственного совета принципиально отличались от общих собраний в Таврическом дворце. Публика редко приходила слушать членов этой палаты. Обычно ничто не нарушало порядка. Никто не выкрикивал с мест и не перебивал выступавших. «Если собрание не одобряло то или другое ораторское выступление, в зале продолжала царить все та же степенная тишина. Несочувствие слушателей выражалось лишь уходом их по неслышному ковру в соседние „кулуары“. Все заканчивалось безмолвной забаллотировкой». Если же выступление нравилось членам Совета, никто не аплодировал, лишь изредка раздавался одобрительный гул и сдержанное бормотанье «браво, браво». Еле слышные комментарии курского представителя М. Я. Говорухи-Отрока, долетавшие до президиума, вызывали неудовольствие председателя, а сидевшие рядом с «разбушевавшимся» членом палаты укоризненно смотрели на него, молча укоряя за допущенные «неблагопристойности».
Затянувшиеся выступления пресекались президиумом. Да и многие члены Государственного совета были не в силах выслушивать слишком продолжительные речи. Бывший морской министр А. А. Бирилев засыпал под доклады В. Н. Коковцова, сидя в 5-6 метрах от трибуны. «Мне казалось, что я в гробу, и что надо мной читает монашенка», – делился он своими впечатлениями. Внешне эффектные выступления в Государственном совете могли таить в себе опасность. Так, в письме от 29 июня 1913 года А. Н. Шварц отмечал, что эмоциональная речь В. И. Гурко о субсидиях на школьное дело могла лишь отвратить большинство высокого собрания от обсуждавшегося законопроекта: «Его чепушистая речь только рассердила старцев». Вопрос был разрешен в положительном смысле лишь благодаря настояниям профильной комиссии.
Тем не менее в Государственном совете были свои признанные ораторы. Например, от правых чаще всего выступал А. С. Стишинский, «говоривший всегда вдумчиво, обстоятельно, логично и местами с заметным подъемом, за что заслужил от злоязычного [М. Я.] Говорухи[-Отрока] наименование „эротического“ оратора». Изредка выходил на трибуну П. Н. Дурново. «Говорил он тихо, размеренно, кратко, взвешивая каждое слово». Государственный совет слушал его с особым вниманием. С успехом выступали Н. А. Зверев, В. И. Карпов, В. И. Мосолов, Д. И. Пихно, А. П. Струков и др. Были среди правых и такие ораторы, которых с трудом выдерживали слушавшие. Например, князя Д. П. Голицына-Муравлина, который «несомненно обладал даром слова, но чересчур злоупотреблял витиевато составленными и к делу не относившимися цветистыми фразами, разными мудреными метафорами с явной претензией бить на эффект, сам прислушивался к своему красноречию и им видимо наслаждался. А члены Государственного совета один за другим спешили в кулуары, убегая от патетических, но малосодержательных речей сиятельного романиста». Это же относилось и к князю А. Н. Лобанову-Ростовскому, который любил «занимать» собрание рассказами «салонного жанра». Однако особой «славой» пользовался Я. Н. Офросимов. Когда он появлялся на трибуне, зал моментально пустел.
По мнению А. Н. Наумова, в правом центре выдающихся ораторов не было. Однако его представителей – В. Ф. Дейтриха, А. Б. Нейгардта, А. П. Никольского или графа Ф. А. Уварова – слушали с особым вниманием. От имени центра чаще всего выступали С. С. Манухин и И. А. Шебеко. От академистов – М. М. Ковалевский, который «всякую свою речь начинал или с Индии, или с древней истории какой-либо страны и стремился сослаться на свое личное знакомство с каким-либо иностранным министром, что такой-то министр ему тогда-то сказал то-то, будучи его другом, и после речи неизменно вел несколько корреспондентов к себе или в ресторан угощать, чтобы послаще выглядело газетное сообщение об его выступлении». Обращали на себя внимание и речи независимых: С. Ю. Витте, А. Ф. Кони, М. А. Стаховича.
И все же больше всех в Государственном совете хотели услышать того, кто никогда не поднимался на его трибуну – императора. По сведениям С. Ю. Витте, Акимов регулярно консультировался с Николаем II о желательности утверждения того или иного законопроекта. Позиция царя доводилась до сведения членов Государственного совета – в особенности по назначениям. В некоторых случаях пояснения председательствующего были излишни.
Бюджет
По мнению французского финансиста Р. Штурма, государственные средства распределяет суверен. Если это народ, то именно его депутаты должны утверждать статьи бюджета. Если монарх – народные избранники должны знать свое скромное место при решении финансовых вопросов. Соглашаясь с Штурмом, следует признать, что вопрос о суверенитете в России 1906–1917 годов в полной мере разрешен не был. В соответствии с правилами от 8 марта 1906 года государственная смета расходов и доходов принималась Думой и Государственным советом. И все же их полномочия были довольно ограниченными, ведь законодатель еще в марте 1906 года сделал все, чтобы уберечь бюрократию от привычных средств парламентского контроля.
Некоторые статьи бюджета не утверждались императором. Это кредиты на содержание императорской семьи (если они не превышали суммы, установленной в бюджете 1906 года: 27,5 млн рублей в год), выплаты по внешним долгам России (380 млн рублей на 1907 год) и 10 млн рублей на экстренные расходы. Следовательно, около 400 млн рублей (или около 1/6 бюджета) не проходили через Думу.
Наибольшие ограничения были связаны с так называемыми «титулами» или «бронированными расходами». Иными словами, нельзя было сокращать расходы по уже принятым законам при утверждении бюджета. По подсчетам А. И. Шингарева, в росписи на 1908 год такие расходы составляли 47 % бюджета[10]. Тем не менее эта норма многим правоведам и администраторам казалась вполне оправданной. В частности, В. Н. Коковцов объяснял, что «в сметы, а следовательно, и в роспись можно вносить только такие расходы, которые оправдаются ранее изданным законом. Вот коренное положение правильного сметного распорядка. Нет закона – нет расхода. Если бы сметные правила допускали возможность иного составления смет, при котором был бы полный произвол, то каждый мог бы вносить в смету все то, что ему угодно. Отсюда легко себе представить, как был бы затруднен самый процесс не только составления, но и самого рассмотрения смет».
Подобные нормы имели место и в странах Западной Европы. Так, в Англии существовал так называемый консолидированный фонд, параметры которого не могли быть пересмотрены депутатами. Речь шла о 20 % расходов и 60 % доходов. В Нидерландах консолидированная часть бюджета утверждалась каждые десять лет. В Германии рейхстаг не рассматривал военные расходы. В Японии существовала норма о бронированных статьях бюджета. Во Франции такой нормы не было, но на практике она неуклонно соблюдалась. Это объяснялось сугубо практически: общество должно быть уверено в прогнозируемости государственных расходов.
Проблема заключалась в том, что в России бронировались расходы, которые обуславливались законами многолетней давности, о которых даже никто и не помнил. В некоторых случаях они давно утратили силу, но финансирование по ним не было закрыто. Со всем этим должна была разбираться бюджетная комиссия Государственной думы. По словам ее председателя М. М. Алексеенко, «во многих случаях оказалось, что есть такие законоположения между прочими Высочайшими повелениями, которые не только не были обнародованы, но даже не были напечатаны. И вот, между прочим, по одному из министерств нам был представлен уже во второй год нашей работы целый тюк таких законоположений, отбитых на ремингтоне, числом около 400». Иными словами, утверждению бюджета мешала архаичная структура всего финансового хозяйства России. 21 августа 1917 года на допросе Чрезвычайной следственной комиссии Шингарев объяснял, что «по Министерству внутренних дел… сборник легальных титулов достиг 1000 страниц, причем он начинается указом Петра I в 1723 году по поводу какой-то Рижской богадельни, а именно по поводу расхода в несколько десятков ефимок. Это показывает, с какой археологией мы имели дело». Шингарев вспомнил, что организация ясачного сбора с народов Сибири основывалась лишь на одной фразе в указе Елизаветы Петровны, которую долго искали правительственные чиновники. Принадлежность алтайских угодий к удельным (то есть царской семьи) землям подтверждалась купчей середины XVIII века. Ее оригинал долго не могли найти, оказалось, что он хранился в Барнауле. В смете Главного управления землеустройства и земледелия был обозначен кредит в 250 тысяч рублей на «известные Его Величеству надобности». Многие Высочайшие повеления, в соответствии с которыми проводились расходы, были не опубликованы, некоторые имели секретный характер. Депутаты пытались во все это вникать, встречая сопротивление со стороны правительства. В. Н. Коковцов вспоминал, что, представляя в Думу проект бюджета, он прислал туда и пять томов Высочайших повелений и выписок из законов, в соответствии с которыми назначались ассигнования, не подлежавшие сокращению.
Сметы различных ведомств были бронированы в разной степени. Так, смета Синода на 1908 год была забронирована на 99 %; Военного министерства – на 87 % (впоследствии значительно ниже, так как «предельный бюджет военного ведомства заканчивал свое действие как раз в 1908 году), МВД – на 81 %, МИД – на 81 %, Министерства народного просвещения – на 77 %, Министерства юстиции – на 63 %, Государственного контроля – на 56 %, Главного управления землеустройства и земледелия – на 35 %, Министерства торговли и промышленности – на 30 %, Министерства финансов – на 18 %, Морского министерства – на 8 %, Министерства путей сообщения – на 1 %.
Правительство часто преуменьшало размеры будущих доходов. В итоге у него оказывались заметные излишки так называемой свободной наличности, которой можно было распоряжаться практически по своему усмотрению. К 1 января 1909 года свободной наличности было 1900 тысяч рублей, в 1910 году – 107 400 тысяч, в 1911 году – 269 800 тысяч, в 1912 году – 473 400 тысяч, в 1913 – 823 млн рублей. По подсчетам бюджетной комиссии, в 1910 году правительство использовало 123 млн рублей из свободной наличности, в 1911 году – 129 млн, в 1912 году – 301 700 тысяч. Причем из последней суммы расходы в размере 156 млн были одобрены Думой, а 144 млн были потрачены без ведома депутатов. В то же самое время в Англии, Голландии и Италии тоже существовали особые резервные фонды, которыми распоряжалось правительство. Однако оно это делало под контролем парламента, с соблюдением необходимой отчетности.
Многие расходы бюджета не могли быть скорректированы депутатами не в силу законодательных ограничений, а из соображений здравого смысла. В этом отношении показательна смета 1912 года: 1 млрд рублей расходов (из 2,5 млрд, то есть около 40 %) не подлежал обсуждению в Думе. Впрочем, из этого не следовало, что оставшиеся 1,5 млрд могли быть произвольно перераспределены народными избранниками. По расчетам М. М. Алексеенко, не подлежали сокращению – без ущерба для благополучия и безопасности государства – операционные расходы по железным дорогам (более 500 млн рублей), по винной монополии (более 200 млн), расходы на морское, продовольственное дело, обмундирование, снабжение армии. «Если вы все эти расходы примете во внимание, то вы увидите, что предел сокращения очень узок, что тот размах, который был бы возможен со стороны бюджетной комиссии, этот размах при тех правилах, которые действуют, очень связан».
Процесс принятия государственной росписи не мог быть быстрым. Пока новый бюджет не был утвержден, действовал старый. В этой связи каждый месяц министерствам и прочим ведомствам открывался кредит в размере 1/12 от прошлогоднего бюджета. Такая ситуация совершенно не устраивала правительство. В. Ф. Романов, чиновник Переселенческого управления Главного управления землеустройства и земледелия, вспоминал: «Понятно, что никакое большое хозяйство, в особенности столь живое и многостороннее, как переселенческое дело, не может идти правильно, раз финансовые средства переводятся не сразу в необходимой сумме, а небольшими частями, тем более что потребность в том или ином расходе не распределялась равномерно по отдельным месяцам; например, выдавать ссуды переселенцам нельзя было в течение всего года, а требовалось немедленно по приступе их к хозяйству на новом месте, также необходимо было сразу снабжать необходимым запасом средств межевых и других техников при самом отъезде их на полевые работы, нередко в весьма отдаленные от центров глухие места. Задержка в кредитах не могла не нервировать местных руководителей делом…» Длительное обсуждение бюджета депутатами ставило в затруднительное положение самого царя, который при таких обстоятельствах вынужден был по своему разумению распределять пенсии и дотации. Как раз по этой причине 2 мая 1913 года Николай II просил Коковцова прислать ему столь нужные 300 тысяч рублей из фонда на непредусмотренные сметами надобности.
Задержка в утверждении бюджета была неизбежна. Правительство вносило его на рассмотрение Думы лишь к 1 ноября – за два месяца до начала бюджетного года. За столь короткий период обсудить и принять столь объемный документ было технически невозможно. В итоге бюджет 1908 года был принят 28 июня 1908 года, бюджет 1909 года – 29 мая 1909 года, бюджет 1910 года – 26 марта 1910 года. Многие депутаты безуспешно настаивали на переносе начала сметного года с 1 января на более позднюю дату, что было характерно для законодательства Англии, Британской Индии, Германской империи, Пруссии, Дании, Румынии, США, Испании, Италии, Португалии и других стран.
При этом даже весьма ограниченные бюджетные права Думы давали ей значимый рычаг давления на правительство. «Сметные вопросы все больше и больше привлекают меня и, несмотря на весьма ничтожные результаты, которые получаются из всей работы, все же в ней и только в ней видится некоторый просвет. Постепенная эволюция конституционных элементов в Третьей Думе идет медленно, но верно», – писал А. И. Шингарев 2 июня 1908 года. «И, действительно, права нашей палаты были до такой степени урезаны, что единственным серьезным, чем могла Дума воздействовать на правительство, определять политическую жизнь страны, влиять на ход ее экономической жизни, был государственный бюджет», – отмечал экономист (и вместе с тем зять Алексеенко) П. П. Мигулин.
В правительстве без колебаний говорили, что Дума – это М. М. Алексеенко, председатель бюджетной комиссии. Его авторитет был непререкаем среди депутатов всех фракций. А. В. Еропкин отмечал, что «профессор Алексеенко был идеальным председателем и вынес… колоссальную работу на своих плечах. Я должен откровенно признать, что без профессора Алексеенко Государственная дума ни в каком случае не справилась бы с бюджетом…» Решения бюджетной комиссии практически всегда утверждались на общем собрании Думы. Во многом это обусловливалось личностью председателя комиссии. «Каждое выступление в Думе профессора Алексеенко было настоящим триумфом. Он выступал очень редко; обыкновенно раз в год при обсуждении бюджета. При этом он произносил прекрасно продуманную, обыкновенно большую речь, которая продолжалась по несколько часов. Дума при этом всегда была переполнена и слушала оратора с величайшим вниманием, между тем как лучшие ораторы могли занимать внимание Думы не более получаса, потом внимание притуплялось, и в зале начинался глухой гул – прямой признак, что надо кончать речь. Дума встречала и провожала профессора Алексеенко громом аплодисментов; аплодировали все скамьи без исключения, без различия партий».
В декабре 1908 года Алексеенко неожиданно для многих решил отказаться от обязанностей председателя комиссии. Удрученное руководство Думы и фракции октябристов уговаривали его остаться. К Алексеенко пришла депутация, которую составили кадеты, октябристы, трудовики и умеренно-правые. Они тоже убеждали председателя бюджетной комиссии не торопиться с этим решением. Их миссия была успешной, Алексеенко согласился остаться. Лишь «впоследствии, когда профессор Алексеенко наладил работу бюджетной комиссии, она уже катилась по определенным рельсам, и его могли иногда заменить товарищи (заместители. – К. С.)».
Многие хотели попасть именно в бюджетную комиссию. Там работали практически все лидеры думских фракций. Наконец, это была самая многочисленная комиссия Думы. В 1907 году в ней числилось 66 человек, а с 1912 года – 67. В начале работы Четвертой Думы 40 октябристов заявили о желании заседать именно в этой комиссии (фракционная квота равнялась 17 депутатам). В ноябре 1907 года октябрист граф А. А. Уваров грозился выйти из фракции, если его не введут в состав бюджетной комиссии.
Эта комиссия работала интенсивнее многих других. Заседания начинались уже в сентябре, но чаще всего она заседала с февраля по июнь. В марте члены комиссии заседали четыре дня в неделю с 11 до 18:30. Напряженно протекала работа в июне: каждый день, даже в праздники. В это время заседания открывались в 11 утра и заканчивались в 2-3 часа ночи, а в некоторых случаях продолжались до 5 утра.
Согласно воспоминаниям Еропкина, «бюджетная комиссия, в сущности, держала в своих руках все нити думской работы, ибо почти все законопроекты из других комиссий передавались на заключение бюджетной по вопросу об ассигновании средств из казны. А какие же законы и какие меры могли обойтись без ассигнования? Даже так называемая „вермишель“, т. е. мельчайшие законопроекты о какой-либо новой гимназии или новой должности, должна была пройти через бюджетную комиссию».
Министры прекрасно понимали значение бюджетной комиссии и в большинстве своем не смели игнорировать ее заседания. Так, В. Н. Коковцов, в должности министра финансов и председателя Совета министров, всегда сам, без какой-либо помощи своих товарищей и ближайших сотрудников, давал на ее заседаниях объяснения. Впоследствии Коковцов вспоминал, что в Таврическом дворце проводил не меньше времени, чем в министерстве. Как правило, он весь день сидел на заседании бюджетной комиссии, покидая ее лишь на время завтрака. Между Коковцовым и Алексеенко сложились деловые отношения, в основе которых лежала общность подходов и даже сходство характеров. «В психике обоих было нечто общее – большая осторожность, расчетливость, любовь к законности, – вспоминал Н. В. Савич. – Мне казалось, что они недолюбливали друг друга, но очень ценили корректность установившихся между ними отношений. Министр финансов находил в председателе бюджетной комиссии деятельного сотрудника в проведении той линии финансовой политики, которую он считал единственно правильной».
Депутат Б. И. Каразин в марте 1913 года писал жене, пересказывая ей один забавный случай из жизни бюджетной комиссии: «При входе Коковцова во время заседания два пограничных генерала встают и встают чиновники канцелярии, ведущие делопроизводство, из членов Думы вскакивает также [К. А.] Невиандт (Полтавский). Легкий смех. Недурной отпечаток кладет чиновничество». Коковцову не составляло большого труда отвечать на критику народных избранников: «Сейчас Шингарев лезет на Коковцова. Эрудиция у Коковцова большая и как-никак впечатление такое, что думцы слабее. Шингаревские же вопросы наивны, так как их разделывает Коковцов легко и спокойно». Впрочем, далеко не всегда министры столь успешно справлялись с задачей. Сюда «являлись как бы на экзамен, или, скорее, на суд в последовательном порядке все ведомства, одно за другим», – вспоминал бывший министр торговли и промышленности С. И. Тимашев, который практически не пропускал заседаний комиссии. «Надо было видеть и полюбоваться, как искусно и с каким достоинством профессор Алексеенко вел заседания с приглашенными министрами: он был в высшей степени корректен и любезен. Но стоило какому-либо министру… поверхностно отнестись к делу или к задаче Государственной думы, как он моментально его осаживал». Так, он «осадил министра торговли Шипова, который думал отвертеться на пустяках или с кондачка: профессор Алексеенко произвел ему… экзамен, и министр отвечал так неудовлетворительно, что всем стало неловко». 24 марта 1913 года депутат Каразин писал домой: «Сижу в бюджетной комиссии, где распинают Тимашева за эксплуатацию нефти… Тимашев слаб, и, судя по нему, министром быть не трудно». Чаще всего вопросы не были всегда сугубо финансовыми. Один из лидеров националистов А. И. Савенко с нескрываемой радостью писал жене: «Сегодня в бюджетной комиссии я много спорил с министром иностранных дел Сазоновым (о нашей внешней политике) и посадил его в калошу». Министрам оставалось сетовать на недисциплинированность правых депутатов. Оппозиция (кадеты и прогрессисты) аккуратнее посещала заседания, создавая трудности руководителям ведомства.
Чаще всего утверждение бюджета занимало большую часть времени пленарных заседаний. Обычно дискуссия по вопросам бюджета требовала около 90 часов (то есть 15 заседаний). Выступление каждого из 45 докладчиков (по всем сметам) укладывалось в 30 минут, что подразумевало еще четыре дня заседаний. Четыре дня обычно уходили на разъяснения ведомств. Наконец, само голосование требовало не менее 5 заседаний: следовало проголосовать около 650 номеров сметы (иными словами, по три минуты на каждый номер). Таким образом, на обсуждение бюджета должно было выделяться не менее 28 заседаний. На практике на государственную роспись уходило около трети всех пленарных заседаний.
В ходе ее обсуждения поднимались вопросы, которые были вне компетенции Думы или же только опосредованно были связаны с бюджетной проблематикой. В марте 1910 года, рассуждая о смете Министерства торговли и промышленности, октябрист М. Д. Челышев поставил вопрос о государственной монополии на торговлю хлебом. В марте 1912 года, при утверждении сметы Синода, Гучков заявил о вредной роли Г. Е. Распутина в ближайшем окружении императора, в апреле 1912 года П. Н. Милюков, выступая о бюджете МИД, дал оценку внешнеполитического курса России, в мае 1912 года В. А. Маклаков свою речь о смете Министерства юстиции посвятил положению Сената. Обсуждение бюджета шло не вокруг цифр, но по принципиальным вопросам. В некоторых случаях это даже были политические демонстрации. В. Н. Коковцов вспоминал, как при обсуждении росписи на 1909 год его беспощадно критиковал А. И. Шингарев за заключение внешнего займа. Министр подошел к депутату после заседания с просьбой прокомментировать свою точку зрения. В ответ Шингарев признался, что считает принятые Россией обязательства по кредитам оптимальными. Рядом стоял депутат Мотовилов, который заметил Коковцову, что тот делает «большую ошибку, предполагая, что члены Думы думают то, что говорят, так как многое говорится для совершенно посторонних целей».
Порой думские лидеры, тесно сотрудничавшие с премьер-министром и министром финансов, оказывались посредниками между отдельными ведомствами и руководством правительства. Так, председатель Думы Гучков вел переговоры со Столыпиным и Коковцовым о дополнительных кредитах Военному министерству, фактически выступая представителем последнего. В июне 1910 года он писал А. А. Поливанову: «Вчера имел большой разговор с П. А. Столыпиным и Коковцовым по поводу военных кредитов, которые можно было бы внести в смету 1911 г. Условия сведению бюджета намного благоприятнее, что, мне думается, можно миллионов 60–70 чрезвычайных расходов втиснуть. В эти рамки, мне думается, уложатся Ваши потребности и по продолжению Кронштадтских работ и по артиллерии… и по запасам. В этих пределах Коковцов обещал. Вам он, вероятно, не сразу поддастся. Поэтому лучше не говорите ему, что Вы знали о нашем уговоре».
Бюджетное право – важный инструмент давления Думы на правительство. Министры всегда помнили о том, что им могли отказать в кредитах, не предоставить дополнительных средств. И депутаты помнили, что у них была возможность предъявить ультиматум правительству. В январе 1910 года А. И. Гучков писал своему однопартийцу А. И. Звегинцеву: «Подготовьтесь к тому ультиматуму, который мы поставим военному ведомству, когда оно придет за новыми кредитами». Несколько дней спустя он развил свою мысль: «Все думаю о тех чрезвычайных кредитах, за которыми к нам обращается правительство на нужды обороны. Никак не следует упустить случай, чтобы поставить, как говорили в освободительную эпоху, свои требования. Начать следует с экзамена ведомства о состоянии дел и о предположениях на будущее. Представляю себе, что мы устроим систематический ряд интимных бесед по отдельным отраслям… Может быть, благодаря нужде правительства в новых кредитах нам удастся ухватить быка за рога». Иногда бюджетное право становилось орудием, направленным непосредственно против Николая II. Например, в июне 1912 года после приема у царя, который показался депутатам чересчур холодным и нелюбезным, октябристы решились отказать в бюджетных ассигнованиях на церковноприходские школы, на чем император настаивал. Вопрос о кредите даже не был поставлен в повестку дня. Епископ Евлогий добился исправления этого «недоразумения». Однако «не успели… и приступить к… обсуждению (законопроекта. – К. С.) – депутаты стали поодиночке ускользать, и, когда время подошло к голосованию, кворума не было. Поддержать церковноприходские школы III Дума не пожелала».
* * *
За время работы Думы бюджет существенно изменился. Так, в 1899–1905 годах военные расходы выросли на 35 %, а в 1906–1911 – на 82 %, смета Министерства народного просвещения в 1899–1905 годах выросла на 35 %, в 1906–1911 – на 116 %, в 1899–1905 годах расходы на субсидирование земледельцев увеличились на 39 %, в 1906–1911 – на 102 %. «Как вы видите, действительно, две отрасли хозяйства растут у нас несравненно быстрее, чем прежде, и в этом, быть может, заслуга народного представительства».
Наконец, благодаря бюджетным прениям менялась сама власть, которая училась диалогу с Думой, осознавая, что лишь в диалоге с депутатами она могла обеспечить собственные жизненные интересы. И депутатам приходилось приноравливаться к правительственной точке зрения. Член ЦК партии кадетов, думский журналист А. В. Тыркова-Вильямс вспоминала: «Бюджетные прения неизбежно втягивали, толкали депутатов на реальную работу, которая без сотрудничества с бюрократией была невозможна. Дело шло уже не об отвлеченных препирательствах с правительством, не об идеологических на него наскоках, как это было в первых двух Думах, не о межфракционных стычках, волновавших Третью Думу в первые месяцы ее существования. Теперь народные представители должны были обсудить насущные, ежедневные потребности государственного хозяйства, выражавшиеся в сотнях миллионов рублей. Цифры были красноречивее ораторов. Они говорили о размахе русской жизни, которую члены Думы на себя взяли. Для народных представителей первые бюджетные прения были своего рода государственным экзаменом».
Лобби
Само понятие «лоббирование» (lobbying, от англ. lobby – кулуары, приемная) возникло в США в начале XX века. К этому моменту лобби уже давно существовали и успешно отстаивали позицию различных групп интересов при принятии решений государственной важности. Они обращались к депутатам Конгресса, правомерно ожидая от них поддержки собственных проектов. Годами занимаясь такой деятельностью, лобби обрастали связями, отстраивали отношения с органами государственной власти и средствами массовой информации, постепенно становясь частью политической системы. По оценке Дж. Г. Бирнбаума, в 1991 году в США было 80 тысяч зарегистрированных лоббистов. В начале 2000‐х только в Вашингтоне их было более 12 тысяч. Схожая ситуация имела место и в Европе. По подсчетам газеты «Таймс», в 1970 году в английской палате общин по меньшей мере 218 депутатов непосредственно отстаивали частные интересы. Лобби складывались и в императорской России.
Одно из наиболее влиятельных было связано с интересами землевладения. В Третьей и Четвертой Думе большинство народных избранников жили за счет земельной ренты. В Третьей Думе было 360 таких депутатов, в Четвертой – 354. Чаще всего это были крупные землевладельцы, что придавало особый статус Постоянному совету Объединенного дворянства. Его лидеры не скрывали своих взглядов, преимущественно связанных с интересами сословия. Н. Е. Марков, например, признавался, что отстаивал прежде всего дворянскую точку зрения.
Своя линия поведения была у предпринимательских кругов. Крупнейшие банки деятельно участвовали в избирательных кампаниях. Так, в 1906 году Учетно-ссудный банк финансировал избирательную кампанию кадетов (по сведениям МВД, кадеты на нее потратили около 700 тысяч рублей). Позднее кадетов поддерживал Азовско-Донской банк. На его счетах хранились средства ЦК партии и газеты «Речь». Банк финансировал предвыборную агитацию кадетов, их периодические издания. Кроме того, кадетам оказывали материальную помощь Сибирский торговый банк, Петербургский международный коммерческий банк и Петербургский частный коммерческий банк. Конституционные демократы финансировались и нефтепромышленниками (обществом «Мазут»). В ответ кадеты защищали интересы своих «спонсоров» в Думе, органах местного самоуправления, газетах. Биржевые общества чаще всего поддерживали «Союз 17 октября». Им же помогало и семейство Нобелей.
Лоббирование подразумевало обоюдную зависимость депутатов и различных групп интересов. Промышленники и банкиры не могли не считаться с близкими им фракциями. 20 декабря 1911 года Ф. И. Гучков писал брату Александру о Московском биржевом комитете: «Без опоры какой-нибудь политической партии им не обойтись: прошли те времена, когда вопросы обложения, концессий, субсидий могли решаться путем шушуканья министра финансов с председателем Московского биржевого комитета».
«Молодое поколение» московского купечества стремилось вовлечь в свою орбиту депутатов разных фракций. С 1909 года кадеты (М. В. Челноков, А. И. Шингарев) принимали участие в совещаниях, проводившихся предпринимателями во главе с А. И. Коноваловым. Против этого категорически возражал П. Н. Милюков, но его мнение игнорировали. Помимо кадетов, в «экономических беседах» участвовали прогрессисты (Н. Н. Львов), депутаты из Польского кола (В. В. Жуковский). Причем московские промышленники сочувствовали оппозиционным кадетам, а не октябристам, которых считали более лояльными по отношению к власти, а главное – глухими к купеческим интересам. Во многом это предопределило поражение «Союза 17 октября» на выборах в Четвертую Думу.
У некоторых депутатов была своя «специализация». Так, в Четвертой Думе была особая группа, защищавшая интересы нефтяников. Ее неформальным лидером был А. С. Салазкин. От имени воротил железнодорожного строительства говорил Н. Л. Марков, председатель правления Юго-Восточных железных дорог, ближайший сотрудник С. И. Мамонтова. Марков при рассмотрении интересовавших его законопроектов подбирал экспертов, привлекал к подготовке документов Институт инженеров путей сообщения, советовался с представителями органов местного самоуправления.
На Думу рассчитывали различные общественные круги, социальные группы: студенты, профессора университетов, рабочие, служащие, представители национальных окраин. Громко звучал в Думе голос земцев: многие депутаты имели опыт работы в органах местного самоуправления. 11 февраля 1911 года октябрист Н. Н. Опочинин, выступая на заседании, посвященном финансированию школьного дела, объяснял коллегам: «Большинство из нас – земцы, только что возвратившиеся из земских собраний, и все мы знаем, насколько сочувственно относятся эти собрания к нашим заботам в области образования. Теперь представьте удивление всего земского люда, когда он прочтет в газетах отчет о том, что правые и левые баллотировали в Государственной думе за ассигнование 10 млн в пользу образования, а мы, октябристы, по указанию правительства – только за 8 млн, и при том по своей собственной инициативе».
Земцы не сомневались, что главная реформа, которую ждала Россия, – новое Земское положение. «Из всех стоящих ныне на очереди реформ самой важной и неотложной я считаю реформу земского положения, – писал Н. В. Савич К. Э. Линдеману 5 июня 1913 года. – Только проведя в жизнь основы земской реформы, можно надеяться, что Государственная дума получит, наконец, силу и авторитет для осуществления необходимых стране реформ и правовых гарантий. Сейчас у Государственной думы нет прочных корней на местах в виде общественных учреждений и организаций, которые бы отражали собой истинные устремления и интересы тех классов населения, которые выдвигают и избирают депутатов».
Правительственные проекты реформы местного самоуправления многим казались весьма спорными. Возражал Постоянный совет Объединенного дворянства, рассчитывавший инициировать в земстве широкую дискуссию по этому поводу. Играя на опережение, правительство созвало Совет по делам местного хозяйства – совещательное учреждение, представлявшее земское и городское самоуправление. Его решения должны были убедить даже консервативное крыло Думы в правомерности намеченных преобразований, которые не были плодом отвлеченного канцелярского умствования и которые поддержала деловая Россия. «Создан Совет (местного хозяйства. – К. С.) для того, чтобы прежде внесения министерских законопроектов в Государственную думу, их подвергнуть разбору, критике, исправлению со стороны местных людей, дабы проекты не были созданием одних чиновников, а получили жизненность… В обществе и печати Совет прозвали „Преддумье“», – писал П. А. Столыпин императору 20 ноября 1910 года.
Правительство с большим вниманием следило за его заседаниями и в особенности голосованиями. В сессию 1908/09 года при рассмотрении законопроекта о реформе губернской администрации (что подразумевало отмену института предводителей дворянства) чиновники департаментов МВД вызывались по телефону для участия в баллотировке. И все же законопроект провалили. Бывший тогда самарским предводителем дворянства А. Н. Наумов вспоминал: «Раздосадованный и гневный Петр Аркадьевич [Столыпин] поспешил покинуть залу заседания, ни с кем не простившись и сделав угрожающий жест по нашему адресу (то есть в адрес противников законопроекта. – К. С.)».
Немалым влиянием на законотворческий процесс пользовались и отставные чиновники, обладавшие большим опытом и разветвленными связями. Самой заметной фигурой из них был С. Ю. Витте, мечтавший о возвращении на премьерское кресло. У экс-премьера сохранились старые связи. Его бывшие сотрудники сообщали ему секретную информацию о правительственных намерениях. Некоторые депутаты имели репутацию «агентов Витте». Видные газеты того времени – «Новое время» и «Русское слово» – практически обслуживали его интересы.
На Думу рассчитывали и различные национальные группы. Зимой 1909 года кадеты вели переговоры с московской еврейской группой о перспективах решения еврейского вопроса в России. Весной 1911 года октябристы общались с представителями немецкой диаспоры, недовольной внесенным законопроектом об ограничении прав немцев в Волынской, Киевской и Подольской губерниях. В феврале 1912 года прогрессисты обговаривали с представителями столичной немецкой общины возможность поддержки на предстоявших выборах в Думу. В ноябре 1913 года кадеты и прогрессисты встречались с представителями армянской общественности, взволнованной резней соплеменников в Турции.
Все это частные случаи масштабного явления. Дума была центром консолидации различных общественных сил. Самим фактом своего существования она способствовала становлению корпоративных, предпринимательских, национальных, региональных и прочих элит России. Представительное учреждение, обладавшее реальными полномочиями, заставлявшее считаться с собой правительство, было фактором переформатирования общества, которое становилось более структурированным, четче понимало свои интересы.
За чашкой чая
Общественность и бюрократия в России были связаны многими узами, в том числе родственными. Один из основателей «Союза 17 октября» А. А. Столыпин – брат премьер-министра. Другой лидер октябристов, депутат Третьей и Четвертой Государственной думы А. Ф. Мейендорф был двоюродным братом главы правительства. Министр народного просвещения Л. А. Кассо находился в родственных отношениях с могущественным семейством Крупенских, задававшим тон во фракции националистов, а затем в Партии центра. Кроме того, Кассо был университетским приятелем члена Государственного совета И. Х. Озерова. Друзья юности товарища министра внутренних дел С. Е. Крыжановского (В. И. Вернадский, А. А. Корнилов, Д. И. Шаховской) входили в руководство партии кадетов.
И Столыпина связывали с депутатами часто неформальные отношения. Так, он знал А. И. Гучкова с 27 апреля 1906 года, когда впервые встретился с ним на квартире своего брата А. А. Столыпина. Впоследствии, в годы работы Третьей Думы, они общались по несколько раз в день, если не лично, то по телефону. Гучков приводил к Столыпину депутатов своей фракции, которые доносили до главы правительства свою точку зрения по тому или иному вопросу. Так, 12 июня 1908 года А. И. Гучков и П. В. Каменский обсуждали с П. А. Столыпиным угрозу возникновения металлургической монополии в России.
В «компаньоны» к Столыпину напрашивались и другие депутаты: например, граф А. А. Уваров, который пытался взять на себя роль главного глашатая воли премьер-министра среди октябристов. Регулярно встречаясь со Столыпиным, он сообщал ему о настроениях во фракции, разговорах среди депутатов. Это вызывало законное раздражение руководства «Союза 17 октября», что в конце концов и привело в 1909 году к дуэли Уварова с Гучковым. Причем Уваров был убежден, что дуэль была инспирирована самим премьером. Именно по этой причине он отказался стрелять в своего оппонента, желая продемонстрировать моральную несостоятельность как Гучкова, так и его высокопоставленного союзника.
Часто встречался с премьером националист П. Н. Крупенский, который, по словам Я. В. Глинки, «чуть ли не ежеминутно сообщал правительству о всем, что делается в Думе, и о настроениях партий и отдельных членов». Крупенский не стеснялся поддерживать такие отношения и со Столыпиным, и с Коковцовым, и с Горемыкиным. Современники вспоминали, что «Горемыкин весьма к нему благоволил, так как этот опытный правительственный соглядатай привозил ему всегда самые животрепещущие новости».
В кабинет Столыпина были вхожи граф В. А. Бобринский, М. В. Родзянко. Председатель финансовой комиссии Государственного совета П. М. Романов по мере возможности сообщал премьеру о бюджетных работах «звездной палаты». «Доступность» Столыпина многих удивляла. Например, 1 марта 1907 года в 11 утра депутат от фракции кадетов О. Я. Пергамент послал главе правительства телеграмму с просьбой о встрече. В 2 часа дня он получил ответ: Столыпин был готов его принять через два часа, то есть в четыре вечера.
Весной 1907 года государственного контролера П. Х. Шванебаха «коробила та бесцеремонность, с которой всякие Челноковы, Струве и Гессены вызывали Столыпина к телефону». Как раз в те дни премьер регулярно встречался с депутатом П. Б. Струве. Они обсуждали самый широкий круг вопросов. Согласно конспекту Струве, однажды они говорили о настроениях в Думе, о взаимоотношениях царя и председателя палаты, о будущей правительственной тактике, о перспективах взаимодействия министров и депутатов, о необходимости расширения бюджетных прав представительного собрания, об аграрном законодательстве, смертной казни, о необходимых основах государственной политики.
В середине марта 1907 года, после обсуждения в Думе вопроса о военно-полевых судах, Столыпин обратился к С. А. Котляревскому с просьбой устроить ему встречу с членом фракции кадетов В. А. Маклаковым, блиставшим на том заседании. На обеде в гостинице «Франция» Котляревский спросил Маклакова, согласится ли он побеседовать с премьер-министром. Депутат не возражал. Обед еще не был окончен, когда Котляревский вызвал Маклакова к телефону переговорить со Столыпиным. Беседа состояла из намеков. Очевидно, премьер-министр опасался, что их разговор будет подслушан, поэтому место и время будущей встречи оговорено не было. На следующий день Столыпин передал Маклакову записку, и в тот же день, вечером, последний прибыл в Зимний дворец. Столыпин и Маклаков говорили преимущественно о перспективах работы Второй Думы. Премьер-министр задавался вопросом, насколько возможно конструктивное взаимодействие с нижней палатой со столь «парадоксальным» партийным составом. Депутат убеждал Столыпина, что кадеты в целом готовы к диалогу с правительством; они склонны утвердить большинство министерских законопроектов, правда, внося в них существенные поправки. Опасаясь огласки, Маклаков рассказал об этой беседе лишь представителям правого крыла своей фракции: С. Н. Булгакову, П. Б. Струве, М. В. Челнокову.
Челноков, будучи секретарем Думы, регулярно посещал Столыпина. Они беседовали отнюдь не только о многотрудных секретарских обязанностях. В конце апреля – начале мая 1907 года Столыпин признавался Челнокову: «Прежде я только думал, что спасение России в ликвидации общины; теперь я это знаю наверно. Без этого никакая конституция в России пользы не сделает». Премьер-министр со всей откровенностью предупреждал, что если Дума отвергнет правительственное аграрное законодательство, она тут же будет распущена. Ввиду этой угрозы правые кадеты вели через Челнокова переговоры со Столыпиным о предстоявшем обсуждении земельного вопроса. Глава правительства был склонен к компромиссу. Он не возражал против того, чтобы Дума вносила поправки в Указ от 9 ноября 1906 года.
Немало было встреч Столыпина с кадетами Второй Думы. Однако в общественном сознании эпохи запечатлелась лишь последняя. 2 июня 1907 года в 11:30 вечера Булгаков, Маклаков, Струве, Челноков прибыли на Елагин остров для переговоров с премьером. Они пытались убедить главу правительства повременить с роспуском Думы, настаивая на том, что деловая работа нижней палаты как раз налаживается. В итоге доводы депутатов не возымели успеха. Тем не менее, прощаясь, Столыпин заметил: «Желаю с вами встретиться в Третьей Думе. Мое единственное приятное воспоминание от Второй Думы – это знакомство с вами. Надеюсь, что и вы, когда узнали нас ближе, не будете считать нас такими злодеями, как это принято думать».
Для многих кадетов такое общение с властью казалось в высшей степени возмутительным. «Эти переговоры оставляют на нашей… одежде трудно выводимые пятна», – писал Д. Д. Протопопов П. Н. Милюкову 6 июня 1907 года. Никто не хотел выставлять эти «пятна» напоказ.
Поэтому и в дальнейшем переговоры с оппозицией были обставлены тайной. В период работы Третьей Думы свои услуги посредника между кадетами и правительством предложил публицист Н. А. Демчинский, который мечтал, что когда-нибудь П. А. Столыпин «мог [бы] войти в Думу под руку с П. Н. Милюковым». Ради воплощения этой «утопии» он устроил тайную встречу Милюкова с Крыжановским, на которой предполагалось обсудить возможность легализации партии кадетов, поскольку Министерство внутренних дел неизменно отказывало партии в регистрации. Правительственного курьера, направленного согласовать время предстоявшей беседы, тщательно обыскали в квартире лидера Партии народной свободы на предмет наличия оружия. Лишь после этого Милюков, выглядывавший из соседней комнаты, согласился принять присланного чиновника. В назначенный час встреча состоялась. Милюков начал с вопроса:
– Вы желали меня видеть?.. Чем могу служить?
– Помилуйте, Павел Николаевич, – отвечал Крыжановский, – если бы я желал вас видеть, то просил бы разрешения прийти к вам. Демчинский сказал мне, что вы хотите меня видеть.
– Значит, это недоразумение, так как я ему никаких поручений не давал, – констатировал Милюков. – Вы, следовательно, ничего не имеете мне сказать?
– Кроме пожелания доброго здоровья, ничего не имею.
– В таком случае мне остается лишь откланяться, что я и делаю…
– Постойте, раз вы здесь, не станем смущать швейцара и сторожей, что мы подрались и что вы бежите. Присядьте, и сделаем вид, что мы беседуем.
В итоге они общались в течение часа, обсуждая ранее намеченный вопрос – о легализации партии. Это подтвердило подозрение Крыжановского, что в данном случае поведение Милюкова имело тактическую цель: подчеркнуть, что не он, а правительство искало возможности для сближения.
Столыпин регулярно устраивал совещания с депутатами. Порой это происходило поздно ночью, тогда и принимались важные решения. Например, осенью 1910 года «за чаем» у Столыпина представители думского большинства согласились поддержать законопроект о реформе местного суда. Такие собрания могли быть весьма многочисленными. Так, 12 декабря 1909 года на квартире у премьера собрались 30 депутатов Думы и 30 членов Государственного совета.
Столыпин устраивал и так называемые «рауты», на которые приглашались руководители ведомств, депутаты Думы, члены Государственного совета, дипломаты. «Принимал он (Столыпин. – К. С.) с истинно русским радушием. Представители различных лагерей объединялись у столов, заставленных обильным угощением, знакомились друг с другом и вели деловую беседу, которая содействовала выяснению многих вопросов. В этой полуофициальной обстановке и я успел ближе сойтись со многими членами Думы, что потом очень помогало в деловой работе», – вспоминал губернатор И. Ф. Кошко. На рауте обсуждались и политические вопросы. Впоследствии рауты устраивал и премьер В. Н. Коковцов, и сменивший его И. Л. Горемыкин. Приемы проходили на квартирах министра народного просвещения Л. А. Кассо или обер-прокурора В. К. Саблера.
Депутаты и члены правительства регулярно встречались в Таврическом дворце сразу после пленарных заседаний. Столыпин специально задерживался в зале общего собрания, дабы члены нижней палаты могли обратиться к нему с вопросами.
Личные контакты депутатов с главой правительства не пресеклись со смертью Столыпина. Некоторые члены Думы, Государственного совета часто заходили и к новому премьер-министру. Со многими представителями верхней палаты Коковцова связывали товарищеские отношения, которые установились в бытность главы правительства статс-секретарем Государственного совета. В верхней палате заседали и бывшие сотрудники Коковцова по Министерству финансов: А. П. Никольский, М. Д. Дмитриев и др. Регулярно с премьером встречался член фракции октябристов Н. П. Шубинский. Он информировал главу правительства о настроениях депутатов и даже пересказывал секретные сведения, которые узнавал в президиуме Думы. По словам Коковцова, именно его личные контакты с председателем бюджетной комиссии Думы М. М. Алексеенко обеспечили прохождение кредитов на морскую программу.
«Совещание кончилось, – записал в дневнике депутат от фракции октябристов, один из «гостей» Коковцова И. С. Клюжев. – Хозяин попросил нас в столовую выпить по рюмочке, пока, сказал он, еще не прошел окончательно законопроект о борьбе с пьянством. Мы заняли места. Коковцов любезно угостил и, между прочим, предложил Алексеенко яблоко. „Но оно слишком велико для вечернего заседания на сон грядущий“, – заметил тот. „В таком случае разделим его пополам, Михаил Мартынович [Алексеенко], и скушаем сообща, – сказал он [Коковцов] с каким-то особенным ударением на слове „сообща“». В кабинете премьера рождались многие законы. По словам Клюжева, Малая судостроительная программа была принята в 1912 году в результате долгих частных переговоров правительства с депутатами.
Был готов к диалогу с депутатами и Горемыкин. В скором времени после назначения, в феврале 1914 года, он уже вел переговоры с думским председателем М. В. Родзянко. Премьер решил встретиться также с председателями думских комиссий и докладчиками по важнейшим законопроектам. Несколько дней спустя Горемыкин принял лидеров земцев-октябристов и обсудил с ними возможность формирования думского большинства. Премьер не исключал возможности встречи и с представителями оппозиции.
Не только главе правительства, но и «рядовым» министрам приходилось чутко прислушиваться к голосу народных избранников. Показательно, что руководители ведомств сперва принимали депутатов и лишь затем своих высокопоставленных подчиненных. Министрам приходилось быть крайне предупредительными в общении с депутатами и членами Государственного совета. В противном случае им могли грозить существенные неприятности. Так, в марте 1912 года на прием к министру внутренних дел А. А. Макарову пришел член Государственного совета князь А. М. Эристов. После долгого ожидания он, обидевшись, ушел, оставив письмо, в котором угрожал, что об этом инциденте станет известно группе правых Государственного совета и съезду Объединенного дворянства.
«За чашкой чая». Неформальные встречи думцев
Министр иностранных дел А. П. Извольский поддерживал тесные отношения с депутатским корпусом, демонстрируя открытость внешнеполитического ведомства и готовность к диалогу с представительными учреждениями. Осенью 1908 года по его просьбе товарищ министра иностранных дел Н. В. Чарыков информировал членов Думы о положении на Ближнем Востоке. В декабре 1908 года, накануне своего выступления в Государственной думе, Извольский встретился с представителями думского большинства и обсудил с ними основные положения готовившейся речи.
Этой же линии поведения придерживался С. Д. Сазонов. Он приглашал депутатов «на чашку чая» и старался разъяснять позицию министерства. Например, в декабре 1912 года, в самом начале работы Четвертой Думы, он принял группу националистов и довольно долго с ними беседовал. Такая встреча – скорее исключение из правил. Чаще всего Сазонов приглашал к себе представителей почти всех фракций, не делая исключений и для оппозиции (не считая, конечно, социал-демократов и трудовиков). Правым и националистам оставалось возмущаться и даже подумывать об отказе участвовать в этих совещаниях. Одна из таких бесед состоялась 22 марта 1913 года. По словам депутата Н. Н. Львова, «за исключением Милюкова, все задававшие министру вопросы напоминали светских дам, говорящих на серьезные темы. Однако всех перещеголял наш председатель (М. В. Родзянко. – К. С.). Он вдруг задал такой вопрос: „А нельзя ли нам теперь проливы хапнуть?“ Сазонов посмотрел на председателя так, как смотрят в обществе на человека, громко рыгнувшего». В марте 1913 года Сазонов пригласил к себе лидеров правых: Г. Г. Замысловского, Н. Е. Маркова, А. Н. Хвостова. Он попытался разъяснить им политику России на Балканах и, судя по всему, небезуспешно. 26 марта 1913 года Г. А. Шечков отметил, что слова министра не были напрасными и депутаты вернулись после этой беседы «вполне побежденные». Примерно тогда же Сазонов встречался с октябристом А. И. Звегинцевым и с правыми членами Государственного совета. Предмет обсуждения все тот же – внешнеполитический курс России. Показательно, что даже оппозиция была благосклонна в отношении Министерства иностранных дел. 10 мая 1914 года П. Н. Милюков, выступая о смете МИД, отметил министерство как «единственное европейское» правительственное ведомство в стране, прислушивавшееся как к общественному мнению, так и к пожеланиям депутатов Государственной думы.
Некоторое время и в Военном министерстве тон задавали сторонники взаимодействия с Думой. Министр А. Ф. Редигер был готов к диалогу с представительной властью. 8 декабря 1907 года он принимал делегацию думской комиссии по государственной обороне. Министр подробно изложил депутатам свое видение политики ведомства по личному составу и материальной части. Затем помощник министра А. А. Поливанов доложил о распределении расходов на нужды армии. Депутаты предложили руководству министерства подготовить законопроект об увеличении содержания офицерского состава. Также они высказались в пользу существенного сокращения расходов на флот с учетом критической нехватки денег на сухопутную армию и беспорядков в морском ведомстве. Вероятно, эту точку зрения поддержали министр и его помощник. Думское большинство выступало за контакты с военными. В конце 1908 года Гучков старался убедить Редигера поменять руководящий состав ведомства. Министр предоставлял Гучкову сведения об обороноспособности страны, критиковал Совет по государственной обороне, где безраздельно доминировали великие князья, некомпетентные в военном деле и не отвечавшие за свои действия. Эта информация подтолкнула Гучкова к выступлению в Думе, в котором он изобличал недостатки военного дела в России, в частности безответственность его руководителей. Член Александровского комитета о раненых А. В. Олсуфьева утверждала, что Гучков в данном случае выступил с санкции Редигера.
У депутатов и руководителей ведомств складывались личные отношения, которые выходили за рамки официальных. Например, в ноябре 1910 года октябрист И. С. Клюжев консультировался с министром народного просвещения Л. А. Кассо о своем будущем выступлении в Думе. А. И. Савенко, поддерживая доверительные отношения с министром внутренних дел Н. А. Маклаковым, ставил перед ним волновавшие фракцию националистов вопросы: например, об украинофильстве и о профессорах-«мазепинцах» в Киевском университете. В ноябре 1915 года обер-прокурор Святейшего Снода А. Н. Волжин просил депутата А. Г. Лелюхина проконсультировать его о предстоявшем заседании бюджетной комиссии, выступления в которой Волжин чрезвычайно опасался.
Благодаря таким личным связям министры, во многом независимо от консолидированной линии правительства, выстраивали свои отношения с Думой. Так, у министра путей сообщения С. В. Рухлова были тесные контакты с руководством фракции октябристов. По словам его предшественника Н. К. Шауфуса, Рухлов даже определял состав министерства в соответствии с пожеланиями думского большинства. При этом сам глава ведомства относил себя к националистам и согласовывал с этой фракцией многие свои решения. Согласно воспоминаниям Коковцова, именно Рухлов стоял за инициативой думских правых и националистов выкупить Киево-Воронежскую железную дорогу. Сам он не мог выступить с этим предложением, так как опасался резких возражений со стороны главы правительства. В противостоянии с коллегами по Совету министров руководители ведомств искали союзника в лице депутатов. Даже нелюбимый в Думе министр народного просвещения А. Н. Шварц находил поддержку в нижней палате в своем конфликте с министром финансов В. Н. Коковцовым в вопросе о размере средств особого фонда на строительство школ. Однако в 1910 году сам Шварц подозревал в сговоре В. Н. Коковцова и М. М. Алексеенко, препятствовавших прохождению законопроектов его министерства. В годы работы Третьей Думы министр иностранных дел С. Д. Сазонов, министр торговли и промышленности С. И. Тимашев получали сведения об обороноспособности страны не в военном ведомстве, а в думской комиссии по государственной обороне.
Депутаты, пользуясь многочисленными личными связями, могли оказывать влияние на кадровую политику министерств и в целом правительства. Еще в марте 1907 года член группы правых и умеренных П. Н. Крупенский вел переговоры с П. А. Столыпиным о назначении Л. А. Кассо министром народного просвещения. В июне 1914 года полтавский вице-губернатор Я. Г. Гололобов обратился к лидеру думских правых Н. Е. Маркову с просьбой посодействовать его повышению по службе. По мысли Гололобова, министр внутренних дел Н. А. Маклаков последовал бы рекомендации Маркова. В июле 1915 года саратовский губернатор А. А. Ширинский-Шихматов просил депутата Н. П. Шубинского способствовать его переводу в Тверь. О Шубинском ходили слухи (подтверждавшиеся ближайшими сотрудниками министра юстиции), что он мог оказывать существенное влияние на назначения по судебному ведомству. По словам К. Д. Кафафова, Шубинский, обладая очевидным авторитетом в глазах И. Г. Щегловитова, мог провести «кого угодно и на какую угодно должность».
Конечно, не всякому депутату это было под силу. Не обладая подобным авторитетом в ведомстве, народному избраннику приходилось искать иные рычаги влияния на министра. Член Государственного совета С. Ф. Платонов предлагал И. С. Клюжеву оказывать давление на Л. А. Кассо при помощи г-жи Денисовой, к мнению которой министр народного просвещения прислушивался. В мае 1913 года депутаты от Царства Польского обратились к князю В. П. Мещерскому. С его помощью они рассчитывали договориться с министром внутренних дел Н. А. Маклаковым о прохождении законопроекта о введении городового положения в польских губерниях в приемлемой для них редакции. В конце концов к соглашению можно было прийти в неформальной обстановке на квартире председателя Думы, где периодически устраивались рауты с участием депутатов и членов правительства.
Депутаты не ограничивали свои знакомства министрами. Они поддерживали отношения еще и не со столь высокопоставленными, но все же весьма влиятельными чиновниками, которые могли не ставить свое начальство в известность об этих контактах. Показательно, что в период работы Второй Думы товарищ министра народного просвещения О. П. Герасимов снабжал кадетов материалами для критики правительственных законопроектов по народному образованию. Тогда же председатель Думы кадет Ф. А. Головин регулярно обедал с представителями высшей бюрократии (например, с товарищем министра торговли и промышленности М. А. Остроградским и с товарищем министра юстиции Н. Д. Чаплиным). В начале 1913 года установились дружеские отношения между депутатом-октябристом Б. И. Каразиным и товарищем главноуправляющего землеустройством и земледелием графом П. Н. Игнатьевым, что подкреплялось их общей неприязнью к политике Коковцова. В Четвертой Думе докладчик Комиссии путей сообщения А. А. Бубликов имел прочные связи в соответствующем министерстве.
Среди всех товарищей министров в нижней палате чаще всего вспоминали фамилию помощника военного министра Поливанова. У Гучкова были с ним товарищеские отношения. По словам Н. Н. Любавина, лидер октябристов «благодаря Поливанову получил необычайное влияние в военном ведомстве. Ему все показывают, с ним советуются при назначении людей на места». Впрочем, такие контакты были выгодны не только Гучкову, который щедро делился с Поливановым имевшейся у него информацией. Он сообщал помощнику министра сведения, которые приходили к нему с окраин империи (например, с Кавказа). 13 марта 1908 года А. И. Гучков и А. И. Звегинцев приехали к Поливанову сообщить список вопросов, интересовавших бюджетную комиссию, которые с неизбежностью должны были возникнуть на ее заседании. Гучков регулярно информировал Поливанова о ходе законотворческих работ. 16 февраля 1912 года помощник министра вел переговоры с октябристами о чрезвычайных кредитах военного ведомства. В этой связи Гучков обещал переговорить со «всемогущим» М. М. Алексеенко и тем самым обеспечить решение, благоприятное для министерства. Поливанов поддерживал связь и с другими членами фракции октябристов, например с Н. В. Савичем. Эти отношения сохранились и после отставки Поливанова в 1912 году. Уже будучи членом Государственного совета, он снабжал депутатов сведениями о состоянии военного ведомства, предлагал вынести на обсуждение Думы тот или иной вопрос. Сам он этого сделать не мог, не рискуя своим положением назначенного члена «звездной палаты».
Поливанова хорошо знали и в других фракциях. В марте 1907 года он по просьбе генерала Е. В. Богдановича принял В. М. Пуришкевича, который нуждался в консультации: депутату предстояло выступать от имени правых об отмене военно-полевых судов. 6 февраля 1908 года Поливанов посетил П. Н. Крупенского. На его квартире собрались многие члены комиссии по государственной обороне (10 человек). Поливанов сообщил им, как в последнее время изменилась организация военного дела, как принимаются наиболее важные решения. Новая встреча состоялась уже 12 февраля: на ней присутствовали 15 депутатов. К Поливанову приходили и по частным вопросам. Так, 9 мая 1909 года он беседовал с националистом В. В. Шульгиным о смягчении наказания одному отставному поручику. А 6 апреля 1912 года – с товарищем председателя Думы националистом князем В. М. Волконским о направлениях железнодорожного строительства.
У чинов военного и морского министерств сложились прочные связи с думской комиссией по государственной обороне и лично с А. И. Гучковым. С ним поддерживали неформальные отношения представители офицерского корпуса и даже генералитета (например, М. В. Алексеев и Н. И. Иванов), которые информировали Думу о состоянии вооруженных сил России. Гучков вспоминал, что как-то к нему приехал даже начальник штаба одного из военных округов, который жаловался на состояние военного дела в стране. Лидер октябристов получал информацию от военных агентов в Берлине А. А. Михельсона и в Вене М. И. Занкевича. Офицеры Генерального штаба сообщали Гучкову секретную информацию об обороноспособности страны. На его имя регулярно приходили прошения за подписями сотен офицеров. И на флоте господствовали схожие настроения. 18 января 1909 года Гучков писал жене из Греции: «В Пирее застал две наши канонирские лодки: „Кореец“ и „Гиляк“, направленные было во Владивосток. Офицеры, узнав о моем приезде, позвали меня к себе. Сегодняшний вечер… я проведу у них». В тот день он получил разнообразную информацию о состоянии флота, рассчитывая с ее помощью «нанести удар» по Совету по государственной обороне и его председателю великому князю Николаю Николаевичу.
В итоге складывались неформальные объединения, которые позволяли народным избранникам получать необходимые сведения, а их негласным информаторам – влиять на ход дел в стране. Эту роль играла комиссия при Военном министерстве по составлению «Истории русско-японской войны». В нее входили офицеры Генерального штаба. Возглавлял комиссию генерал В. И. Гурко. Ее члены и депутаты (человек 5–6 с каждой стороны) регулярно собирались на квартирах П. Н. Балашова, В. И. Гурко или А. И. Гучкова. Обсуждались различные аспекты ожидавшейся военной реформы. Причем офицеры находили по каждому вопросу экспертов, обладавших всеми необходимыми техническими знаниями. Во время таких встреч редактировались законы, поступавшие из военного ведомства, разрабатывались возможные думские инициативы, анализировались недостатки курса действующего министра. Во многом благодаря этим беседам Гучков обладал самыми широкими сведениями о состоянии обороноспособности страны, зачастую не подлежавшими огласке. В его распоряжении были даже секретные приказы военного министра, что в конце концов стало поводом к отставке А. А. Поливанова с поста помощника военного министра.
Гучков имел хороших знакомых и в Министерстве иностранных дел. Он регулярно получал копии донесений В. Святковского из Австро-Венгрии. 19 мая 1908 года к Гучкову заехал новый посол России в Персии Н. А. Малевич-Малевский. Он предложил лидеру октябристов секретно высылать материалы для «Голоса Москвы».
Депутаты самых разных политических убеждений проводили многие часы в петербургских канцеляриях. В конце марта 1907 года член фракции кадетов А. А. Кизеветтер поехал на прием к товарищу министра внутренних дел. Однако встретиться с ним не удалось. В приемной только и были депутаты – преимущественно оппозиционных групп: кадеты, социал-демократы, эсеры.
В дневниковой записи И. С. Клюжева от 4 февраля 1911 года так описывались каждодневные заботы члена нижней палаты: «Очень много отнимает времени исполнение разного рода чужих поручений и ходатайств, начиная от самых важных, как, например, содействие к избавлению от смертной казни и каторги, и кончая просьбой ускорить получение ордена или чина действительного статского советника. И по каждому такому важному или неважному делу приходится один-два или даже несколько раз ездить в то или другое министерство, написать несколько писем, достать справки и т. д. и т. п. По некоторым уже серьезным делам, где замешана жандармская полиция или военные власти… приходилось хлопотать больше года, затратить массу времени и денег и, наконец, получить желаемое». 24 ноября 1911 года Клюжев целый день провел в министерствах. Он ездил наводить справки по разным делам и практически всюду неудачно, не заставая глав ведомств и объясняясь с их секретарями. Исключением стал лишь министр путей сообщения С. В. Рухлов. В тот же день Клюжев побывал у главноуправляющего землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина, который пообещал содействовать учреждению Политехнического института в Самаре. Прежде депутат встречался по этому поводу с П. А. Столыпиным. Но и весной 1912 года эта тема не будет закрыта. Клюжев продолжал вести переговоры о политехникуме с Кривошеиным и его товарищем П. Н. Игнатьевым. Об этом были все его мысли. И в первый же день работы Четвертой Думы он не тратил время зря: Клюжев подошел к министру торговли и промышленности С. И. Тимашеву, в очередной раз поговорить о Политехническом институте. Затем обсудил с товарищем министра народного просвещения М. А. Таубе вопрос об организации женского педагогического института.
На посещение ведомственных канцелярий времени уходило очень много. Член фракции прогрессистов А. П. Мельгунов 1 мая 1913 года писал графу П. П. Толстому, что большую часть своего времени он проводил в министерствах, где в итоге добивался решений, необходимых для уфимского земства. Клюжев обращался в Министерство народного просвещения с «грудой» справок и ходатайств. Ему приходилось заходить во все департаменты и их отделы. Везде его знали и встречали очень любезно, были готовы во всем помочь. Директора департаментов доверительно общались с депутатом, рассказывали ему новости, жаловались на руководство ведомства. Клюжев ложился спать в 4, вставал в 10. Целый день проводил в Думе или в разъездах, и лишь ночью оставалось время для занятий законотворческой деятельностью.
Многие члены Государственного совета схожим образом проводили свой «досуг». Так, А. Н. Наумов, отстаивая интересы родной Самарской губернии, вместе с Клюжевым добивался учреждения Политехнического института в Самаре, проведения канализационных работ в городе, преобразования Самарского отделения Государственного банка. Ради этого он вел переговоры с министром финансов В. Н. Коковцовым и председателем Совета министров П. А. Столыпиным.
Иногда депутаты оказывались в министерствах не в роли просителей, а в качестве экспертов. Например, весной 1908 года кадет Н. В. Некрасов был приглашен в комиссию Министерства торговли и промышленности, обсуждавшую вопрос о правительственных контрактах на Черном море. Член фракции кадетов В. А. Караулов состоял в межведомственной комиссии о переселении в Туркестанскую область.
У правительства было много аргументов в разговоре с депутатом, обуреваемым тщеславием и честолюбием. Так, октябрист Е. П. Ковалевский страстно желал получить высокий чин. Он просил министра народного просвещения А. Н. Шварца произвести его в действительные статские советники. На это Шварц не без ехидства заметил, что «чины и ордена – удел нашего брата, чиновников, а для члена законодательной палаты, стоящего гораздо выше самих министров, эта побрякушка может послужить только к умалению его достоинства». Тем не менее Ковалевский не утратил надежды и обратился к министру юстиции И. Г. Щегловитову, с которым дружил, когда еще был почетным мировым судьей. В итоге мечте депутата суждено было сбыться. Но ради этого пришлось приложить немало усилий: Ковалевский на заседаниях комиссии по народному образованию старался проводить точку зрения, соответствовавшую видам правительства.
По свидетельству С. П. Белецкого, член фракции октябристов А. Д. Протопопов заметно поправел, когда в 1909 году по инициативе П. А. Столыпина получил чин действительного статского советника. Но на этом честолюбивые мечты депутата не останавливались. Он думал оказаться в правительстве хотя бы в должности директора канцелярии министра внутренних дел. Осенью 1915 года Протопопов уже помышлял о должности товарища министра торговли и промышленности. Он собирал на своей квартире чинов этого министерства и спрашивал, не ходят ли слухи о его возможном скором назначении. На карьерное продвижение рассчитывали и менее известные народные избранники. В письме от 19 октября 1916 года депутат Г. В. Викторов просил одного из лидеров так называемых «балашевцев» (националистов), В. Г. Ветчинина, посодействовать его назначению членом Совета министра внутренних дел или старшим чиновником особых поручений III класса при председателе Совета министров или, в крайнем случае, чиновником особых поручений при министре внутренних дел. «Вашу рекомендацию оправдаю, – писал Викторов. – В деле новых думских выборов буду очень полезен правительству и самому делу». Мечты подчас оборачивались разочарованием. По словам А. Н. Наумова, председатель фракции центра В. Н. Львов видел себя в придворном мундире. Он всякий раз добивался личной встречи с императором, желая лишний раз напомнить о себе. Однако столь ожидаемая аудиенция не дала результатов. В итоге Львов переменил свои политические убеждения и все более склонялся в пользу оппозиции.
Правительство неустанно заботилось о благосостоянии некоторых депутатов и их родственников. В частности, оно поддерживало коммерческие предприятия П. П. Мигулина в расчете на благодарность его тестя – председателя бюджетной комиссии М. М. Алексеенко. «При этом отнюдь не имелось в виду насиловать совесть или убеждения М[ихаила] М[артыновича], для этого его слишком уважают. Но хотели иметь прочную гарантию, что он „свой“ и что на него можно полагаться как на каменную гору». Примечательно, что Мигулин порой даже вел переговоры с министрами от имени своего влиятельного родственника. По словам И. Х. Озерова, зять Алексеенко, пользуясь своим счастливым родством, в итоге сколотил себе большое состояние. Однако не только Мигулин пользовался преимуществами депутатского положения. Кадет В. А. Маклаков получил от главноуправляющего землеустройством и земледелием А. В. Кривошеина мелиоративный кредит в 10 тысяч рублей для оборудования железобетонной мельничной плотины в подмосковном имении. В декабре 1908 года кадет, присяжный поверенный М. С. Аджемов просил министра финансов В. Н. Коковцова выдать значительную ссуду по делам его доверителя.
Некоторые члены Думы и Государственного совета регулярно получали дотации от правительства. В годы премьерства П. А. Столыпина депутат А. С. Вязигин получил от Министерства внутренних дел 40-50 тысяч рублей на издание журнала «Мирный труд», Н. Е. Марков получал на поддержание газеты «Земщина» по 12 тысяч рублей в месяц. В. М. Пуришкевич получал субсидии на публикацию «Книги русской скорби» и журнала «Прямой путь». В 1913 году 40 тысяч рублей было выделено депутату графу В. А. Бобринскому на издание газеты «Галицкая Русь», 15 тысяч – члену фракции националистов В. Г. Ветчинину, 4 тысячи – В. М. Пуришкевичу. В 1914 году те же 40 тысяч получил В. А. Бобринский, 31 тысячу – В. М. Пуришкевич, 5 тысяч – Г. Г. Замысловский, 3 тысячи – член верхней палаты А. Д. Самарин. По сведениям С. П. Белецкого, Замысловский получал значительные суммы из средств, предназначенных для финансирования выборов. Совет министров выделял деньги и депутату Третьей Думы Н. К. Гюббенету. Член Государственного совета В. Н. Ознобишин получал правительственные субсидии на издание газеты «Волга». По словам С. Е. Крыжановского, целый ряд депутатов Третьей Думы были на фактическом содержании правительства. Отказывать в субсидиях часто было небезопасно. По сведениям С. И. Шидловского, интриги члена Государственного совета Витте против Коковцова во второй половине 1913 года объяснялись явным нежеланием действующего премьера выдать бывшему кредит в 400 тысяч рублей.
Газеты на содержании
Самый простой способ контролировать газету – это ей платить. По сведениям С. Е. Крыжановского, в годы премьерства Столыпина правительство финансировало более 30 газет (правда, по его мнению, без особой для себя пользы). Наибольшие суммы шли на печатные органы в преддверии выборов. В ноябре 1911 года В. Н. Коковцов сокрушался: «Все наши средства напряжены теперь выборной кампанией. П. А. Столыпин приучил очень и очень многих к сравнительно широкой помощи и, к сожалению, допустил это в отношении таких предприятий, которые не сулят ничего доброго. Прервать эту помощь накануне выборов также невозможно и приходится поэтому делать то, чему я глубоко не сочувствую по одному сознанию бесполезности этих мер». Так, Коковцов, видимо преувеличивая, утверждал, что поддерживаемую правительством правомонархическую газету «Земщина» читают 50 человек.
Убыточным предприятием была и фактически правительственная газета «Россия». По сведениям С. Н. Сыромятникова, во второй половине 1906 года ее совокупный доход равнялся 7510 рублям. В следующем 1907 году предполагалось выручить значительно большую сумму – 40 тысяч. Однако и этого было явно недостаточно для содержания газеты. На одни гонорары авторам требовалось 4155 рублей в месяц, то есть около 49 тысяч рублей в год. При этом 43 200 рублей следовало платить журналистам построчно. В итоге, по расчетам Сыромятникова, минимальная сумма расходов «России» должна была составлять около 92 тысяч.
Значительные средства шли на финансирование провинциальной печати. Большинство губернаторов внутренних губерний страны получали по 10 тысяч рублей в год на содержание губернских ведомостей, которые должны были стать рупором правительственной политики. Однако, по мнению С. Е. Крыжановского, из этой затеи ничего не вышло.
Согласно расчетам Крыжановского, в 1906–1910 годах на подобные расходы правительство тратило более 600 000 рублей в год. С. Н. Сыромятников свидетельствовал, что только газета «Россия» получала 240 000. Всего через Крыжановского за время его пребывания в должности товарища министра внутренних дел прошло 3 168 000 рублей. После смерти П. А. Столыпина эти расходы были существенно сокращены. Однако ненадолго. После 1912 года объем средств, выделяемых на поддержание печатных органов, только увеличивался. В 1912 году он составлял 366 280 рублей, в 1913‐м – 825 478, в 1914‐м – 948 376, в 1915‐м – 1 068 724, в 1916‐м – 1 420 266. Самые значительные суммы шли газетам «Россия» (в 1912 году – 215 500 рублей, в 1913‐м – 214 000, в 1914‐м – 144 850), «Земщина» (в 1913 году – 132 000, в 1914‐м – 144 000, в 1915‐м – 145 000), «Колокол» (в 1913 году – 5000, в 1914‐м – 13 000, в 1915‐м – 20 000).
Кроме того, правительство финансировало издание агитационных брошюр. Авторство наиболее известных принадлежало И. Я. Гурлянду, который публиковался под псевдонимом «Васильев». Каждая печаталась тиражом 100 тысяч экземпляров и распространялась среди лиц, имевших хоть самый малый вес в обществе: сельских учителей, священников и т. д. Существовала особая секретная экспедиция, которая отвечала за рассылку этих книг: «Правда о кадетах» (1906), «Что такое трудовики?» (1907), «Вторая Дума» (1907), «Оппозиция» (1910).
Меняющаяся россия
Накануне Первой мировой войны Россия стремительно, до неузнаваемости менялась. Философ Ф. А. Степун так позднее описывал преображение Первопрестольной между двумя революциями: «Москва росла и отстраивалась с чрезвычайной быстротой. Булыжные мостовые главных улиц заменялись где торцом, где асфальтом, улучшалось освещение. Фонарщиков с лестницею через плечо и с круглою щеткой для протирания ламповых стекол за пазухой я по возвращении в Москву уже не застал. Когда керосиновые фонари уступили место газовым, я так же не могу сказать, как и того, с какого года газовое освещение стало заменяться электрическим. Помню только, что молочно-лиловые электрические шары, горевшие поначалу лишь в Петровских линиях, на Тверской и Красной площади, стали постепенно появляться и на более скромных улицах городского центра. Ширилась и разветвлялась трамвайная сеть. Уходили в прошлое милые конки с пристегом где одной лошаденки, а где, как например на Трубной площади или под Швивою горкою, и двух уносов. Становились преданием парные разлатые линейки, что в мои школьные годы ходили в Петровский парк и Останкино, может быть, и на другие окраины – не знаю». В деревне изменения происходили еще стремительнее: «В Московской губернии шло быстрое перераспределение земли между помещиками и крестьянством… Подмосковные помещики беднели и разорялись с невероятной быстротой; умные же и работоспособные крестьяне, даже не выходя на отруба, быстро шли в гору, смекалисто сочетая сельское хозяйство со всяческим промыслом… Большой новый дом под железной крышей, две, а то и три хорошие лошади, две-три коровы – становились не редкостью…» В пригородных кварталах городов теперь не нужно было ходить с собственным фонарем – туда пришло электричество. Появлявшимся в провинции автомобилям приходилось делить дорогу с пасущимся скотом. В украинских деревнях дома все чаще стали покрывать черепицей, в русских – железом. Те же тенденции фиксировал публицист, социал-демократ меньшевистского толка Н. Валентинов: «Вырастал новый быт, новый тип рабочего, новый тип крестьянина, новый тип интеллигенции».
На глазах менялось и общество[11]. Оно становилось более организованным, готовым отстаивать собственные интересы, в том числе посредством новоизбранной Государственной думы. В конце XIX века в России насчитывалось несколько тысяч общественных организаций. Начиная с 1906 года более тысячи организаций создавалось ежегодно. За 1906–1909 годы образовалось около пяти тысяч такого рода объединений. По оценке современного исследователя А. С. Тумановой, не было такой сферы жизни, куда бы не проникла общественная инициатива. Общественные организации занимались благотворительностью, благоустройством городов, просветительской деятельностью, здравоохранением, организацией досуга и т. д.
Можно с уверенностью говорить и о численном росте общества. Сколько человек его составляло? По мнению некоторых исследователей, к концу XIX столетия – около 1 млн, к 1917 году – 1,5 млн. Конечно, эти цифры могут быть легко оспорены. Все зависит от того, кого следует причислять к обществу, и на этот счет не может быть одной точки зрения. Стоит ли относить к обществу чиновников всех уровней, офицеров, торговых служащих, студентов? В зависимости от ответа на этот вопрос будет меняться и его численный состав. Однако сама по себе динамика поразительна и свидетельствует о подлинно революционных изменениях, которые переживала Россия.
Характерно, что в то же самое время стремительно деградируют все партийные организации. К 1912 году исчезло большинство отделений «Союза 17 октября». Прежде значительная политическая партия фактически перестала существовать. Она была не единственной, кто столкнулся с серьезными проблемами. Уже в 1908 году численность партии кадетов составляла около 25 тысяч человек, то есть сократилась в три раза по сравнению с 1906 годом. Накануне Первой мировой войны у конституционных демократов было не более 10-12 тысяч членов. Все леворадикальные партии испытывали тяжелый идейный и организационный кризис, что ставило под сомнение их дальнейшее существование. Потеряли в численности и правые объединения. Все это свидетельствовало о том, что политическая жизнь в России не поспевала за общественной. Политический костюм, сшитый по меркам 1905 года, трещал по швам.
* * *
Дума постепенно «врастала» в политическую систему, становилась ее неотъемлемой частью. Депутаты завязывали контакты с правительственными кругами, что было выгодно всем сторонам законотворческого процесса. Это упрощало жизнь министров, предоставляло новые возможности депутатам. Наконец, это способствовало расширению полномочий представительных учреждений. За «чашкой чая» принимались судьбоносные решения, которые затем лишь оформлялись в правительственных канцеляриях и залах общих собраний Думы и Государственного совета. Растущее влияние депутатского корпуса придавало ему вес в глазах избирателей, а это опять же упрочивало положение законодательных собраний. Такая наметившаяся тенденция вступала в явное противоречие и с Основными законами, и с настроениями «высших сфер». Ведь слово «конституция» продолжало оставаться под запретом. Да и основные партии отказывались признавать эволюцию политической системы. В итоге произошедшие изменения оказались неучтенными в общественной мысли начала XX века, а ведущие политические игроки зачастую действовали так, будто такой эволюции и вовсе не было. Правительство активнее прежнего (правда, в сущности, безуспешно) вмешивалось в избирательную кампанию в Четвертую Думу, вызвав немалое раздражение у думских фракций и фактически предрешив будущий кризис. Верховная власть не видела нужды в политическом диалоге с депутатами, подталкивая их тем самым к самостоятельным политическим требованиям. Вместе с тем многие партии, а за ними и фракции не ценили открывавшиеся перед ними новые возможности, рассчитывая на радикальную смену режима. Позицию партийных лидеров можно было бы и не учитывать, имея в виду слабость стоявших за ними структур, если бы амбиции депутатского корпуса были отчасти удовлетворены. Однако этого не случилось. Сильная Дума нуждалась в сильном правительстве, а такое было невозможно при самодержавном царе. В этом заключалось известное противоречие, коренившееся в политической системе того времени, и оно дало о себе знать в годы Первой мировой войны.
Глава третья. Война
Вокруг царя
С началом Первой мировой войны политическая система Российской империи претерпела существенные изменения. Появился новый авторитетный центр принятия решений – Ставка. Неслучайно уже в начале войны император хотел взять на себя обязанности главнокомандующего, но под давлением ближайшего окружения временно отказался от этой идеи. Авторитет императора не должен был быть поколеблен из‐за возможных неудач в военной кампании. Однако, проявляя разумную осторожность, царь оказывался в двусмысленном положении. Генерал Ф. Ф. Палицын выражал недовольство, что великого князя Николая Николаевича объявили верховным главнокомандующим: «Нельзя из короны государя вырывать перья и раздавать их направо и налево. Верховный главнокомандующий, верховный эвакуационный, верховный совет – все верховные, один государь – ничего. Подождите, это еще даст свои плоды. Один государь – „верховный“, никто не может быть им, кроме него». В этих рассуждениях была своя логика. Ставка, принимая ответственность за ход военных действий, получала право принимать во многих случаях самостоятельные решения. Показательно, что в 1915 году начальник штаба верховного главнокомандующего Н. Н. Янушкевич отменил приказ самого императора о посылке дивизии в Персию.
Это положение тяготило государя и его семью. Николай II с неизбежностью возвращался к ранее отброшенной мысли о необходимости возглавить армию. К тому же в правительстве регулярно обвиняли Ставку в непродуманности тех или иных мер, в отсутствии ясной стратегии управления армией. Министр земледелия А. В. Кривошеин неоднократно объяснял, что военное командование стало столь всемогущим из‐за Положения о полевом управлении – оно было принято в расчете на то, что верховным главнокомандующим должен был стать царь: «Тогда никаких недоразумений не возникло бы и все вопросы разрешались бы просто: вся полнота власти была бы в одних руках». Это был весомый аргумент в пользу объявления царя верховным главнокомандующим. Премьер Горемыкин, сознавая, что все идет именно к этому, тщетно объяснял коллегам по правительству, что великого князя Николая Николаевича недолюбливали в императорской семье, а императрица Александра Федоровна и вовсе была против его назначения: «Огонь разгорается. Опасно подливать в него масло». Но министры были очень раздражены действиями Ставки и регулярно ставили вопрос о ее недееспособности. Напрасно Горемыкин предупреждал о возможных последствиях подобных выступлений. Министры, сами того не сознавая, подыгрывали ближайшему окружению императора, в котором крепла вера в необходимость сменить военное командование. Когда 24 августа 1915 года у Александры Федоровны спросили о готовившейся отставке великого князя Николая Николаевича, она раздраженно ответила: «Опять про Николашу, все только о нем и говорят… Это мне надоело слышать: Ники (Николай II. – К. С.) гораздо более популярен, нежели он, довольно он командовал армией, теперь ему место на Кавказе».
В сентябре 1915 года верховным главнокомандующим стал Николай II. В Ставке император оказался в новых для себя обстоятельствах. Глав ведомств он принимал реже, чем прежде. Стало меньше источников оперативной информации, а следовательно, Николай II оказывался в большей зависимости от своего ближайшего окружения, в том числе от императрицы, которая вызывала резкое неприятие в великокняжеской семье. «В ней все зло, – считал великий князь Николай Николаевич. – Посадить бы ее в монастырь, и все бы пошло по-иному, и государь стал бы иным. А так приведет она всех к гибели».
Императрица старалась играть роль «связующего звена» между Ставкой в Могилеве и правительством в Петрограде. Она сообщала царю о событиях в столице, давала ему советы о назначении и увольнении министров, встречалась с ними, наставляла их.
Сам император говорил руководителям ведомств: «Если вам что[-то] нужно передать, то скажите государыне. Она мне каждый день пишет». Советы Александры Федоровны касались не только кадровой политики. В ноябре 1915 года она, ссылаясь на мнение Г. Е. Распутина, предложила царю выступить в Думе, поразив тем самым ее депутатов. Тогда же, в ноябре 1915 года, императрица высказывалась за скорейший созыв народных избранников, что опять же следовало из слов Распутина и противоречило позиции Горемыкина. В апреле 1916 года Александра Федоровна предложила сделать новый внутренний заем. Идея понравилась царю, и он посоветовал Александре Федоровне поговорить об этом с премьером Б. В. Штюрмером или министром финансов П. Л. Барком.
И все же политическую историю роковых для России лет невозможно свести к семейной драме слабохарактерного императора и его властной, весьма нервной супруги. Во-первых, некоторые решения становились неожиданными и для самой императрицы. Так, например, случилось при назначении председателем Совета министров А. Ф. Трепова, которого недолюбливала государыня, не скрывая своих чувств от царя. Чиновники это называли «курбетами Николая II». Во-вторых, император принимал решения под влиянием самых разных лиц из ближнего окружения. Их позиция могла отличаться от точки зрения Александры Федоровны. Например, В. Н. Орлов настоял на увольнении обер-прокурора Святейшего синода В. К. Саблера. При этом он предупредил протопресвитера военного и морского духовенства Г. И. Шавельского: «Должны мы были выехать от вас завтра или послезавтра, но теперь задержимся недели две». «Почему?» – недоумевал Шавельский. «К madame (императрице. – К. С.) нельзя скоро на глаза показаться. Вы думаете, она простит отставку Саблера?!» Новым обер-прокурором стал А. Д. Самарин. К нему царица не была расположена.
В условиях деградации лишь начинавшего складываться публичного политического пространства, а также «размывания» прежней традиции законотворчества император и его семья становились объектом влияния различных кружков, групп интересов. Кое-кто пытался воздействовать на Высочайшую чету через широко известного Г. Е. Распутина. По сведениям Г. И. Шавельского, «старец» чувствовал себя хозяином в императорских покоях до такой степени, что в любой момент мог войти в покои царских дочерей, даже когда они бывали раздетыми или же находились в постели. Против этого восстала фрейлина С. И. Тютчева, за что поплатилась своей должностью. Распутин был центром притяжения бюрократов, общественных деятелей и в особенности священнослужителей. За месяц, с 9 января по 9 февраля 1915 года, петроградскую квартиру Распутина посетили 53 человека из самых высших кругов (всего было 253 посещения), среди которых были генерал-адъютант П. К. Ранненкампф и супруга бывшего премьер-министра, графиня М. И. Витте. Эта «статистика» неполная. Ведь Распутин предпочитал жить в Царском Селе. С ним часто советовался министр внутренних дел А. Д. Протопопов. А. Ф. Трепов при посредничестве А. А. Мосолова рассчитывал добиться от Распутина отставки как раз того самого Протопопова. Впрочем, у «старца» посетители были самые разные. Сам он описывал ситуацию так: «Поверите ли? С утра одолевают: Одна просит достать место племяннику, другой просит помочь деньгами, третий сына устроить. А все больше хлопочут о местах. Ну, как я с кем познакомлюсь из больших лиц, так и даю к нему записки с просьбами устроить. И устраивают. Ко мне и министры с просьбами ходят и помощники министров – думают, что я им помогу в министры пройти». Сестра императора, великая княгиня Ольга Александровна о влиянии Распутина на царскую семью говорила так: «Это наше семейное горе, которому мы не в силах помочь». «Надо с государем решительно говорить, ваше высочество», – настаивал протопресвитер Г. Шавельский. «Мама говорила, ничего не помогает», – парировала великая княгиня. Сам император в письмах к супруге выражал сомнения в способности «друга» давать полезные советы, просил по возможности не вмешивать «старца» в решение государственных дел.
Москва между двух революций
Уже своим внешним видом и вызывающим поведением Распутин обращал на себя внимание. И все же не один он обладал влиянием на императорскую фамилию. Примерно то же можно сказать о кружке шталмейстера (главного конюшего) Н. Ф. Бурдукова, в который входили близкий к императору адмирал К. Д. Нилов и флигель-адъютант Н. П. Саблин, принадлежавший к окружению Александры Федоровны. Сам Распутин навещал Бурдукова и получал от того подробные инструкции. В кружке публициста Г. П. Сазонова надеялись на Распутина. Князь М. М. Андронников в корыстных целях использовал контакты с дворцовым комендантом В. Н. Воейковым. Авантюрист И. Ф. Манасевич-Мануйлов рассчитывал на свои особые отношения с премьером Б. В. Штюрмером. Все это подтверждает слова директора Департамента полиции Е. К. Климовича: не было никакой системы закулисных влияний на императора. В действительности был хаос, в центре которого оказался государь.
Царь был фаталистом, «плывшим по течению» и не строившим далекие планы на будущее. Он часто повторял слова Священного Писания: «Претерпевший же до конца спасется». Как-то он заметил министру иностранных дел С. Д. Сазонову: «Я, Сергей Дмитриевич, стараюсь ни над чем не задумываться и нахожу, что только так и можно править Россией. Иначе я давно был бы в гробу».
Аполитичным было ближайшее окружение царя. Большинство его представителей тоже не заглядывали далеко в будущее. Свиту императора составляли старый и во многом утративший способность адекватно реагировать на происходящее граф В. Б. Фредерикс; не имевший определенных взглядов, путано изъяснявшийся и склонный к чрезмерному употреблению спиртного адмирал К. Д. Нилов; увлеченный парадами и церемониалом, а также собственными коммерческими предприятиями генерал В. Н. Воейков; гофмаршал князь В. А. Долгоруков, который был «слишком прост умом», чтобы на что-то влиять; командир конвоя граф А. Н. Граббе, посвящавший все свое время разнообразным плотским удовольствиям; флигель-адъютант граф Д. С. Шереметев, в общении с императором никогда не выходивший за пределы своих обязанностей и интересовавшийся только рыбной ловлей; «бесцветный» генерал К. К. Максимович; близкий к Распутину капитан I ранга Н. П. Саблин. В тени оставались вечно молчавший начальник походной канцелярии К. А. Нарышкин и очень скромный и застенчивый полковник лейб-гвардии Кирасирского пока А. А. Мордвинов. В интеллектуальном отношении выделялся профессор С. П. Федоров, но он предпочитал принцип «моя хата с краю». Все эти лица непосредственно окружали императора, с ними он и общался по несколько часов в день, практически никогда не касаясь в беседах политических вопросов. «Вы думаете, – утверждал в 1916 году граф Граббе, – что нас слушают, с нами советуются, – ничего подобного! Говори за чаем или во время прогулки о чем хочешь, тебя будут слушать; а заговори о серьезном, государственном, Государь тотчас отвернется или посмотрит в окно да скажет: а завтра погода будет лучше, проедем на прогулку подальше или что-нибудь подобное».
Тем не менее свита влияла на царя, но не системно. Влияние было случайным, ситуативным, но все же порой существенным. С подачи адмирала Нилова и профессора Федорова был отстранен от должности военного министра А. А. Поливанов и вместо него назначен В. С. Шуваев. Причем последний был уволен с большой вероятностью также по настоянию свиты. Именно Федоров добился учреждения Министерства народного здравия. В. Н. Воейков приложил немало усилий для увольнения В. Ф. Джунковского с поста товарища министра внутренних дел.
Совет министров. «Тень» объединенного правительства
В октябре 1905 года Совет министров создавался как объединенное правительство. И все же он им в полной мере не был. Юристы отмечали всю двусмысленность статуса этого учреждения. Согласно закону, все решения такого правительства следовало принимать единогласно. На практике такое случалось нечасто. В случае разногласий между министрами решение оставалось за царем. Это положение явно диссонировало с идеей объединенного правительства, обладавшего собственной политической волей. Установленная законом скрепа (подпись) министрами актов верховной власти вроде бы должна была вводить ответственность чиновников за все решения, даже принятые лично царем. Тем не менее правовых механизмов, гарантировавших такую ответственность, не было. Как отмечал юрист Б. Э. Нольде, даже состав Совета министров не был зафиксирован в законодательстве, что было необходимо, поскольку статус ряда ведомств не был очевиден.
Наконец, сфера компетенции правительства не была однозначно определена. Как распределялись функции между Советом министров и верховной властью? Этот вопрос не был окончательно решен. По формуле члена Государственного совета С. Ф. Платонова, «до конституции министры правили страной через царя. А после введения конституции царь правит страной через министров». Иначе говоря, и до политической реформы 1905–1906 годов, и после нее неформальные механизмы принятия решений имели немалое значение, даже, кажется, большее, чем официально установленные процедуры.
Право всеподданнейшего доклада принадлежало и премьер-министру, и другим членам правительства. Это ставило премьера в зависимое от министров положение. Ему приходилось постоянно иметь в виду, что руководители ведомств выстраивают собственные отношения с императором – в интересах своих и министерства. Глава правительства не мог на это влиять. В ряде случаев министры назначались без учета мнения, а иногда и вопреки воле премьера. Это явление имело место и при Столыпине, а после его смерти приняло значительные масштабы. Горемыкину приходилось «терпеть» министра внутренних дел Н. А. Маклакова. А. Н. Хвостов и Вс. Н. Шаховской стали министрами, несмотря на его протесты. Б. В. Штюрмер просил об увольнении министра земледелия А. Н. Наумова и министра народного просвещения П. Н. Игнатьева, однако царь ему отказал, заметив: «Прошу в область моих распоряжений не вмешиваться». Премьер А. Ф. Трепов тщетно добивался отставки А. Д. Протопопова и князя Вс. Н. Шаховского. Император время от времени вмешивался в каждодневную работу правительства и даже подменял его собой.
И все же Совет министров обладал известной самостоятельностью. Согласно Указу от 19 октября 1905 года, учреждавшему этот орган власти, он объединял и направлял работу всех министерств. Их руководители не могли проводить меры, имевшие «общее значение», без согласования с правительством. Законопроекты, вносившиеся в Думу и Государственный совет, следовало предварительно обсуждать в Совете министров. Через него по идее проводились и министерские доклады императору, которые касались интересов сразу нескольких ведомств. Более того, премьер-министр имел право присутствовать на таком всеподданнейшем докладе. Однако это положение российского законодательства не могло быть реализовано, поскольку практически любой ведомственный вопрос имел «общее значение».
Правительство и так едва справлялось с возложенными на него обязанностями. Оно должно было утверждать множество вопросов сугубо технического порядка. Именно для их обсуждения был создан так называемый Малый совет, который состоял из товарищей министров. Правда, в период Первой мировой войны он собирался редко. Основное бремя работы падало на министров, и правительство было вынуждено собираться чаще, чем прежде. Это было признаком болезни, поразившей исполнительную власть еще в 1911 году. Начиная с этого времени, Совет министров неуклонно утрачивал свою субъектность. Он боялся «заслонять» государя, и это сказывалось на эффективности управления.
Важнейшие политические вопросы в Совете министров обычно обсуждались «без канцелярии». Журнал такого заседания не составлялся. Ответственность же возлагалась на премьера, который докладывал императору вопрос, получивший разрешение в ходе частной беседы министров. В 1916 году, то есть в период премьерства Б. В. Штюрмера, эта неформальная, но важнейшая составляющая заседаний Совета министров сошла на нет. Опытным чиновникам правительство все более напоминало прежний Комитет министров, который «пропускал» малозначимые законопроекты, утверждал кредиты, а политические вопросы не обсуждал. Примечательно, что и Горемыкин, и Штюрмер были «бесстрастными» председателями, которые пассивно вели себя на заседаниях Совета министров и в ход обсуждения вмешивались редко.
С формальной точки зрения с началом Первой мировой войны сфера компетенции Совета министров расширилась. В июле 1914 года он даже получил право принимать некоторые решения без санкции царя (например, самостоятельно утверждать всеподданнейшие доклады), и только особо важные решения Совета министров подлежали утверждению государя.
На практике все было иначе. Правительство не смогло стать более или менее самостоятельным политическим центром, что в итоге предопределило доминирование различных кружков, групп интересов, которые влияли на решения верховной власти.
Была и другая проблема. Оставалось неясным, где заканчивались полномочия Совета министров, а где начиналась сфера прерогатив Ставки. Военному командованию подчинялась гражданская администрация в зоне театра военных действий. Однако эти территории были подотчетны и гражданским властям. При этом министры обычно узнавали о распоряжениях военной администрации post factum. Характерен случай, когда в марте 1915 года министр финансов П. Л. Барк получил от начальника Генерального штаба Н. Н. Янушкевича телеграмму с указанием перевести в США 400 млн рублей золотом за уже заказанные шрапнели. Речь шла о трети всего золотого запаса России. Причем решение было принято военным командованием без всякого согласования с правительством. Ставка вмешивалась в работу и отдельных губернаторов. Территория же, оказавшаяся в ведении военного командования, была столь обширна, что включала в себя и столицу.
Современники регулярно ставили вопрос о придании правительственной администрации большей эффективности. При этом постоянно упоминалось слово «диктатура», в которой многие усматривали выход из создавшегося положения. 28 июня 1916 года премьер-министр Б. В. Штюрмер был освобожден от обязанности докладывать государю о текущих вопросах управления страной. Публицисты назвали это «диктатурой Штюрмера». Однако в этих словах не было правды. Сам Штюрмер трактовал «диктатуру» как право вмешиваться в работу министерств, у которых не получалось координировать свои действия. Едва ли стоит удивляться, что наличие «диктатора» не упразднило повсеместного «двоевластия», которое давало о себе знать даже в Петрограде[12].
Министрам приходилось делить полномочия не только со Ставкой. В годы войны изменилась сама процедура принятия решений. Большую силу обрели Особые совещания (прежде всего – Особое совещание по обороне под председательством военного министра), включавшие представителей администрации, Думы, Государственного совета, общественности. Компетенция этих учреждений пересекалась с кругом ведения Совета министров. В этой связи главноуправляющий землеустройством и земледелием А. В. Кривошеин говорил о фактической самоликвидации правительства. Поскольку такие общественные организации, как Всероссийский земский союз (ВЗС) и Всероссийский союз городов (ВСГ), часто вмешивались в дела государственного управления, по его мнению, это практически наделяло председателя ВЗС князя Г. Е. Львова полномочиями премьер-министра.
Правительство, оказавшееся в столь сложном положении, не было однородным по своему составу. Некоторые министры (А. В. Кривошеин, С. Д. Сазонов, П. А. Харитонов и др.) поддерживали тесные контакты с общественностью, думской оппозицией, порой даже согласовывали с ней свои действия. У них формировалось стойкое убеждение, что состав кабинета должен соответствовать общественным и, в частности, думским настроениям. Председатель Совета министров И. Л. Горемыкин был иного мнения, чем вызывал раздражение у некоторых своих коллег. Министры – сторонники компромисса с Думой – полагали необходимым уволить своих оппонентов из правительства. В мае 1915 года Кривошеин подготовил несколько вариантов состава кабинета, который включал бы и представителей общественности. Согласно одному из этих вариантов правительство возглавил бы П. А. Харитонов, согласно двум другим – сам Кривошеин.
В июне 1915 года Сазонов, Барк, Кривошеин, Рухлов, Харитонов потребовали немедленного созыва Думы и изменения состава Совета министров. Они обратились к Горемыкину, который должен был предоставить соответствующее прошение императору. Горемыкин поддержал инициативу коллег. В итоге были уволены военный министр В. А. Сухомлинов, министр юстиции И. Г. Щегловитов, министр внутренних дел Н. А. Маклаков и обер-прокурор Святейшего синода В. К. Саблер.
Некоторые в правительстве ждали отставки и самого премьера И. Л. Горемыкина, полагая, что его мог бы заменить Кривошеин. При этом они рассчитывали на компромисс со складывавшимся думским большинством – Прогрессивным блоком.
6 августа 1915 года министры почти единодушно высказались против принятия императором обязанностей верховного главнокомандующего. Но Николай II не собирался отступать от своего решения. 20 августа почти все члены правительства, за исключением Горемыкина, просили царя отложить отъезд в Ставку. Однако государь отверг и эту просьбу. На следующий день министры подписали письмо царю об опасности сложившегося положения, о рисках, которые он принимал на себя, возлагая столь тяжкие обязанности. Наконец, они выражали свое недовольство Горемыкиным и одновременно высказывались в пользу сотрудничества с недавно образовавшимся Прогрессивным блоком. 16 сентября правительство в полном составе собралось уже в Ставке. Председательствовал император. Он говорил глухим голосом, с явным оттенком неудовольствия: «22‐го [августа] мы расстались в Зимнем дворце. Накануне вечером я совершенно точно выразил мою волю об отъезде для принятия верховного командования и после этого получил письмо, подписанное многими из вас, с просьбой о том, чтобы я не ехал. Высказываю неодобрение за письмо, удивившее и огорчившее меня. Не сбылось мнение, в нем выраженное: вся истинная Россия со мной, а что говорят в Петрограде и в Москве – мне все равно… Я имею полное доверие к председателю Совета министров и надеюсь, что он долго останется председателем и что все будут следовать его руководству…» Горемыкин дал возможность высказаться своим коллегам. Взял слово Кривошеин, который говорил о необходимости сотрудничать с Думой. Схожие мысли отстаивали П. А. Харитонов, Н. Б. Щербатов, С. Д. Сазонов. А. Д. Самарин говорил о пользе диалога с общественными организациями. Министры высказывались эмоционально, с жаром, а Горемыкин язвительно комментировал их выступления. Итоги подвел царь: «Я вас выслушал, и когда приеду в Царское Село, то там, – делая жест, как бы разрубая что-то, – решу». Решения последовали. В конце сентября 1915 года были уволены А. Д. Самарин и Н. Б. Щербатов, а в октябре – Кривошеин.
Бывший в те дни помощником управляющего делами Совета министров А. Н. Яхонтов впоследствии вспоминал: «Совет в августе 1915 г. умно, не без ловкости и с глубоким сознанием сущности переживаемых событий справлялся с безмерно трудной задачей лавирования на трясине, по которой бушевали опасность гибели в окончательном военном поражении и в революционной бездне». Вместе с тем правительство вышло из этого кризиса, настроив против себя Думу, утратив остатки авторитета у общественности, демонстрируя свою неэффективность в деле управления страной.
Но даже тогда, осенью 1915 года, после кадровой встряски, Совет министров не стал объединенным правительством. А. Н. Наумов так описывал это учреждение: «Произвол отдельных министров, общая несогласованность, злоупотребление волей и именем Государя, явный раскол среди самой коллегии, отсутствие сильного объединяющего лица… „Машина не слаженная“, – так отмечено в дневнике мое первое впечатление о Совете министров». Среди министров «не было общности взглядов; их не связывало единство заранее выработанной программы действий и, наконец, их не объединяло авторитетное руководство сильного духом творческим государственным умом председателя, а ход коллегиального управления во многих случаях зависел от воздействия на Государя того или другого отдельного министра».
Наконец, руководители ведомств менялись с калейдоскопической скоростью. В. М. Пуришкевич образно назвал это «министерской чехардой». За годы войны сменились четыре председателя Совета министров, шесть министров внутренних дел, четыре военных министра, четыре министра земледелия, четыре обер-прокурора Святейшего Синода, три министра иностранных дел, три министра путей сообщения, три государственных контролера, три министра юстиции, два министра торговли и промышленности. Срок исполнения обязанностей министров, назначенных до войны, в среднем составлял 3,2 года. Руководители ведомств, получившие назначение в военное время, находились в своем кресле 7-8 месяцев.
Сама кадровая политика вызывала большие вопросы. По словам начальника петроградского охранного отделения К. И. Глобачева, министры внутренних дел, с которыми он работал, легкомысленно относились к своим обязанностям, а революционным движением и вовсе не интересовались. С февраля по июнь 1915 года министр Н. А. Маклаков принял его всего два раза. Н. Б. Щербатов, по оценке подчиненных, слабо разбирался в вопросах внутренней политики. По мнению В. Б. Лопухина, князь Щербатов был «прекрасный человек, но поскольку долгие годы он сосредоточивался и, весьма успешно, исключительно на лошадях, представлявшийся менее всего подготовленным к роли человеческого администратора».
Один слух о назначении Б. В. Штюрмера премьером посеял ужас среди министров. Они «были так ошеломлены подобной, показавшейся… совершенно несуразной новостью, что отмахнулись от нее, как от какого-то страшного кошмара, и разошлись по домам, будучи уверены в полнейшей вздорности распущенного досужими озорниками „дикого“ слуха». Штюрмеру министерская работа казалась чрезвычайно утомительной: «С утра до вечера, во всякое время дня и ночи – справки, телеграммы, телефоны, распоряжения!» В Департаменте полиции (а Штюрмер занимал и должность министра внутренних дел) поражались отсутствием внимания к своему ведомству. Доклады ее директора продолжались не более 10–15 минут. Некоторое время спустя Штюрмер стал министром иностранных дел. Начальник Генерального штаба М. В. Алексеев на этот счет заметил: «Я теперь не удивлюсь, если завтра Штюрмера назначат на мое место – начальником штаба».
Большие сомнения вызывало душевное здоровье министра внутренних дел А. Д. Протопопова. Н. В. Савич вспоминал, как сильно тот изменился после лечения у врача тибетской медицины П. А. Бадмаева. «Он не только страшно исхудал, подался физически, но и умственно был неузнаваем. Исчезла ясность мысли, последовательность рассуждения». Его раздражал любой шум. По этой причине он предпочитал не жить у себя, на Таврической улице, а ночевать в Думе. Товарищ министра внутренних дел князь В. М. Волконский как-то заметил ему, что его деятельность может быть губительной для России. «Пусть гибнет, и я торжественно погибну под ее развалинами», – провозгласил Протопопов. Морской министр Григорович прямо называл его «ненормальным». Сам А. Д. Протопопов рассказывал, что и Б. В. Штюрмер, и А. Ф. Трепов сообщали императору о его «сумасшествии». Действительно, его поведение могло наводить на подобные мысли. По сведениям французского посла М. Палеолога, в январе 1917 года Протопопов и министр юстиции Н. А. Добровольский регулярно посещали спиритические сеансы, в ходе которых вызывали дух Распутина.
Особое психологическое состояние Протопопова не вызывало сомнений у императора. 10 ноября 1916 года он писал жене: «Мне жаль Протопопова – хороший, честный человек, но он перескакивает с одной мысли на другую и не может решиться держаться определенного мнения. Я это с самого начала заметил. Говорят, что несколько лет тому назад он был не вполне нормален после известной болезни… Рискованно оставлять в руках такого человека Министерство внутренних дел в такие времена». Александра Федоровна была категорически против его отставки: ведь Протопопов «честно стоит за нас». Впрочем, императрица чувствовала странности в поведении министра: «Я знаю, у него не всегда последовательны мысли, но самые идеи хорошие, и он нам так предан. Он не умеет, мне кажется, своих мыслей дисциплинировать и приводить в исполнение именно потому, что у него их слишком много. Ему нужен был бы помощник, менее нервный, чем он, который умел бы выбрать исполнимые мысли и с энергией их проводить».
Спорили не только о Протопопове. Министр народного просвещения П. Н. Игнатьев весьма резко отзывался о министре путей сообщения (и будущем премьер-министре) А. Ф. Трепове. В ноябре 1915 года он писал родным: «Мне думается, что недолго меня еще будут держать в этой странной компании. А. Трепов – министр путей сообщения. Можно ли дальше идти? Человек никогда в жизни двумя курицами не управлял. Пробовал в 1892 г. быть предводителем дворянства и провалился».
Последний премьер-министр Российской империи – князь Н. Д. Голицын – не сомневался в собственной неспособности занимать столь высокий пост. Ходили слухи, что он целый час рассказывал императору анекдоты о самом себе, которые демонстрировали всю его непригодность к государственной деятельности. Николай II упорно не соглашался: «Я знаю. Я выбрал. Справитесь».
В этой череде премьер-министров, конечно, не было таких, как Столыпин. Однако и до 1911 года Совет министров не стал в полной мере объединенным правительством. После трагической гибели Столыпина позиции правительства лишь ослаблялись. Столыпин говорил, что у него не власть, а «тень власти». У его преемников не было даже «тени власти» – в особенности в годы войны. Министры вполне обоснованно ориентировались на императора, а не на премьера. Казалось бы, именно Николай II должен был играть роль главы правительства, но он не собирался этого делать. В итоге власть распадалась на части, утрачивая всякую эффективность. Не менее значим тот факт, что к 1916 году, как уже говорилось, правительство утратило свою субъектность, оно явно не было способно к самостоятельной политической роли, не могло вести политический диалог с Думой, так как необходимый для этого «язык» был для него недоступен. Тем временем Дума в таком общении очень нуждалась.
Представительные учреждения
Вопреки усилиям правительства, Четвертая Дума оказалась значительно более оппозиционной, чем Третья. В ней укрепились правые и левые «крылья» и одновременно ослаб центр, представленный «Союзом 17 октября». Октябристы очень изменились за последние пять лет, а в особенности – за последние месяцы. В ходе избирательной кампании они испытали чрезвычайное давление со стороны власти. В новых обстоятельствах они не были готовы к диалогу с правительством. Октябристы пришли в Четвертую Думу оппозиционерами, рассчитывавшими на альянс с «левыми» (кадетами и прогрессистами). В сущности, уже в 1912 году был предрешен вопрос о формировании левоцентристского большинства, очевидно враждебного по отношению к правительству. Иными словами, уже тогда в «повестке дня» стояло формирование Прогрессивного блока. К лету 1914 года ситуация стала критической. 22 апреля 1914 года либеральная оппозиция потребовала отсрочить обсуждение бюджета до принятия закона о гарантиях свободы слова для депутатов. Большинство (164 голоса против 82) отвергло этот ультиматум. И все же правительство не должно было обольщаться. Большинство в Думе прямо заявляло, «что политика министерства, стесняющая и ограничивающая деятельность земских и городских учреждений, подрывает местные силы; что, поощряя повсеместно административный произвол, она вызывает недовольство и глубокое брожение в широких, спокойных слоях населения; что, препятствуя проведению в жизнь ряда Высочайших манифестов и указов, она противодействует возвещенной с высоты престола непреклонной воле Монарха, и что такое положение, ослабляя мощь России, угрожает ей неисчислимыми бедствиями».
В начале войны о противоречиях на время забыли. Но все же правительству стало сложнее договариваться с Думой. Министры отвечали перед Думой в том числе за то, чего они не могли исполнить. Так, депутаты настаивали на отчете министров перед Думой за решения Ставки, которые принимались без согласования с ними.
При этом Дума оставалась центром притяжения общественных сил. Промышленники, защищавшие собственные интересы, все чаще апеллировали к ней и ее председателю М. В. Родзянко. Например, жаловались на чиновников артиллерийского управления, которые по тем или иным причинам отказывались заключать контракты. Считая бесперспективной совместную работу с Артиллерийским управлением, Родзянко предложил верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу создать Особое совещание, куда, помимо чиновников, приглашались бы депутаты и промышленники. Великий князь получил на это согласие императора. Дума вынужденно обращалась к неформальным рычагам влияния на правительство. Формальных становилось все меньше уже по той причине, что депутаты во время войны собирались реже обычного.
За эти годы изменился и Государственный совет. К лету 1915 года стало ясно, что там нет надежного большинства, на которое могло бы рассчитывать правительство. В «звездной палате» брожение шло даже среди правых. Некоторые члены Государственного совета поспешили присоединиться к Прогрессивному блоку. По оценке депутата Н. В. Жилина, 26 членов Государственного совета вошли в блок, 6 выразили готовность его поддержать, а 34 склонялись к этому решению. Осенью 1915 года состоялись выборы в Государственной совет, после которых в Мариинском дворце изменился расклад сил. Прежде некоторое преимущество было у противников Прогрессивного блока (99 против 89). Теперь большинство получили его явные или тайные сторонники (100 против 90). Наконец, в Государственный совет попали такие яркие фигуры, как А. И. Гучков, князь Е. Н. Трубецкой, П. П. Рябушинский. «Высшие сферы» встревожились. 26 ноября в Государственный совет были назначены пять новых членов весьма консервативного направления: бывшие губернаторы Н. П. Муратов и А. А. Римский-Корсаков, а также Н. П. Гарин, князь Н. Д. Голицын, И. С. Крашенинников. Чувствуя настроения «верхов», некоторые назначенные члены Государственного совета, которых подозревали в членстве в Прогрессивном блоке, открещивались от него. Так, князь А. Д. Оболенский заявлял: «Нам нет надобности выходить из состава Прогрессивного блока, ибо мы в его состав никогда не входили». И все же Государственный совет уже не был столь «благонадежным», как прежде.
Многое зависело от его председателя. Долгие годы в этом кресле сидел М. Г. Акимов, который скончался вскоре после начала войны – 9 августа 1914 года. Новым председателем 15 июля 1915 года был назначен А. Н. Куломзин, своего рода компромиссная фигура. Например, «конституционалиста» И. Я. Голубева нельзя было назначить, не раздразнив правых. Куломзин же умело маневрировал между противоположными флангами. Тем не менее новый председатель казался правым чересчур либеральным и даже настоящим оппозиционером.
В правительственных кругах задумались, как вернуть Государственный совет к предписанной ему роли охранителя закона и порядка. В ноябре 1916 года товарища председателя Государственного совета И. Я. Голубева вызвали к императрице, которая отчитала его за радикализм коллег. Спустя месяц был намечен новый председатель совета – бывший министр юстиции, человек безусловно правых убеждений И. Г. Щегловитов. В беседе с А. Д. Протопоповым он жаловался на «полевение» Государственного совета. Щегловитов настаивал на назначении 15 благонадежных лиц в состав «высокого собрания». Просьба Щегловитова была удовлетворена. В январе 1917 года император сменил 17 назначенных к присутствию членов Государственного совета, что неприятно поразило даже правых. Столь существенных встрясок «звездная палата» еще не переживала. В итоге, по словам Ю. А. Икскуля фон Гильдебандта, «в Государственном совете образовалось крепкое „зубровое большинство“, с храброй бестактностью идущее на конфликт с Государственной думой».
Прогрессивный блок
Депутаты и министры не слишком доверяли друг другу даже тогда, когда вроде бы договорились на время забыть о разногласиях. В конце августа 1914 года думская оппозиция предрекала «неизбежность народного „прогрессивного“ или даже революционного движения вслед за окончанием войны», которое ожидалось при любом исходе военных действий. У правительства был шанс избежать этого, сотрудничая с Думой, идя навстречу ее требованиям. В этой связи депутаты не спешили вступать в конфликт с администрацией, так как любая соответствующая акция могла быть «окрашена правительством в антипатриотический цвет».
Правительство с подозрением смотрело на Думу. По словам весьма информированного П. П. Мигулина, в сентябре 1914 года в Совете министров решили не созывать депутатов, опасаясь их оппозиционных выступлений. Следовательно, все чаще приходилось прибегать к чрезвычайно-указному праву. Тем не менее бюджет должна была принимать Дума, которую рано или поздно пришлось бы собрать. В правительстве понимали, что, созвав депутатов, надо предложить им повестку дня – иначе они предложат свою.
Однако правительство с этой задачей не справилось, проявив политическую беспомощность, которая отнюдь не подразумевала враждебности по отношению к Таврическому дворцу. Перед открытием сессии, 26 января 1915 года, собралось частное совещание комиссии по военным и морским делам. На нем присутствовали руководители ведомств, которые по большей части были расположены к сотрудничеству с депутатами. По воспоминаниям П. Н. Милюкова, исключение составили военный министр В. А. Сухомлинов и министр внутренних дел Н. А. Маклаков. Последний был особенно груб, что поразило даже его коллег. В ходе совещания И. Л. Горемыкин получил записку от Родзянко с просьбой хоть как-то смягчить всеобщее «отвратительное впечатление». Премьер это сам понимал и в конце заседания произнес несколько примирительных слов.
На открытии сессии присутствовали все министры, которые давали объяснения по статьям бюджета. Один из депутатов писал домой 27 января 1915 года: «Министерства с нами были очень милы и любезны. Некоторые из наших, конечно левых, все же их понемножку за пейсы драли и правды было много высказано, но так как это было общение Думы с правительством, то весь вечер был проведен в духе примирительном. Министры давали на многие вопросы объяснения и даже во многом винились и много заявлений приняли к делу».
Январская сессия была скоротечной, но диалог между правительством и Думой тогда не закончился. Он внушал депутатам оптимизм. От имени правительства его вел Кривошеин, который в частных беседах выступал даже за расширение контрольных полномочий Думы. В феврале 1915 года он предложил обсудить в Совете министров вопрос о введении думского контроля за деятельностью правительственной администрации. По его мнению, это было необходимым условием победы.
Вопреки изначальным ожиданиям, война затягивалась. Весной 1915 года Россия потерпела серьезные поражения. Депутаты не хотели быть в стороне от этих роковых событий. Они просили о скорейшем созыве Думы. С продвижением линии фронта на восток в Думе крепло убеждение, что политические реформы – дело скорого будущего. Ходили разговоры, что уже в июне 1915 года Родзянко планировал сформировать новое правительство. В июле он обсуждал с сотрудниками канцелярии свое будущее назначение премьер-министром. Родзянко об этом серьезно думал и решил, что примет предложение, если одновременно станет министром внутренних дел.
Заметно радикализировались даже правые депутаты, тем более представители центра. В августе 1915 года националист А. И. Савенко заявлял французскому послу М. Палеологу: «Революция такая, какую я предвижу, какой я желаю, будет внезапным освобождением всех сил народа, великим пробуждением славянской энергии. После нескольких дней неизбежных смут, положим даже – месяца беспорядков и парализованности, Россия встанет с таким величием, какого вы у нас не подозреваете». Согласно воспоминаниям генерала А. И. Верховского, в 1914 году А. И. Гучков говорил о пользе революции в России: «Я начинаю думать о невозможности выйти из положения обычными средствами. Только перевернув все верх ногами можно создать условия, при которых Россия может отстоять свою независимость и право на самостоятельное существование». Конечно, было бы лучше, считал Гучков, если бы получилось сформировать ответственное перед Думой правительство, а во главе армии оказались бы Алексеев или Брусилов. «Но пока шансов на это мало. Император упорен и хитер».
Примечательно, что кадеты, представлявшие левое крыло русского либерализма, революции даже побаивались. 9 июня 1915 года А. И. Шингарев писал жене: «Теперь, когда страшная картина стала и нам более известна и все в нее поверили, теперь наши слова должны зазвучать как набат. И вовсе не за тем, чтобы вызвать революцию, о которой мечтают сумасброды, редкие теперь даже среди левых, а для новых призывов к устойчивости и сопротивлению». П. Н. Милюков публично заявлял: «Лучше поражение, чем революция». В марте 1916 года он объяснял депутатам: «Я не знаю наверное, приведет ли правительство нас к поражению. Но я знаю, что революция в России непременно приведет нас к поражению и недаром этого так жаждет наш враг». Таким образом, правые депутаты смещались влево в то время, как левые смещались вправо. Это способствовало образованию платформы для думского большинства.
В июне 1915 года, когда Родзянко готовился занять кресло председателя Совета министров, в Думе обсуждалась программа ее будущих работ. Депутаты отталкивались от кадетского проекта, который был составлен специально так, чтобы удовлетворить сторонников самых разных взглядов. Споры продолжались почти месяц, и в итоге консенсус был достигнут. Определенные усилия для этого приложили и правительственные круги (прежде всего А. В. Кривошеин, чьим «маклером» в Думе был П. Н. Крупенский). Вполне объяснимо, что о Кривошеине вспомнили, когда встал вопрос о составе будущего правительства «общественного доверия».
Дабы достигнутые договоренности не были напрасными, Думе следовало собраться. С правительством удалось договориться, что датой начала сессии станет 19 июля. Горемыкин намекал, что к этому дню многое должно измениться. Очевидно, он имел в виду отставку И. Г. Щегловитова, В. А. Сухомлинова и Н. А. Маклакова.
Может быть, премьер не чувствовал, как менялась сама Дума. Она радикализировалась, «центр тяжести» неуклонно смещался влево. Характерно, что 21 июля 1915 года комиссию по военным и морским делам возглавил А. И. Шингарев, один из лидеров фракции кадетов. Прежде представителей Партии народной свободы предпочитали вовсе не включать в состав столь важной комиссии. Эта «революция» произошла с подачи прогрессивных националистов – А. И. Савенко и В. В. Шульгина. Таким образом, при поддержке части правых кадеты постепенно обретали «контрольные высоты» в нижней палате.
Лидерам формировавшегося блока надо было перехватить инициативу, предложив депутатам программу действий. Об этом говорили все фракции, за исключением крайне правых и крайне левых. Решая эту задачу, представители думского большинства собрались 9 августа на квартире Родзянко. Они составили список десяти очередных законопроектов, который и стал основой программы Прогрессивного блока. 11 августа – новое совещание у члена Государственного совета графа Д. А. Олсуфьева. На следующий день депутаты встречались у Родзянко, потом прошли консультации: 14–15 августа, 22 августа 1915 года.
В итоге фракции договорились о необходимости формирования правительства, пользовавшегося общественным доверием, о проведении принципов «строгой законности», обновлении губернаторского корпуса, устранении «двоевластия» гражданской и военной администрации. Прогрессивный блок настаивал на амнистии по делам, «возбужденным по обвинению в чисто политических и религиозных преступлениях, не отягощенных преступлениями общеуголовного характера»; на возвращении сосланных в административном порядке; прекращении всяких преследований по религиозным мотивам; предоставлении прав политической автономии Царству Польскому; снятии большей части ограничений с еврейского населения; «примирительной политике» в Финляндии; отказе от дискриминационной политики в отношении украинской печати; разрешении деятельности профсоюзов; введении волостного земства, органов местного самоуправления на окраинах страны; изменении Земского положения 1890 года и Городового положения 1892 года.
Программа стала результатом компромиссов. В августе 1915 года В. В. Шульгин писал: «Выиграть войну можно, измотав немцев, то есть в затяжку. И победить можно, но только выиграв время. На ближайшее рассчитывать нельзя, но будущее в наших руках, ибо мы можем выдержать дольше. Но выдержать можем только при условии внутреннего мира и добыв деньги. Ради сохранения внутреннего мира и ради денег необходимо идти на уступки друг другу». Следовало пойти на уступки по польскому и еврейскому вопросам. Надо было согласиться на частную амнистию. Кроме того, «кадеты внесли массу законопроектов (почти безобидных и мало обидных), и мы согласились, понимая, что это им необходимо, чтобы поддержать в своей публике уверенность, что эта война „освободительная“. Эти проекты, на которые мы даем свое согласие, служат указанием того, что после победной войны мы пойдем в стороны расширения свобод. Кадеты боятся реакции после войны и стараются с этой стороны себя обезопасить. Я выдаю им эту табличку с указательным пальцем, так как считаю, что народ, способный побеждать, достоин расширения своих прав и освобождения от опеки. „За рекой смерти будет освобождение“, – вот что нужно кадетам для поддержания их настроения». С точки зрения Шульгина, на это следовало соглашаться, так как именно левоцентристское большинство могло стать надежным заслоном от будущих революций.
В Прогрессивный блок вошли сторонники разных взглядов: кадеты, прогрессисты, октябристы, Партия центра, прогрессивные националисты. Блок поддерживали крайне левые и Польское коло. Иными словами, из 397 депутатов, заседавших в Думе к сентябрю 1915 года, 236 состояли в Прогрессивном блоке. В Государственном совете он мог рассчитывать на поддержку группы центра и академической группы. Расклад политических сил менялся, что оценили не все члены правительства. В августе 1915 года И. Л. Горемыкин ставил вопрос о будущих рабочих беспорядках. С. Д. Сазонов возражал ему, призывая обратить внимание на «беспорядки» в Думе. «Это все равно», – заметил премьер-министр. «Не все равно, ибо иначе управлять страной нельзя», – парировал Сазонов.
Некоторые министры знали, о чем говорили. На квартире государственного контролера П. А. Харитонова члены Прогрессивного блока встретились с министрами, которые отчасти одобрили программу оппозиции, включая пункт о «правительстве общественного доверия». Более того, по предложению Кривошеина кабинет отметил, что «намеченная Прогрессивным блоком программа не встречает серьезных возражений, но Совет министров, не будучи в своем нынешнем составе единодушным, не может брать на себя задачу ее осуществления». Даже Горемыкин не возражал против этой резолюции, но настаивал на роспуске Думы, что и было сделано. Ее распустили на каникулы 3 сентября 1915 года.
Это вызвало однозначную реакцию общественности. 7 сентября в Москве собрались съезды Всероссийских земских и городских союзов. Председательствовавший князь Г. Е. Львов так охарактеризовал положение: «Как светильник в темном лабиринте событий, Государственная дума все время обещала выход из него. И мы не можем не признать, что этот перерыв ослабляет дело нашей обороны, ослабляет армию. Столь желанное всей страной мощное сочетание правительственной деятельности с общественной не состоялось. Но сознание необходимости взаимного доверия… только усилилось». Подобное заявление только подчеркивало, что Дума – это не только и не столько депутаты, это еще общественные настроения и организации, имущественные и корпоративные интересы, которые так или иначе проглядывали за Таврическим дворцом. Народным избранникам порой казалось, что они ведут за собой общественность; более того, что они и есть общественность. Тогда, осенью 1915 года, земская Москва заставила многих усомниться в том, кто был ведущий, а кто – ведомый.
К этому времени Львов был признанным лидером общественного движения. Родзянко даже не скрывал своей зависти на этот счет. В Думе говорили: «Сейчас князь Львов – некоронованный король всех общественных организаций. Родзянко же сам хочет играть первую скрипку, считая, что председатель Государственной думы – глава и руководитель общественных сил, поэтому он везде и всюду интригует против нас. Но для интриги нужен ум, а им-то Бог не наделил Родзянку, и его попытки подкопаться под нас кончаются полным фиаско». О влиянии Львова и его Всероссийского земского союза говорили в Государственном совете, например П. Н. Дурново: «Власть постепенно переходит из слабых рук в твердые, но „которым иметь власть не подобает“». Депутат А. Н. Хвостов, который вскоре стал министром внутренних дел, соглашался с Дурново, однако полагал, что снабжение армии нельзя доверить правительству, и предлагал, чтобы за это отвечал Всероссийский земский союз.
Возвышение князя Львова не нравилось многим и в Думе. Н. А. Хомяков полагал, что он «герой рекламы и совершенное ничтожество». Подобным образом отзывался о Львове и князь С. С. Волконский: «Это и бездарный, и дурной человек. А между тем „Биржевые ведомости“ изо дня в день муссируют его кандидатуру [на должность премьер-министра]».
В Прогрессивном блоке чувствовали свою зависимость от общественных организаций, которые подталкивали Думу влево. Это лишь множило противоречия в самом объединении, в котором и так не было единства. Программа блока была опубликована в газетах без обсуждения во фракциях. Многие депутаты, формально состоявшие в коалиции, не разделяли положения этого документа. И все же само формирование оппозиционного большинства в Думе придало ей особое значение.
Это заставило задуматься правительственных чиновников о дате открытия следующей сессии. 15 октября 1915 года октябрист И. И. Дмитрюков писал князю А. Д. Оболенскому: «Думу созвать не хотят, снисходят только до созыва на 3 дня для приложения штемпеля к бюджету. Но И. Л. [Горемыкин] ошибется, он нас не заставит рассматривать бюджет „без рассмотрения“. А бюджет в этом году заслуживает самого серьезного внимания в доходной его части, ибо иначе нам грозит банкротство». Дума, чувствуя свою силу, не желала идти на уступки правительству. В октябре 1915 года председатель бюджетной комиссии Алексеенко был против ускоренного рассмотрения государственной росписи. Депутаты решили, что будут рассматривать бюджетные вопросы общим порядком. Министры, как и раньше, смиренно приходили на заседания бюджетной комиссии, которые, правда, случались нечасто.
Руководители ведомств едва ли не нарочито демонстрировали свою готовность сотрудничать с депутатами. 16 декабря 1915 года на заседание бюджетной комиссии пришел министр внутренних дел А. Н. Хвостов. Будучи не только министром, но и депутатом Думы, он зашел в Таврический дворец не через министерский павильон, подобно прочим руководителям ведомств, а через главный вход. Хвостов был болен и не мог говорить. Слово предоставил своим товарищам (заместителям), а сам ограничился лишь отдельными репликами. Это заседание вызвало немалый интерес в Думе. Огромная «тринадцатая» комната не вместила всех желавших присутствовать. Заседание перенесли в Полуциркульный зал. На следующий день в бюджетной комиссии выступал министр путей сообщения А. Ф. Трепов.
Правительство было на пороге изменений. 18 января 1916 года Горемыкин был отправлен в отставку. Кому-то могло показаться, что это победа сил, готовых к сотрудничеству с Думой. И действительно, на заседании правительства 22 января 1916 года, где председательствовал уже Б. В. Штюрмер, было решено в скором времени созвать депутатов, не ограничивая длительность сессии.
Правительство старалось идти на уступки, надеясь на ответные со стороны Думы. В конце января 1916 года Хвостов консультировался с лидерами Прогрессивного блока о перспективах взаимодействия с обновленным правительством, пытался (но безуспешно) договориться о присутствии депутатов на рауте на квартире нового премьера – Б. В. Штюрмера. Тем не менее Штюрмер встретился с Родзянко и переговорил с некоторыми влиятельными депутатами.
В начале сессии был подготовлен «сюрприз» для народных избранников. 9 февраля 1916 года император впервые посетил Думу. Сотрудник Министерства иностранных дел В. Б. Лопухин вспоминал, как в Таврическом дворце «пронесся среди гула разговоров протяжный, как глубокий вздох, покрывший разговоры быстротой своей передачи шепот. Кто-то подскочил к Родзянко, что-то взволнованно сообщил ему. И, как сейчас вижу – картина незабываемая – грузный Родзянко, широко раздвинув ноги, мчится вскачь через Екатерининский зал к вестибюлю Государственной думы. За ним, рассыпавшись, рысью бежит свора „старейшин“. Через несколько минут появляется в сопровождении отстающего на полшага склонившегося Родзянко царь в походной защитного цвета куртке – маленький перед рослыми фигурами думского председателя и выступающего позади вел<икого> кн<язя> Михаила Александровича, одетого в своеобразную форму состоящей под его командою „дикой дивизии“». Высочайший визит мог пройти иначе: о нем заранее узнали депутаты-социалисты и решили устроить императору обструкцию. Один из них объяснял тогда еще только товарищу председателя Думы А. Д. Протопопову: «Раз нам делают сюрприз – мы сделаем тоже сюрприз». Протопопов принял меры: сообщил об этих намерениях думским крестьянам, а те, в свою очередь, убедили радикальных коллег отказаться от своих планов.
В тот же день и сам Штюрмер прочитал в Думе декларацию правительства, которую депутаты вполне ожидаемо оценили не слишком высоко. От имени Прогрессивного блока ему отвечал октябрист С. И. Шидловский. Рутинная работа не подходила для блока. Он создавался в расчете на «штурм власти», и его лидеры часто терялись, когда следовало переводить разговор в деловое русло. Так, Прогрессивный блок не справился с задачей подготовить законопроект земской реформы, которая казалась столь важной. В этой связи в марте 1916 года А. И. Савенко и А. И. Шингарев потребовали реорганизации объединения. С ними согласился и В. В. Шульгин, который даже подготовил посвященную этому вопросу записку.
В большей мере депутатов интересовали другие проблемы. Еще в ноябре 1915 года в газете «Утро России» был опубликован список будущих министров «правительства общественного доверия». Премьером намечался Родзянко. Министром внутренних дел мог стать столь несимпатичный царю Гучков. В правительство должны были войти представители думского большинства: П. Н. Милюков, А. И. Шингарев, Н. В. Некрасов, А. И. Коновалов, Н. В. Савич, И. Н. Ефремов, В. Н. Львов, В. А. Маклаков. В некоторых случаях планировалось сохранить в должностях прежних министров, а именно А. В. Кривошеина, А. А. Поливанова, П. Н. Игнатьева. Список был подготовлен 13 августа 1915 года на квартире П. П. Рябушинского.
Прошло полгода. За это время ситуация существенно изменилась. Земские и городские союзы обретали большее влияние и заслоняли собой Прогрессивный блок. Теперь, в апреле 1916 года, на совещании левых партий (эсеров, социал-демократов, кадетов, беспартийных левых), которое проходило на квартире С. Н. Прокоповича, был предложен другой состав будущего правительства. В нем не нашлось места чиновникам. Октябристов представлял бы только Гучков. Премьером должен был стать князь Г. Е. Львов. Большинство мест в правительстве отводилось кадетам. Остальные фракции, входившие в Прогрессивный блок, фактически не были бы представлены.
Подобные планы не способствовали единству только что сложившегося большинства. Блок был на грани развала с момента создания. В марте 1916 года октябрист С. Т. Варун-Секрет говорил о расколе в объединении, объяснявшемся отношением кадетов к еврейскому вопросу, с которыми не соглашались октябристы: «Мы увидали, что идем на поводу у кадет. Решаем от них отколоться и будем настаивать на окончании бюджетного рассмотрения к 1-му апреля с тем, чтобы скорейшим образом прервать занятия Думы».
Отсутствие серьезной повестки для обсуждения лишь обостряло имевшиеся противоречия. Депутаты понимали, что круг вопросов, предложенных на рассмотрение, был недостаточным. Кадет П. А. Велихов писал брату 11 мая 1916 года: «Готового законодательного материала нет, кроме закона об уравнении крестьян, который собственно только подтверждает закон 5 октября 1906 г., проведенный по 87 ст. „Приход“ проваливают. Волостного земства не хочет Государственный совет. Городовое положение придется еще проталкивать в комиссии и вряд ли успеем кончить».
Тем не менее депутатам предстояло обсуждать бюджет, и это беспокоило министров, побуждая, например, Штюрмера поддерживать рабочие контакты с народными избранниками. Однако у него для этого не хватало такта. 13 мая 1916 года им был организован раут, на который пригласили депутатов Думы и членов Государственного совета. Приглашенных смутила удивительная роскошь приема, диссонировавшая с трудностями, переживаемыми страной. Пуришкевич возмущался: «Что это? Реклама российского продовольственного благополучия? Зачем же тогда копья ломать из страха грядущего голода!» Недоумевал и председатель Государственного совета А. Н. Куломзин. «Должен вам сознаться, – говорил он министру земледелия А. Н. Наумову, – что все это пиршество мне поперек горла встает – не ко времени оно и не по карману… Не могу понять, для чего вся эта шумиха».
Такие приемы могли дать лишь обратный результат. Дума же продолжала требовать кадровых изменений в правительстве. В частности, это делал Родзянко во время своих встреч с императором. 25 июня 1916 года Николай II писал супруге, что Родзянко вновь болтал всякую «чепуху»: он предложил заменить Штюрмера – Григоровичем, Трепова – Б. Д. Воскресенским, Шаховского – А. Д. Протопоповым. Правда, в сентябре 1916 года Протопопов действительно стал министром, но не торговли и промышленности, а внутренних дел.
Вопреки позднейшим свидетельствам, в те дни общественность встретила его назначение с энтузиазмом. Это решение приветствовали все ведущие столичные издания – от кадетской «Речи» до националистического «Нового времени». Биржа ответила на назначение Протопопова повышением курса акций: министром внутренних дел был назначен не просто депутат, а левый октябрист, член Прогрессивного блока, товарищ председателя Думы. В этом легко было усмотреть обнадеживавшую готовность к диалогу с обществом. В октябре 1916 года в Москве на квартире депутата Думы, видного промышленника А. И. Коновалова проходило конспиративное совещание. Его участники оценили назначение Протопопова как «колоссальную победу общественности, о которой несколько месяцев тому назад трудно было мечтать». По мнению Коновалова, «капитулируя перед обществом, власть сделала колоссальный, неожиданный скачок… Для власти эта капитуляция почти равносильна акту 17 октября. После министра-октябриста не так уж страшен будет министр-кадет. Быть может, через несколько месяцев мы будем иметь министерство Милюкова и Шингарева. Все зависит от нас, все в наших руках». Был оптимистично настроен и пессимист Гучков: «У Протопопова хорошее общественное и политическое прошлое. Оно – целая программа, которая обязывает». Исключение составлял Родзянко, который видел в Протопопове ренегата. Бывший товарищ председателя Думы своим поведением всячески подчеркивал, что это не так. Он регулярно приходил в Таврический дворец, консультировался с депутатами и с тем же Родзянко. Депутаты тоже порой навещали Протопопова, правда, без огласки, почти конспиративно.
Министр не отказывался от старых знакомств, и они приносили пользу. О готовившейся речи В. М. Пуришкевича, с инвективами в свой адрес, Протопопов узнал от П. Н. Крупенского, товарища по кавалерийской школе. После Февральской революции бывший министр внутренних дел на допросах Чрезвычайной следственной комиссии рассказывал о своем «конфиденте»: «Он бегал ко мне, и я к нему ездил. Он быстрый человек, всегда больше всех знает». Возникали и новые связи. Протопопов, как и его предшественники, поддерживал крайне правых, в том числе материально. Так, по словам самого Протопопова, Н. Е. Маркову было выдано около 40 тысяч рублей за несколько месяцев его пребывания в должности.
По крайней мере внешняя готовность к сотрудничеству отличала всех премьер-министров военного времени. В скором времени после назначения Горемыкин искал встречи с Родзянко, а не наоборот. Так же себя вел Штюрмер. Трепов, став премьером, поторопился встретиться с Родзянко, с которым провел откровенную беседу. Видимо, он хотел понравиться депутатам и в этой связи заявил о своем отрицательном отношении к Протопопову и готовности требовать его отставки.
Протопопов быстро испортил свою репутацию в глазах недавних коллег по Думе. Новый министр редко бывал на заседаниях правительства, зато часто посещал государыню. Его небезосновательно подозревали в связях с Распутиным. Кроме того, он совершил ряд бестактностей. При нем товарищем министра внутренних дел был назначен П. Г. Курлов, которого общественность считала виновным в гибели Столыпина. Сам Протопопов однажды явился в Думу в жандармском мундире, что давно не делали его предшественники. Все это не прибавляло ему очков в Таврическом дворце, зато укрепляло позиции в Царском Селе. Протопопов, чутко реагируя на сложившуюся конъюнктуру, выступал за скорейший роспуск Думы, не сомневаясь, что следующий ее состав будет непременно хуже и тогда придется распустить и ее: «Япония одиннадцать раз распускала парламент, и мы распустим». Радикализм Протопопова объяснялся просто. Вопрос стоял ребром: либо он, либо Дума. Каждое ее заседание оборачивалось для него настоящим скандалом.
Однако было бы неверным обвинять большинство министров в злокозненности. Они чаще всего были готовы к диалогу с Думой. Правда, говорить чиновникам с депутатами было практически не о чем. У них слишком разнилась повестка. Техническое учреждение, которым все больше становился Совет министров, не могло найти общего языка с Думой, которая, наконец, обрела определенную политическую физиономию. В итоге стороны шли друг к другу с распростертыми объятиями и при этом роковым образом стукались лбами.
Последние дни Думы
Последние дни
Земский и Городской союзы имели своим центром Москву. Она становилась все радикальнее, ожидая, что и столица последует за ней. Осенью 1916 года П. Н. Милюков описывал ситуацию так: «Я бы никогда не поверил, что Москва стала говорить таким языком… Можно думать, что настроение Москвы в этом отношении опережает настроение России в целом». На открытии земского съезда 9 октября 1916 года князь Львов фактически обратился к членам Думы: «Оставьте дальнейшие попытки наладить совместную работу с настоящей властью. Она обречена на неуспех. Она только удаляет нас от цели». В Союзе городов призывали депутатов «выполнить свой долг и не расходиться до тех пор, пока основная задача создания ответственного правительства не будет выполнена».
Львов требовал от Милюкова жесткой линии в отношении правительства. Председатель Земского союза говорил о невозможности сотрудничать с исполнительной властью по причине государственной измены многих ее представителей. Именно эти идеи легли в основу речи Милюкова 1 ноября 1916 года.
В тот день открывалась новая сессия Думы. Депутаты готовились к «парламентскому штурму», целью которого было формирование правительства «общественного доверия». В конце октября 1916 года Родзянко посетил Штюрмера, которому без обиняков заявил: «Имейте в виду: Дума не будет с вами работать». В это время в Прогрессивном блоке готовился текст его декларации. «Надо называть вещи собственными именами», – объяснял коллегам Милюков. Надо «идти на остановки и даже на белые полосы (в газетах. – К. С.)». Нужно было прямо заявить свою позицию. Это и была «парламентская борьба», к которой, по словам Милюкова, Дума «до сих пор никогда не прибегала». П. Н. Крупенский, исполняя привычные ему обязанности, в скором времени сообщил о готовившейся декларации Штюрмеру.
Главным событием открытия сессии стала речь Милюкова. Она запомнилась по рефрену, который оратор несколько раз повторил: «Что это, глупость или измена?» На следующий день в газетах не было стенограммы его выступления, вышли только белые листы. Речь переписывали вручную. За один экземпляр платили 25 рублей. Только за возможность прочитать сенсационную речь – 10 рублей. Милюков, опасаясь за свою безопасность, следующие три ночи провел в английском посольстве. Кадеты задумались об охране своего лидера. Депутат А. А. Эрн писал: «Организована охрана, ездит теперь всегда в автомобиле в сопровождении членов фракции, обладающих физической силой. Я все же настаиваю на том, что важнее оберегать вход и выходы тех мест, где Милюков появляется».
Министры не желали выслушивать критику со стороны депутатов и демонстративно отсутствовали в Таврическом дворце. Националист граф В. А. Бобринский задавался вопросом: «Неужели же у них хватит наглости, чтобы явиться сюда?» В. А. Маклаков ему отвечал: «Либо мы, либо они. Вместе наша жизнь невозможна».
И все же 4 ноября 1916 года руководители ведомств пришли в Думу. Там выступили военный и морской министры: Д. С. Шуваев и И. К. Григорович. Они говорили о своей готовности работать с депутатами, которые в благодарность провожали их громом аплодисментов. Шуваева окружили народные избранники (в том числе Милюков), пожимали ему руку. Они просили военного министра изгнать из правительства ненавистных чиновников (имелись в виду прежде всего Штюрмер и Протопопов). Он не спорил, а только отметил, что, будучи солдатом, не вмешивается в политику. «Вот именно, так как вы солдат, то выгоните их штыками», – настаивали депутаты.
«Парламентский штурм» все же принес результат. 8 ноября Николай II писал жене, что Штюрмер вызывает отторжение не только в Думе, но и в обществе. Его отставка неминуема. Новым главой правительства стал А. Ф. Трепов. Это случилось 10 ноября. В тот же день премьер посетил Родзянко. 19 ноября глава Совета министров должен был зачитать декларацию правительства. Трепов ее согласовал с председателем Думы. Однако во время его выступления левые скамьи шумели, пытаясь заглушить речь премьера. Ситуация могла выйти из-под контроля, и чтобы еще больше не настраивать против себя депутатов, Трепов запретил выступать в Думе Протопопову как министру внутренних дел (он еще не был утвержден в этой должности).
Последствия ноябрьского «штурма» разочаровали депутатов. Кому-то даже могло показаться, что приближается конец времен. «Мы накануне таких событий, которых еще не переживала мать Святая Русь, и нас ведут в такие дебри, из которых нет возврата… Необходимо принять быстро некоторые меры, чтобы спасти положение», – писал М. В. Родзянко князю А. Б. Куракину 26 декабря 1916 года. На следующий день В. А. Маклаков так охарактеризовал масштабы переживаемых бедствий: «У нас все время говорят о назревающей или, вернее, уже совершенно созревшей революции, но внешних признаков ее пока нет. Это может казаться загадочным, а правым оптимистам внушает даже уверенность, что никакой революции и не будет. Но бесспорно то, что сейчас в умах и душах русского народа происходит самая ужасная революция, какая когда-либо имела место в истории. Это не революция, это – катастрофа: рушится целое вековое миросозерцание, вера народа в царя, в правду его власти, в ее идею как Божественного установления. И эту катастрофическую революцию в самых сокровенных глубинах душ творят не какие-нибудь злонамеренные революционеры, а сама обезумевшая, влекомая каким-то роком власть. Десятилетия напряженнейшей революционной работы не могли бы сделать того, что сделали последние месяцы, последние недели роковых ошибок власти». Маклаков констатировал: правительство оказалось в одиночестве. Оно лишено каких-либо «точек опоры». У него нет поддержки. «Сейчас это уже не мощная историческая сила, а подточенный мышами, внутри высохший, пустой ствол дуба, который держится только силой инерции, до первого страшного толчка. В 1905 г. вопрос шел только об упразднении самодержавия, но престиж династии все еще стоял прочно и довольно высоко. Сейчас рухнуло именно это – престиж, идея, вековое народное миросозерцание, столько же государственное, сколько и религиозное».
Новое положение требовало новых решений. «Довольно терпения!.. Мы истощили свое терпение, – пересказывал позицию кадетских лидеров французский посол М. Палеолог. – Впрочем, если мы не перейдем скоро к действиям, массы перестанут нас слушать». Оставалось неясным, в чем должны заключаться «решительные действия». В конце декабря 1916 года Маклаков писал о единодушии России «в жгучей ненависти к правительству». Однако «в смысле способности к активной реализации этой ненависти, в смысле организации, достигнуто все еще слишком мало».
Многие чувствовали приближение «политического цунами». Начальник Петроградского охранного отделения К. И. Глобачев сообщал начальству 19 января 1917 года: «„Обыватель проснулся от десятилетнего сна“ и намерен „встать на ноги“. В самых умеренных по своим политическим симпатиям кругах приходится слышать такие оппозиционные речи, какие недавно не позволяли себе даже деятели определенной окраски. В центре всех этих речей одно – Государственная дума».
Родзянко же все чаще задумывался о будущем премьерстве. 4 января он сообщил сотрудникам думской канцелярии: «Один только я и могу сейчас спасти положение, а без власти этого сделать нельзя, надо идти [в премьеры]». В начале 1917 года Родзянко и его собеседники (например, великий князь Михаил Александрович или октябрист Н. В. Савич) часто задавались вопросом: ждет ли Россию революция? Однако отвечали на него преимущественно отрицательно. 7 января на квартире кадета Н. М. Кишкина его однопартиец Н. В. Некрасов предсказывал: «Сейчас революционного движения в России нет, единственным революционным деятелем в настоящий момент является само правительство. И успех его революционной пропаганды грандиозен… А гроза не за горами. Дай Бог, чтобы она не разразилась до заключения мира… Правительство загипнотизировано кажущимся затишьем и кажущейся покорностью масс. Тем страшнее будет его пробужденье». Некрасов полагал, что в час грозы, когда начнется всеобщий хаос, оппозиции придется взять на себя ответственность и сформировать собственное правительство. Особое место в нем должны занять лидеры Городского и Земского союзов, которые стали своеобразной школой политической работы. Аналогичный диагноз давал великий князь Александр Михайлович. 1 февраля 1917 года он писал царю: «Правительство есть сегодня тот орган, который подготовляет революцию, – народ ее не хочет, но правительство употребляет все возможные меры, чтобы сделать как можно больше недовольных, и вполне в этом успевает. Мы присутствуем при небывалом зрелище революции сверху, а не снизу».
Депутаты отнюдь не торопили ожидавшиеся изменения, они боялись их. «Самое удивительное в настоящем настроении, что все идет верх дном. Например, Шингарев чуть не со слезами говорил о том, что надо беречь и охранять… Все начинают понимать, как страшна анархия в настоящую минуту, и стараются ее предотвратить», – писала современница этих событий. 4 февраля на заседании кадетского ЦК М. С. Аджемов рассказывал коллегам о нараставшем брожении среди рабочих, Ф. И. Родичев предсказывал новое «кровавое воскресенье». 10 февраля на последней аудиенции у Николая II председатель Думы говорил о революции, которая, по его оценке, могла произойти уже через три недели, оставив после себя пепелище.
Император продолжал сохранять спокойствие. Министр иностранных дел Н. Н. Покровский после каждой личной встречи просил царя об отставке. Он чувствовал свою беспомощность в сложившейся политической обстановке. «Вы неправильно осведомлены; никакой революции не будет», – успокаивал его император.
Тогда могло показаться, что Николай II, в сущности, прав. Как будто бы ничто не предвещало скорый крах режима. Напротив, «ноябрьский штурм» захлебнулся. Лидеры думского большинства опасались возмездия. Их новые страстные выступления чаще всего не печатались в газетах, а если даже и публиковались, то с купюрами. Депутаты впали в апатию. Деятельность комиссий сбавила обороты, не удавалось собрать даже наиболее дисциплинированную бюджетную комиссию. Над Думой, будто дамоклов меч, висела угроза разгона. Новый премьер-министр Н. Д. Голицын сообщил лидеру националистов П. Н. Балашеву, что «указ (о роспуске. – К. С.) у него в кармане, и он не потерпит ни одной минуты, если надо будет».
Были все основания ждать развала Прогрессивного блока: его арсеналы были пусты. Все средства борьбы за «правительство общественного доверия» были испробованы. Идти на дальнейшую эскалацию конфликта в Думе не решались. 4 февраля на заседании кадетского ЦК Милюков предложил не принимать государственный бюджет, Кокошкин советовал вынести вотум недоверия кабинету министров, а Аджемов полагал возможным выдвинуть обвинения против царя. Однако эти смелые инициативы не вызвали одобрения у большинства присутствовавших, которые предпочитали занимать выжидательную позицию. Схожим образом обсуждались тактические вопросы и в самом Прогрессивном блоке. «Кадеты поговаривали об отклонении бюджета целиком, но не настойчиво, скорее нащупывали почву», – писал октябрист Савич председателю бюджетной комиссии Алексеенко. Возобладала умеренная точка зрения: открытие сессии должно было напомнить о деловом настрое депутатского корпуса.
В результате, вопреки настроению многих народных избранников, первый день новой сессии прошел буднично. Чиновник особых поручений Л. К. Куманин сообщал, что «в связи с провалом плана блока в первый день открытия сессии показать стране ярко оппозиционное лицо Государственной думы, поздно вечером состоялось совещание лидеров фракций, входящих в состав блока, которые просили П. Н. Милюкова значительно усилить оппозиционность его завтрашней речи». Речь лидера кадетов только обострила противоречия внутри блока. Правый центр выступил против Милюкова и поддержал критикуемого им министра земледелия А. А. Риттиха. Националист А. И. Савенко писал жене, что «в блоке ссора из‐за продовольственного вопроса. Кадеты в прошлом году посадили нас и всю Россию в лужу твердыми ценами, да еще на все сделки. Теперь они стремятся в своем политическом ослеплении затянуть на шее России петлю твердых цен и проч. Но мы не допустим этого. Милюков резко напал на Риттиха и, между прочим, сравнил его с Сухомлиновым. Это вызвало целый взрыв, и мы решили дать отпор кадетам. И дали его. Теперь все на этом и вертится».
Политическая система устояла и после скандального выступления А. Ф. Керенского, которое нельзя было полностью включить в стенографический отчет без риска для оратора. Тем не менее сделанные цензором купюры стали известны Петрограду: «Дело не в вас (жест по направлению к ложе министров), а в вашем хозяине… Распутинское самодержавие… …На знамени нашей партии написано: террор и оправдание тираноубийства… Система безответственного деспотизма… …У нас до сих пор существует представление о государстве как о вотчине, где есть господин и холопы… …Сконцентрирование у Верховной Власти всех подонков общественности… …Необходимость физического устранения нарушителей закона… …Необходимость уничтожения средневекового режима…»
Руководство Думы, следуя принципам корпоративной солидарности, не предоставило правительству стенографические записи, ограничившись официально утвержденным и заметно «почищенным» стенографическим отчетом: «Подлинным стенографическим отчетом следует считать тот отчет, который разрешен к печатанию председателем Государственной думы; стенографическая запись есть только материал для составления отчета, иначе – документ внутреннего распорядка Государственной думы, а потому он не может быть представлен по требованию административных ведомств».
Новые яркие выступления ничего не меняли. В Думе царила тоска. Все «слова» были уже сказаны. Конечно, можно было отклонять законопроекты и организовать «нажим бюджетного винта». Но пойти на это не решались даже наиболее смелые представители Прогрессивного блока.
Отчасти реализуя эту тактику, депутаты отвергали даже вполне разумные правительственные инициативы, принятые согласно статье 87 Основных государственных законов (то есть в порядке чрезвычайно-указного права). Так, жертвой думского гнева стало Министерство народного здравия. Законодательное собрание выступило против его учреждения, при этом отлично понимая, что местное самоуправление не могло полностью финансировать здравоохранение. Правительство «ужасающе одиноко», – констатировал Савенко. Как будто в подтверждение этого тезиса 3 февраля 1917 года депутаты отказались ехать на раут к премьер-министру князю Н. Д. Голицыну. Одновременно правительство приняло решение, что Голицын не будет выступать в Таврическом дворце с декларацией.
Все это не способствовало разрешению кризиса. Ситуация была «патовой». «Положение крайне неопределенное, а настроение угнетенно-пониженное», – отмечал Савенко 16 февраля 1917 года. Он писал, что «комиссии работают очень слабо, так что и черной работы мало. Депутаты ходят как заморенные мухи. Никто ничему не верит, у всех опустились руки. Все чувствуют и знают свое бессилие». На следующий день его коллега делился впечатлениями: «Скучаю за думскими делами. Сессия идет вяло, речи тусклые, да и нельзя ожидать другие, ибо все уже сказано для имеющих уши слышать, да ничто не услышано». Пройдут еще сутки. Один из депутатов напишет домой: «У нас в Думе настроение тяжелое, дух несколько придавленный, того и гляди пробка вылетит».
Оставалось надеяться на спасительное чудо. По Таврическому дворцу поползли слухи, в которые депутаты охотно верили. Например, говорили, что произошла дуэль между М. В. Родзянко и А. Д. Протопоповым. Правда, оставался неясным ее исход. Одни утверждали, что погиб злосчастный министр. По сведениям других, погибли оба противника.
Отдельные депутаты даже рассчитывали на скорый роспуск Думы. Они полагали, что это произведет переворот в обществе. Дума станет центром всех недовольных и обретет невиданную мощь. Это поставит правительство перед выбором: либо ответственное перед депутатами правительство, либо всеобщая анархия. Не вызывало сомнений, что власть, следуя элементарному инстинкту самосохранения, выберет первое.
Депутаты, предчувствуя масштабные потрясения, терялись в оценках современного положения. Член фракции кадетов Г. В. Гутоп писал 20 февраля: «Тяжко вообще живется здесь. Что голодаем и мерзнем – это бы пустяки. Все перенести легко, когда есть уверенность, что переносишь ради успеха того дела, которому служишь. А вот когда видишь, что во всем – что дальше, то хуже – и не видишь хотя бы вдали малого луча света, трудно жить». Схожие мысли высказывал октябрист В. Н. Полунин: «Свершавшиеся события можно было описать словами: никто ничего сказать не может. События идут сами собой; никто не направляет государственного корабля, который идет случайно, и куда его повлекут волны мировой борьбы и внутренних событий». Кадет А. А. Эрн делился своими впечатлениями о начале думской сессии: «Тут покамест мало интересного, но надо думать, что это все же изменится. Есть симптомы, что впереди предстоит нечто более красочное».
Роковые события начались 23 февраля. На следующий день они только набирали обороты. По Петрограду шли демонстрации, но в Таврическом дворце этого не заметили. Ничто не нарушало относительно мирный ход сессии. Продолжали заседать комиссии. В Думу приходили министры. «По внешности ничего не предвещало того катаклизма, от которого нас отделяла лишь одна с небольшим неделя, – вспоминал В. Б. Лопухин. – И Павел Николаевич Милюков любезно и благожелательно допрашивал нас о наших делах, едва ли думая, что всего через какие-нибудь десять дней осуществится наконец его давнишняя мечта стать нашим министром – не в путях эволюции, как он мечтал, а все-таки революции. Мы так легко договаривались, такой у нас установился общий язык, что казалось, если и случится революция, но такая, которая приведет к смене царской власти властью правительства, составленного из милюковых, то нам не придется начинать с этим правительством новый разговор, а предстоит лишь продолжать прежние, ставшие уже привычными беседы. Большинство, определенно предвидя революцию, не мыслило в ослеплении своем правительства „левее“ милюковского толка».
И все же оппозиции приходилось задуматься, что делать, если власть окажется в ее руках. Шингарев разъяснял Шульгину: «Чтобы додержаться, придется взять разгон… Знаете, на яхте… когда идешь, скажем, левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход… Если наступление будет удачно, мы сделаем поворот и пойдем правым галсом… Чтобы иметь возможность сделать этот поворот, надо забрать ход. Для этого, если власть на нас свалится, придется искать поддержки Прогрессивного блока налево».
Примерно в то же самое время на заседаниях Совета министров (31 января и 25 февраля) Протопопов «читал лекции» об оппозиционном движении в России. Министр внутренних дел полагал, «что революционное течение (анархизм и социализм) постепенно втекает в оппозиционное (общественные элементы с Государственной думой во главе); таким образом оппозиционное течение совпадает с революционным и стремится захватить власть, вследствие чего следует бороться с оппозицией всеми средствами, вплоть до роспуска Думы». Далее Протопопов, по словам Покровского, «предлагал „графическую схему“ и „нес околесную“, так что несколько лиц переглянулись и спросили друг друга: „Вы что-нибудь поняли?“» Как ни странно, эта сомнительная теория, над которой посмеивались министры, выдержала испытание практикой. Думе не удалось сдержать волны «Ахеронта». Но в те дни мало кто об этом думал.
А со стороны Ахеронта продолжали дуть сильные ветра. Тревога нарастала по мере обострения продовольственного кризиса. В начале февраля Петроградское охранное отделение сообщало Протопопову: «Если население еще не устраивает голодные бунты, то это еще не означает, что оно их не устроит в самом ближайшем будущем: озлобление растет и конца его росту не видать… А что подобного рода стихийные выступления голодных масс явятся первым и последним этапом по пути к началу бессмысленных и беспощадных эксцессов самой ужасной из всех – анархической революции, – сомневаться не приходится».
Именно стихия массового недовольства сыграла роль своего рода deus ex machina («бога из машины»). Она выступила подобно олимпийскому громовержцу, чья грозная воля становилась неожиданной развязкой затянувшейся древнегреческой драмы. И все же этого «бога» следовало рассмотреть и верно оценить его перспективы, что было отнюдь не просто, учитывая непредсказуемое течение событий. Французский посол М. Палеолог отмечал, что войска вышли из повиновения тогда, когда массовое движение в столице как будто пошло на спад. При этом само движение воспринималось правительством как стихийное, как совокупность мало связанных друг с другом беспорядков, объяснимых прежде всего продовольственными трудностями.
Революция началась
Отказ солдат подчиняться командованию оказался в высшей степени неожиданным. И правительство, и думскую оппозицию охватила растерянность, которая, как тогда казалось, не исключала возможности восстановления привычного порядка. Палеолог доказывал это Н. Н. Покровскому еще 28 февраля 1917 года. Спустя годы один из лидеров кадетов И. В. Гессен вспоминал: «Хотя воздух насыщен был предчувствиями и предсказаниями революции и с каждым днем она рисовалась воображению все более неизбежной, никто не распознал лица ее. Она шла неуверенно, пошатываясь, спотыкаясь и пугливо озираясь по сторонам, не юркнуть ли в подворотню… В противоположность 1905 году, когда царила уверенность в победе революции, теперь настроение было выжидательное, настороженное, готовое от толчка шарахнуться в ту или другую сторону, и конец неопределенности положило известие об отречении Государя».
26 февраля Родзянко побывал в разных районах столицы. Вечером он вернулся в Таврический дворец, где заявил, что «особенного ничего не происходит, и тут же говорил: „Форменная анархия – революция“». Вскоре председатель Думы отправил телеграмму царю с просьбой сформировать новое правительство. Как раз тогда Родзянко разглядел революцию в событиях, которые сначала не показались ему выдающимися.
Город погружался в хаос. В ночь на 27 февраля чиновник Министерства иностранных дел В. Б. Лопухин шел домой с Дворцовой площади, где располагалось его ведомство. «Перейдя Певческий мост, двинулся по левому берегу Мойки. Начинало светать. Все было благополучно, пока я не добрался до Марсова поля. Когда, следуя по его краю вдоль Мойки, я приближался к Летнему саду, меня обогнал грузовик с вооруженными рабочими. Они кричали. И вдруг на ходу открыли стрельбу. Вокруг меня засвистали пули, но не от грузовика. Он стрелял вверх и в сторону. Очевидно, откуда-то стреляли по грузовику. По-видимому, из Инженерного замка. Я не помню, как пробежал по мосту через Фонтанку и, обогнув Соляной городок, свернул с Пантелеймоновской в Соляной переулок. На Пантелеймоновской стреляли. Появились вооруженные солдаты. Везде по пути на мостовой валялись расстрелянные ружейные патроны. Вышел на Гагаринскую. Пошел по Сергиевской. Она была пустая. Рассветало. Передо мною шел солдат и бессмысленно, не целясь, стрелял время от времени вверх. С Моховой пробежали люди, неся не то убитого, не то потерявшего сознание раненого. Пересекая Литейный, я увидел на месте окружного суда его развалины. Зияющие пустыми окнами разрушенные стены. Следы погрома и пожарища. Во всю ширину проспекта жерлами к Невскому были поставлены пушки, и вокруг них копошились солдаты. Слышалась ружейная и пулеметная стрельба. Еще пронесли не то убитого, не то раненого. По Сергиевской до ее конца у Таврического сада я дошел, не натыкаясь более на стрельбу. Оттуда по Потемкинской добрел до дому. Дома все было благополучно».
Жизнь заставляла депутатов взбираться на «адмиральский мостик». 27 февраля А. В. Тыркова-Вильямс записала в дневнике: «В 11 ч. узнала, что войска перешли на сторону народа. Пошли в Думу… Сама Дума имела обычный вид. Депутаты лениво бродили, лениво толковали о роспуске. „Что же вы думаете делать? – Не знаем. Что улица? Кто ею руководим? – Не знаем“. Было тяжело смотреть. „Ведь вы все-таки, господа, народные представители, у вас положение, авторитет“. Жмутся». К решительным действиям призывала депутатов и С. В. Панина, еще одна волевая женщина из руководства партии кадетов.
«Движение продолжало быть бесформенным и беспредметным. Вмешательство Государственной думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг, и тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии», – отмечал в «Истории второй русской революции» П. Н. Милюков. Подобно средневековому хронисту, фиксировавшему знамения Апокалипсиса, депутаты вольно или невольно отслеживали симптомы приближавшейся революции, которую после некоторых сомнений наконец диагностировали в феврале 1917 года.
Итоги эксперимента
За десять думских лет Россия прожила сразу несколько эпох: потухли огни Первой русской революции, завертелись маховики столыпинских реформ, а потом разразилась война, начавшаяся «священным единением» правительства и общественности, за которым последовали усталость, недовольство, раздражение, ярость, апатия, а потом и революция. Все это происходило на глазах заинтересованной публики, которая читала газеты, ходила на публичные диспуты, предвыборные собрания и даже теоретически могла присутствовать на дебатах в Государственной думе. Правда, мест для публики там было мало, да и акустика Таврического дворца оставляла желать лучшего. Тем не менее именно тогда в России возникла публичная политика со своими особыми законами жанра.
Министрам надо было учиться искусству красноречия, дабы выглядеть убедительно с кафедры Государственной думы. Депутатам – набираться законотворческого опыта, чтобы со знанием дела отстаивать интересы своих избирателей. И всем приходилось настраиваться на диалог друг с другом, без которого немыслима работа представительных учреждений. Действительно, за эти десять лет выстроились сложные сетевые (а значит – без всякой субординации) связи между чиновниками и депутатами. Эти чаще всего неформализованные отношения позволяли преодолевать многие трудности, согласовывать законопроекты, учитывать мнения различных групп избирателей, которые тянулись к Думе, видя в ней защитника собственных интересов.
Дума постепенно обретала силу, преодолевая юридические препятствия, созданные властями еще весной 1906 года. Основные государственные законы от 23 апреля 1906 года давали России законодательное представительство – Думу и Государственный совет. Следовательно, монархия становилась конституционной, а не абсолютной, как прежде. И все же полномочия депутатов были довольно куцыми, что, казалось бы, делало конституционный эксперимент в стране куда более управляемым. Практика показала, что это не так. Первые две Думы яростно боролись за расширение своих полномочий. Третья кропотливо работала и в итоге их расширила. Например, депутаты с увлечением занялись военными делами и внешней политикой, хотя эти вопросы были в ведении исключительно царя. Характерно, что в заслугу Третьей Думы Н. А. Хомяков ставил более рациональное распределение войск в пределах империи и совершенствование военного хозяйства России. Дума (и реформированный Государственный совет) постепенно пускала корни в политическую систему страны. В ней были заинтересованы не только сами депутаты, политические партии, различные общественные корпорации, региональные элиты, но даже министры и чиновники среднего звена, которые с помощью депутатов отстаивали свои ведомственные интересы в противостоянии с коллегами-оппонентами. Наконец, самому правительству было выгодно существование Думы. Именно благодаря законодательному собранию у Совета министров была хотя бы «тень» власти. Без представительных учреждений правительственный кабинет становился собранием царских приказчиков, как это было до 1905 года с Комитетом министров.
Депутаты учились законотворчеству, а министры учились сотрудничать с ними. Ни у тех ни у других не было опыта. Это создавало множество проблем при принятии решений. Но и при таких обстоятельствах Думе удалось принести практическую пользу стране: был упорядочен государственный бюджет, существенно увеличены расходы на образование, учитывались социальные аспекты военных преобразований при утверждении соответствующих законов и т. д. Важнее, конечно, другое: за последнее десятилетие существования империи всем министрам пришлось задуматься о перспективах деятельности своего ведомства, предложить программу его развития. Иными словами, при всей неподготовленности, недисциплинированности, а подчас и просто лени депутатского корпуса, сам факт его существования способствовал рационализации работы государственного аппарата.
Все это время, с 1906 по 1917 год, политическая система Российской империи находилась в состоянии «сборки». Она постоянно менялась. Новые порядки наслаивались на старые. В самой системе накапливались противоречия. Следствием этого были бесконечные кризисы, сопровождавшие всю историю думской России: 1906, 1907, 1909, 1911, 1912, 1914, 1915–1917 годов. Редкий год обходился без них. Но в этом не было ничего фатального. Кризис – это болезнь системы, а болезнь – признак жизни. Преодолевая ее, любой организм становится сильнее.
Проблема была в другом. Негативные тенденции, наметившиеся после 1911 года, явно свидетельствовали о том, что новый политический кризис будет иметь драматические последствия. Этот кризис объяснялся не экономической конъюнктурой, не социальной структурой, а сознанием ключевых политических игроков, которое выкристаллизовалось еще в годы Первой русской революции, когда речь шла не о компромиссах и диалоге с оппонентом, а о безусловной победе над ним. Император прекрасно сознавал, что события октября 1905 года – это его поражение. Он хотел отыграть ситуацию назад, хотя бы внешне, путем риторических формул. По этой причине новый государственный строй нельзя называть новым, но лишь «обновленным». Его нельзя было определять как конституционный, но только как «представительный». По той же причине в Основных законах перестали называть монарха «неограниченным», но продолжали именовать «самодержавным». Царь подчеркивал: все осталось словно бы как прежде, в то время как в действительности многое изменилось. Император даже подумывал о низведении Думы до положения законосовещательного учреждения, но с ним не соглашалось высокопоставленное чиновничество в лице наиболее консервативных своих представителей: Н. А. Маклакова, И. Г. Щегловитова, М. Г. Акимова.
Но все же что-то он мог сделать и без их согласия. Именно понимание императором пределов собственной власти способствовало ослаблению позиций Совета министров, претендовавшего на некоторую самостоятельность, по крайней мере в столыпинские годы. Премьеру Коковцову было дано указание «не заслонять» государя. Министры же знали, что им следовало ориентироваться не на связанного по рукам и ногам председателя правительства, а на самого императора, который назначал и увольнял их по собственному разумению. Это затрудняло деятельность не только «объединенного» кабинета, но и представительных учреждений, ведь депутаты преимущественно сотрудничали с министрами, а не с царем. Теперь же министры не могли выйти на думскую трибуну с программой широкомасштабных реформ, как это случилось в марте 1907 года. Правительство не могло предложить им политической повестки, настоятельная необходимость которой особенно остро ощущалась после 1912 года.
В Четвертой Думе с момента ее созыва были все основания для создания левоцентристского (то есть оппозиционного) большинства. В этом было повинно само правительство, его неуклюжее вмешательство в избирательный процесс. В 1912 году левое крыло законодательного собрания стало сильнее, а центр повернулся влево. Дума обретала политическое лицо, а следовательно, вспоминала партийные лозунги, которые также сложились в годы революции. Большинство политических партий того времени были недовольны существовавшим политическим режимом. Для значительной части правомонархистов Манифест 17 октября 1905 года – позорная капитуляция власти. Некоторые из них (в особенности заседавшие в Таврическом дворце) могли утешать себя мыслью, что Дума – не парламент, но учреждение, подобное Земским соборам XVI–XVII веков. Октябристы полагали, что сама власть под конец работы Третьей Думы нарушила контракт, заключенный с обществом в октябре 1905 года. С таким правительством не стоило плотно сотрудничать. По мнению кадетов, в те октябрьские дни был сделан лишь первый шаг к становлению в России истинного парламентаризма по примеру английского. В то же время для левых радикалов (трудовиков, социал-демократов) Таврический дворец представлял лишь удобную трибуну для изложения собственных взглядов.
Партийный «язык» того времени не описывал реально функционировавшую политическую систему, тем более не отмечал изменений, которые она переживала. Политические силы начала XX века словно жили в разных измерениях. Договариваться могли отдельные депутаты, общественные деятели, фракционные лидеры, но партийные форумы всегда исходили из представления об обладании монополией на истину. Они могли остаться на периферии законотворческого процесса, если бы правительство предложило депутатам собственную программу действий, но такого случиться не могло. Технический кабинет и политическая Дума говорили на совершенно разных языках, что вело к неминуемому столкновению. Причем речь шла не о личных конфликтах, амбициях, симпатиях или антипатиях, а об институциональной несовместимости двух высших государственных учреждений (впрочем, не только их).
В этом одна из коренных проблем политической жизни того времени. В России была конституционная монархия, но не было конституции. Ведь конституция – это не документ с соответствующим названием, но общие правила игры, приемлемые для большинства участников политического процесса. Эти правила в России начала XX века отсутствовали или же «игроки» понимали их чересчур по-разному. В Третьей Думе, состоявшей из «лоскутков» многочисленных и рассыпавшихся на глазах фракций, этой трудности практически не было. Партийные лозунги никто не слышал в гомоне разрозненных депутатских голосов. Да и Совет министров тогда только напоминал объединенное правительство. В Четвертой Думе – с уже очерченным политическим лицом – эта проблема вновь становилась актуальной.
Война оттянула начало острой фазы политического кризиса, но окончательно запутала положение в стране. Возник новый центр принятия решений – Ставка верховного главнокомандующего. Министры, как и губернаторы, не знали четких границ своей компетенции, в которую регулярно вторгалось военное командование. Дума терялась в догадках, с кем вести переговоры: в сложившихся обстоятельствах от руководителей ведомств зависело далеко не все. За депутатами стояли земские собрания и городские думы, чувствовавшие собственную значительную силу и призывавшие к все большей решимости. Клубок противоречий все более напоминал гордиев узел, который невозможно распутать.
Дума, еще пять лет назад чувствовавшая свою причастность к разработке общегосударственного курса, была важным инструментом стабилизации в стране. В те дни общественность приучила себя к мысли, что именно в Таврическом дворце можно найти серьезную поддержку, что благодаря депутатам голос той или иной общественной организации, университета, гимназии и т. д. будет услышан и в правительстве. Прошло несколько лет. Различные общественные круги – земские собрания, дворянские общества, биржевые комитеты, съезды промышленников – продолжали рассчитывать на Думу, но ее положение к тому моменту сильно изменилось. Она не могла рассчитывать на однозначную поддержку правительства, у которого из рук выскальзывали остатки прежних полномочий. Теперь она транслировала не общественные чаяния, а общее раздражение. Такая Дума сама по себе становилась фактором политического кризиса, который подвел черту в истории императорской России.
Краткая библиография
Аврех А. Я. Распад третьеиюньской системы. М., 1985.
Аронов Д. В. Законотворческая деятельность российских либералов в Государственной думе (1906–1917 гг.). М., 2005.
Бородин А. П. Государственный совет России (1906–1917). Киров, 1999.
Власть и реформы. От самодержавной к Советской России. СПб., 1996.
Гайда Ф. А. Власть и общественность в России: диалог о пути политического развития (1910–1917 гг.). М., 2016.
Гайда Ф. А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). М., 2003.
Государственная Дума России. Энциклопедия в 2-х томах. 1906–2013. Т. 1. Государственная Дума Российской империи. 1906–1917 / Отв. ред. В. В. Шелохаев. М.; Челябинск, 2013.
Демин В. А. Верхняя палата Российской империи, 1906–1917. М., 2006.
Демин В. А. Государственная дума России (1906–1917): Механизмы функционирования. М., 1996.
Дякин В. С. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911–1914 гг. Л., 1988.
Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907–1911 гг. Л., 1978.
Иванов А. А. «Дело чести». Депутаты государственной думы и дуэльные скандалы (1906–1917). СПб., 2018.
Иванов А. А. Правые в русском парламенте: от кризиса к краху (1914–1917). М.; СПб., 2013.
Кирьянов И. К. Российские парламентарии начала XX в.: новые политики в новом политическом пространстве. Пермь, 2006.
Куликов С. В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004.
Могилевский К. И. Столыпинские реформы и местная элита: Совет по делам местного хозяйства (1908–1910). М., 2008.
Николаев А. Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года. В 2 т. СПб., 2017.
Патрикеева О. А. Государственная дума Российской империи в пространстве Петербурга // Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. СПб., 2017. Ч. 1. С. 55–61.
Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис / Отв. ред. Ю. А. Петров. М., 2014.
Селезнев Ф. А. Конституционные демократы и буржуазия (1905–1917). Н. Новгород, 2006.
Селунская Н. Б., Тоштендаль Р. Зарождение демократической культуры: Россия в начале XX в. М., 2005.
Соловьев К. А. Законодательная и исполнительная власть в России: механизмы взаимодействия (1906–1914). М., 2011.
Соловьев К. А., Шелохаев В. В. История деятельности первых Государственных дум дореволюционной России: сравнительный анализ традиций правотворчества. М., 2013.
Старцев В. И. Русская буржуазия и самодержавие в 1905–1917 гг. Борьба вокруг «ответственного министерства» «правительства доверия». Л., 1977.
Туманова А. С. Общественные организации и русская публика в начале XX в. М., 2008.
Туманова А. С. Самодержавие и общественные организации в России. 1905–1917 годы. Тамбов, 2002.
Усманова Д. М. Депутаты от Казанской губернии в Государственной думе России. Казань, 2006.
Циунчук Р. А. Думская модель парламентаризма в Российской империи: этноконфессиональное и региональное измерения. Казань, 2004.
Шелохаев В. В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. М., 2015.
Hosking G. A. The Russian Constitutional experiment. Government and Duma, 1907–1914. Cambridge, 1973.
Korros A. S. A reluctant parliament: Stolypin, nationalism and the politics of the Russian Imperial State Council, 1906–1911. Oxford, 2002.
Levin A. The Third Duma: Election and profile. Hamden, 1973.
Pinchuk B. The Octobrists in the Third Duma, 1907–1912. Seattle; London, 1974.
Wcislo F. W. Reforming rural Russia: State, local society and national politics. Princeton, 1990.
Иллюстрации
План зала заседаний Первой Государственной думы
Члены Государственной думы: портреты и биографии. Первый созыв, 1906–1911 гг.: сессия продолжалась с 27 апреля по 9 июля 1906 г. Сост. М. М. Боиович. М.: Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1906
К. К. Булла. Члены Первой Государственной думы В. Д. Набоков и А. Ф. Аладьин. 1906
Российская национальная библиотека
И.И. Петрункевич, В.И. Вернадский, Д.И. Шаховской
Фото из архива Е. М. Шик
К. К. Булла. Депутаты Государственной думы Российской империи и члены партии кадетов. Сидят (слева направо): Г. Р. Килевейн, В. Д. Кузьмин-Караваев, М. М. Ковалевский, М. А. Стахович. Стоят (слева направо): И. В. Гессен, П. Н. Милюков, А. В. Васильев, А. А. Корнилов, А. А. Стахович
Библиотека Конгресса США
Неизвестный автор. Рисованная открытка
Коллекция Д. Спорова
Е. С. [Неизвестный автор]. Призывная песня
Коллекция Д. Спорова
З. И. Гржебин «Крепись! Еще один последний шаг!»
Журнал «Жупел». 1906. № 3
Депутаты Первой Государственной думы. Участники Териокского совещания. 1906 г.
Библиотека Конгресса США.
Неизвестный фотограф. Манифестация студентов 18 октября 1905 года
Коллекция Д. Спорова
Неизвестный автор. Витте и Трепов
Карикатура. Бумага, перо. Коллекция Д. Спорова
Рукописная копия Выборгского воззвания депутатов распущенной Первой Государственной думы. Июль 1906 года
Коллекция Д. Спорова
Журнал «Освобождение». 1905. № 64
На месте убийства В. К. Плеве. 15 июля 1904 года
ГАРФ. Ф. 124. 1904 год. Оп. 13. Д. 827
«Трепов и К°». Сатирическая открытка. Всемирный почтовый союз. Россия. 1905
«Революция и думское большинство»
Сатирический иллюстрированный сборник «Думский альманах». СПб.: Прибой, 1906
П. А. Столыпин произносит декларацию в Государственной думе 6 марта 1907 года
Петр Аркадьевич Столыпин. 1862–1911. Сборник фотографических снимков памяти П. А. Столыпина. Фонд изучения наследия П. А. Столыпина
У Таврического дворца П. И. Новгородцев, П. Н. Милюков, И. В. Гессен, С. В. Панина, И. И. Петрункевич, П. Д. Долгоруков
Российская национальная библиотека
Члены Временного комитета Государственной думы. Сидят (слева направо): В. Н. Львов, В. А. Ржевский, С. И. Шидловский, М. В. Родзянко. Стоят: В. В. Шульгин, И. И. Дмитрюков, Б. А. Энгельгардт (комендант Петроградского гарнизона), А. Ф. Керенский, М. А. Караулов. 1917 г.
Библиотека Конгресса США.
А. Рентц, Ф. Шрадер. Александр Иванович Гучков
3-й созыв Государственной думы: портреты, биографии, автографы. СПб.: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1910
Василий Алексеевич Маклаков. 1917
Национальная библиотека Франции. Source gallica.bnf.fr/BnF
Якоб Штейнберг. У Государственной думы. Февраль 1917 года
Коллекция Д. Спорова
Сноски
1
Теоретически могла быть и обратная ситуация: вначале законопроект мог рассматриваться в Государственном совете, затем в Думе. На практике такое случалось чрезвычайно редко.
(обратно)2
В апреле 1909 года император не утвердил проект штатов Морского генерального штаба, а 26 мая 1911 года отказался подписывать законопроект об изменении постановлений о правоограничении лиц, сложивших с себя духовный сан или лишенных его.
(обратно)3
Она сформировалась на рубеже 1901–1902 годов и окончательно конституировалась на своем Первом съезде (1905–1906).
(обратно)4
В ту избирательную кампанию администрация прилагала немалые усилия, чтобы октябристов стало меньше в Четвертой Думе. Ведь к концу работы Третьей Думы отношения между правительством и «Союзом 17 октября» окончательно разладились. Это политическое объединение отнюдь не было послушным орудием в руках исполнительной власти.
(обратно)5
В действительности Людовик XIV никогда не произносил приписываемые ему слова: «Государство – это я».
(обратно)6
Распределение депутатов по фракциям, зачастую не имевшим программных установок и тактических задач, порой становилось предметом иронии и сатиры. В качестве примера можно привести стихотворение депутата от фракции кадетов Л. А. Велихова «Здравый смысл»:
Куда же смысл девался здравый? Всегда не прав бывает правый. Враг наций всех – националист. Живет июнем октябрист. Центр поселился на окраине. Кадет стал генералом втайне. К обидам гордый лях привык. Трудов не любит трудовик. А пролетарии всех стран Слетелись в один кавказский стан. Лишь прогрессист не знает критик. Он прогрессивный… паралитик. (обратно)7
Для сравнения: депутаты Думы получали 4200 рублей в год, генералы в должности командующего корпусом – 7500, губернаторы – около 12 тысяч, министры и члены Государственного совета – около 18 тысяч.
(обратно)8
Известный адвокат, а помимо прочего, муж актрисы М. Н. Ермоловой.
(обратно)9
Правда, не все народные избранники и их родственники были поклонниками ораторского искусства В. Н. Коковцова. 16 января 1908 года Е. Я. Кизеветтер отметила в дневнике: «Коковцов отвечает ему (А. И. Шингареву. – К. С.) длинной речью и опять, как в прошлом году, эта речь мне кажется воркотней. На меня речи Коковцова производят впечатление, будто он обиделся и наставляет обидчика и ворчит: бу, бу, бу». Схожим образом оценивал выступления Коковцова и В. И. Вернадский. 31 мая 1908 года он писал жене «из Государственного совета во время тягучей, монотонной и довольно пошлой речи Коковцова. Он до такой степени местами элементарен в своих возражениях, что верно говорит Гримм: он считает нас за кретинов». По оценке В. Б. Лопухина, с назначением В. Н. Коковцова премьер-министром «наступила для него эра никем и ничем не стесняемой и не ограничиваемой свободы болтовни, составлявшей преобладавшее его пристрастие. Пока он был только министром, поток его бессодержательных речей все же сдерживался хотя бы в Совете министров председательствовавшим, руководившим прениями. Сделавшись премьером, он стал мучить своими бесконечными речами коллег уже без всякого удержа, без всякой меры».
(обратно)10
Правда, Коковцов полагал, что Шингарев сильно преувеличил. В действительности речь шла об 1/9 всего бюджета.
(обратно)11
В XIX – начале XX века под «обществом» подразумевалась не вся совокупность подданных Российской империи, а социально активная часть образованного меньшинства.
(обратно)12
Столица, бывшая в районе театра военных действий, подчинялась командующему 6-й армией. Однако и министры считали своим долгом вмешиваться в вопросы управления и обеспечения города.
(обратно)

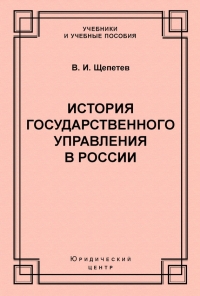




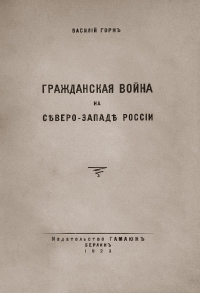

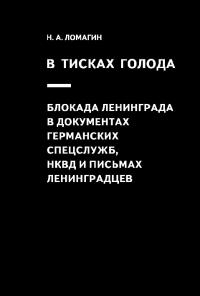
Комментарии к книге «Самодержавие и конституция», Кирилл Андреевич Соловьев
Всего 0 комментариев