Сергей Снегов Творцы
Часть первая РАЗБЕГ
Глава первая ПЕРВАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ...
1
На рассвете припустил дождь. На глади Финского залива исчезла линия горизонта, темная вода слилась с темным небом. Синоптики предсказывали погожий день. День начинался плохо. Интуристские «линкольны» для гостей из-за рубежа опаздывали. Курчатов недовольно посмотрел на небо, потом — на часы.
Тучи над Невой разорвались, верховой ветер погнал их к Ладоге. Вспыхнула золотая шапка Исаакия, за ней засияла Адмиралтейская игла. Солнце озарило малиновый Зимний, побежало на Петропавловку. Город уже не казался хмуро насупленным, как бы погруженным в себя, он был величественно наряден. Это было, может быть, немного наивно, но Курчатову хотелось показать зарубежным ученым Ленинград только таким — во всем его удивительном великолепии. Нет, синоптики не надули, он позвонил им вчера вечером, попросил хорошей погоды на завтра, они весело пообещали солнце. Солнце радостно вспыхивало на мелких волнах реки. По Неве, отставая от юрких катеров, проплыл парусник, он шел в залив — паруса его были окрашены солнцем.
Иваненко с облегчением протянул руку к Дворцовому мосту.
— «Линкольны»! Значит, как условились, Игорь Васильевич Я в «Асторию», к Вайскопфу и Разетти, а вы к французам в «Европейскую». Френкель, наверно, уже там.
Курчатов молча кивнул. Иваненко не терпелось схватиться с Вайскопфом. Их старый спор о структуре атомного ядра можно было уложить и в регламент конференции, но лучше, конечно, дотолковаться в дружеской беседе.
«Линкольны» загудели, сворачивая с моста на набережную. На радиаторе каждого — фирменный знак самого роскошного фордовского автомобиля, недавно партию их закупили для Интуриста, — неслась вперед поджарая никелированная собака. В низком автомобильном голосе звучало высокомерие, почти угроза — конструкторы экстраклассной машины, похоже, старались создать не скромное средство передвижения, а вельможу на четырех колесах. И хотя на набережной движение было не бойкое — два грузовика на километровом прогоне да три телеги на резиновом ходу, гуськом катившиеся у тротуарной кромки, — шоферы нещадно жали на клаксоны; машины шли удивительно тихо, лишь глухо шуршали шины — плавность бега нужно было подчеркивать надменным сигналом.
До вчерашнего вечера Курчатов не верил, что машинный парк Интуриста будет обслуживать конференцию физиков — гости, хоть и из-за рубежа, тугими кошельками не обладали. Но Иоффе сказал — в Смольном нас понимают, транспорт обеспечат. Быстро приближавшиеся дорогие машины свидетельствовали не только о понимании — об уважении.
— Димус, не прохлаждайтесь в гостинице, — сказал Курчатов. Можно было этого, впрочем, и не говорить. Иваненко по натуре не был способен к действиям, обозначавшимся тусклым словечком «прохлаждаться».
Курчатов сел в первую, Иваненко — в третью машину. Кавалькада «линкольнов» повернула обратно. Две машины пошли в «Европейскую», две — в «Асторию». Иваненко вбежал в вестибюль. Он опаздывал на одиннадцать минут, аккуратнейшему Вайскопфу такое опоздание, несомненно, покажется чрезмерным. Вайскопф радостно заулыбался. Опоздание на одиннадцать минут не показалось ему чрезмерным.
Рядом с Вайскопфом в вестибюле стоял Франко Разетти, физик из Рима. Теперь надо было ждать Гамова, тот обещал приехать в гостиницу за полчаса до выезда. Гамова не было. Возможно, он уже знал, что Поль Дирак появится в Ленинграде только сегодня к вечеру. Гамов объявил, что из гостей его интересует только Дирак, единственный, кого можно назвать гениальным. Впрочем, Гамов вполне способен опоздать на любую встречу. Иваненко решил ждать его еще десять минут — и ни секундой больше. Еще недавно он без возмущения сносил экстравагантные выходки Гамова, но в последние месяцы от былой их дружбы мало что осталось. И, во всяком случае, с раздражением думал Иваненко, перед иностранными гостями надо бы вести себя приличней!
Вайскопф и Разетти были похожи один на другого. Оба высокие, худощавые, черноволосые, высоколобые, востроносые, оба к тому же в очках, и очки в одинаковой металлической оправе. Фамилия Вайскопф — белоголовый — казалась данной в насмешку, он был черней цыгана. И он казался более сдержанным, чем порывистый итальянец. Иваненко, впрочем, мог бы порассказать и о том, как Вайскопф, увлекаясь, способен спорить часами — именно такие летящие напролет в спорах гостиничные ночи были у них полтора года назад в Харькове, Иваненко не терпелось поставить сегодня победную точку в дискуссии, которую тогда так и не удалось завершить.
Вайскопф догадался, какие желания томят Иваненко.
— Ваша взяла, — сказал он, улыбаясь. — И я чертовски этому рад, можете мне поверить!
Разетти поинтересовался, о чем речь. Ему ответил Вайскопф.
Весной 1932 года Иваненко, командированный из Ленинграда в харьковский Физико-технический институт, устроил там теоретический семинар по актуальным проблемам атомной физики. Самой важной проблемой был только что открытый Чадвиком нейтрон. Эта удивительная частица, по массе почти равная протону, но лишенная электрического, заряда, поразила воображение физиков всего мира. В первое время многие даже не знали, что делать с нейтроном, настолько его свойства были непохожи на свойства остальных частиц. Иваненко быстро понял, что нейтрон — тот недостающий кирпич, без которого не построить модели атомного ядра. Что ядро — образование сложное, догадывались давно. А радиоактивность — странное свойство тяжелых ядер — прямо доказывала не только их неустойчивость, но и сложность. В ядре имелись протоны, из ядра вылетали электроны, альфа частицы, гамма-лучи, это и был процесс радиоактивного распада, но все попытки построить ядро из протонов, электронов и альфа-частиц неизменно заканчивались неудачами.
— И вот мой друг Иваненко, — рассказывал Вайскопф Разетти, — высказал гипотезу, что ядро составлено всего из двух кирпичей — протонов и нейтронов. А что до вылетающих из ядра электронов, то они, как и гамма-лучи, образуются лишь в момент вылета.
Вайскопфу поначалу идея показалась необоснованной. В ту прошлогоднюю харьковскую весну они спорили днем и ночью, в столовой и на прогулках. А когда Вайскопф уезжал, Иваненко язвительно сказал на прощание: «Ваши возражения, Виктор, так неосновательны и мне так удачно удалось их опровергнуть, что теперь я абсолютно уверен в своей правоте. Со спокойной душой посылаю завтра заметку в «Нейчур».
— С тех дней прошло полтора года, — закончил Вайскопф. — Но никто уже не сомневается, что нейтронно-протонная модель ядра единственно правильная. После того как ее поддержал и развил Вернер Гейзенберг, я тоже не сомневаюсь в ней. Кстати, у нас на Западе многие считают ее теорией Гейзенберга, но это несправедливо, я могу засвидетельствовать, что мысль о протонно-нейтронной структуре ядра впервые высказал Иваненко.
Разетти сказал, что и он полностью согласен с протонно-нейтронной моделью ядра. Но он согласился с ней еще до того, как прочел заметку русского физика в «Нейчур» и последовавшие за ней статьи Гейзенберга на ту же тему. С гипотезой, что ядро состоит из протонов и нейтронов его познакомил молодой римский математик и физик Этторе Майорана. Он такой же создатель этой модели, как и их уважаемый хозяин Дмитрий Иваненко.
— Я не собираюсь умалять вашего успеха, — учтиво сказал Разетти. — Вы первый печатно высказали эту идею. Но только скромность моего друга Майорана помешала ему перехватить у вас славу первооткрывателя. Он пришел к новой модели раньше вас и Гейзенберга.
— Кстати, почему вы не пригласили Гейзенберга? — поинтересовался Вайскопф. — Вот уж чье присутствие на конференции по атомному ядру необходимо. И Паули был бы полезен. Вы Паули приглашали?
Да, русские физики приглашали и Паули, и Гейзенберга. Паули не приехал по личным причинам. Гейзенберг на приглашение не отозвался: после прихода Гитлера к власти ни один ученый в Германии не осмелится продемонстрировать дружеское отношение к советским людям. Приглашения посланы и Бору, и Чадвику, и Резерфорду, и Ферми. Бору и Резерфорду помешала их занятость, к тому же они готовятся ко Всемирному Сольвеевскому конгрессу, который состоится через месяц. Очень жаль, что не приехали Чадвик и Ферми, их участие было бы плодотворным.
— Ферми получил приглашение прочитать цикл лекций в Америке, — сказал Разетти. — Он просил меня передать свое сожаление.
Из гостиницы вышла группка советских физиков, приехавших из других городов. Гамова все еще не было. Иваненко предложил садиться в машины. Оба «линкольна» понеслись к набережной. Вайскопф спросил, приехал ли на конференцию его друг Ландау.
— На конференции его не будет, — сказал Иваненко. — Четыре дня назад он через Ленинград проехал в Копенгаген к Бору.
Иваненко не хотелось развивать эту тему. Несмотря на уговоры, Ландау не пожелал задержаться в Ленинграде, свидание с Бором интересовало его больше, чем конференция по атомному ядру. «Вы мне всё потом расскажете, Димус, — холодно сказал он. — Не думаю, чтобы на конференции доложили о чем-нибудь необыкновенном».
А Вайскопф, не знавший, что между недавними друзьями пробежала черная кошка (теперь при встречах они, однокашники по институту, соавторы по пяти статьям, уже стали говорить друг другу «вы»), продолжал расспрашивать о Ландау. Он был высокого мнения о молодом русском физике — блестящий теоретик, острый ум! Ландау, несомненно, предстоит великая будущность в науке. Как ему живется в Харькове, куда он недавно переселился из Ленинграда?
— Поведение Дау в Харькове вполне в его характере, — сдержанно ответил Иваненко. — Работает как бешеный. На двери своего кабинета повесил надпись: «Л. Д. Ландау. Осторожно, кусается!» И еще как кусается!
Вайскопф захохотал. Разетти смотрел в окно. «Линкольны» шли по набережной. Солнце играло на темной воде. Желтые, малиново-красные, зеленые дворцы образовывали величественную линию вдоль реки. Ослепляюще сверкал золотой шпиль Петропавловки.
Разетти задумчиво сказал:
— Я всегда был уверен, что самый прекрасный город в мире — Рим. После поездки сюда уже не будет такой уверенности.
— Вы хотите сказать, Франко, что Ленинград вам станет дороже Рима? — с удивлением спросил Вайскопф.
— Нет, конечно. Рим есть Рим. Где бы я ни был, я не выброшу из своего сердца Рима. Но теперь я знаю, что не только Рим и Париж прекрасны. Какое величие, какое изящество, какое строгое единство архитектурного замысла!
Иваненко украдкой поглядывал на итальянца. Разетти интересовал его, пожалуй, больше других гостей. Одну из работ Разетти Иваненко собирался использовать в своем докладе на конференции. Исследования этого римлянина недавно привели к тому, что изумленные физики назвали «азотной катастрофой». Ядро азота, по старой концепции, состояло из нечетного числа элементарных частиц — 14 протонов и 7 электронов, то есть всего из 21 частицы. А эксперименты Разетти доказали, что ядра азота ведут себя, как если бы содержали четное число частиц. Гипотеза Иваненко объясняла загадку просто: если ядро состоит из протонов и нейтронов, то всего в ядре азота должно быть 14 частиц — число четное Что до Майорана, размышлял Иваненко, то Разетти, так запальчиво вступившийся за него, преувеличивал его заслуги. Типичная необъективность друга или, что тоже не исключено, национальный патриотизм!
Вайскопф, как и Разетти, залюбовался набережными Невы и перестал задавать вопросы. Мысли Иваненко от ядерной физики перешли к организационным делам. Конференция началась удачней, чем надеялись, — это и радовало и тревожило. Научный успех порождал свои трудности. В гостиницах забронировано меньше ста мест, а приехало уже сто пятьдесят гостей и еще с десяток прибудет сегодня. Гостиничную проблему решить удалось: из Смольного вчера пришло указание Интуристу выделить столько мест, сколько понадобится. Куда сложней продовольственная проблема. Так мало выдано талонов на завтраки, обеды и ужины! Урожай в этом году, все говорили, ожидался хороший, но по продовольственным карточкам пока выдавали столько, что не до праздничных обедов! Со своими учеными можно бы было и не пыжиться, свои понимали. Но как с иностранцами? В столовой им можно скомбинировать неплохие обеды. А если пригласить кого-нибудь в гости? Месячные карточки всей семьи потратить на один вечер? Да и что достанешь по карточке? Голова пухла от таких дум! Куда легче оперировать матрицами Гейзенберга и Дирака, тензорными уравнениями Эйнштейна, чем устраивать пасьянс из талонов в столовую, которых выдано ровно в два раза меньше, чем нужно. Правда, Иоффе обещал поехать в Смольный, будем надеяться, он уладит и эти вопросы!
2
Иоффе сел на заднее сиденье. В последнее время возникла мода — садиться рядом с шофером Но позади лучше думалось. Надо было решить важный вопрос. Иоффе поставил его себе ровно год назад и ровно год не может найти решения. Он сегодня хотел его решить за те двадцать минут, пока институтская машина будет мчаться от Физтеха на Выборгской стороне к Президиуму Академии наук на Васильевском острове.
Он откинулся на спинку, прикрыл глаза. Так было проще думать. Вчерашняя встреча в Смольном прошла отлично. Киров говорил академику о своем уважении, о своей поддержке, о том, что время сейчас грудное, прошлогодняя засуха подорвала ресурсы страны, но сделаем все возможное, чтобы ученые не испытывали недостатка ни в приборах, ни в материалах, ни в элементарных удобствах. «Между прочим, с сегодняшнего дня выдаем населению по сентябрьскому талону картофель, который планировался на октябрь, так улучшилось продовольственное снабжение Ленинграда», — с радостью сказал Киров. И Иоффе порадовался вместе с ним, вторая пятилетка началась с отличного урожая, это было доброе предзнаменование. Иоффе информировал руководителя ленинградских коммунистов о задачах созываемой в Ленинграде всесоюзной конференции по атомному ядру. Атомное ядро — это чистая наука. Непосредственного выхода в практику исследования ядра не дадут. Но он убежден, что в физике нынче нет более важной проблемы, чем атомное ядро, а физика — основа техники.
— Партия понимает значение науки, — ответил Киров. — Еще раз повторяю, мы вас поддерживаем. Скажите, кто из наших известных крупных ученых исследует проблемы атомного ядра?
На это Иоффе мог ответить кратко и исчерпывающе. Никто! Атомное ядро — новый раздел науки. Крупные физики стали крупными до того, как в мире заговорили о ядре. Маститые ученые не падки на сенсации. Кое-кто уже говорил с усмешкой: «Заниматься ядром становится модным». Слово «мода» в устах ученого — хула, а не восхваление. Так думают не только наши ученые, но и зарубежные. Корифеи науки, общепризнанные творцы новых путей, продемонстрировали явное равнодушие к ленинградской конференции. На ней не будет ни Планка, ни Эйнштейна, ни Бора, ни Шредингера, ни Гейзенберга, ни Марии Кюри... Зато с охотой откликнулись молодые физики Жолио, Перрен, Разетти, Вайскопф, Грей, Бек — фигуры, в общем, скорее второстепенные...
— Пока! — с оживлением прервал Киров. — Можно ли поручиться, что они всегда останутся молодыми и всегда на вторых ролях? Вы вот часто говорите, что наступает эпоха научно-технической революции. А разве революции не удел молодых? В семнадцатом году мы называли Владимира Ильича стариком, а ведь ему не было и пятидесяти лет!
— Таким образом, вы считаете...
— Именно! Пусть молодые пробуют свои силы в молодой отрасли науки. Нужен лишь руководитель, объединяющий их усилия, эдакий «старик» средних лет, живой души и большого опыта. Наше мнение — вы лучше всех удовлетворяете таким требованиям! Теперь хочу спросить о другом. Слыхали ли вы о сожжении книг в Берлине?
О том, что в Берлине творилась весной дикая вакханалия, связанная с уничтожением библиотек, Иоффе знал из газет, но без подробностей. Киров сказал, что у него есть сводка выдержек из иностранной печати, там кое-что и о физиках. Он протянул несколько машинописных страниц. Иоффе читал их с горечью и возмущением. Ему казалось, что он хорошо знает Германию, он сделал в ней несколько крупных исследований совместно с великим Рентгеном, не было города в этой стране, где бы он не побывал, не было университета, где бы у него не имелось добрых знакомых. Он любил эту страну, ценил трудолюбие ее жителей, достижения ее инженеров, восхищался успехами ее ученых. Страну, изображенную в репортажах иностранных корреспондентов, нельзя было любить, ею нельзя было восхищаться, происходившие в ней события порождали негодование. 10 мая 1933 года в центре Берлина, на Унтер ден Линден, на площади Оперы устроили шабаш ведьм. Площадь оцепили штурмовики, посередине развели огромный костер из книг. Переполненные грузовики непрерывно подвозили из библиотек «горючий материал». В темное небо взмывало пламя, призрачно светящийся дым окутал здание оперы и расположенного напротив университета братьев Гумбольдтов. Беснующаяся толпа скандировала «Хайль Гитлер!», ревела «Дейчланд, Дейчланд, юбер аллес!». На открытой машине примчался имперский министр пропаганды Геббельс и в неистовой речи угрожал свободомыслящим писателям, философам, ученым, призывал уничтожать их творения. Штыком в книгу, как в грудь врага, в огонь ее, в огонь! «Больше тысячи тонн книг, враждебных нацизму, уничтожено на костре в Берлине, несколько миллионов томов», — цинично ликовали берлинские газеты.
«Великое сожжение» в Берлине послужило сигналом к такому же бесовскому шабашу в других городах Германии, читал Иоффе. Студенты в форме штурмовиков «чистили» книгохранилища, врывались в квартиры. В считанные дни конфисковали и предали огню 10000 частных библиотек. Книжные костры запылали на площадях Дрездена, Мюнхена, Бреславля, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа. Из университетов выгоняли прогрессивных профессоров, из академий исключали академиков. Список изгнанных ученых, литераторов, композиторов, художников, артистов уже через неделю после берлинского костра дошел до тысячи фамилий — многие были известны всему миру. Имперский министр просвещения Бернгард Руст, игнорируя «старомодные» тайные выборы, ввел приказом в Академию литературы Ганса Иоста, автора нашумевшей драмы «Шлягетер». Главный герой пьесы говорит: «Когда я слышу слово „культура“, я спускаю предохранитель своего браунинга». Только такое просветительство признает нынешнее немецкое министерство просвещения. «Коммунисты, социал-демократы и евреи — вот наши главные враги!» — надрываются нацистские газеты. А депутат рейхстага Иоганн фон Лэрс, автор книги «Евреи глядят на тебя», объявляет евреями потомка Лютера К. Либкнехта, сына пастора Э. Пискатора, зловеще предупреждает: «Всякий, кто неудобен для гитлеровского режима, является для этого режима евреем». Из Германии бегут ученые, творческая интеллигенция, коммунисты ушли в подполье. Тысячи немцев уже пересекли границы Германии, сотни тысяч страстно жаждут того же.
На фоне охватившего страну нацистского безумия звучали протесты честных людей. Президент научного общества кайзера Вильгельма, объединяющего десятки институтов, знаменитый физик Макс Планк попросил аудиенции у Гитлера. Планк протестовал против увольнения крупных ученых, в частности химика Фрица Габера. Гитлер стал бушевать. Гитлер кричал: «Вы надеетесь на мою нервную слабость? У меня нервы как сталь! Уговоры меня не остановят!» Не дав Планку слова больше сказать, он указал ему на дверь. Потрясенный чудовищным приемом, Планк явился на заседание Прусской академии наук — он был ее президентом, — когда решался вопрос об исключении эмигрировавшего Эйнштейна, и заявил: «Господин Эйнштейн не только один из многих выдающихся физиков, господин Эйнштейн — это физик, работы которого, опубликованные в нашей академии, были столь большим вкладом в физическую науку нашего столетия, что значение его можно сравнить только с достижениями Иоганна Кеплера и Исаака Ньютона».
Мужественное заявление занесли в протокол 11 мая 1933 года, на другой день после бесовского шабаша на Унтер ден Линден: всего несколько десятков метров отделяло зал, где заседали академики, от вчерашнего книжного костра. Смелые речи уже не могли изменить ход событий. Эйнштейн прислал заявление, что сам не желает быть членом Прусской академии наук, ставшей служанкой нацизма. В эти же дни лауреат Нобелевской премии, тоже физик, Филипп Ленард публично объявил, что только немцы способны создать настоящую науку и что пришло время всех, кто не немец, из науки изгнать.
— Отвратительно, не правда ли? — взволнованно сказал Киров, когда Иоффе молча возвратил листки. — Даже мы, хоть и никогда не ошибались насчет звериной сущности фашизма, не могли предугадать всего масштаба деградации культуры, которую он несет. Вы, наверно, знакомы со многими физиками, поименованными в этих заметках?
— Практически со всеми. С Эйнштейном — очень хорошо, с Планком — тоже. Даже Ленарда знаю. — Иоффе усмехнулся в седеющие усы. — В 1928 году в Гейдельберге я посетил Радиевый институт, директором которого был Ленард. Но он не принял меня, а выслал сторожа, который объявил: «У господина советника есть более важные дела, чем прием врагов его отечества». Об этом ответе я рассказал кое-кому, и многие американские физики нарочно направлялись в институт Ленарда, чтобы получить такой же ответ. Ленард был фашистом задолго до появления фашизма. Сейчас, говорят, он пишет книгу под названием «Арийская физика», где презрительно игнорирует ученых других национальностей, как ничего крупного в науке не создавших. И он, конечно, найдет сторонников. Рентген говорил мне перед смертью, что многие немецкие физики в годы мировой войны были охвачены крайним шовинизмом. Рентген презирал таких людей, но видел, что их становилось все больше. Теперь эти мракобесы войдут в Германии в силу. С ними надо бороться, отстаивая интернациональность науки.
— Совершенно верно — с ними надо бороться. В этом смысле кое-что даст и ваша конференция.
Киров, взяв Иоффе под руку, проводил его до двери. Там, задержав академика, он сказал:
— Сегодня в Лейпциге начинается процесс над Димитровым и его товарищами. Их обвиняют в поджоге рейхстага. Какая дикая фальшивка! Но вдумайтесь, как это знаменательно — в фашистском Лейпциге гитлеровцы устраивают средневековое судилище, а в большевистском Ленинграде созывается международная конференция по самым тонким вопросам мировой науки. Правда, вы назвали свою конференцию всесоюзной, но половину докладов ведь сделают гости из-за рубежа!
Этот разговор и припоминал Иоффе, сидя на заднем сиденье машины, ехавшей с окраины Выборгского района на Васильевский остров.
Молодая наука! А во главе ее — «старик» средних лет с живой душой, с большим опытом...
Итак, намеченное им расширение тематики исследований в Физтехе одобряется, и его хотели бы видеть во главе новых научных работ. А сам он хотел бы видеть себя в этой роли? Ровно год он задает себе этот вопрос — и не может ответить. Иоффе снова закрыл глаза, надо было сосредоточиться. Все началось с телеграммы Чадвика из Кембриджа. Это было в начале прошлого года, удивительного года великих открытий. Начал серию этих открытий Чадвик. И сообщил о своем успехе в крупнейшие институты, крупнейшим физикам мира. Получил такую телеграмму и Иоффе — волнующе приятное известие! И не только потому, что их молодой институт в Ленинграде поставили вровень с великими центрами мировой науки — а признание в самом факте присылки телеграммы. Главное в том, что открыта новая элементарная частица, теперь их три — электрон, протон, нейтрон! Совершился переворот в науке! Так он расценил телеграмму из Кембриджа. Новые бурные события подтвердили прогноз. Открытия хлынули лавиной. Андерсен в Америке обнаружил положительный электрон — позитрон. Кокрофт с Уолтоном добились искусственного преобразования лития в гелий Мечта алхимиков, искавших философский камень для превращения одного элемента в другой, начинает осуществляться на практике. Крупные физические лаборатории мира одна за другой включались в исследования атомного ядра.
Нет, они в Ленинграде не остались в стороне от нового направления в науке, с удовлетворением размышлял Иоффе. Он сам привлек внимание молодых физиков к ядру. Он просил, чтобы, наряду с основной работой, они заинтересовались и этой проблемой. В институте стал работать ядерный семинар. Иоффе вспомнил выпущенный им 15 декабря 1932 года приказ — столько раз переделывалась формулировка, что каждое слово навсегда врубилось в память: «Для осуществления работ по ядру, являющихся второй центральной проблемой научно-исследовательских работ ЛФТИ, образовать особую группу по ядру в составе: академик А. И. Иоффе — начальник группы, И. В. Курчатов — заместитель начальника группы...»
Вот так это и произошло. Он сам назначил себя в руководители ядерных работ. Он взял на себя руководство не из тщеславия, а для пользы дела. Его теперь хотят официально признать главой новой области исследований. Так вот — делать этого нельзя!
«Ядро — не моя физика, — размышлял Иоффе. — Моя наука — физика твердого тела. В мои годы не переучиваются. Я уже не отойду от проблем, решению каких отдал свою научную жизнь. Совмещать в душе разные привязанности — немыслимо. Молодому научному направлению нужен молодой руководитель.
Кто же способен возглавить новое направление? — спрашивал себя Иоффе. — Гамов? Гамов — блестящий теоретик, единственный из молодых наших физиков уже завоевал известность за рубежом — и как раз в области ядерных проблем. У него все данные стать крупным ученым. Через месяц мы поедем с ним в Бельгию на Сольвеевский конгресс, он блеснет там докладом об энергетических уровнях в ядре. Все это так, но в руководители Гамов не годится. Он может творить, но не направлять творчество других.
Ландау? Тамм? Иваненко? Фок? — допытывался у себя Иоффе и отвечал: — Нет, ни Ландау, ни Тамм, ни Фок не обнаружили пока интереса к ядру. Оно еще захватит их души, но сегодня этого нет. Сами не увлеченные, они никого не увлекут. И Иваненко не подойдет. Он остроумен, отзывчив, сегодня из наших физиков всех глубже проник в ядерные проблемы. Но умеет ли ладить с людьми? Завоевывать их расположение? Иваненко отлично устраивает научные конференции, но руководителя в нем не признают.
А почему я думаю об одних теоретиках? — спросил себя Иоффе. — В науке о ядре эксперимент сегодня важней теории. Нужно накопить факты, теория их обобщит потом. Научный руководитель исследования ядра должен быть первоклассным экспериментатором. Скобельцын? Широко образован, завоевал известность усовершенствованием камеры Вильсона, благодаря этому и открыли американцы позитроны. Но Скобельцын ушел в космические лучи! Синельников или Лейпунский? Вальтер или Курчатов? Все четверо — отличные экспериментаторы. Но кто их знает, кроме сотрудников и друзей? Мысовский? Тоже прекрасный экспериментатор, особо интересуется ускорителями заряженных частиц. Нет, он не из тех, кто создает свою научную школу. Всем им еще завоевывать в науке авторитет!
Впрочем, зачем я вообще размышляю о руководителях? Создается новое направление, а не новое учреждение. Новое направление возглавит тот, кто обнаружит в нем наибольшие успехи. Здесь соревнование, а не приказ. Научные руководители сами выдвигаются, а не назначаются. Так пусть молодые показывают, чего стоят!»
Иоффе облегченно вздохнул. Он чувствовал, что за короткое время в пути от окраин Выборгской до Васильевского наконец найдет решение. Решение заключается в том, что не надо искать никакого решения. Все идет как и должно идти.
— Приехали, Абрам Федорович, — сказал шофер, длинным гудком оповещая толпу, осаждавшую вход в здание Академии наук, чтобы дала проезд машине академика.
3
Френкель, Фредерик Жолио, Френсис Перрен сели в первую машину, Курчатов с харьковчанами Синельниковым, Лейпунским, Вальтером — во вторую. Курчатов радостно сказал:
— С нетерпением жду ваших докладов, друзья! Уверен, что не ударим в грязь перед иностранцами. Наконец-то и у нас появилось о чем рассказать!
Синельников и Лейпунский улыбались. Вальтер шутил. Остряк и озорник, он не мог обходиться без шуток. Забавные его проделки становились легендами, он уже скоро лет пять как ушел из ленинградского Физтеха, но и доныне всех новых сотрудников осведомляли с улыбками, что вот был, де, раньше такой у них физик, Антон Карлович Вальтер, человек редких способностей и знаний, а на этом самом месте, где сейчас они стоят, выделывал то и то. Переехав в Харьков, он не изменился — серьезные работы перемежались с проказами.
А работы были и впрямь серьезны. Трое ленинградцев, променявших северный город на южную столицу Украины, могли гордиться успехами. В их институте строили могучий ускоритель заряженных частиц, равного ему не было во всем мире. И недавно четыре харьковчанина — Кирилл Синельников, Александр Лейпунский, Антон Вальтер и Георгий Латышев сообщили в печати, что воспроизвели знаменитый опыт Кокрофта и Уолтона по превращению одного ядра лития в два ядра гелия. Перестройка атомных ядер, начатая в Кембридже в лаборатории Резерфорда, нашла в Харькове впечатляющее продолжение. По общему мнению всех физиков, молодой харьковский институт — УФТИ, насчитывающий всего пять лет существования, стал самым крупным в стране центром ядерных исследований. И, подчеркивая это общепризнанное значение исследований в их институте, Синельников сказал:
— Расскажем, Игорь, будет, что послушать. Между прочим, ты писал, что хочешь возобновить совместные наши работы. Мне кажется, вести их лучше в Харькове, а не в Ленинграде. Как по-твоему?
Еще в те годы, когда Синельников работал в Ленинграде, он вместе с Курчатовым начал несколько исследований. Завершались они, когда значительная часть ленинградских физиков — Обреимов, Вальтер, Лейпунский, Синельников, Ландау — переехала на юг, составив научное ядро вновь организованного института. Кирилл Синельников в те последние ленинградские годы породнился со своим другом и сотрудником — Курчатов женился на Марине Дмитриевне, сестре Кирилла: дружба двух физиков, и до того прочная, стала крепче и сердечней.
У Иоффе имелось несколько любимцев, он часто говорил, что ждет от каждого серьезных научных свершений. Кирилл Синельников шел, вероятно, первым в этом небольшом списке. Он стажировался у Резерфорда, вернулся доктором Кембриджского университета с обширным планом работ, умением ставить сложные эксперименты и женой-англичанкой, веселой и добродушной Эдди. О том, как он попал в Кембридж, друзья Кирилла не уставали с восторгом вспоминать. Резерфорд принимал в сотрудники лишь тех, кого видел и с кем предварительно говорил. Кирилл поехать в Англию для знакомства не мог и выслал в Англию свою фотографию. На фото красовался парень, сильно смахивающий не то на ленинградского хулигана с Лиговки, не то на одесского босяка с Молдаванки — худое энергичное лицо, лихо скособоченная кепчонка, папироска во рту, насмешливая улыбка... Резерфорд пришел в восторг: приглашение в Кембридж было выслано незамедлительно.
Курчатов, улыбаясь, ответил шурину:
— В Харькове — хорошо. Но и в Ленинграде — неплохо. Будем вести совместную работу и там и тут. — Машины остановились. Курчатов показал на толпу, осаждавшую вход в здание: — Знамение времени! Даже я не ожидал такого интереса к ядру.
За «линкольнами» подъехала скромная машина Иоффе. Академик удивленно покачал головой, увидев, что творится у входа. Трудности предусматривались разнообразные. Приглашенные из других городов могли не приехать или опоздать, на всех участников могло не хватить мест в гостиницах, транспорта могли выделить мало.
Случилось то, чего не опасались. На конференцию валом валили люди, не получившие пригласительных билетов, — студенты, преподаватели школ и вузов, научные работники, инженеры. Проблема была локальная: одна из абстрактнейших тем новой физики, в ней пока мало кто разбирался, а интерес к ней оказался всеобщим. «Вторгаемся в ядро!» — задорно прокричал чей-то голос, когда Иоффе пробирался сквозь толпу. Призыв был подкреплен действием — на сторожей поднаперли, многим безбилетникам удалось прорваться в конференц-зал: организаторам это показалось гораздо более тревожным, чем если бы они вторглись в ядро.
— Не проверять же у каждого в зале билеты, — озабоченно сказал Курчатов теоретику Матвею Бронштейну, одному из организаторов. — А если так будет продолжаться, на участников конференции не хватит стульев.
— Постоят, — пробормотал Бронштейн — Еще лучше будет видно. Впрочем, многие уйдут в президиум, освободятся места. Кстати, тебе идти в президиум.
Бронштейн присоединился к группке молодых физиков, стоявших у стены. Все были из ленинградского Физтеха, все приятельствовали — и разительно не походили один на другого: плотный, крупногубый Кобеко хохотал, выслушивая язвительные шутки Арцимовича, — тот все время острил, актерски меняя лицо; худощавый Харитон сдержанно улыбался, не показывая ни одобрения, ни осуждения; Алиханов хмурился, взмахивая кудрявой головой, — он, похоже, не считал, что надо всем нужно подшучивать. За ними, прижимаясь к стене, как бы стараясь в нее вдавиться — видимо, от смущения, — стоял черноволосый очкастый юноша, вероятно, студент. Он старательно высовывал из кармашка пригласительный билет — наверно, побаивался, как бы не заподозрили, что он пробрался сюда нахрапом.
— Вы в зале образовали свой президиум, хотя пока и не президиумного ранга. Все на вас посматривают, — сказал Бронштейн физикам. — Давайте займем места.
— Матвей, почему вас прозвали аббатом Куаньяром? — насмешливо поинтересовался Арцимович. — Куаньяр любил вино, острое слово, женщин. Ничем подобным вы не блещете. Предлагаю переименовать вас в Ментора.
— Хоть в черта, только, пожалуйста, садитесь.
На призыв раньше всех отозвался юноша. Он плюхнулся на ближайший свободный стул. Приглашенные в президиум занимали места. В центре сел Иоффе, рядом президент Академии наук Карпинский. Весь первый ряд заняли гости из-за рубежа — Жолио, Перрен, Грей, Разетти, между ними — академики Вавилов и Чернышев, позади — народ помоложе: Френкель, Скобельцын, Гамов, Курчатов, Лейпунский, Иваненко. Иоффе постучал карандашом о графин — на столе стоял и председательский колокольчик, но карандаш был привычней — и объявил конференцию открытой. Все происходило как на любом торжественном заседании: аплодисменты зала, вступительное слово председателя о начавшейся в мире научно-технической революции — одним из важных ее моментов является бурное развитие науки об атомном ядре и космических лучах — и снова аплодисменты.
Первый докладчик, Фредерик Жолио-Кюри, пошел на трибуну. Вставший рядом Френкель переводил с французского на русский. Не поспевая за бурно несущейся речью, он сделал умоляющий жест — Жолио заговорил медленней. Ему шел тридцать третий год, но из зала, издалека, он казался не старше тех студентов, что осаждали конференц-зал и теперь, затаив дыхание, впивались в президиум восторженными глазами. И седовласый Карпинский, и величественный Вавилов, и пожилой Чернышев, академики, создатели собственных школ, увлеченно вслушивались в описываемые докладчиком удивительные эксперименты, увлеченно всматривались в его нервно меняющееся, удивительно молодое лицо.
— Да, год великих открытий, минувший тридцать второй, начал в физике новую главу, — говорил Жолио. — Поворотная веха — обнаружение нейтрона. Можно лишь поражаться, как долго не догадывались, что сотни экспериментов, десятки ядерных реакций порождают эту замечательную частицу.
И он в подробностях описывал, как бомбардировки разных элементов альфа-лучами вызывают выброс нейтронов из атомного ядра. У них, в институте Радия в Париже, руководимом великой исследовательницей радиоактивности госпожой Марией Склодовской-Кюри — он имеет высокую честь быть ее зятем, — недавно установили, что под действием альфа-снарядов, выбивающих из ядра нейтроны, бериллий превращается в углерод, азот во фтор, натрий в алюминий... Вот оно, реальное осуществление вековой человеческой мечты о превращении одного элемента в другой! Начало этому замечательному преобразованию элементов положил еще в 1919 году Резерфорд, превративший азот, бомбардируемый альфа-частицами, в кислород и водород. Они продолжают эти великие работы Резерфорда.
Жолио поклонился, направился на свое место. Зал, два часа в молчаливом напряжении вникавший в доклад, разразился аплодисментами. Иоффе торжественно объявил, что сообщение Жолио прозвучало фантастической сказкой. Но это не сказка, это реальность, это сегодняшний день науки! Теперь можно покурить, предложил он. Зал загудел, устремился к дверям.
Молодые физики, не выходя, делились впечатлениями.
— Эксперименты у парижан отличные, но меня удивляет, что сами они вначале и отдаленно не поняли всего их значения, — говорил Арцимович. — Вдумайтесь только! Боте с Беккером три года назад открыли какое-то непонятное новое излучение. Жолио подробнейшим образом его исследовал. И не догадался, что имеет дело с нейтронами. Вышло так, что он как бы препоручил открытие нейтронов Чадвику, который только повторил в Кембридже эксперименты Жолио. Чудовищный пример научной слепоты! По сути, он стал знаменит именно потому, что не открыл нейтронов. А ведь физик сильный!
— Нормальное явление, по-моему! — Кобеко дружеской улыбкой постарался превратить сарказм Арцимовича в простую шуточку. — Кто из нас не совершал великих открытий — я подчеркиваю это «не». Меня часто томит ощущение, что я что-то великое создал, только не дознаюсь, что именно?
— Фредерик Жолио стоит на пороге великого успеха! — запальчиво воскликнул Алиханов.
— И есть доказательства? — скептически поинтересовался Арцимович.
— Жолио глубоко чувствует физику. Это не каждому дано.
— А нам с тобой дано?
По лицу Арцимовича было видно, что он вспылил и готовится дать сдачи. Кобеко предостерегающе поднял руку.
— К нам мчится со скоростью пули Гамов.
Из президиума, бесцеремонно расталкивая толпящихся в проходе, торопливо шел Гамов. На него оглядывались, с уважением уступали дорогу. Недавно он выпустил книгу о строении атомного ядра и радиоактивности, она сделала его имя известным в научных кругах — в Англии и Германии вышли переводы, об открытых им ядерных эффектах спорили в научных журналах. Академия наук выбрала его в членкоры, поговаривали, что вскоре выдвинут и в академики. Он сам со смешком признавался: «Делаю стремительную научную карьеру, други мои!» Он посмеивался над собственными успехами, это была одна из его странностей.
Он и внешностью своей поражал. Почти двухметрового роста, широкоплечий и узкобедрый, с маленькой головой, длинноволосый, рыжевато-золотистый, он был так близорук, что, снимая очки, двигался как незрячий. А за очками сверкали веселые, озорные глаза. Его приятель Бронштейн как-то пошутил: «Вы без очков, Джонни, способны видеть сны?» Казалось, при таком зрении он должен осторожно лавировать в толпе, быть неторопливым. Гамов двигался стремительно. Он был ловок и силен — отличный лыжник, лихой автомобилист.
Подойдя, он заговорил таким тонким голоском, что некоторые выходящие из зала удивленно оглянулись, кто-то даже прыснул.
— Подвинься, Люся! — Гамов толкнул Харитона и сел на его место, — Амбарчика не видали? Удивительная вещь, нигде не нахожу его. Кое-какие мысли насчет эволюции звезд — Вдруг полоснуло! Хочу поделиться, пока не забылось.
Он говорил о молодом астрономе Викторе Амбарцумяне, тот недавно стал известен среди астрофизиков разработанной совместно с другим их приятелем, Николаем Козыревым, теорией звездных атмосфер.
Гамов любил знакомых называть прозвищами. Юлий Харитон был Люсей, Игорь Курчатов — Гарри, Бронштейн — Аббатом, Амбарцумян — Амбарчиком, Иваненко — Димусом, Ландау — Дау, Алиханов — Абуша. Сам он откликался на прозвище Джонни.
Арцимович сказал с иронической серьезностью:
— Разве вы не знаете, Георгий Антонович, что, если бы Амбарцумян появился в зале, его немедленно пригласили бы в президиум? Аристотель говорил, что каждая вещь в мире имеет свое естественное место. Ваше естественное место — Парижские бульвары. У Амбарцумяна два естественных места: когда он среди людей — президиум, не важно какой, важно, что президиум; а когда один — астрономическая башня. Если его не было рядом с вами в президиуме, значит, звезды его интересуют больше, чем наши докладчики.
Бронштейн подхватил шутку:
— И так как доказано, что ваше естественное место бульвары Парижа, а не президиум, то я бы на вашем месте, Джонни, поскорей убрался со сцены. Тем более что вид ваш не восхищает.
Гамов с испугом оглядел себя.
— Где не в порядке? Мне кажется — норма... Вы врете, Аббат!
Он был одет как иностранный турист — светлые в клеточку пиджак и бриджи; красные чулки подчеркивали солнечную желтизну остроносых туфель.
— Норма — не по сегодняшней лондонской моде, — хладнокровно изрек Бронштейн. — Даже захудалые лорды уже не носят таких костюмов для верховой езды. И потом цвет ваших волос, Джонни, возмутительно не соответствует цвету чулок. Волосы эмоционально отстали от чулок. Вы возвратились к натуральной — от родителей — масти. А ведь недавно красовались очаровательно малиновой шевелюрой.
— Выцвели! — Гамов огорченно провел рукой по волосам. — Я мало купил этой чудной краски в прошлую поездку. Первое, что сделаю через месяц, в Брюсселе, раздобуду такой же. Десять флаконов. На такое дело не жалко валюты. Но я пришел к вам, други мои, не для спора о волосах. Начините меня политикой. Перрен спрашивает, какое впечатление произвел у нас Эррио. Ну, кто такой Эррио, я знаю. Министр или что-то в этом роде. В общем, физикой не интересуется, естественно, и я им не интересовался. Но разве он был в Советском Союзе? И до сих пор здесь? Лев, вы все в мире знаете, расскажите, пожалуйста.
Арцимович, подмигнув друзьям, с издевательской серьезностью «начинял» Гамова: «Видный французский политик Эдуард Эррио месяц назад приезжал к нам, побыл с неделю и убрался восвояси. Переворота в физике от его визита не произошло. Был недавно и другой французский политик, Пьер Кот. Этот тоже чужд физике. В Москву прилетел американский летчик Чарльз Линдберг, у него с физикой нейтралитет — признает ее в той мере, в какой она не мешает летать. В Москве строится метро. На Урале, в Уфалее, пущен никелевый завод. В „Новом мире“ печатается „Петр Первый“ Алексея Толстого, неплохая вещь. В стратосферу летит стратостат „СССР“ с Прокофьевым, Бирнбаумом и Годуновым. И вообще у нас Советская власть, а за границей — капитализм. Между прочим, в Германии, в бывшем культурном городе Лейпциге...»
— Хватит! — Гамов вскочил. — Теперь я заряжен на час непринужденного политического разговора. Тысяча благодарностей!
Арцимович хмуро смотрел вслед Гамову.
— Удивительный человек, — со смехом сказал Алиханов. — Такая наивность, а ведь можно сказать — великий ученый. Во всяком случае, обещает быть им.
— Не все обещания выполняются, — зло возразил Арцимович. — И в наивность его не верю. Равнодушие! Его занимает только он сам — его работа, его мирок. Все мы для него — детали окружения. И только как таковые имеем ценность.
Он вышел, оставив товарищей в зале, с минуту прохаживался в коридоре. Невысокого, плотно сбитого Льва Арцимовича друзья звали Пружиной: что-то от пружины и впрямь было в его упругом шаге, быстрых четких движениях рук (далекие его белорусские предки носили фамилию Дружина-Арцимовичи, возможно, на прозвище отразилось и созвучие с фамилией). Двадцатичетырехлетний физик казался старше своих лет. Он был из молодых да ранний — постарался внести разнообразие в свою чинно протекавшую биографию: после школы — сын профессора в Минске — удрал с беспризорниками, вольная жизнь ему быстро надоела, он вернулся домой, с блеском досрочно закончил университет и — еще студентом — вел семинар по математике. Приехав в Ленинград, он определился в лабораторию Алиханова — тот был старше на пять лет — и быстро выделился среди других физиков удивительной эрудицией, сверкающим остроумием, блестящим, но злым — попасть ему на язык побаивался и сам Алиханов, — и умением читать лекции, захватывающие всех слушателей.
В коридоре к Арцимовичу несмело подошел темноволосый юноша.
— Лев Андреевич, разрешите спросить. Этот иностранец, он из какой страны?
— Он такой же иностранец, как мы с вами. Это Гамов
— Гамов? Такой замечательный физик! Я читал его книгу об атомном ядре. Блестящая работа! Но мне кажется, его теория энергетических уровней ядра кое в чем уязвима.
Арцимович внимательно посмотрел на юношу:
— Вы меня знаете, а я вас что-то не припоминаю. Вы из Физтеха? Ваша фамилия?
— Нет, я студент Политехнического института. — Юноша, побагровев от смущения и поспешно поправляя сползающие с носа очки, поспешно добавил, чтобы придать себе солидности: — Перешел на второй курс. Моя фамилия Померанчук. Я слушал одну вашу лекцию.
— И тоже нашли в ней уязвимые места, как в книге Гамова?
Померанчук посмотрел с таким удивлением, что Арцимович рассмеялся и похлопал его по плечу.
Поток людей возвращался в зал. Арцимович занял прежнее место На трибуну вошел Скобельцын. Он докладывал о космических лучах. Это странное излучение, льющееся неизвестно откуда, содержит частицы такой огромной энергии, какие ни разу не встречались в ядерных процессах на Земле. Возможно, решение глубочайших тайн ядра придет из космоса, из звезд — величайшей ядерной лаборатории Вселенной...
— Сделано важное открытие: нашли загадку! Выяснили, что темно, — саркастически прокомментировал соседям Арцимович.
— Следующее заседание — в Физтехе, — объявил Иоффе.
В зале возникло два встречных движения — большинство торопилось из зала, организаторы конференции и часть физиков пошли на сцену, к гостям. Иоффе подозвал к себе Курчатова и Иваненко, отвел их в сторону и сказал, понизив голос:
— Хочу вас порадовать, товарищи организаторы. Я уладил в Смольном вопрос о полном продовольственном обеспечении конференции. И качество обедов обещают держать на высоте! Утром в столовую пришел дополнительный грузовик с продуктами. Не черная икра, конечно, но есть колбаса, свежее мясо, ветчина, яйца, сметана...
— Роскошь! — восторженно воскликнул Иваненко. — Я давно не слышал таких хороших слов — ветчина, сметана... Теперь перед иностранцами не только на трибуне, но и за обеденными столами не ударим в грязь лицом.
— А я уже собирался, садясь с Жолио за стол, со вздохом сказать: «Временные трудности, они же трудности роста», — пошутил Курчатов.
Все трое засмеялись. Фразы «трудности роста» и «временные трудности» уже года два стали ходячими. Теперь можно было обойтись без таких оправданий.
Иоффе посмотрел на сцену.
— Молодежь атакует Жолио. Идемте на выручку.
Жолио, окруженный группой слушателей, отвечал на вопросы. Иоффе предупредил, что дискуссия состоится в актовом зале Физтеха на следующем заседании, но физики требовали ответов немедленно. Кто-то спросил, почему нейтрон открыли в Кембридже, а не в Париже. На худощавом лице Жолио проступила краска. Подошедший Иоффе, выручая растерявшегося гостя, возвысил голос — не надо преждевременно разжигать дискуссии, пора, пора расходиться! Но Арцимович, подхватив отведенный Иоффе вопрос, твердо поставил его вновь. Не только их в Ленинграде, но, вероятно, и всех физиков мира удивляет, почему, собственно, Чадвик открыл нейтроны, а не Жолио и его жена Ирен Кюри. Они поставили классические опыты по бериллиевому излучению и не догадались, что это таинственное излучение — нейтроны. Не открыли собственного открытия! Почему стал возможен такой парадокс?
Жолио сначала отвечал любезно, с вежливой улыбкой, через минуту не было ни картинной вежливости, ни холодной любезности, он вслух размышлял, объяснял себе и слушателям, как получилось, что они в Париже, можно сказать, держа нейтроны в руках, не увидели их, а Чадвик в туманном Кембридже увидел. Но парадокса тут нет. Все закономерно. Все естественно. Только естественные закономерности эти скорей из области психологии, чем физики.
— Вспомните, что само слово «нейтрон» уже было произнесено гениальным Резерфордом в 1920 году во время одной из его лекций. Резерфорд применил слово «нейтрон» для обозначения гипотетической нейтральной частицы. Однако большинство физиков, в том числе и мы, не обратили внимания на эту гипотезу. Но она все еще блуждала по зданию лаборатории Кавендиша, где работал и Чадвик, и вполне естественно и справедливо, что последняя точка в открытии нейтрона была поставлена именно здесь. Идеи, высказанные когда-то нашими учителями — как живущими, так и уже ушедшими от нас, — много раз вспоминаются и снова забываются в их лабораториях, сознательно или несознательно проникая в мысли тех, кто постоянно там присутствует. Постепенно эти идеи созревают: тогда совершается открытие.
Он оглядел посветлевшими глазами физиков.
— Вот если бы мы, в Парижском институте Радия, проглядели новую форму радиоактивности, был бы и вправду парадокс. Ибо где еще, как не у нас, так все наполнено идеей радиоактивности? Радиоактивность — фамильное «привидение» нашего института, оно живет в его стенах, блуждает по его комнатам. Отличная призрачная леди, не правда ли?
Иоффе замахал руками — хватит, хватит вопросов!
Он взял Жолио под руку и повел к автомобилю. Грей удалился раньше, он приехал из Лондона со слепой женой и тревожился, как она чувствует себя в гостинице. Гамов тоже потянул Курчатова в машину.
— Я поеду в Физтех, — сказал Курчатов. — Я ведь председатель оргкомитета. Надо посмотреть почту, подготовить транспорт на завтра, проверить, доставлены ли полностью продовольственные талоны...
— Я провожу вас, Гарри. Поболтаем.
Курчатов, когда они остались одни, заговорил:
— Начало отлично, правда? Два прекрасных доклада!
— Отличное, отличное! Странно, если бы шло по-другому. Слушайте, Гарри, вы стояли неподалеку, когда Димус о чем-то заспорил с академиком. О чем они говорили?
Курчатов с удивлением посмотрел на Гамова.
— Иоффе хотел куда-то услать Иваненко, а тому не терпится повстречаться с Дираком. А почему вас это интересует?
— Димус смертно обижен. Я бы сам на его месте... Ведь на Сольвеевский конгресс еду я, а не он. Академик высказался за меня, хотя я сотрудник Хлопина, а Иваненко работник Иоффе... Вам он не говорил, что недоволен?
Курчатов пожал плечами И слова не было! Возможно, Иваненко обижен, но хранит обиду про себя! Да и какие обиды? На Сольвеевский конгресс соберутся два десятка крупнейших исследователей атомного ядра. Конечно, заслуги Иваненко неоспоримы. Но разве Гамов не имеет заслуг в науке о ядре?
Гамов удовлетворенно мотнул головой.
— Вы меня успокоили, Гарри. Обидно было бы, если бы что-нибудь помешало... А насчет заслуг вы правы: что мое, то мое. Френкель вот тоже ходатайствовал за меня, а у него сейчас такой авторитет у начальства!
Некоторое время они шагали по набережной молча. Солнечный день переходил в ясный вечер. На земле темнело, на небе сияли яркие облака Небо пылало, как подожженное. Над Финским заливом бушевал закат, он обещал отличную погоду на завтра. Гамов спросил:
— А вам не хочется поехать за границу?
— Почему такой вопрос?
— Я знаю, что Иоффе выхлопотал для вас годичную командировку к Резерфорду, а вы отказались. Люська ездил, ваш шурин Кирилл Синельников, Лейпунский собирается ехать... А вы отказались. Удивительно!
— Была интересная работа, не хотелось прерывать.
— Там вы не могли работать? У Резерфорда?
— Там была бы другая. Не люблю бросать, что начал. И главное ведь в самой работе, а не где ее делать.
— Не скажите! Я слушал Жолио и Скобельцына... И радовался за себя и жалел вас. Всех вас — экспериментаторов!
— Не понимаю...
— Я теоретик, что мне нужно? Извилины в голове, карандаш и бумага. И все! А что за окном — Ленинград или Париж, Харьков или Стамбул, Прага или Копенгаген, дождь или снег, жара или холод — плевать, было бы в комнате уютно. Экспериментаторы — иной коленкор. Вы привязаны к зданиям, механизмам, штатам работников, к промфинпланам, так, кажется, называется эта штука. И до слез жалко! Насколько в том же Париже или Кембридже условия для экспериментаторов лучше! Нет, не верю в серьезную экспериментальную физику у нас. Не будет советских резерфордов, рентгенов, кюри. Один Иоффе — да и тот в основном сложился в Германии. Вы скажете — еще Мандельштам. Но и он не Резерфорд. А теоретики есть! Не хочу ни хвалить, ни хулить, но ведь возьмите Френкеля, меня, Фока, Ландау, Тамма, да мало ли еще кого! Разница!
— У вас культ иностранщины.
— Отрицаю с порога! Ни в одном глазу! А если на Западе удобств больше, значит, там ученому лучше.
— Иначе, не культ иностранщины, а культ жизненных удобств? Отсюда недалеко и до латинской пословицы: ubi bene, ibi patria[1].
— Не хотите понимать! В культе чему-то поклоняются, а я лишь требую фундамента для работы. Были бы у меня условия, как у Бора, как у Гейзенберга, как у Дирака, я бы такое показал!
— Ньютона переплюнул?
— Себя осуществил! Понимаете, осуществил, к чему природой предназначен! Все, на что способен, выложил бы. А здесь? Завтра побегу выкупать по сентябрьскому талону дополнительную пайковую картошку. И еще поблагодари, что дают десяток килограммов сверх обещанного! Это ли условия для ученого? Вы не согласны?
— Боюсь, что согласие у нас с вами, только когда вы говорите о физике, — холодно сказал Курчатов. — Чуть выходим за рамки теории атомного ядра — сплошные расхождения.
— Я не агитатор, обращать в свою веру не буду. Своего никому не навязываю.
Некоторое время они двигались молча. Курчатов шел к Литейному мосту. Можно было сесть на трамвай или автобус, чтобы скорей добраться в Физтех, но Курчатов любил ходить пешком по дворцовым набережным Невы. Разговор, казалось, был закончен. Гамов выяснил, что его интересовало, но продолжал идти с Курчатовым рядом, хмуро о чем-то размышляя. Курчатов заговорил первый:
— Я слышал, в вашем институте проектируется циклотрон лоуренсовского типа, и притом гигантских размеров? И что собираетесь обходиться без помощи американцев в этом деле? Верно?
Гамов о физике всегда говорил с охотой, а к тому же надо было сгладить неприятное впечатление от разговора о командировке в Брюссель. Он оживился. Все верно! Мысль о магнитном ускорителе появилась у Льва Мысовского, он ведь возится с космическими лучами, где обнаружены частицы просто невероятных скоростей и энергий. Он давно уже мечтает получить и в лаборатории протоны с такими же скоростями.
— У нас хотели взять конструкцию попроще, но он настоял на резонансном магнитном ускорителе. Смело, правда? В Америке пока один такой ускоритель, в Беркли у самого Лоуренса, еще два-три строятся. В Харькове, я слышал, тоже проектируют ускорители, вы, Гарри, говорят, участвуете в этой работе, но там ведь «Ван-Граафы», электростатические машины, а не резонансные. Мне кажется, возможности у «Ван-Граафов» куда поменьше. Как по-вашему, Гарри? Размах, вот что меня, признаюсь, покоряет! Не только единственный циклотрон в Европе, но и самый крупный в мире! Звучит! Лев Владимирович просил меня о всяческой помощи. Мне-то что, я с душой... Содействием в Ленинграде он сам заручился, но ведь мы институт наркомпросовский, а Наркомпрос хозяин бедный. Ну, я в Главнауке потолкался, двести тысяч нам выделили, магнит делают на «Электросиле». Тоже махина — десятки тонн!
— Странно немного, — задумчиво сказал Курчатов. — Институт радиевый, возитесь с миллиграммами радиоактивных веществ, а ускоритель разрабатываете такой, что самым крупным ядерным центрам мира остается только завидовать.
Гамов энергично покачал головой. Ничего странного, все нормально. Надо знать характер руководителей института Вернадского и Хлопина — и все станет ясно, как на ладони. Владимир Иванович Вернадский ведь кто? Ну, академик, знаменитость, а по натуре? Мечтатель, прозорливец, чуть ли не научный пророк. Он еще в доисторические времена, задолго до первой мировой войны писал, что близится эра атомной энергии. В открытии нейтрона он увидел поворотный пункт всего научного развития А Виталий Григорьевич Хлопин, заместитель Вернадского, — характер в человеческом смысле совершенно другой, а во взглядах на науку такой же.
— Выражается это у каждого по-разному, так и кажется — противоположности, — с увлечением говорил Гамов, — а вглядишься внимательней — единство! Я к ним присматриваюсь, хоть и врут про меня, что занят только своими работами. Вы не были, Гарри, на прошлогодней конференции по радиоактивности в нашем институте? А жаль! Не Сольвей, конечно, даже не эта наша конференция, но ведь была ровно год назад, в ноябре, а вопросы во многом те же, кое в чем, я скажу даже так, и дальше заглядывали, чем сегодня.
— Дальше, чем в докладе Жолио? — с недоверием спросил Курчатов.
— Именно! Не верите, посмотрите протоколы. Вернадский, например, во вступительном слове чуть не ошеломил: кончается эпоха электричества, начинается эпоха атомная, кончается эра изучения существующих элементов, начинается эра синтеза элементов еще небывалых. Каково? А Хлопин в докладе поставил перед физическим отделом института эдакую легонькую задачку — создать искусственную радиоактивность, нельзя, де, уповать на один радий, его слишком мало, он слишком рассеян в земных породах. И новый ускоритель как раз и предназначен для этой цели. Впечатляет?
— Жолио о синтезе искусственных радиоактивностей не говорил, но преобразование обычных элементов стало в его лаборатории отработанной операцией, — напомнил Курчатов.
— Разве я возражаю? Доклад сильный. Слушал с удовольствием, даже похлопал.
У Марсова поля они остановились. Гамову надо было поворачивать на проспект Красных Зорь, там на углу улицы Рентгена стояло четырехэтажное здание Радиевого института, где он жил. Подошел второй номер трамвая, Гамов посмотрел на него, но не торопился садиться. Может быть, Курчатов поедет с ним? Ро приготовит чаю, найдутся и погорячей напитки. Ро сейчас в отличном настроении, ей давно хотелось поглядеть на Европу. Она уж постарается показать, что не лишена кулинарных способностей. Курчатов решительно замотал головой. Только не сегодня, когда-нибудь в другой раз. Выразительное «когда-нибудь» прозвучало как «никогда». Гамов сокрушенно пожал плечами. Физики дружно сторонились Любови Николаевны Вохминцевой, красивой, модно одевающейся женщины, недавно ставшей его женой: Курчатов исключения среди них не составлял. Гамов называл жену странным прозвищем Ро, старался со всеми познакомить, ввести в свои дружеские компании, но ее мало интересовало, чем живут друзья мужа, — контакт не получался.
Курчатов пошел дальше. Гамов повернул на трамвайную остановку, рассеянно любовался закатом. На западе еще играли краски, быстро надвигавшаяся ночь стирала их. На набережной зажглись фонари, они бросали свет на потемневшую спокойную Неву. Курчатов со смесью досады и грусти думал о Гамове. Как странно в этом человеке переплетается житейская легкомысленность, политическая инфантильность и научная глубина! В какую скучную пошлятину он пустился, разглагольствуя о жизненных благах, — вероятно, влияние молодой, красивой и, по всему, властной жены — и как загорелся сразу, чуть заговорили об ускорительных установках. Может быть, он и прав — и возводимый у них циклотрон лучше тех, что строятся в Харькове с его, Курчатова, помощью? Одно досадно — машина эта создается в Радиевом институте; у них, в Физтехе, она была бы, пожалуй, уместней! К сожалению, физтеховцам о таких установках сегодня и не мечтать! Курчатов вздохнул и засмеялся. Совсем еще неясно, где такие машины уместней. В Радиевом институте изучают радиоактивность, типичное ядерное явление, у них и крупнейший теоретик атомного ядра, этот самый Гамов, а в Физтехе что? Физика твердого тела, а ядро — так, побочное увлечение, ничего серьезного пока не сделано — да и не предвидится! К тому же взять зарубежные примеры. Жолио, например. Тоже работник Радиевого института, но именно там, у Марии Кюри, открывшей радий, всех глубже проникают в тайны ядра.
4
Всех гостей встречали радушно, Поля Дирака — восторженно. Это он «на кончике пера» открыл позитрон — вернее, не открыл, а изобрел удивительную частицу, по массе равную отрицательно заряженному электрону, но с зарядом положительным. Физики старой школы пожимали плечами, очень уж невероятной казалась эта частица, ее называли «дыркой». Уродливый плод безудержной математической фантазии! Но в «год великих открытий» в разных странах сфотографировали следы полета позитрона. То, что презрительно окрестили математической фикцией, теперь называлось научным подвигом.
Дирак жал руки, растроганно благодарил, отвечал на вопросы корреспондента «Известий». Нет, он не впервые в Советском Союзе. Пять лет назад он участвовал в VI Всесоюзном съезде физиков, заседания начались в Москве, продолжались на пароходе во время туристской поездки физиков из Нижнего Новгорода в Астрахань по великой русской реке Волге. Никто и не подозревал в тот год, что не так уж далеко время, когда его математические абстракции обретут физическую плоть, но среди русских физиков он встретил понимание. Ваша страна фантастично новая, здесь царствует культ новизны — и в социальных отношениях, и в науке: смелую мысль встречают не с недоверием, а с интересом. У вас не могут не совершаться открытия, все окружение — питательная среда для бега в неизведанное. Он желал бы, чтобы в проблеме атомного ядра объединились усилия двух великих стран — Англии, знаменитой своими культурными традициями, и вашей страны с ее широтой, с ее духом революции. Ученому у вас легко дышится, у вас атмосфера уважения к науке. Какой он предложил доклад? Конечно же, о теории позитрона. Именно об этом просили организаторы конференции.
Конференция между тем продолжала работу.
Во время перерыва Иоффе подозвал Иваненко.
— Завтра председательствуете вы. Придите в Физтех пораньше, уточним регламент дискуссий и поездок.
Утром Иваненко за час до начала заседания прошел к Иоффе. Директор Физтеха ходил по кабинету. Иваненко перепугался — Иоффе выглядел подавленным. Он показал на стол.
— Прочтите телеграмму.
В телеграмме из Лейдена сообщалось, что директор Лейденского института профессор Пауль Эренфест 25 сентября 1933 года скончался.
Потрясенный, Иваненко молча смотрел на белый листок с трагическим сообщением. Он хорошо знал Эренфеста. В его комнате висела дорогая фотография — группа харьковских физиков вокруг почетных гостей — супругов Эренфест и Иоффе. Иваненко — юноша еще — сидит у ног Эренфеста, тот ласково положил ему на плечо левую руку, он как бы подталкивает молодого физика вперед.
— Абрам Федорович, здесь не сказано, отчего умер Павел Сигизмундович?
Иоффе горько усмехнулся.
— Уверен, что покончил с собой. Я давно опасался этого страшного конца.
Иваненко не мог оторваться от телеграммы. Такой жизнерадостный человек, такой уважаемый ученый, директор знаменитого института, член многих академий — что могло подтолкнуть его к самоубийству? Иоффе ходил по кабинету и говорил, он беспощадно нанизывал звенья аргументов, и они складывались в безотрадную цепь. Между внешней научной блистательностью жизни Эренфеста и глубинной ее сущностью всегда был разлад, с годами разлад усиливался. Безнадежно больной старший сын воистину был крестной ношей. Но не только в семейных горестях надо искать причины ухода Эренфеста, они глубже. Эренфест не верил в свои творческие силы, он с болью ощущал, что рядом со своими великими друзьями Бором, Эйнштейном, Лоренцом он второстепенен. Они были творцами новых путей, а он? С годами ложное ощущение собственной творческой неполноценности трагически усилилось. Десять лет назад в Геттингене он ради шутки обучил попугая фразе: «Aber das ist keine Physik, meine Herren![2]» — эту фразу часто твердили старые физики энтузиастам квантовой механики — и приносил попугая на семинары, чтобы посмеяться над выходящими в тираж стариками. В последнее время он страшился, что сам превращается в такого старика. Он говорил, что кафедру Лоренца должен был бы занять более сильный ученый.
— Он обсуждал со мной возможность переезда к нам. Вы ведь знаете, он любил нашу страну, считал, что мы сможем быстро достичь успехов, которые опередят западно-европейскую науку. Это его подлинные слова. Но он категорически отклонял Ленинград и Москву, Киев и Харьков, где видел физиков-теоретиков, которых считал выше себя. В особенности Ландау в Харькове, Тамма в Москве, Фока в Ленинграде он считал несравнимыми с собой. Он ставил вопрос о Свердловске, о Томске или Саратове, где надеялся быть полезным. Я собирался через месяц на Сольвеевском конгрессе вместе с друзьями, знающими его роль в развитии физики, воздействовать на него, поднять его дух. Но вот — мы опоздали... — Иоффе помолчал и печально добавил: — Я не смогу без слез сообщить о смерти Эренфеста. Придется это сделать вам.
Пока они шли в актовый зал, Иваненко наскоро составлял в уме сообщение о смерти Эренфеста. На всех прежних конференциях по физике в Советском Союзе рабочими языками были русский и немецкий, на этой впервые вместо немецкого решили ввести английский. Иваненко побаивался, что его английский словарный запас невелик и произношение не из лучших. Он зачитал телеграмму, предложил, запинаясь, почтить память выдающегося физика минутой молчания. Весь зал встал. В глазах Френкеля блестели слезы. Иваненко сказал:
— Продолжаем работу. Слово профессору Дираку.
Несколько слов Дирак произнес скованно, дальше речь полилась свободно. Люди появлялись и уходили в небытие, наука пребывала. Дирак не сообщил ничего, о чем бы слушатели не знали, он воспроизводил лишь ход мыслей, приведших к открытию позитрона, предлагал свое толкование основных проблем мироздания: физика сливалась с философией. Над залом взмывали руки — физики брали слово, садились, снова вскакивали, повторно, в третий и четвертый раз рвались на трибуну.
— Будете выступать? — спросил Иоффе Курчатова и Синельникова. Они сидели рядом с ним.
— Воздержусь, — ответили оба разом, а Синельников добавил: — Мы подождем второго доклада Жолио.
Второй доклад Жолио назывался «Возникновение позитронов при материализации фотонов и превращениях ядер».
— Итак, материализация фотонов, — с улыбкой сказал Арцимович Алиханову. — Формулировочка — кулаком по лбу! Возможно, здесь нас ошеломят теми открытиями, которых ты ожидаешь от Жолио.
Жолио постарался оправдать самые пылкие ожидания. Смелые гипотезы сочетались с поразительными опытами. Еще никто в мире не наблюдал испускание позитронов при бомбардировке ядер альфа-частицами, а они такое явление обнаружили, утверждал докладчик. Частицу, появившуюся впервые на кончике пера их уважаемого коллеги Поля Дирака, уже не нужно искать в загадочных космических лучах, она приобрела вполне земной облик, она отныне естественный участник ядерных баталий, которые можно воспроизвести в любой лаборатории.
Алиханов восторженно прошептал, что его ожидания осуществились, даже скептик Арцимович согласился, что Париже совершено открытие огромного масштаба.
Иоффе поздравил Жолио с научным триумфом.
— Я надеюсь, вы коснетесь проблемы позитронного излучения через месяц на Сольвеевском конгрессе? — осведомился Иоффе после заседания.
— Именно об этом мы с Ирен и будем там докладывать, — ответил сияющий Жолио.
Курчатов вышел из Физтеха с Лейпунским и Синельниковым. Все были под впечатлением блистательного успеха Жолио.
— Завтра ваши доклады, друзья, — говорил Курчатов. — Будете рассказывать, как вы повторили опыты Кокрофта и Уолтона по расщеплению лития протонами?
Лейпунский с досадой сказал:
— О чем же еще? Чем богаты, тем и рады. Они открывают, мы воспроизводим... Все-таки кое о чем важном для будущего скажем. Вперед нас поведут не радиоактивные препараты, а ускорители. В физику надо вводить большие механизмы. Это основная проблема. А мы всё хватаемся за то, что легче.
— Коротки штанишки, Саша! Я хочу сказать — в физическом эксперименте мы пока в коротких штанишках. Будем догонять. Разбежимся — перегоним!
Он рассмеялся. Лейпунский не видел причин для веселья. Ему не до смеха. Он и восхищен, и огорчен докладом Жолио. Все-таки далеко парижане ушли вперед! Курчатов вспомнил забавную сценку. Мысль о конференции по ядру возникла у него на теоретическом семинаре. В комнате сидели Скобельцын, Алиханов, Бронштейн, Иваненко. Курчатов воскликнул: «Товарищи, давайте все заниматься ядром! Нет ведь сегодня в физике более важной проблемы!» — «А с чего начнем?» — «Начнем с того, что созовем всесоюзную конференцию!» И все захохотали. Смотрели друг на друга и хохотали. Иваненко воскликнул: «А сколько нас? Пять человек в Ленинграде, еще пять в других городах!»
— Но ты не оставил внезапно явившейся идеи? Это в твоем характере — начал, обязательно доведи до конца! И концом стала эта представительная конференция.
— Не концом, а началом работы, так я ее воспринимаю. Иоффе решил приурочить конференцию к пятнадцатилетию Физтеха, получил поддержку в Смольном. А я сочинял приглашения, которые подписывал Иоффе. И вот результат — сто семьдесят участников конференции. Сто семьдесят ученых! Даже если половина займется ядром — все равно внушительно! Вот теперь начнем по-настоящему углубляться в ядро! Конференция имеет успех — для многих неожиданно, для меня знаменательно.
— Для меня неожиданно другое, — сказал Синельников. — Ты председательствуешь на заседаниях, созыв конференции твоя инициатива. А в зале твое участие сводится к одному: «Слово предоставляется такому-то!» или «Ваше время кончается». Что за скромность? Тебя всегда называли Генералом. Что-то на генеральское твое поведение не похоже. Ни разу не выступить в прениях! И ведь ты уже с год вникаешь в ядро — с докладами выступал на семинарах, рассказывал о новых открытиях...
Курчатов ответил не сразу:
— С чем выступать? Вона какие люди! Творцы теорий, авторы замечательных экспериментов. А что я сделал своего в ядре? Рассказывать Дираку и Разетти, как излагал на семинаре их открытия? Нет уж, мне пока только слушать...
5
Участникам конференции раздали билеты на «Князя Игоря» в Мариинском театре. Иваненко сел между Жолио и Перреном — переводить на французский арии певцов. Задача выпала не из легких, он сам не очень ясно улавливал слова.
Жолио вначале терпеливо слушал пересказ, потом сказал:
— Я знаю содержание оперы, коллега Иваненко. Я два раза слушал «Князя Игоря» в Париже. И пел Шаляпин!
К театру подали автомобили, но Жолио с Перреном захотелось погулять по ночному Ленинграду. К ним присоединился Вайскопф. На улице было мало света и много прохожих. Жолио заметил, что, в отличие от немцев и даже от французов в провинциальных городах, русские не любят рано ложиться спать. И скудное освещение улиц не мешает оживленной толпе — явление на Западе немыслимое, там плохо освещенных улиц избегают. Здесь так много задумано сделать, что для всего ресурсов не хватает.
— Нехватки от избытка! — повторил он, наслаждаясь найденной формулой. — Нехватки материальных ресурсов от избытка жизненной энергии! «Никаких равнений на узкие места!» — разве не такие надписи на всех плакатах? В этой стране, совершившей величайшую революцию, все остается революционным — индустриальный бег, перевороты в сельском хозяйстве, сама психология.
— Между прочим, на вашем успехе в Ленинграде сказалась революционная психология русских, — заметил Вайскопф. — Им импонировал дух доклада. Неслыханное, невиданное — здесь такие оценки не настораживают, а восхищают. Сомневаюсь, чтобы вас так восторженно слушали в Берлине.
— В науке немцам раньше не был чужд размах, — возразил Жолио. — На Сольвеевском конгрессе нам с вами удастся проверить, сохранили ли ученые Гитлера вкус к революциям в науке.
— Мне такая возможность не представится, я не приглашен на конгресс. Но о научных вкусах ученых Гитлера я хотел бы поговорить.
Они подошли к «Европейской». Перрен удалился к себе, Вайскопф уселся с Жолио в ресторане за столик. Джаз Скоморовского играл цыганские романсы и аргентинские танго, перемежая их фокстротами. На площадке то лихо кружились, то томно вышагивали пары. Жолио спросил у Вайскопфа, что с ним: он выглядел больным. Вайскопф устало махнул рукой:
— Все мы больны, только одни сознают это, другие — нет. Наступает страшное время. Будущее видится мне в одном черном цвете. Читали вы сегодняшние газеты?
Жолио не видел свежих французских газет, а русским не владел. Вайскопф сказал, что в Лейпциге продолжается процесс о поджоге рейхстага. Наглый балаган! И это в Германии, где когда-то чтили юриспруденцию! Кто-то, возможно, скажет, что ученых, тем более физиков, не касается политическая борьба. Печальное заблуждение! Уже многие из университетских светил Германии поспешили солидаризироваться с организаторами лейпцигского позорища. Вайскопф не коммунист, избави боже, даже не социалист, просто свободомыслящий либерал, но он отдает себе отчет, что пришел час, когда ученый не может стоять вне политики. Если кто и захочет заточиться в башне из слоновой кости, его пинками выгонят из ненадежного убежища на беснующуюся площадь. Происходит неизбежное размежевание. Одни из Германии бегут, чтобы сохранить свободную душу, другие идут в услужение к нацистам. Середины нет.
Жолио задумчиво постукивал пальцами по столу. Вайскопф рисовал слишком уж мрачную картину.
— То, что происходит в Германии, — ее национальная трагедия. Во Франции она невозможна, — сдержанно ответил Жолио. — Кстати, я не так уж далек от политики, как вы думаете. Я поддерживаю социалистов, скоро, возможно, вступлю в их партию. Вы это хотели услышать, Виктор?
Нет, Вайскопф говорил не об этом. Он предвидел кровавую схватку. Мир катится к истребительной войне. В каждой новой войне возрастает роль ученых. Печальный пример Фрица Габера, изобретателя ядовитых газов, будет повторен, усилен, умножен. Физиков тогда принудят служить Молоху войны. И в первую очередь — немецких физиков. Но не только их! Наука интернациональна. Генералы Гитлера воспользуются успехами всей мировой науки, в том числе и работами Жолио, Перрена, Вайскопфа... Вот что его угнетает — он, Вайскопф, всей душой ненавидящий нацизм, невольно станет его пособником! Мысль о такой возможности приводит его в негодование и ужас!
Жолио с удивлением глядел на взволнованного Вайскопфа.
— Не отказаться же от науки на том основании, что ее результаты могут послужить злодеям! Постараемся, сколько это вообще возможно, не дать использовать свои работы в антигуманных целях.
Вайскопф взял себя в руки. Он, возможно, сгущает краски. Из Германии бежали его друзья, они теперь бедствуют в изгнании, еще хуже тем, кто остался в третьем рейхе...
— Да, от науки нам не отказаться. Но если наступит час, когда наши исследования захотят употребить во зло людям... Кто из нас обнаружит это, пусть предупредит других со всей строгостью и со всей честностью!..
Они разошлись по своим номерам.
...Ни один из них не мог в тот вечер предвидеть, что действительность окажется гораздо грозней, чем ее рисовал Вайскопф. И что уже недалек день, когда Вайскопф, эмигрировавший в Америку, с еще большей тревогой напомнит оттуда Жолио об этом их разговоре. И что Жолио, вступивший по возвращении во Францию в партию социалистов, разочаруется в политике этой партии, одобрившей мюнхенское соглашение с Гитлером. И что в годы войны Жолио встанет в ряды коммунистов и будет одним из руководителей французского Сопротивления — совместит дневную работу ученого в лаборатории с вооруженной борьбой партизана на ночных улицах Парижа...
6
Конференция шла к концу. И Бек из Праги, и Грей из Лондона, и Разетти из Рима прочитали свои доклады. Вайскопф рассказал о весеннем симпозиуме в Копенгагене. Темой там тоже было атомное ядро, но Вайскопф дал понять, что восторженные оценки, почти ликование на конференции в Ленинграде, весьма отличны от духа обсуждений в Копенгагене. Впрочем, тогда еще не были поставлены великолепные эксперименты парижан. С особым вниманием выслушали доклады харьковчан Синельникова и Лейпунского. В Харькове создавался новый мировой центр экспериментальной физики, только так следовало оценить эти доклады.
Лейпунский, как и обещал Курчатову, заглядывал вперед. Его сильное лицо с высоким лбом, с красиво изогнутыми бровями горело. На конференции много говорили о нейтронах. Тем не менее значение нейтронов оценено недостаточно. Нейтроны самое удобное оружие для изучения ядер. Они не взаимодействуют с атомными электронами, их не отталкивает положительный заряд протонов. Следовательно, они могут легко проникнуть в любое ядро. В опытах Жолио ядра бомбардировались альфа-частицами. Нейтроны — снаряды куда поэффективней.
Однако химические источники нейтронов слабы. Надо помнить, что смесь бериллия с радием или радоном дает малый поток частиц. И только одна из ста тысяч альфа-частиц, бомбардирующих бериллий, выбивает нейтрон, и только один нейтрон из ста тысяч попадает в ядро. На десять миллиардов выстрелов один попадает в цель — результат удручающий! Нейтрон, конечно, легко проникает в ядро, но ведь надо предварительно попасть в него! Нет, будущее не в выискивании химических смесей, а в создании искусственных ускорителей. При их помощи можно получить поток в миллиарды миллиардов нейтронов. При таком обилии снарядов уже не имеет существенного значения, что только один из ста тысяч ударяет в ядро.
— Такая установка осуществлена в Харькове, мы скоро получим на ней нейтроны, — закончил Лейпунский свой энергичный доклад.
— Интересные мысли, — сказал в перерыве Жолио Разетти. — Мы в Париже тоже займемся конструированием ускорителей. Но я мечтаю о большом циклотроне, а не об электростатической машине.
— Трудно осуществимо, — со вздохом возразил Разетти. — В Риме и думать не приходилось о таких дорогостоящих установках.
Иоффе пригласил участников конференции на заключительное заседание в Выборгский дом культуры. Ленинградский Физико-технический празднует свое пятнадцатилетие. От Физтеха многого ждали, он многое дал. Итак, до вечера в Доме культуры!
После торжественного заключительного заседания Френкель попросил иностранных гостей и организаторов конференции к себе. За ужином продолжались все те же беседы. Они оборвались, когда Френкель взялся за скрипку. В отличие от Эйнштейна, рассматривавшего свою игру на скрипке как отвлечение от науки, Френкель, было время, подумывал стать скрипачом-профессионалом, и помешал не недостаток дарования, а слишком большая любовь к физике. И когда один из гостей воскликнул, что удивлен искусством хозяина — если бы Френкель посвятил себя музыке, он стал бы известным скрипачом! — Френкель ответил:
— Карандаш я держу в руках чаще, чем скрипку. И еще ни разу не пожалел об этом.
Глава вторая БЕГОМ, БЕГОМ!..
1
В октябре Иоффе с Гамовым уехали в Брюссель на Всемирный Сольвеевский конгресс. В ноябре Иоффе вернулся один, Гамов задерживался. Сотрудникам не терпелось узнать, что нового принесло совещание светил мировой физики. Слушая Иоффе, физики удивленно переглядывались. Они ожидали другого.
Тот самый доклад Жолио, который встретил восторженное одобрение в Ленинграде, в Брюсселе подвергся сокрушительной критике. Лиза Мейтнер объявила найденные в Париже нейтронно-позитронные пары привидениями — строгая дама из Берлина любит сильные характеристики. В своей превосходной лаборатории в Берлин-Далеме она повторила опыты парижан и не нашла ничего похожего — нейтроны совместно с позитронами ни разу не наблюдались, но только порознь. Тщательность немцев известна. Завершающий удар нанес американец Эрнест Лоуренс. Он воспроизвел опыты Жолио и Ирен Кюри на изобретенном им циклотроне и тоже не обнаружил нейтронно-позитронного излучения.
— Как воспринял критику Жолио? — с беспокойством спрашивали физики.
Иоффе развел руками. Жолио старался не показать огорчения, что он еще мог сделать? Зато Ирен сидела с красным лицом, сверкала глазами на Мейтнер. Жалко было ее мать, великую Марию Кюри: она постарела, выглядела больной. Она, несомненно, знала, как доброжелательно приняли доклад ее зятя в Ленинграде, и ожидала того же на конгрессе — провал в Брюсселе очень ее огорчил. Правда, Бор и Паули утешали подавленного Жолио и раздраженную Ирен. Бор считает, что парижане нашли что-то интересное, но не установили точно, что именно. Он советовал им повторить опыты снова. А Паули сказал, что не возражает против привидений в физике — возможно, мы принимаем за привидения такие тонкие явления, что их не всегда удается воспроизвести. В общем же, неудача Жолио не повлияла на хорошее к нему отношение. Иоффе предложил в члены Сольвеевского комитета Жолио и Ферми — проголосовали без возражений.
— Две тяжкие неудачи — неоткрытие нейтронов, которые реально были в руках, и сообщение об открытии того, что реально не существует! — сокрушенно сказал Курчатов. — Физики молодые! Как бы их не сломили эти удары.
— От временных неудач никто не гарантирован, — возразил Алиханов. — Я верю, что этот человек добьется большого успеха.
Неудача Сольвеевского доклада Ирен и Фредерика Жолио-Кюри произвела на Иоффе гораздо большее впечатление, чем он хотел показать своим сотрудникам. Парижский институт Радия славился точностью экспериментов. И уж если такие прекрасные физики, как супруги Жолио-Кюри, дважды крупно ошиблись, то вывод отсюда следовал лишь один: дело не в недостатке экспериментального мастерства, а в трудностях самой проблемы. Атомное ядро было не только новым разделом науки, но и чертовски трудным, здесь равно возможны и блистательные успехи и огорчительные провалы. Иоффе не ожидал огромных успехов от тех скромных работ по ядру, что уже шли в физтехе, но хотел предостеречься от неудач. Атомным ядром надо было заниматься всерьез, не параллельно с другими исследованиями. Он сам «прививал вкус к ядру» в физтехе, такое отношение породило разбрасывание интересов — пришла, пришла пора остановить распыление сил! К тому же стало известно, что «Электросила» изготовила огромный магнит для циклотрона Радиевого института, у Вернадского и Хлопина, по всему, приступают к исследованиям ядра с размахом. Конкурировать с ними? Конкурировать с украинским Физтехом, собственным детищем, быстро обгоняющим родителя? Что ж, конкуренция — по-нынешнему соревнование — дело хорошее. Но только если не миришься заранее, что роль твоя в таком соревновании будет третьестепенна, а все успехи — на долю другого.
Во время традиционного утреннего обхода института Иоффе задержался в лаборатории Алиханова.
Он любил эту лабораторию, ценил ее руководителя. Абрам Алиханов, смуглый, живой, густоволосый тридцатилетний армянин, сын железнодорожного машиниста, брал искусством экспериментатора и страстью к непростым задачам. Этот вспыльчивый человек порой хватал приборы так порывисто, что они должны были тут же ломаться. А он ставил вдумчивые опыты, изящные и точные, искусно разрабатывал методику эксперимента. Придирчивая критика его помощника Льва Арцимовича — у того был врожденный «нюх на изъяны» — способствовала тому, что тщательность опытов алихановцев становилась примером для всего Физтеха. Третьим в этой лаборатории был препаратор Миша Козодаев, радиолюбитель, мастер создавать сложные радиотехнические схемы — он сам изготавливал нужные приборы, их потом все в институте выпрашивали.
Алиханов информировал директора, что закончен отчет по прежней теме — полном внутреннем отражении рентгеновских лучей. Новая тема — поиск позитронов при обычном бета-распаде — в процессе подготовки: сделаны расчеты, Козодаев изготавливает аппаратуру.
— Уверен, что позитроны, которые американцы нашли в космических лучах, вскоре будут обнаружены на лабораторном стенде! — с увлечением воскликнул Алиханов.
— Итак, Абрам Исаакович, вы окончательно решили посвятить себя проблеме атомного ядра? — задумчиво спросил Иоффе.
— Вы возражаете? — удивился Алиханов.
— Наоборот, приветствую! — с улыбкой ответил Иоффе и продолжил обход института.
Рядом с комнатой Алиханова располагалась лаборатория Курчатова. Иоффе вошел в нее с чувством, что разговор сейчас будет гораздо трудней, чем с Алихановым. Долгое время в Физтехе не было группы более далекой от атомного ядра, чем коллектив Курчатова. Иоффе считал себя виноватым в том, что упросил Курчатова параллельно с основными работами заняться и ядерными проблемами. Параллелизм этот зашел слишком далеко. Иоффе готов был признать свою ошибку и помочь ее исправить.
Тридцатилетний Курчатов уже десять лет работал в Физтехе и все эти годы отдал исследованию физики твердого тела. Совместно со своим другом Павлом Кобеко он завершил обширный цикл работ по электрическим свойствам кристаллов сегнетовой соли. Им посчастливилось открыть удивительное явление, Курчатов назвал его сегнетоэлектричеством. В этой работе — Иоффе ее высоко ценил — Курчатову помогали и брат Борис Васильевич, химик, моложе его на два года, тоже сотрудник Физтеха, и шурин Кирилл Синельников, и Антон Вальтер, оба теперь харьковчане, и лаборант Герман Щепкин. Но душой исследований был он сам, и результатом этой большой работы стала написанная им книга «Сегнетоэлектрики».
Вслед за сегнетоэлектриками Курчатов принялся изучать карборундовые выпрямители, применявшиеся в высоковольтной технике. Исследования эти обещали дать важные народнохозяйственные результаты. Курчатов гордился, что его работы помогают индустриализации страны. Именно в это время Иоффе предложил Курчатову совместить изучение важных научно-технических проблем с исследованием бесконечно пока далеких от практики, бесконечно еще абстрактных вопросов атомного ядра. Иоффе не сомневался, что дальше того, что называлось «организационными мероприятиями», дело не пойдет. Дальше идти, по всему, и не требовалось.
Директор института хорошо знал характер своего сотрудника. Курчатов углублялся в свои исследования, не замыкаясь в них. Этот человек интересовался всем в институте, к нему можно было прийти потолковать о собственных затруднениях, погордиться успехами — он великолепно слушал, душевно радовался удаче товарища, предлагал содействие, не ожидая, пока содействия попросят. Его за глаза называли Генералом. Прозвище говорило о стремлении командовать — еще недавно, возможно, было и так. Сейчас оно больше свидетельствовало об ощущении ответственности не только за себя, но и за товарищей. Это было сложное чувство, отнюдь не стандартное. Дотошный организатор, он умел и сам работать, умел зажигать помощников, умел привлекать внимание к своему делу. На это организаторское его дарование и рассчитывал Иоффе, когда сделал Курчатова своим заместителем в «группе по ядру». Он должен был пробудить у физиков интерес к ядру, вовсе не забрасывая своего основного дела. Так держался сам Иоффе, того же он ждал и от своего заместителя.
Но Курчатов слишком серьезно расценил свое участие в группе по ядру. Не прекращая изучения карборундовых выпрямителей, он сконструировал высоковольтную установку для ускорения протонов. А после конференции по ядру стал с увлечением собирать, используя детали старых приборов, маленький циклотрон. И ускоритель протонов и «циклотрончик», как его иронически окрестили, явно не стоил того внимания, какое им уделял конструктор. Из комнаты напротив приходил Павел Кобеко, недоверчиво щупал рукой новые приборы. Аппараты занятные, но какое они имеют отношение к физике твердого тела, которой они оба отдали столько труда? Курчатов посмеивался, а до Иоффе доходило, что курчатовцы — коллектив все прибавлялся, в нем появились лаборанты Миша Еремеев, Саша Вибе, механик Володя Бернашевский — уже сами не знают, кто они, собственно, «твердотельцы» или «ядерщики», заниматься приходилось и тем и другим.
Курчатов встал навстречу директору. Высокий, широкоплечий, ладно скроенный и крепко сшитый, румянощекий, темноглазый, он внешне походил на Маяковского. В его красивом лице удачно соединялась приятная мужественность с чем-то — особенно в нижней части лица, в округлом подбородке — очень мягким, почти женственным. Голос, звонкий, отчетливый, веселый, редко менял свой обычный бодрый тон — высокий баритон действовал значением слов, а не интонацией. Курчатова не слышали шепчущим или кричащим, грозящим или умоляющим, его голос был голосом мыслителя и ученого — доказывал и разъяснял, анализировал факты и ставил задания — для этого не требовалось ни шепота, ни грохота.
— Игорь Васильевич, мне кажется, совмещение физики твердого тела и атомного ядра слишком у вас затянулось, — прямо сказал Иоффе, после того как Курчатов доложил, чем занимается. — Не пора ли отказаться от разбрасывания сил?
— Вы хотите, чтобы я отказался от ядра? — помолчав, спросил Курчатов.
Иоффе уклонился от прямого ответа.
— Вы вправе сами выбирать свою область, Игорь Васильевич. Правда, в физике твердого тела вы уже создали себе имя, ваши работы открыли новую отрасль науки. Ну, и практическое применение ваших открытий... Но вы мой принцип знаете — никого не неволю делать то, к чему не лежит душа.
— Я должен подумать, — сказал Курчатов.
— Завтра я соберу всех руководителей лабораторий. Уточним направление исследований, оформим их организационно.
Иоффе продолжал обход, размышляя о том, что завтра, возможно, придется признать, что в Физтехе произошла существенная реорганизация. Курчатов прямо ничего не сказал, но Иоффе догадывался, что к прежним работам он не вернется. Увлечение ядром зашло слишком далеко. Ядерная конференция, столь блестяще им организованная, на него самого повлияла, пожалуй, больше, чем на любого другого ее участника. Иоффе не был уверен, что выбор Курчатова правилен, но, как и пообещал, не собирался ему мешать.
А у Курчатова в этот день, после обеда, были дела в Ленсовете. Он мог бы, освободившись, возвратиться в Физтех. В лаборатории его поджидали молодые сотрудники — Герман Щепкин, Лев Русинов, Саша Вибе. Ему не хотелось к ним. Они продолжали трудиться над темами, от которых он завтра, возможно, откажется. Они и не подозревали, что их руководитель собирается сделать поворот не только в своей, но и в их жизни. Ему хотелось побыть одному.
Итак, вопрос поставлен ребром: или — или! С одной стороны, область известная, освоенная, в ней завоеван авторитет, завоеванный авторитет будет укрепляться, углубляться, становиться значительней. Скоро доктор наук, в дальней перспективе — академик, всеми признанный создатель новой отрасли знания. Разве не так? А с другой стороны, что-то страшно далекое, неведомый мир, почти марсианский пейзаж, а перед глазами — ушедшие вперед первопроходцы. Их догонять, а они все торопятся, у них и опыта больше, и снаряжение лучше, да и талантом бог не обделил. И с ними соревноваться? Благоразумно ли? Да, но суть-то в марсианском загадочном пейзаже! Здесь все ново, каждый шаг вперед — открытие! Дорога в глубины ядра трудна, сложна, недаром и такие мастера, как Жолио, совершают на ней ошибки, но зато в конце ее, где-то за видимым горизонтом — кладовая всей энергии материального мира! Вот она, перспектива — овладение внутриядерной энергией, переворот в технике, в человеческом образе жизни. Хитро поставил дилемму директор Физтеха, уж как хитро — частное благополучие или общечеловеческое дело? Интересно, а что думает сам Иоффе о нем, о Курчатове — в какую сторону его потянет?
Курчатов быстро шагал по набережной Мойки, вышел на Исаакиевскую площадь, обошел ее по сенатской стороне, постоял у Невы, тем же энергичным шагом двинулся к Дворцовому мосту. Со стороны могло показаться, что он торопится. Он никуда не торопился. Он просто не мог идти медленно. Стремительность шла из души. Легко думалось лишь на быстром шаге, еще лучше, вероятно, размышлялось бы на бегу, только бежать по набережной было неудобно. Тридцатилетний мужчина в зимнем пальто, сломя голову несущийся куда-то, — зрелище если и не для богов, то для милиционеров!
Над городом проплывали темные тучи, они опустились так низко, что пропала макушка Исаакия. Время было идти весне, начало апреля, но зима упрямо не сдавалась, холода не отпускали. Курчатов еще не дошел до Зимнего, как повалил снег — крупный, влажный, налипающий на одежду. Снег покрывал гранит набережной, брусчатку мостовых. До снегопада Нева казалась синевато-стальной, сейчас в нее рушились белые массы, она же выглядела черной. Противоположный берег стерся в пелене, не было видно ни одного здания на Васильевском острове. Редкие автомобили шипели шинами, лошади влажно цокали копытами — особый глуховатый звук, только первый снег, еще не смерзшийся и не подтаявший, рождал его. Курчатов подумал, что палитра красок разработана и художники в своих картинах и оптики в своих исследованиях досконально описали все оттенки цвета. А вот оттенков звука, палитры звуков нет, ее не создали, а ведь как выразительна; ведь можно закрыть глаза и, не зная, что кругом, по одному мягкому и глухому удару копыт безошибочно определить: «Ага, снегопад, да какой обильный!»
— Все правильно! — энергично сказал себе Курчатов. — Так держать. Вопросов нет. Точка.
Вопросы, однако, были. И как держать — еще было неясно. Курчатов вспоминал свою научную жизнь — почти полное десятилетие! Первое крупное исследование не удалось, сверхпрочной тонкослойной изоляции — с каким азартом над ее созданием трудился — не получилось. Зато научился эксперименту. Несколько лет заполнило изучение сегнетоэлектриков. С сегнетоэлектриками покончено, он написал о них монографию — до свидания, точка, здесь вопросов не имеется. Чем он занимается сегодня? Карборундовыми выпрямителями, так? Удивительный материал, электрические свойства его загадочны. Нет, с карборундовыми выпрямителями он расстанется без печали — служебная тема, отнюдь не страсть. Ничто не тянет его теперь от атомного ядра.
Да, но с чем он придет в новую область? Он надумал не поворот, а прыжок. Диэлектрики и полупроводники — и недра атомного ядра! Да есть ли более несхожее? Ведь одно дело организационно подготовить конференцию специалистов, совсем другое — объявить себя таким специалистом. Кирилл посмеялся — председательствуешь, а всего твоих выступлений: «Слово такому-то! Ваше время кончается!» А что я мог сказать? Показывать свое невежество? Нет уж, извините! Вон предложили редактировать протоколы конференции — отказался! Редакция сборника «Атомное ядро» — Бронштейн, Дукельский, Иваненко, Харитон. Не я. Пока не по мне. Вот так. Точка. Курчатов.
Он подставил лицо густевшему снегу. Снежинки таяли на щеках. Жгучий холодок бодрил кожу. Было еще одно важное соображение, он хотел продумать все вытекающее из него. Возникнет параллелизм с работами в Радиевом институте. Курчатов не знал, что похожие мысли явились и директору Физтеха и что они глубоко тревожили Иоффе. Но он догадывался, что у Иоффе имеются свои веские причины так резко определить дальнейшее направление Физтеха. И что причины эти не могут быть в стороне от того, что совершалось у их научного соседа. Итак, Радиевый институт. Директор его, Владимир Иванович Вернадский, известный энтузиаст атомной энергии, научный пророк, так его назвал Гамов, инициатор проектируемых у радиохимиков ядерных работ, конечно, он, это вне сомнения. А его поддерживает Виталий Григорьевич Хлопин, формально — заместитель Вернадского, фактически — руководитель института: Вернадский почти всегда в разъездах. И они создают у себя мощную базу для экспериментов с ядром — этот самый циклотрон, сегодня самую крупную в мире ускорительную установку. Недаром же Хлопин поставил перед своими физиками такую честолюбивую задачу — сотворить искусственные радиоактивности, чтобы заменить ими дефицитнейший радий, которого всего-то в мире несколько десятков граммов. У Хлопина есть кому поручить подобные задачи: два профессора, два крупнейших специалиста по космическим лучам, Лев Мысовский и Александр Вериго, появятся вскоре и молодые талантливые сотрудники. И — Гамов, конечно. Блестящий теоретик ядра, он сумеет истолковать любой проведенный эксперимент, сумеет дать правильное направление всем планируемым экспериментам. Да, это так: Иоффе начал тревожить размах соседа. Он-то, естественно, приветствует любое расширение научных исследований, для него интересы науки всегда главенствуют. Но и плестись за другими в хвосте не хочется, можно его понять. Вот, стало быть, как ставится вопрос: способны ли мы пойти на соревнование с надеждами на успех? Не лучше ли возвратиться к освоенным темам, там полная гарантия удачи. И, в частности, я, Игорь Курчатов, не подведу ли, не преувеличиваю ли свои силенки? На прямой вопрос надо и отвечать прямо. В газетах вон пишут — в любом деле решают люди, человек — главная производительная сила. Забавно все-таки: поставить лаборанта рядом с пятидесятитонным магнитом и гордо объявить: человек — гарантия успеха, человек — это главное. Нет, шутки побоку. Итак, ядро. Область необъятная, на всех хватит. А если кто ушел, понатужимся и догоним. Беремся. Точка. Физкультпривет!
В этот день Курчатов так рано пришел домой, что жена встревожилась. Что-нибудь случилось в институте? Марина Дмитриевна привыкла видеть мужа только поздно вечером. Она возвращалась из библиотеки, где работала, готовила ужин и коротала за книгой оставшееся до его прихода время. Иногда он являлся заполночь, но она все не ложилась, все ждала. Он редко делился с ней своими делами, это была слишком специальная область, но и те короткие беседы на общие темы, что происходили по вечерам, были ей дороги.
— Хочу посоветоваться, Мурик, — объявил он, садясь за стол. — Задумал прыжок в неизведанное. Надо подрассчитать — удастся ли?
Он говорил, она вставляла реплики. Одно ей сразу стало ясно: он делился колебаниями и сомнениями, но реально не было ни сомнений, ни колебаний. Он уже не вернется к старым темам, новые завладели им. И когда он с тревогой заговорил о том, хватит ли сил для задуманного, она живо прервала его:
— Уверена, хватит. Тебя хватит на все, чего ты захочешь.
Он засмеялся, обнял ее, нежно благодарил. Она хорошая жена, именно такая нужна ученому — верит в мужа, помогает, а не препятствует его работе. И не требует ни пышных нарядов, ни заграничных поездок, ни дорогостоящих развлечений, без ропота удовлетворяется тем скудным временем, что остается им для взаимного общения.
— О чем ты? — сказала она с недоумением. — Я тебя не понимаю. Ты кого-нибудь имеешь в виду?
Он не стал разъяснять, кого имеет в виду. В конце концов, ему нет дела, кто каких себе подбирает подруг. У него подруга ему по душе — чего еще?
На другое утро руководители лабораторий докладывали директору, как собираются вести работу. У механиков и электрофизиков тематика оставалась прежней. Павел Кобеко и Анатолий Александров, продолжая исследования твердого тела, собирались экспериментировать с полимерами — перспективнейший для техники материал! Петр Лукирский изучал рентгеновские лучи и электрон, он хотел и дальше заниматься ими. Дмитрий Скобельцын расширял исследования космических лучей. Алиханов видел ключ к секретам атомного ядра в позитронах, он просил не отвлекать его ни на что другое. Помощник Алиханова, Лев Арцимович, предложил разделить их лабораторию на две, исследования на высоковольтных аппаратах он брал себе. Курчатов объявил, что полностью прекращает исследования твердого тела и весь отдает себя изучению ядерных реакций.
Директор Физтеха подвел итоги обсуждению:
— Итак, реорганизация состоялась. «Группу по ядру» мы распускаем. Она свое дело сделала, даже с избытком — должна была привлечь внимание к ядерным проблемам, а привела к тому, что иные ученые забрасывают ради ядра старые темы. В Физтехе создаем новые лаборатории: ядерных реакций, естественной радиации и космических лучей, позитронов и высоковольтную. Заведовать ими будут Курчатов, Скобельцын, Алиханов, Арцимович. Физтех расширяется, так надо понимать реорганизацию. Мы должны радоваться продолжающемуся совершенствованию института.
Слова Иоффе звучали бодро, но за ними угадывалось беспокойство. Физтех не просто расширялся, а и менял ориентацию. До сих пор институт развивался в рамках тематики, близкой научным влечениям его директора. Новое — ядерное — направление стояло в стороне от традиционных проблем. Реорганизация выводила далеко за межу, которую Иоффе намечал, когда создал «группу по ядру». Хорошо это или плохо, Иоффе пока не знал. Он предчувствовал лишь, что перемены в институте создадут немалые затруднения.
Правильно предугадывая будущие затруднения, директор Физтеха не знал лишь одного: сколь велики и тягостны они будут!
В институте была комнатушка, куда часто забегали сотрудники многочисленных лабораторий. Сам директор нередко появлялся в ней и, присаживаясь у стола, чертил, набрасывал на бумаге расчеты, вслух размышлял о том, что ему нужно и какой помощи он ожидает от хозяина. В комнатушке царил Наум Рейнов. Вначале здесь ремонтировали приборы, потом изготовляли свои, взамен импортных, — они не восхищали красивой внешностью, но в точности не уступали, — потом разрабатывали новую аппаратуру для научных исследований. Мастерская понемногу становилась исследовательской лабораторией, ее хозяин, простой слесарь, закончил Политехнический институт, потом защитил кандидатскую, а за ней — уже после войны — и докторскую диссертации. Общительный, словоохотливый, он был в курсе всех институтских событий — к нему ходили поделиться новостями, поспрошать, что у соседей. И на несколько дней главной новостью в институте стало известие, что Игорь Курчатов бросил прежние темы и углубляется в ядро. «Генерал уходит в солдаты», — с недоумением говорили одни. Другие высказывались грубей: «Гарька оставил хлеб с маслом и пошел искать крошки». И мрачно предрекали: «Он еще раскается!»
2
Курчатов без восхищения рассматривал законченный сборкой маленький циклотрон. Трудяги — Миша Еремеев, Володя Бернашевский — ожидали похвал. Хвалить было не за что. Они сделали что могли, но, как говорят французы, там, где ничего нет, и король теряет свои права. Механизм, собранный из барахла, работал, но толку от его работы было немного. Один магнит диаметром в 25 сантиметров выглядел солидно, на него ушло несколько раскуроченных трансформаторов.
— Что-то получается, — бодро сказал Курчатов. — Посмотрим!
Он всунул руку между полюсами магнита — все ли там гладко? Еремеев, расценив энергичное «посмотрим» как приказ пускать, включил ток. Плохо закрепленные пластины жестко сдавили руку. Курчатов охнул. Перепуганный Еремеев вырвал рубильник. Курчатов с гримасой осматривал помятую руку. Он с усилием улыбнулся побледневшему лаборанту.
— До свадьбы заживет! Я имею в виду серебряную. — И заметив, что невеселая шутка не согнала бледности с лица лаборанта, рассмеялся. — В следующий раз, торопыга, без приказания не включай!
Секретарша Иоффе попросила Курчатова к директору.
Иоффе молча протянул Курчатову письмо от Гамова. Гамов извещал, что не вернется. Он нашел в заграничных институтах отличные условия для своих теоретических исследований. Он остается за рубежом ради блага науки, а не из политических соображений. Политика — не его область. Его интересует только физика и ничто другое!
— Невозвращенец! — Курчатов округлившимися глазами глядел на растерянного, подавленного Иоффе.
— Его не хотели выпускать за границу в этот раз. Он не стеснялся в высказываниях, об этом знали, — печально сказал Иоффе. — И потом он хотел обязательно с женой ехать, это тоже настораживало... Но мы с Френкелем за него поручились правительству честным словом...
— Он подвел и лично вас, Абрам Федорович.
Иоффе махнул рукой:
— Дело не во мне. Он подвел себя, подвел науку. Не знаю, не знаю, что ждет его там... — Иоффе взял себя в руки. — Вы не видели свежих французских журналов? Очень важная статья супругов Жолио-Кюри.
В только что полученной книжке «Докладов Академии наук» Франции, в заметке «Новый тип радиоактивности», помеченной 15 января 1934 года, Ирен и Фредерик Жолио-Кюри сообщали миру о совершенном ими удивительном новом открытии. Они воспроизвели опыты, о каких Жолио докладывал в Ленинграде и Брюсселе, и снова получили излучение нейтронов и позитронов. Но теперь ясно, что был не один, а два накладывающихся один на другой процесса. Путаница возникла оттого, что они не были своевременно разделены. И новые опыты свидетельствовали о совершенно новом явлении. Алюминий, облученный альфа-частицами, превращался, выбрасывая нейтрон, в изотоп фосфора, а фосфор, уже самостоятельно, исторгал позитрон и превращался в кремний. Это была радиоактивность, но созданная искусственно! Такая же радиоактивность вызвана и у бора, и у магния. Они продолжают свое исследование, изучая все новые и новые элементы.
— Немка Мейтнер и американец Лоуренс все-таки ошиблись, нападая на наших парижских друзей, — с удовлетворением сказал Алиханов.
Скептик Арцимович не упустил случая поспорить:
— Обе стороны оказались неправы. Жолио с Ирен ошибочно приняли два разных процесса за один. А Мейтнер, проверяя опыты Жолио, этого не увидела. От дамы с ее именем можно было ожидать экспериментов более тщательных.
Курчатов задумчиво сказал:
— А в результате цепи ошибок и перепроверок достигнут огромный успех — получена искусственная радиоактивность. В нашем Радиевом институте давно поставили задачу создать искусственную радиоактивность, но реально ничего не сделали. А парижане сделали! Помните, мы все говорили недавно, что Жолио стоит на пороге великих открытий. У меня предчувствие, что скоро придет новое сообщение из Парижа, которое еще раз радикально изменит всю ситуацию в ядерной физике.
3
Новое сообщение пришло не из Парижа, а из Рима. И оно радикально изменило всю ситуацию в ядерной физике.
Молодой итальянский теоретик Энрико Ферми, очень выдвинувшийся в последнее время, неожиданно переквалифицировался в экспериментатора. Лавры супругов Жолио-Кюри смутили его душу. Он поставил опыты, аналогичные парижским, только в качестве разрушительных снарядов применил не альфа-частицы, а нейтроны — и получил результаты еще поразительнее.
В короткой — на полторы странички — заметке Ферми писал, что сумел превратить фтор в азот, а алюминии в натрий. Новосозданные элементы — радиоактивны, и радиоактивность их не позитронная, открытая супругами Жолио-Кюри, а такая же, как у естественных радиоактивных элементов, — альфа-частицы и электроны. Заметка была написана нарочито сдержанно. Но она извещала о новой революции в исследовании ядра. Курчатов понял это сразу.
Неожиданность открытия была не в том, что получены новые радиоактивные элементы. Ферми получил их новым методом, он бомбардировал ядра нейтронами из химических смесей. Теоретик дерзнул экспериментировать, как экспериментаторы не захотели! И доказал, что смелость города берет! Как они все были трусливы! Заранее отказаться от метода, таившего в себе такие возможности!
Курчатов, взволнованный, побежал с журналом к Алиханову и Арцимовичу. Такие статьи нельзя читать ради одного научного любопытства. Статья звучала как призыв к ответному действию. На нее нужно откликнуться собственными открытиями! Надо, надо им поставить такие же опыты! «Давай, давай!» — с воодушевлением сказал Алиханов, сам он слишком углубился в свою тематику, чтобы подхватывать чужие начинания. Арцимович начал с насмешки над пирожником, который взялся тачать сапоги, но, прочитав заметку, признал, что опыты в Риме добротные и результаты солидные. Иоффе сразу дал согласие на опыты «по Ферми», но усомнился, удастся ли изготовить источник нейтронов. Это Курчатов брал на себя. В Радиевом институте у Мысовского хранится в сейфе около грамма радия, а радий выделяет радон, а радон в смеси с бериллием и составляет ту чудо-пушку, которую применял Ферми. Взять за бока Льва — то есть попросить у Льва Владимировича радон — такова нехитрая задача.
И Курчатов поехал к радиохимикам.
Радиевый институт, четырехэтажное строгое здание, до революции жилой — преподавательский — корпус Александровского лицея, разместился на углу самой шумной магистрали Петроградской стороны, проспекта Красных Зорь, и тихой улочки Рентгена. В институте и работали и жили — на первом этаже занимал две комнаты Мысовский с женой, на третьем этаже недавно еще квартировал Гамов со своей Ро, были и другие жильцы. В прежних профессорских квартирах теперь были мастерские, лаборатории и кабинеты, но сердцем института являлось не это четырехэтажное здание, а примыкавшее к нему двухэтажное, небольшое, «старая химичка» — здесь получали из присылаемых с завода концентратов радий, хранили и развешивали его для больниц и исследовательских учреждений, здесь совершались основные химические работы, здесь же Мысовский смонтировал «эманационную машину» — установку, отсасывающую из сейфа, где хранился радий, постепенно накопляющийся там газообразный радон, радиоактивный элемент, излучающий альфа-частицы.
Курчатов мимо «старой химички» прошел к Мысовскому. В торце четырехэтажного здания, в обширном зале монтировался циклотрон, а за деревянной перегородкой главный физик Радиевого института устроил себе хоть и не очень уютный и совсем не тихий, но достаточно просторный кабинетик. Курчатов с любопытством поглядел на монтажников, суетившихся в помещении, — в циклотронной Радиевого института могло разместиться две такие лаборатории, какие он имел в Физтехе, — но ближе к ним подходить не стал.
— Пришел просить о помощи, Лев Владимирович, — прямо сказал Курчатов, пожимая руку Мысовскому, невысокому, плотному, широкоскулому, с короткими усиками на румяном лице. И подробно рассказал, как собирается ставить «опыты по Ферми» и какое ему для этого желательно содействие.
Что Мысовский охотно поделится запасами, Курчатов не сомневался. Заведующий физическим отделом Радиевого института был человек неровный, но не скупой. Но то ли Курчатов попал в дурную минуту, то ли Мысовский и впрямь побаивался начальства, но он недовольно покривился.
— Берите, Игорь Васильевич, мне не жалко! Но радием единолично командует Виталий Григорьевич. А вы его знаете — вежлив и строг. Пусть даст указание. За мной дело не станет. Нейтронные опыты — штука перспективная, кто же не понимает! Сам приму участие, двух сотрудников подключу, чудные ребята — Миша Мещеряков и Исай Гуревич. Уже и без вас подумывал, не включиться ли и нам в это направление, а с вами вместе так будет лучше. Идите, идите, не тушуйтесь! Робости раньше у вас не замечал. Ладно, пошли вместе.
Мысовский подметил правильно — хоть не робость, но некоторое стеснение Курчатов почувствовал. Он все делал быстро, не терпел промедлений. Но сейчас не торопился следовать совету Мысовского. Он раздумывал. Со стороны казалось, что он побаивается идти к руководителю Радиевого института. Только на повторное приглашение удивленного такой медлительностью Мысовского он ответил:
— Хорошо, пошли! — и встал.
...Курчатов еще и подозревать не мог, что этот первый деловой разговор между ним и Хлопиным положит начало длинной серии встреч, бесед и споров; что научное сотрудничество, сегодня начинаемое, не только не оборвется на просьбе о небольшой помощи, а продолжится дальше, расширится, углубится, обретет сложные формы; и что оно будет идти неровно, то омрачаться размолвками и взаимной холодностью, то озаряться взаимными успехами; и что эти общие успехи приобретут огромное значение не только для них лично, но для всей страны, для ее процветания, для ее благополучия, для ее обороноспособности. Но и понятия не имея, начало какому пути положит предстоящая встреча, Курчатов испытывал беспокойство: очень уж разные были по характеру он и Виталий Хлопин.
Хлопина чаще можно было встретить в лаборатории, а не в директорском кабинете. Входили к нему без доклада, без телефонных предварительных просьб о приеме. В институте, которым он руководил, не было и тени административной бюрократии. Здесь правил один полновластный хозяин, один непререкаемый авторитет — сама наука. И сотрудники института кто со спокойным удовлетворением, а кто и с восторгом, но одинаково дружно соглашались, что к Виталию Григорьевичу можно прийти в любую минуту с деловым вопросом, он внимательно выслушает, даст хороший совет, сам пойдет посмотреть, если что интересное получается, при успехе вместе порадуется, а если неудача, то покритикует, но так мягко и ободряюще, что воспрянешь духом, а не впадешь в уныние. И они охотно рассказывали, каким веселым бывает с ними их руководитель вне служебной обстановки, как он смеется удачной шутке и сам шутит, как любит во время праздников участвовать в самодеятельных институтских спектаклях — и нередко наряжается в актерские одежды, а бывает, и напевает оперные арии несильным, но приятным баском. Небольшой по размеру институт почти всем сотрудникам казался какой-то дружной семьей — и во главе ее стоял он, Виталий Хлопин.
Но так было только в стенах института, внутри его коллектива. Извне картина казалась иной. Вероятно, не было другого института, где бы так отстаивали свою самостоятельность и так понимали свое значение. Начальство сетовало на неуступчивость руководителя радиохимиков, он казался очень негибким и суховатым в своей неизменной принципиальности: он не слишком заботился о том, легко ли с ним тем, от кого сам он зависел. И хоть каждого посетителя Хлопин встречал с неизменной любезностью и вежливым вниманием, но для посторонних у его двери лежал как бы невидимый барьер, надо было сделать вздох поглубже, прежде чем его переступить.
«Потенциальный барьер», — привычным физическим термином пошутил про себя Курчатов, входя к Хлопину.
Кабинет Хлопина помещался на втором этаже — крохотная комнатка об одном окне: диван, стол, этажерка с книгами и — чуть ли не главным украшением и, наверно, главной принадлежностью обстановки — аналитические весы на специальной подставке, укрепленной в стене. Хлопин сидел за столом и писал, он встал навстречу посетителям, показал на диван. Вторая дверь вела в химическую лабораторию, оттуда слышались женские голоса — Мария Александровна Пасвик, жена Хлопина, его неизменный помощник в радиохимических экспериментах, обсуждала с аналитиком результаты недавно произведенных опытов. Хлопин прикрыл дверь в лабораторию. Мысовский сказал:
— Физтеховцы просят о помощи, Виталий Григорьевич. Начинание доброе, надо бы и нам принять участие. Вот послушайте Игоря Васильевича.
Хлопин вежливо слушал, вежливо кивал. В безукоризненно выутюженном костюме, с холеной бородкой, в очках с металлической оправой, он и внешностью, и разговором подчеркивал свою старомодную интеллигентность. Он разительно походил лицом на Валерия Брюсова, можно было взять портрет поэта и сделать надпись: «Хлопин» — и не все знакомые признали бы подделку. Курчатов отметил про себя, что, даже проторчав у зеркала час, он так не вывяжет галстук, как у Хлопина. И еще была черта у этого человека, в Физтехе она показалась бы чужеродной, — он не позволял себе говорить громко. Новые люди, вторгшиеся в науку с рабфаков, принесли свой стиль — простоту, временами бесцеремонность, громкую речь, резкие формулировки, яростные споры, похожие скорей на битвы, чем на научные дискуссии. Об этих «рабфаковских» манерах надо было забывать, переступая порог кабинета Хлопина. В корректном его внимании было что-то сдерживающее.
Мысовский говорил громко, громкий тон подхватил и Курчатов, Хлопин ответил подчеркнуто тихо:
— Я не хотел бы, чтобы наш институт превращали в базу снабжения. Но если Лев Владимирович сам примет участие и выделит своих лаборантов, я возражать не буду. Кстати, где будете производить измерения искусственной радиоактивности? У нас или в Физтехе?
— И у вас, и в Физтехе.
Еще минуту назад Курчатов и не думал об экспериментах в Радиевом институте. Разговор складывался так, что только такое решение стало возможным. Хлопин с любопытством посмотрел на Курчатова.
— Будете сидеть на двух стульях? И не боитесь? Впрочем, долго это не продлится. Когда мы закончим наш циклотрон, появится такой мощный источник нейтронов, что каждый, кто захочет исследовать искусственную радиоактивность, должен будет делать это здесь.
Курчатов пожал бледную, но сильную руку Хлопина. За дверью он тихо засмеялся и спросил Мысовского:
— Какие у вас взаимоотношения с директором? Трений не бывает?
Мысовский не понял Курчатова:
— А что? Нормальные отношения. Есть нужда — идем, нет нужды — не беспокоим. Конечно, когда Хлопин в лаборатории, стараемся не отвлекать. Как еще по-другому? Хотите посмотреть комнаты Гамова? Вот уж удар так удар — Гамов ушел в бега! Почему? Зачем? Чего ему здесь недоставало? Почет, уважение, все условия, чтобы работать... Нельзя, нельзя нашему брату ученому брать в жены капризных красавиц! И как теперь быть с его книгами? Да и бумаги остались, возможно, что-нибудь интересное.
В первой, большой комнате Гамова стояли книжные шкафы и стол, филенки шкафов снаружи и внутри были разрисованы. Гамов, как и Френкель, любил рисовать. Но если Френкель предпочитал рисунок серьезный, охотно набрасывая на бумаге карандашные портреты знакомых, то в рисунках Гамова преобладала насмешка: расфуфыренные дамочки, забавно-уродливые мужчины, фантастические пейзажи...
— Нет, — сказал Курчатов. — Вещи Гамова меня не интересуют. Скажите, как дела с циклотроном? Столько разговоров о вашей установке! И столько надежд на нее!
Мысовский ответил без энтузиазма:
— Работаем, Игорь Васильевич... Закончим — покажем. Скрывать свои успехи не станем. Если будут успехи...
Мысовский позвал сотрудников, выделенных в помощь. Оба Курчатову понравились. На пышноволосого Исая, выпускника Ленинградского университета, он обратил внимание еще на конференции. Исай, не пропуская ни одного заседания, слушал так увлеченно, что приятно было смотреть. Был там еще такой же темнокудрый, в очках, Курчатов и к нему присматривался, узнал у Арцимовича, что фамилия его Померанчук, но Померанчук исчез, когда закончилась конференция.
И Гуревич, и Мещеряков с охотой согласились идти на новую работу, Миша Мещеряков так засиял, что Курчатов хлопнул его по плечу и пообещал взять в аспиранты.
— Когда начнем, Игорь Васильевич? — поинтересовался Мысовский.
— Хочу на днях поехать в Харьков, разузнать, как там относятся к экспериментам Ферми. По приезде сразу начнем.
От Радиевого института до Физтеха дорога была не близкая, с добрый час хода, но Курчатов возвращался пешком. Все снова возобновляя в уме разговор с Хлопиным, он пожимал плечами и удивлялся себе. Шел за помощью, а напросился в сотрудники, так получается. В том, что теперь придется вести свои исследования в двух институтах, была важная новизна, она могла привести к непредвиденным результатам. «Пустяки, была бы польза для дела», — вслух утешил себя Курчатов, но смутная досада, почти недовольство собой, не проходила.
4
В каждый приезд молодая столица Украины восхищала Курчатова. Ленинград, величественный и огромный, казался завершенным, можно было часами ходить по его улицам, набережным и проспектам и не увидеть крупного строительства. Харьков менялся на глазах. Новые заводы — тракторный, турбинный, химический — меняли облик бывшего купеческого города. Не было улицы и квартала без огороженных заборами строек. Город пах известкой, цементом, олифой и свежими досками. Сейчас была весна, душный аромат цветущих акаций и сирени смешивался со строительными запахами.
В УФТИ было много друзей, бывших ленинградцев. Курчатов зашел посмотреть — правда ли, что на двери Ландау висит табличка: «Осторожно, кусается!» И табличка такая висела, и сам Ландау кусался. Он орал на какого-то растерянного парня, тот пытался что-то пролепетать в оправдание, профессор не давал. «Вот так, вздор немного повымели из мозгов, иди и заполняй извилины толковым материалом!» — сказал Ландау, отпуская подавленного парня. Курчатов посочувствовал — жаль беднягу, за что его так безжалостно выгнали? Ландау удивился. Кого выгнал? Не выгнал, а привлекаю к работе! Это настоящий физик! Ландау, было ясно, не менялся, даже стал резче, обретя самостоятельность. Опыты Ферми с нейтронами его не захватывали, Курчатову это тоже стало ясно. Зато о теории бета-распада того же Ферми Ландау говорил с оживлением, здесь любимая его квантовая механика непосредственно прилагалась к вопросам ядерной структуры. Но эти проблемы интересовали Курчатова меньше, да он и не разбирался в сложных математических построениях с такой легкостью, как Ландау.
Остановился Курчатов у Кирилла Синельникова. С Кириллом было сделано немало совместных работ. Курчатов хотел бы продолжить их в новой, ядерной области, но энтузиазма у шурина не встретил. Кирилл вернулся от Резерфорда с планом собственных исследований. «Помогу с охотой, — сказал он, — а все время на твои нейтронные начинания убивать — извини!»
— Саша, нужно поговорить, — сказал Курчатов Лейпунскому.
Вечером, в огромном зале, под строящимся ускорителем «Ван-Граафа», Курчатов «поставил вопрос на попа»: как в Харькове относятся к экспериментам Ферми? К экспериментам Ферми в Харькове относились хорошо. Харьковчане от души желали энергичным римлянам дальнейших успехов. Курчатов поставил второй вопрос: а не следует ли воспроизвести эти эксперименты? Нужно бы подхватить инициативу итальянцев. Неизведанная область, на каждом шагу — открытия. И ведь с каждой книжкой итальянского журнала количество опытов Ферми умножается, теперь их подписывает уже не один он, но и Амальди, и Разетти, и Д'Агостино, и Сегре. Видимо, и Разетти понял, что напрасно в Ленинграде молчаливо соглашался с Лейпунским, когда тот возражал против химических смесей как источников нейтронов. Придерживается ли Саша старой позиции? И если да, то как будет теперь ее обосновывать?
— Погуляем, — предложил Лейпунский. — Голова трещит, столько дел было...
Они вышли из института, свернули на Сумскую, подошли к парку. Еще недавно высокий забор отделял тенистый парк от шумной и пыльной улицы. Сейчас забора не было, можно было пройти в любом месте. Лейпунский рассказал, что секретарь ЦК Павел Постышев хотел проверить, легко ли проникнуть в парк без билета, влез на забор, свалился, сокрушенно сказал: «Эдакая длинноногая дылда, и не могу перемахнуть через ограду, как же бедным мальчишкам?» И на другой день забор разметали, а плату за вход отменили.
В парке Курчатов с удивлением услышал соловья. Время соловьиных концертов вроде бы прошло, а этот заливался самозабвенно, как в начале мая. По аллеям бродили парочки, то тут, то там раздавался приглушенный смех. Курчатов снял пиджак и положил на скамейку. В Ленинграде была весна ветреная и холодная, а в Харьков пришло томное лето. Даже дух захватывало — так хороша была эта теплая ночь, источавшая запахи цветов и травы.
— Ты задал очень серьезный вопрос, слушай теперь ответ, — сказал Лейпунский. — Поговорим не о конкретных экспериментах, а о стратегии научного исследования.
Нет, он не отрицал, что эксперименты в Риме непредвиденно изменили пейзаж ядерной физики. И соглашался, что совершил ошибку, заранее отвергая химические источники нейтронов. Но значит ли это, что после каждого нового открытия нужно шарахаться в сторону, срочно менять однажды выбранное направление?
— Но если какие-то реальные возможности недооценили, Саша?..
Лейпунский подхватил подброшенную мысль. Верно — недооценили! Считали, что химические источники нейтронов для опытов слабоваты. Но ведь точно, они слабы! Конечно, радон с бериллием у Ферми показал эффективность, совершены важные открытия. А дальше? А завтра? А через год? Ориентировать ядерную физику на одни химические источники нейтронов? Тысячу раз нет! Будущее в создании мощных ускорителей. Он доказывал это на конференции, он будет проводить это в жизнь в своем институте. Вдумайся только! Ради частного интереса пожертвовать интересом общим? Ради сегодняшнего дня подорвать фундамент, на котором возводится день завтрашний? У вас, в Ленинграде, и понятия не имеют, какие возможности на Украине! Для УФТИ не жалеют ни средств, ни материалов. УФТИ пестуют как любимое детище. Харьковский институт открыт для талантливых людей. Сколько здесь бывших ленинградцев, и ведь настоящие ученые, только таких и приглашали! Ландау создает школу теоретиков, она еще блеснет, еще скажет свое слово и в ядерной физике, и в других ее отраслях! А еще — иностранцы! Из Германии бегут крупные умы, фашисты потом пожалеют о потере таких творцов в науке, как Эйнштейн, Борн, Франк, Пайерлс, Вайскопф... Куда стремятся беглецы? Туда, где есть условия для научного творчества. Харьков открывает двери для изгнанников фашизма. Почему они должны спасаться в Париже, в Лондоне, в Копенгагене, в Нью-Йорке? Физика всюду одна. Харьков становится одним из центров мировой науки, такова перспектива. А как добиться осуществления этого грандиозного плана? Воспроизводством уже произведенного? Сколько еще догонять? Нет уж, пусть за нами погонятся! Свое направление создавать, стать центром, куда стремятся!
— И ты сам тогда запросишься к нам! — с увлечением воскликнул Лейпунский. — Приедешь и скажешь — а нет ли, братцы, работешки для меня в вашем знаменитом институте? И мы возьмем тебя с радостью, ты станешь одним из наших столпов.
Курчатов шуткой смягчил запальчивость речи приятеля:
— А что я делаю, как не ищу у вас работешки? Приехал подталкивать на труды, а кончаю тем, что согласен запрячься у вас коренником.
Лейпунский оценил шутку. Курчатов разрешал набрасывать на себя упряжь, только когда сам хотел скакать.
— Подведем итоги, — сказал Лейпунский. — Магистральное направление института не меняется. Но против совместных работ с химическими источниками нейтронов я, конечно, возражать не буду, сам приму участие в какой-нибудь. И достану радий вместо радона, активность которого за неделю-другую сильно ослабевает. Будем иметь свои источники нейтронов без того, чтобы бегать к чужому дяде за каждой ампулкой, как у вас в Ленинграде. Но повторяю — главное для нас — окончание монтажа больших ускорителей. С этой дороги мы не свернем.
В монтаже ускорителей Курчатов и сам был заинтересован. Он вместе с Синельниковым делал расчеты высоковольтных установок для ускорения заряженных частиц, а вместе с Вальтером разрабатывал импульсные и электростатические ускорители. И хоть все его мысли были поглощены теперь опытами «по Ферми», он каждый день, набросив спецовку, час-другой, а то и больше трудился с монтажниками.
Курчатов уезжал из Харькова в сложном настроении. Создан еще один участок для захвативших воображение экспериментов — надо радоваться! А если берет не по силам ношу? Теперь он сидит уже на трех стульях. Мотаться из института в институт, из города в город — удастся ли?
5
Сидеть, однако, пришлось не на трех, а на четырех стульях. Иваненко заведовал кафедрой в Педагогическом институте, он упросил Курчатова прочесть у них курс лекций и вести практические занятия. Иваненко сказал: «Игорь Васильевич, в институте немало энтузиастов, студентов и молодых преподавателей, надо бы привлечь их к ядерным исследованиям».
Мотание из Физтеха в Радиевый, из Радиевого в Педагогический сам Курчатов солидно называл совмещением; кое-кто употреблял термин ехидней: «разбрасывание». Даже Иоффе, умевший одновременно вести разные работы, недоуменно покачивал головой, однако претензий не высказывал — Курчатов поспевал всюду. А что приходилось из одного здания спешить в другое, было неудобством территориальным, а не принципиальным: во всех местах шло испытание нейтронными снарядами крепости атомных ядер. Правда, в одном месте помогали одни люди, а в другом — другие, но дело-то было одно!
— Отныне, Герман, успех решает не так голова, как ноги, — радостно объявил Курчатов Щепкину, когда принес от Мысовского первую нейтронную пушку активностью в 500 милликюри — стеклянную ампулку со смесью бериллия и радона. — Тренируемся на спринтеров!
Он сам показывал, что решение проблемы — в ногах. Облучение нейтронами испытуемого материала — мишени — происходило в одном конце здания, измерение радиоактивности — в другом. Радон-бериллиевая ампулка и счетчик Гейгера не могли соседствовать: сильное излучение источника искажало показания прибора. Облученную мишень надо было нести в руках. И спешить — искусственная радиоактивность у многих мишеней быстро падала. Щепкин торопился изо всех сил, но вскоре с огорчением признал, что на спринтера не вытягивает, тут все очки захватывал руководитель. Весело покрикивая на встречных, чтобы не мешали, Курчатов побивал рекорды бега. На трассе имелось нехорошее местечко — поворот коридора. Здесь надо было притормаживать, чтобы не врезаться в стену. Курчатов обнаружил, что если на бегу упереться в стену рукой, то можно броском повернуть тело, не теряя скорости. Он вскоре усовершенствовал и этот метод. На повороте водрузили деревянный столб. Столб охватывался свободной рукой — в другой была радиоактивная мишень — поворот на девяносто градусов становился легким.
Хранилище для источников нейтронов нашли отличное — обыкновенное ведро. Вначале его заполняли ветошью и опилками, а уже туда впихивали ампулку, не так для защиты от облучения, как для того, чтобы стекляшку ненароком не поломали. Группа Ферми в это время опубликовала очередное важное открытие — если быстрые нейтроны, вырывающиеся из бериллия, основательно замедлить, то они еще эффективней вторгаются в ядра. Те же римляне установили, что хорошими замедлителями нейтронов являются вещества, содержащие много водорода, — вода или парафин. И вода, и парафин не только замедляли, но и поглощали нейтроны. Курчатов воспользовался парафином как экраном. В глыбе парафина просверливали дырочку и погружали в нее ампулку. Утром Курчатов спешил к ведру и, бодро им помахивая, шел к месту, где производил облучение мишени.
Так как в комнате Курчатова допоздна было полно людей, ведро по окончании обработки мишеней укрывали к соседу, Лене Неменову. Неменов собирал масс-спектрограф, механизм для разделения изотопов. Прибор был хитрый, подгонка шла трудно. Неменов — в Физтехе он был известен под странным прозвищем Буба — славился искусством сложных наладок. Даже Рейнов, мастерски изготавливающий измерительные приборы, с уважением говорил: «Руки у Бубы — золотые, никто так не натянет струну электрометра». Спортсмен — шестнадцатая ракетка страны по теннису — и фотограф, Неменов больше других своих рукомесел гордился умением тонкой сборки. Он вскоре начал с сомнением оглядываться на чужое ведро. Черт его знает, как действуют альфа-частицы и нейтроны на капризный масс-спектрограф! Если ампулка разобьется, не повредит ли это установке? И однажды Неменов запальчиво объявил, что больше не разрешит отравлять воздух своей лаборатории радоном. Он схватил ведро и выставил его в коридор. Курчатов взял ведро и молча удалился.
Устыдившись вспышки, Неменов умоляюще прокричал вслед:
— Игорь, лучше сними с меня штаны, но избавь от радона!
Курчатов обернулся и с укором произнес:
— Не нужны мне твои штаны, Леня!
И то, что он не повысил голоса и назвал Неменова Леней, а не Бубой, показало тому, как сильно он обиделся.
Теперь ведро стояло в закутке возле лестницы на второй этаж. Здесь производилось и облучение мишеней. Курчатов напрасно побаивался, что с радон-бериллиевой ампулкой может что-то случиться. Сотрудники института, хоть и любопытные, в опасный закуток старались не лезть.
Стычка имела неожиданно хорошие последствия. Неменов скоро разобрался, что обвинения против радон-бериллиевой ампулки неосновательны, надежную работу масс-спектрографа она не могла испортить. Он нашел способ загладить свою вину. Курчатов жаловался, что Радиевый институт держит их на голодном пайке: основными потребителями радона были медицинские учреждения, физикам доставалось так мало, что активность источника исчерпывалась до того, как получали новую ампулку. Неменов обещал помочь горю. Его отец, основатель и директор Рентгенологического института, привез из Парижа купленные у Марии Кюри полтора грамма радия по миллиону рублей за грамм. Радон был нужен и самому Рентгенологическому институту, и связанным с ним медикам, но малую толику из своих богатств Неменов-старший физикам выделил. Примирение состоялось, когда один из друзей вручил другому внеплановую ампулку. Порадовало и то, что рентгенологи за свой радон денег не брали — Радиевому институту платили по рублю за милликюри, — лишь просили, чтобы в отчетах и статьях упоминали об их бескорыстной помощи.
Полного довольства все же не было. «Двух маток сосем, а голодно! — говорил Курчатов. Вскоре он начал добавлять, рассматривая свои руки: — Впрочем, было бы легче с радоном, стало бы хуже с руками».
Работа с радоном оказалась опасней, чем ожидали. И у Курчатова, и у Щепкина краснели пальцы рук, на них уплотнялась и омертвлялась кожа. Курчатов с сокрушением шевелил пальцами — огрубевшая, воскового блеска кожа лишила их прежней подвижности. Потом омертвевшая кожа стала слезать, ее можно было снимать, как чулок, — под ней обнажался слой свежей кожи, розовой, очень тонкой, легко ранимой, — скорее пленки, чем кожи. Курчатов встревожился — у великой исследовательницы радия Марии Кюри на руках появились язвы, как бы у них не произошло то же! Но язвы не образовались, розовая пленка постепенно утолщалась, становилась нормальной кожей, снова твердела, снова приобретала восковой оттенок — и опять снималась чулком. В гибели и нарастании свежей кожи появилась закономерность, Курчатов определил ее: от снятия с пальцев одного «чулка» до снятия следующего проходило примерно две недели, отклонения не превышали плюс-минус два дня.
— Правда, змеи меняют кожу лишь раз в год, — сказал Курчатов, посмеиваясь. — Но зато — со всего тела, а мы лишь с трех пальцев на каждой руке. Преимущество несомненно!
Скоро и у третьего работника лаборатории Льва Русинова появились радиоактивные ожоги. Большой и указательный пальцы распухли. Русинов с гримасой рассматривал их — боль была невелика, но обожженная рука работала хуже.
Мишени для облучения готовились в лаборатории. Металлы — золото, серебро, медь, алюминий, свинец, железо — на комнатных вальцах превращались в пластинки. Пластинки оборачивали вокруг стеклянной ампулки, тогда облучение шло с максимальной эффективностью. А неметаллы вроде фтора, хлора, кремния и других брали в удобном химическом соединении, смешивали с маслом или вазелином и намазывали пасту на лист бумаги — лист с тонким слоем мишени еще легче обертывался вокруг источника.
Курчатов привлек к своим работам и брата Бориса, работавшего в другой лаборатории Физтеха. Курчатов не посчитался с тем, что брат имел собственные задания. Он нагрузил Бориса и своими пробами. Брат быстро увлекся. Для анализа радиоактивных материалов требовались тонкие методы определения ничтожных количеств. «Боря, ты становишься превосходным радиохимиком!» — восхищался Курчатов, получая очередную сводку результатов. К услугам были также и солидные химические лаборатории Радиевого института.
Уже первые эксперименты показали, что преобразование ядер под действием нейтронов нередко сложней, чем описывали в Риме. Алюминий превращался не только в натрий, но и в магний. По двум реакциям распадался и фосфор. Ядерные реакции не шли однозначно, они разветвлялись Это уже была самостоятельная находка, а не простое воспроизведение чужого эксперимента.
— Ты тоже разветвляешься, Игорь! — шутливо говорил Борис Васильевич, когда брат приволакивал кучу облученных мишеней. — Кого еще привлек к своим исследованиям?
Курчатов ухмылялся. Он «разветвлялся», точно, — неутомимо выискивал новых сотрудников, безжалостно нагружал их новыми темами. Нет штатов на расширение собственной лаборатории, нет свободных физиков, жаждущих, чтобы их запрягли в чужую упряжку и лихо погнали? Не беда, можно обойтись и без штатов, а помощников найти не трудно. Зайди в лабораторию к соседу, поймай за пуговицу хорошего человечка в коридоре, расскажи, чем занимаешься, — не может быть, чтобы не загорелся! И немыслимо, чтобы, загоревшись, не захотел участвовать в эксперименте. Занят собственной тематикой? Совмещай! Если уж Льву Мысовскому захотелось совместить свои космические лучи с бомбардировкой нейтронами фосфора и алюминия, если другого Льва, куда свирепей, — Льва Арцимовича — удалось отвлечь от его высоковольтных дел и приобщить к поглощению медленных нейтронов в химических мишенях, если Буба Неменов, недавно еще шарахавшийся от радона, как черт от ладана, с умильной улыбкой поглядывает на ненавистное вчера ведро с ампулкой в парафине — почему же в таких условиях не разветвляться? Постановка эксперимента широким фронтом, никакое не разбрасывание!
— После работы! — убеждал Курчатов одного из «соблазняемых», тот сокрушался, что в рабочее время не удается отвлечься на посторонние эксперименты. — Огромный же отрезок жизни — «после работы». Вечер, ночь! Здоровому человеку сколько нужно на сон? Шесть часов? И восемь на основную тему? Прелесть какой резерв плодотворного времени — десять свободных часов!
Среди завербованных по «резерву времени» объявился и Георгий Латышев, приехавший в Физтех из Харькова. Низенький, округленный, не так бегающий, как катящийся, он отличался пробойностью двенадцатидюймового снаряда. Он не входил в комнату, не проскальзывал, не скромно возникал, а бурно вторгался. О нем говорили с усмешкой: «Если Латышев пришел к тебе за замазкой, а замазки нет, брось все, беги искать и не возвращайся без замазки — так будет лучше». Курчатов объединил его с Неменовым и загрузил. Латышев бодро «потянул тележку».
Один удавшийся эксперимент породил вначале не радость, а недоумение. Лев Русинов проверял опыты Ферми с бромом. У двух изотопов брома под действием нейтронов образуются радиоактивные изотопы того же брома, с периодами полураспада 30 минут и 6 часов. Так утверждали итальянцы. Но кроме этих двух ядерных реакций Русинов обнаружил еще и третью — с периодом полураспада в 36 часов. Она повторялась в каждом опыте, но была слабенькой, поэтому ее и не открыли в Риме.
— Образуется еще какой-то элемент, кроме брома, — оценил результат Курчатов. — Надо найти этот другой элемент.
Но других элементов не образовывалось. Во всех облученных мишенях присутствовал только бром. Два его изотопа, захватывая нейтрон, превращались в два других изотопа, но тремя разными путями. Эксперимент, призванный разрешить загадки, порождал свои собственные. Мысовский перепроверил результаты Русинова — разницы не было.
— Под действием нейтронов у одного изотопа брома появляются две разные активности, — комментировал неожиданность Курчатов. — Вроде двух близнецов. Их стукнули кулаком, оба побежали домой, один — переулочками, другой — по проспекту. А дома — оба, но в разное время.
Объяснение было образное, но еще требовалось выяснить, насколько оно основательно. Борис заметил, что соединения, одинаковые по составу, но отличные по свойствам, в химии называются изомерами. Не натолкнулись ли они на похожие явления у атомных ядер?
Курчатов развел руками. Термин «ядерная изомерия» уже употреблялся теоретиками ядра, в частности Гамовым. Пока можно лишь говорить об открытии трех типов распада у двух изотопов радиоброма, а почему они появляются — задача дальнейших исследований.
...Эти дальнейшие, хорошо продуманные эксперименты по изомерии брома несколько лет шли в лаборатории Курчатова — их ставили тот же Лев Русинов и Александр Юзефович — и за рубежом и внесли полную ясность в загадочное явление. Ядерную изомерию открыли еще у стронция, индия, серебра, золота, платины, иридия и урана. Немецкий теоретик Карл Фридрих Вейцзеккер, через полтора года после первой публикации группы Курчатова, объяснил загадку: ядро брома, поглощая нейтрон, возбуждается, пробегает ряд возбужденных состояний; одно из них, метастабильное, несколько устойчивей, чем другие: у такого метастабильного ядра освобождение от избыточной энергии немного задерживается. Так появляется активность с иным периодом полураспада.
Но это было уже после того, как никто в мире не сомневался, что в лаборатории Курчатова совершено важное открытие. А пока сами авторы сомневались, Курчатов твердил: неудачи от незнания — не катастрофа, а печальный, но, в общем, нормальный ход эксперимента; неудачи от плохого исполнения — катастрофа! Исполнение было отличное. Тридцатишестичасовая активность наблюдалась в каждом опыте. Можно было садиться за статью об открытии.
Время шло к полночи, когда Курчатов отредактировал отсылаемую в журнал статью. Он зевнул, потянулся, пошел к выходу, заглядывая в помещения, где горел свет. Из-за двери лаборатории Кобеко доносилось пение: Павел, вытачивая железную детальку на станочке, услаждал себя ариями собственного производства. Он мигом догадался, что у Курчатова — событие.
— Чего-то открыл, Игорь?
— Есть немного, — скромно признался Курчатов.
Кобеко захохотал и огрел Курчатова пятерней по плечу. Курчатов возвратил удар с воодушевлением — Кобеко едва удержался на ногах.
— Отметить бы, Гарька! Да нечем, — с сожалением сказал он. — У тебя не найдется чего-нибудь хорошего?
— Ни хорошего, ни плохого. Хочешь послушать, чего мы наработали?
— Сделаем так. На Невском открыли ночной бар. И «Теремок» пока не заколочен, хотя второй год грозятся. В оба заведения пускают до четырех ночи. Посидим, поговорим.
Была пора белых ночей — светло и тепло. На небе, как подожженные, сияли облака. Курчатов с наслаждением вдыхал ароматный воздух — ветерок тянул из ближайшего леса. В суматошливых экспериментах последних недель он упустил рождение белых ночей — в прежние годы этого не бывало. Что бы ни совершалось в лаборатории, но ночные гуляния по светлым улицам — на Выборгской стороне в эту пору пустынным — с Мариной, с братом, с друзьями, в одиночестве были традиционны.
Подошел трамвай с прицепом, оба вагона почти пустые.
— Итак, слушай, — сказал Курчатов.
Кобеко был среди первых помощников еще в ту пору — десять лет уже прошло, — когда Курчатов начинал в институте. Сперва рабочий, потом препаратор, лаборант, научный сотрудник, доктор физико-математических наук, завтра, не исключено, академик. Таков его путь в Физтехе. И пока Курчатов не увлекся атомным ядром, Павел усердно сотрудничал, охотно признавая верховенство друга. Но поворота Курчатова Кобеко не принял. Он ворчал, что друг совершил измену, сменив диэлектрики и полупроводники на ядра. Он горячился. Сегнетоэлектриками Курчатов вписал новую страницу в физику, а что сделает в ядре? Повторять зады, догонять все дальше уходящих экспериментаторов Запада? Павел не скрывал, что надеется на новый поворот: Курчатов убедится, что в таинственно-темном ядре ему не светит, вернется к старым темам — и возобновится их сотрудничество. Курчатов тоже хотел возобновления совместной работы, но только в новой области. Это он и собирался еще раз предложить Павлу.
— Отлично, Игорь! — поздравил Кобеко, когда Курчатов закончил объяснение. — Не знаю, открыта ли новая глава в науке о ядре, не убежден и в новой странице, но что ты вписал свой особый параграф в одну из страниц, уверен.
Они вышли на Литейный, шли к Невскому. На Невском во время белых ночей всегда было много гуляющих. Друзья направились в «Теремок», ресторанчик в переулке, соединявшем площадь перед театром с Садовой. У Фонтанки Курчатов остановился.
— Помнишь, Павел? — Он показал на бронзовых коней, вставших на мосту на дыбы. — Не хочешь еще разок прокатиться?
Однажды в такую же белую ночь, изрядно навеселе, Кобеко проходил с приятелями по мосту. Кто-то показал на упавшего бронзового наездника и обругал его слабаком. Лошадь не столь уж норовистая, как ее старался изобразить барон Клодт, можно и с ней справиться. Только вот как взобраться на такую высоту над рекой? Кобеко мигом отозвался на вызов. Вскарабкавшись на постамент, он влез на спину скакуна и смачно заорал: «Но-но!» Вокруг собралась хохочущая толпа, подоспел и милиционер. Кобеко гулко колотил по бронзовым бокам коня, милиционер кричал снизу: «Слезайте немедленно, гражданин, и платите штраф за нарушение!» Кобеко весело отозвался: «Штраф бери, твое право, а покататься дай!»
Кобеко посмотрел на взметенные передние ноги скакуна.
— Надо бы, надо еще разок покататься! Да видишь ли, почти десяток лет с той ночи уплыло, столько же килограммов жирка добавилось! Боюсь, не осилю подъема!
С минуту они шли молча.
— Павел, ты теперь сам видишь — работа моя перспективна, — осторожно сказал Курчатов. — Переходи ко мне. Для начала совмести свою теперешнюю тематику с новой темой. Это ты осилишь.
Кобеко, похоже, ожидал такого предложения. Он грустно покачал головой.
— Вероятно, осилю, ты прав. Да не умею менять привязанностей. У каждого своя физика. Твоя физика — ядро, теперь я окончательно это понял. Моя — та, которую мы вместе с тобой когда-то начинали. Ей не изменю.
6
Иоффе совершал утренний обход института. Открыв дверь в лабораторию атомного ядра, он задержался на пороге. Впечатление было такое, что курчатовцы организовали хоровой кружок. Чей-то тенорок заводил: «По Дону гуляет, по Дону гуляет...», баритоны и басы подхватывали: «...казак молодой!» В хоровой полифонии выделялся баритон Курчатова.
— Я не помешал? — спросил Иоффе с иронической приветливостью. — Продолжайте, пожалуйста, работать.
Сотрудники обычно не прерывали своих дел во время посещений директора. И сейчас Щепкин усердно намазывал какую-то пасту на лист, Вибе выглаживал на лабораторных вальцах полоску никеля, Латышев менял прокладки в камере Вильсона, а Курчатов просматривал тетрадку с химическими анализами. Только пение оборвалось. В лаборатории часто пели во время работы, но заливаться соловьем в присутствии академика никто бы не посмел.
— Игорь Васильевич, у нас сегодня гость, — сказал Иоффе значительно. — Сергей Иванович Вавилов позвонил, чтобы его ждали. Он, вероятно, заинтересуется и вашими работами.
Курчатов понимающе кивнул. Иоффе продолжал обход лабораторий, сообщая, кому надо, о приезде Вавилова. Он не выдавал своего беспокойства, но физики догадывались, что у директора на душе.
В Ленинграде менялась обстановка.
После революции столицей стала Москва, но Ленинград долго оставался научным центром страны — здесь была Академия наук и многочисленные институты. Недавно правительство приняло решение сосредоточить основные научные силы в столице. Академия уже переехала в Москву, с насиженных мест снимались и крупные институты. Иоффе побаивался, что и Физтеху придется менять географические координаты. Приезд Вавилова мог определить дальнейшую судьбу института.
Сильный физик, приветливый человек, Вавилов в Академии наук был фигурой значительной. Созданный им Физический институт — ФИАН — он перевел в Москву, но, став одновременно научным руководителем Оптического института, сам он, коренной москвич, переехал в Ленинград. Теперь Вавилов руководил двумя учреждениями — одним в столице, другим здесь — и не жаловался ни на перегрузку, ни на неудобство сидеть на двух стульях.
Вавилов сразу успокоил Иоффе: о переводе Физтеха в Москву речь не идет. Физтех, Оптический и Радиевый институты останутся на месте. Было бы неразумно такой город, как Ленинград, научно обескровливать. Но, конечно, идущая по всей стране реорганизация научных учреждений в какой-то степени затронет и Физтех.
— А в какой — вы сами определите, Абрам Федорович, — дружески разъяснил Вавилов. — Я подразумеваю — весь ваш коллектив.
Они переходили из лаборатории в лабораторию, Вавилов так внимательно слушал, склонив немного голову, что Иоффе приходилось останавливать сотрудников, те, увлекаясь, вдавались в мелочи. И хотя сам Вавилов был оптик и его, казалось бы, должна интересовать близкая ему тематика, Иоффе заметил, что дольше он задерживается у исследователей ядра.
Скобельцын информировал о новых открытиях в космических лучах. «Отлично!» — одобрил Вавилов. Алиханов показал кривые, составленные им, его братом Артемом Исааковичем и их сотрудниками Козодаевым и Джелеповым, — позитронное излучение, открытое Жолио, было измерено количественно двумя счетчиками. «Превосходно!» — сказал Вавилов. Курчатов рассказал о разветвлении ядерных реакций, о ядерной изомерии — и его находки нашли одобрение.
А затем, на совещании у Иоффе, Вавилов рассказал, что недавно вернулся из поездки по Европе. Он был на заводах и в лабораториях Парижа, Берлина, Варшавы, Вены, Рима и Флоренции. Ферми произвел на него особое впечатление, он восхищен успехами римских физиков. И хоть сам не изменит родной ему оптике, но должен признать, что центр исследований в физике сегодня передвигается к атомному ядру. Но он не уверен, что нынешняя организация исследований ядра совершенна. Он скорей убежден в обратном. Исследования распылены по разным институтам. Ими занимаются Радиевый и Физтех в Ленинграде, Физтех в Харькове, у него в ФИАНе в Москве тоже организована лаборатория по ядру, в ней трудится его ученик Илья Франк... К чему такая разобщенность? Нет, творческие умы надо сконцентрировать в одном месте! Ваш институт — физико-технический, слово «технический» обязывает. А что такое тематика ядра? Чистая наука! Нет от нее выхода в практику. Физтехом командует Наркомтяжпром, а Наркомтяжпрому нужно развивать промышленность.
И Вавилов подвел итоги:
— Работы по ядру надо сконцентрировать в академическом институте. И лучше всего это сделать в моем ФИАНе.
Физики переглядывались. Иоффе что-то чертил на листе, стараясь ни на кого не глядеть. Институт не разваливался, конечно, но, если будет принято предложение Вавилова, Физтех, сегодня уникальный, завтра станет одним из многих рядовых институтов.
— Ни в коем случае! — запальчиво воскликнул Алиханов. — Мы здесь начали свои работы, мы будем их здесь продолжать.
Арцимович и Курчатов тоже не выразили желания расставаться с родными стенами.
Вавилов с ласковым сокрушением развел руками. Он никого не приневоливает, тем более что никто и не уполномочивал его на это. Он рад, что физики так преданы своему делу. Он только напомнит на прощание, что предложение не снимается — двери ФИАНа открыты для всех.
Расставаясь с Иоффе, Вавилов уже не советовал и не уговаривал — предостерегал:
— Абрам Федорович, вы человек проницательный, но в современной обстановке не разобрались. Институт не раскассируют, но вряд ли вам удастся сохранить прежнюю широту тематики. Было бы нечестно, если бы я утаил это от вас.
— Ядерные исследования я все же постараюсь сохранить, — ответил Иоффе после некоторого молчания.
Физики разошлись по своим лабораториям. Алиханов через тонкую стенку слышал разговор Арцимовича с Курчатовым. Сперва они обсуждали предложение Вавилова, потом заспорили о своих экспериментах.
Недавно Курчатов отвлек Арцимовича на «попутную» совместную работу, связанную с поглощением нейтронов в разных веществах. Они обнаружили, что уже тоненькая пластинка кадмия сильно уменьшает интенсивность нейтронного потока, а дальнейшее утолщение пластинки на поглощении не сказывается. Другие элементы показывали такую же зависимость — тонкие их слои вызывали резкое ослабление потока, дальнейшее его уменьшение шло медленно.
Курчатов нашел объяснение: каждый элемент, даже в тонком слое, поглощает избирательно все нейтроны определенных, только для этого элемента характерных скоростей, а остальные захватываются значительно слабей. Арцимович доказывал, что резонансного поглощения нет, все это ошибки опыта. Курчатов ставил новые эксперименты, Арцимович обнаруживал в них изъяны, оправдывающие его скептицизм.
Алиханову надоел шум за стеной, и он вышел к приятелям.
— Лева, ты адвокат дьявола. Ты артистически во всем находишь недостатки. Это хорошее свойство для исследователя, не спорю. Но Игорь в данном случае прав. Если явление постоянно воспроизводится, оно реально.
Арцимович состроил насмешливую гримасу:.
— Постоянно воспроизводятся и просчеты. В каждом эксперименте накладывается что-то постороннее или не учитывается что-то нужное. Роден говорил: я делаю статую так — беру кусок мрамора и отсекаю все лишнее. Вот когда эксперимент будет, как статуя Родена... Раньше я свою подпись под публикацией не поставлю!
— И дождетесь, что кто-нибудь независимо от вас откроет резонансное поглощение нейтронов и раньше вас опубликует его, а вы останетесь с носом, — предсказал Алиханов.
Курчатов всей своей интуицией физика ощущал, что найдена важная закономерность. Он не мог указать, где, в чем, как она будет потом применена, но что они приоткрыли дверь в интересную область, был убежден. Арцимович признавал лишь строгие доказательства, над ощущениями он посмеивался. Курчатов нередко терялся, когда насмешливый друг излагал свои контрдоводы. У него порой пропадала охота работать над тем, что попадало под язвительный обстрел Арцимовича. Сейчас он не мог отступиться. В точности опытов он был уверен.
— Скоро я буду в Харькове, — сказал Курчатов, устав от спора. — Попытаюсь подключить и Сашу, и Кирилла к нашим исследованиям. Может быть, и Антона Вальтера. Если у них получится то же самое, ты перестанешь сомневаться?
— Посмотрим, — ответил Арцимович. — И не только на то, что получится, а и на то, как получается. Воспроизводство ошибок меня не убедит, я не поклонник ошибочных повторений.
7
Курчатов опять ехал в Харьков.
В Харькове заканчивался монтаж большого «Ван-Граафа» на 2,5 миллиона вольт. И там появились новые сотрудники, свои и эмигранты из Германии, хотелось на каждого посмотреть. Кое с кем, рассчитывал про себя Курчатов, можно поставить и совместные опыты.
При первой же встрече с Лейпунским, Синельниковым и Вальтером — главным строителем большого «Ван-Граафа» — Курчатов рассказал, что они в Ленинграде вроде бы нашли резонансное поглощение нейтронов в разных элементах. Неплохо бы аналогичные опыты поставить и в Харькове. Синельников по совместительству заведовавший библиотекой института, вспомнил, что вчера пришел журнал с новой статьей Ферми — там что-то есть и о резонансном поглощении нейтронов.
Курчатов молча пробежал принесенную Кириллом статью. Предсказание Алиханова оправдалось. Пока они с Арцимовичем дискутировали, Ферми поставил такие же опыты, получил такие же результаты — и немедля послал сообщение в печать. Ленинградцы упустили открытие. Теперь они о своей собственной находке обязаны говорить: «Таким образом, нами подтверждено замечательное наблюдение итальянских физиков...»
К разочарованию примешивалось и другое чувство. В конце концов, он работает не ради приоритета, а для науки. Он стоит на верном пути, на самом переднем крае науки — этот вывод неопровержимо вытекал из статьи Ферми. Еще недавно их мучило, что они лишь догоняют западных физиков. Это уже в прошлом.
— Саша, — сказал Курчатов, поглядев на Лейпунского засветившимися глазами, — а не кажется ли тебе, украинский батько физики, что мы ныне скачем с западными мастерами ноздря в ноздрю? И будь попроворней, уже и сегодня вырвались бы вперед на полкорпуса. Поглощение нейтронов разными ядрами — область необъятная. Ферми, опередив нас, лишь приоткрыл в нее дверь.
Лейпунский согласился поставить цикл исследований по взаимодействию нейтронов с разными веществами при разных температурах.
— Я познакомлю тебя с новыми сотрудниками, Игорь. Выбирай, кто больше подходит.
Он повел Курчатова к Фрицу Хоутермансу. Этот человек занялся ядерными проблемами еще до того, как они захватили воображение физиков всего мира, и шел своим особым путем. Он был хорошим теоретиком, умелым экспериментатором, но все, кто общался с ним, утверждали, что он скорей фантаст, чем физик. Лет восемь назад Хоутерманс опубликовал с Аткинсоном гипотезу, что энергию звезд надо искать в никому тогда — и авторам в том числе — неизвестных ядерных реакциях, другую статью в том же роде написал вместе с Гамовым. Он же перевел на немецкий язык книгу Гамова об атомном ядре.
— Ты знаешь, что Фриц предложил мне? — со смехом рассказывал Синельников. — Заняться созданием на Земле звездного вещества! Он считает, что при звездных температурах ядерные реакции пойдут по-иному. Ни больше, ни меньше, как сотворить в лаборатории крохотную звезду со всеми ее миллионами градусов температур и адскими давлениями!
О Хоутермансе говорили, что он левый, что, опасаясь преследований нацистов, бежал в Советский Союз. В Харькове изгнанник усердно учил русский язык, признавался каждому доверительно, что чувствует себя не в эмиграции, а на новой родине.
Живой, плотно сбитый, жилистый, выше среднего роста, Хоутерманс крепко сжал руку Курчатова, засмеялся, закинул ногу за ногу. В его небольших неярких глазах то пробегали светлые насмешливые огоньки, то, сразу темнея, глаза становились внимательными. И хоть он мало походил на стандартный образ уравновешенного, степенного немца — входил с шумом, не закрывая дверей, с грохотом передвигал стулья, слишком громко хохотал, — беседуя, он сразу сосредоточивался. Этот человек умел и слушать, и говорить. И каждая его реплика свидетельствовала, что в вопросах ядерной физики он ориентируется в совершенстве.
— Значит, фермические опыты? — сказал Хоутерманс с удовлетворением. Он еще коверкал русские выражения — фермические опыты, вместо опыты Ферми, омское сопротивление, вместо омическое, зеленым покраском, вместо зеленой краской... Иногда ошибки были так смешны, что их с удовольствием повторяли все молодые сотрудники. Хоутерманс не обижался, когда его поправляли, сам радостно хохотал, если смеялся собеседник. И, с настойчивостью совершенствуясь в трудном языке, он отвечал по-русски, даже когда к нему обращались по-немецки. — Поглощение нейтронов при большом холоде, так? Большой холод делают супруги Руйман, правильно? Градусы сто пятьдесят ниже нуль, так?
Супруги Руйман, тоже политические эмигранты, были специалистами по физике низких температур. Курчатов хотел проверить, не увеличивается ли поглощение нейтронов ядрами при большом понижении температуры. Засучив рукава Курчатов стал помогать Руйманам. Пробегавший мимо Ландау поинтересовался, как с низкими температурами? Жена Руймана стала объяснять, ссылаясь на теорию, почему не ладится. Ландау прервал ее:
— Варвара, ты дура! Теория не про тебя, работай руками!
Она заплакала и отошла. Курчатов с упреком сказал:
— Зачем вы ее так? Ведь женщина.
Ландау искренне удивился. Ну и что, если женщина? Они ведь говорили о физике, не светская болтовня.
Барбара Руйман успокоилась лишь после того, как, увидев какое-то новое решение на теоретическом семинаре, Ландау с воодушевлением объявил: «Ну и идиот же я! Такого простого варианта не заметил!»
Хоутерманс тоже был недоволен супругами Руйман. И высказал это на совещании так, что привел всех в смущение. На его своеобразном русском языке слова звучали с особой выразительностью:
— Слушайте, Руйман, вы же кто? Вы же — евреи, а вам дали хорошо работать. Вы должны ценить такой отношение. Больше благодарность, Руйман. А что вы работает? Это же никуда, верно? Это же плохо благодарить, товарищ Руйман.
— Интересная аргументация, — с удивлением говорил потом Курчатов Синельникову. — А ведь Хоутерманс — враг фашизма!
— Возможно, его подводит плохое знание языка. Он, вероятно, хотел сказать, что на новой социалистической родине Руйманы должны работать с воодушевлением. А верную мысль высказал в привычных ему и чудовищных для нас терминах. Ты присмотрись, как он сам работает — загляденье!
Что Хоутерманс работает превосходно, Курчатов установил сразу. Даже странно было у теоретика, к тому же непоседливого и порывистого, увидеть такую придирчивую осмотрительность, такую спокойную дотошность, такое внимание к мелочам. Было ощутимое противоречие между теоретическими фантазиями, так увлеченно уносившими его в пекло неведомых звездных реакций, и этими неторопливыми руками, ощупывавшими контакты и разветвления проводов. И еще одно приятное свойство обнаружил Курчатов у Хоутерманса. Он был наделен чувством юмора: умел шутить, умел встретить шутку.
Что до Руйманов, то, помогая им, Курчатов вскоре убедился, что во всяком случае сам Руйман превосходно разбирается в физике низких температур, но еще не освоился с быстрым темпом работы харьковчан.
Лейпунский выполнил все, что в прошлый приезд обещал Курчатову по экспериментам с химическими источниками нейтронов. И размах в Харькове взяли крупней ленинградского! Вечерами Митя Тимошук, недавний выпускник Харьковского университета, приносил в кармане в Физтех из соседнего Рентгенологического института с полграмма радия, а утром возвращал. Курчатов со смехом спросил: знает ли Митя, что без расписки и охраны таскает материал стоимостью на международном рынке в тридцать тысяч долларов? Тимошук равнодушно ответил — ну и что? Он же не на рынок тащит! Да и кто на барахолке заинтересуется радием?
Радий хранился в платиновой трубочке, трубочка была заключена в две оболочки — золотую внутри, серебряную снаружи. Погружая платиновую трубочку в пробирку с порошкообразным бериллием, получали источник нейтронов. Курчатов захотел сам собрать источник, но обожженные пальцы — с них в очередной раз слезала огрубевшая кожа — не сумели развернуть серебряную оболочку. Лейпунскому тоже не удалось с ней справиться. Тимошук ловко развернул и серебряный, и золотой листочки. Курчатов добродушно проворчал:
— Ну и молодежь! Так и оттирают старших!
А случившийся рядом Хоутерманс, намекая на избрание Лейпунского в члены Украинской академии наук, иронически заметил:
— И вообще — удивительный ваш страна. Грамм радия достать легче, чем купить фунт гвозди. Лаборант работает лучше академик.
И Курчатов, и Лейпунский со смехом дружно закивали. Страна, точно, удивительная. Для науки ничего не жалеют. Грамм радия, без расписок таскаемый в кармане, — веское доказательство. И что фунта гвоздей не всегда добудешь — тоже естественно: трудности роста, издержки гигантского строительства. А что лаборант кое в чем превосходит академика — не обидно: дело для обоих новое, в освоении нового преимущество всегда за молодежью.
Шутка Хоутерманса оказалась вещей: институту вскоре выделили свой радий, можно уже было не бегать каждый вечер к соседям. Теперь пришлось завести охранника, сидевшего с винтовкой у заветного сейфа. Лаборантка Зина Тюленева — по совместительству лихая парашютистка — как-то обнаружила, что охранник сочно похрапывает на посту. Она стянула винтовку и подняла тревогу. Испуг охранника, метавшегося по комнате в поисках исчезнувшего оружия, был сравним только с ликованием лаборантки, усердно помогавшей ему в осмотре всех закоулков.
Однажды Курчатов остался с Хоутермансом в помещении большого «Ван-Граафа». Хоутерманс показал на ускоритель, заполнявший двадцатипятиметровую высоту зала — гигантский шар диаметром в десять метров покоился на трех колоннах, каждая в четыре обхвата:
— Отличный машин. Можете гордиться! В Европе такого нет.
Курчатов давно хотел спросить Хоутерманса о Гамове. Не знает ли Хоутерманс, где Гамов сейчас, каковы его успехи? Гамов считал, что на родине плохо, его не устраивало, что ему охотно давали грамм радия, когда в магазине с трудом доставали фунт гвоздей; он доказывал, что только при обилии жизненных удобств расцветает талант теоретика. Но что-то не видно его новых крупных работ. Почему?
Хоутерманс развел руками. Нет, он давно не видел Гамова. Гамов хотел остаться в Европе, это не удалось. Резерфорд сказал, что возьмет его, если об этом будет ходатайствовать Советское правительство. Ходатайство правительства — хорошо устроить человека, бежавшего со своей родины, — вот такую пощечину влепил великий Резерфорд Джорджу Гамову, ха-ха! Гамов убрался в Америку, сделал совместно с Эдвардом Теллером работу по бета-распаду. Небольшая статья, но сильная — революции не произвела, а важную закономерность открыла. Джордж много пьет — виски, водка, ром. Говорят, он ссорится с женой, они хотят разводиться. Детей нет, семьи нет... И самое главное — дефицит творчества.
— Не понимаю, что ему надо, — сказал Хоутерманс, пожимая плечами. — Я приехал Харьков не за жизненный удобств, за творческий условий — верно? Мой жена работает в Харькове в редакции журнала, тоже хорошо. Гамов еще пожалей, вы увидите!
Весь этот вечер Курчатова не оставляли мысли о бывшем товарище. Гамов, вероятно, уже жалел об опрометчивом поступке. Он потерял безвозвратно то, что так воодушевляло его в Ленинграде — преклонение друзей перед его талантом, постоянное, нетерпеливое, воодушевляющее ожидание от него научных подвигов. Он с озорством подчеркивал свою на всех непохожесть, но был все же свой среди своих. А там? Джордж Гамов пьет — это ли стимулятор творчества? А ведь он знал другое опьянение — восторженно впивающиеся в него глаза, самозабвенно внимающие его откровениям уши! Сравнение выспренно, но есть ли более точное? Фунт гвоздей и грамм радия! Фунт гвоздей...
Перед отъездом Курчатов еще раз уточнил план совместных работ.
Сегодня харьковский Физтех лучшее место в стране для исследований атомного ядра. Вавилов с неодобрением указывал на распыление ядерщиков по разным городам и учреждениям. Совместные работы компенсируют эти неудобства. Их институты будут обмениваться работниками, это превратит учреждения в разных городах в нечто научно единое. Как отнесутся в Харькове к тому, что он пришлет из Ленинграда кое-кого из своих сотрудников?
— Пожалуйста, — сказал Лейпунский. — Я со своей стороны отпущу с тобой Митю Тимошука и Васю Дементия. Пусть и они посмотрят Ленинград. Они, наверно, не видали реки шире Лопани. А пока пойдем сразимся перед отъездом разок в теннис.
Курчатов мастерства в игре не показывал, но теннисный корт посещал с охотой. Лейпунский даже на важные совещания приходил с ракеткой и, слушая выступления, вертел ее в руках. Он заразил своей увлеченностью всех физиков, на теннисный корт спешили, как в кинозал на американский боевик. Ландау, стремившийся всюду быть первым, легко обыгрывал Лейпунского, Вальтера и Синельникова, умелых игроков. Харьковские теннисисты, прослышав об увлечении физиков, стали частыми гостями Физтеха, но и им доставалось от грозного Ландау. В отличие от Курчатова, легко мирившегося с поражениями на корте, у Ландау мигом портилось настроение, когда противник брал верх. В такие дни он не только кусался, но и бодался. К счастью для молодых теоретиков, концентрировавшихся вокруг Ландау, теннисные драмы случались редко. Зато Эдди, жена Кирилла, проигрывала весело. Казалось, проигрыш на корте доставлял ей удовольствие, — она так счастливо хохотала над своей неудачей, так радостно взмахивала волосами, что проигрышу аплодировали, как победе.
Возвращался домой Курчатов через Москву. В Москве он водил своих спутников Тимошука и Дементия по всем примечательным местам, в музеи, театры, на выставки и в институты. Особенное удовольствие доставляли им поездки в метро. Курчатов с увлечением катался на эскалаторе. Он способен был, спустившись вниз, тут же опять подняться и опять спуститься.
В Ленинграде Курчатов провел харьковчан по всем лабораториям и предоставил им самим выбирать, где бы они хотели поработать.
8
Ноша, какую Мысовский взвалил на себя, начав строительство циклотрона, была явно не по плечу. Он выдвинулся в исследовании космических лучей, первый применил для фотографирования толстослойные пластинки, первый предложил для контроля металлических конструкций гамма-излучатели — все это были серьезные научные труды. Еще в двадцатых годах он стал известен в научных кругах за рубежом, с ним переписывались крупные иностранные ученые. Чуждый научного консерватизма, он и сам высказывал интересные идеи и охотно поддерживал чужие. Но систематическая, упорная, непрестанно возобновляющаяся, однообразная работа ему претила, он быстро терял к ней интерес. Прекрасный лектор, он многих студентов, ставших потом видными учеными, увлек в физику, но своих аспирантов старался предоставить их собственному разумению. Предлагая интересные идеи для разработки, он нередко говорил ученику: «А когда вы завершите исследование, вы растолкуете его мне, потому что тогда вы должны знать эту проблему гораздо лучше меня. А если я по-прежнему буду знать больше вас, то, значит, я плохой руководитель, а вы плохой физик». Собственной научной школы он создать не мог — да и не стремился создавать. С Хлопиным они дружили с детства — вместе когда-то учились в Одесской гимназии. Хлопин справедливо считал Мысовского крупнейшим радиологом Советского Союза, поддерживал его начинания и идеи, старался, не раздражаясь, исправить его промахи, особенно во взаимоотношениях внутри физического отдела — грубоватая резкость Мысовского была не всем по душе.
И когда Мысовский загорелся строить свой циклотрон, и Вернадский, и Хлопин без колебаний согласились, что именно у них надо возводить еще никому в Европе неизвестную магнитную ускорительную установку и что именно их работники должны начать на ней исследования ядра. И деньги были незамедлительно получены, и заводам было указано выполнять без проволочек заказы физиков. Уже в 1934 году в Радиевом институте развернулся монтаж изготовленного на «Электросиле» электромагнита весом в 35 тонн, быстро шло проектирование вакуумной камеры и высокочастотного генератора. Завершение работ казалось так близко, что Мысовский летом 1935 года послал письмо творцу циклотрона Эрнесту Лоуренсу с предложением приехать в СССР на вторую ядерную конференцию и посетить Радиевый институт. Лоуренс ответил:
«Дорогой профессор Мысовский! Благодарю Вас за письмо от 27 июля, приглашающее меня посетить ядерную конференцию в Москве. К несчастью, поскольку семестр у нас в это время начнется, я обязан присутствовать в университете. Наш академический год продолжается от конца августа до начала мая, и поэтому я могу посетить Россию только летними месяцами от мая до августа. В какое-то время я надеюсь сделать это, так как часто слышал о великолепных научных работах, проводящихся в России. Особенное удовольствие доставило бы видеть Вашу лабораторию и большой магнитный резонансный ускоритель, который Вы установили... С моими лучшими пожеланиями. Искренне Ваш Эрнест О. Лоуренс, профессор физики».
Монтаж и наладка многотонного сооружения со множеством тонких подгонок оказались гораздо сложней, чем первоначально представлялось. Месяц бежал за месяцем, пошел второй год освоения — ускоритель все не работал. Мысовский нервничал, ссорился с помощниками, но дело двигалось мало. В ленинградской «Вечерней Красной газете» появилась 15 сентября, 1935 года статья под хлестким названием «Атомное ядро и самолюбие»: руководителя физического отдела института обвиняли в некомпетентности, указывали, что освоение единственного в стране магнитного ускорителя не будет завершено, пока Мысовский, смирив самолюбие, не попросит помощи со стороны. Статья породила шум — от Хлопина потребовали объяснений, из Москвы приехал эксперт Наркомпроса разобраться на месте, что же, собственно, происходит. Хлопин с горечью написал Вернадскому — тот был в Москве, — что инспирированная кем-то статья порядком попортила им всем настроение, но что ему удалось в конце концов разъяснить: дело не в чьей-то некомпетентности, а в сложности наладки. Вконец расстроенный Мысовский пожаловался Курчатову — они в это время вели совместные работы по изомерии брома:
— Навалилась гора на голову! И когда выберемся из этого болота, просто не знаю. Идея — и теперь защищаю это — правильная: циклотроны лучше всех других ускорителей. Вы и сами убедитесь в этом, когда он заработает. Но что такие дьявольские трудности с наладкой!.. Главное, нет опыта у моих работников, да и у меня самого, что уж тут скрывать — сконструировал приборов я немало, да все были другие и попроще.
— Может быть, вместе и тут поработаем? — предложил Курчатов. — Я года два назад собрал небольшой циклотрон, для серьезных опытов не пригодился, но в принципе действовал. Хоть маленький, а опыт есть. Не возражаете?
Мысовский не скрыл, что обрадовался. Он, вероятно, и начал этот разговор, чтобы попросить о содействии.
— Не только не возражаю, а всячески приветствую. О самолюбии моем столько всякого наговорили! Какое к черту самолюбие. Давайте, Игорь Васильевич, пойдем к Виталию Григорьевичу договариваться.
— Раньше мне надо получить разрешение своего начальства.
Иоффе, выслушав Курчатова, задумался.
— Навязываемся... Виталий Григорьевич к своим институтским делам ревнив. Вряд ли ему понравится сотрудничество в кавычках, даже если предложение исходит не от вас, а от Мысовского.
— Без кавычек, Абрам Федорович. Циклотрон нам нужен еще больше, чем радиохимикам. Но никто не разрешит нам строить свой, пока этот не заработает. «Одного не можете пустить, а требуете уже второго!» — разве по-другому ответят? На циклотроне Радиевого института будем проводить совместные исследования, об этом с Мысовским договоримся. А для этого надо, чтобы циклотрон заработал. Все просто, как блин.
Иоффе тонко усмехнулся:
— Дипломатично! Учтите, впрочем, что Хлопин не дипломат и что после грубой статьи он раздражен до крайности. Он не постесняется сказать, что думает. А думает он, уверен, что это мы с вами подбивали редакцию газеты на критику. Примите это мое замечание в качестве напутствия. Против существа ваших предложений у меня возражений нет.
Курчатов возвратился к Мысовскому.
До сих пор он лишь со стороны поглядывал на циклотрон, теперь вместе с Мысовским придирчиво осматривал каждую деталь. Ускоритель был установкой крупной, во много раз больше той, что Курчатов когда-то смонтировал у себя: массивный магнит имел один метр в диаметре. Молодые сотрудники физического отдела, Виктор Рукавишников и Дмитрий Алхазов, знали свое дело. Курчатову не понравилось только, что вакуумная камера маловата. Дима Алхазов, худой востроносый паренек, с горящим лицом следивший за каждым движением непрошеного гостя из Физтеха, запальчиво отвел критику: они точно скопировали циклотрон Лоуренса, он покажет американские чертежи, пусть не придираются! Курчатов с улыбкой переводил взгляд с Алхазова на столь же рассерженного Рукавишникова: эти два парня, по всему, были не из тех, что легко расписываются в некомпетентности. Не вызывала возражения высокочастотная часть, спроектированная Бриземейстером, тот тоже знал свое дело.
Но монтаж заставил Курчатова хмуриться. Создать требуемый вакуум при такой сборке немыслимо.
— Ваше мнение, Игорь Васильевич? — с тревогой осведомился Мысовский, когда они шли к Хлопину. — Сколько крови попортил проклятый ускоритель!..
— И еще попортит! — весело пообещал Курчатов. — Но вместе мы его добьем. Переберем, почистим, отполируем, обдуем, погладим ручкой... Справимся. Не боги горшки обжигают.
Хлопина нашли не в директорском кабинете, а в лаборатории, это наложило на разговор свой отпечаток — Хлопин не любил отрываться от исследований ради административных дел. Он стоял в халате у вытяжного шкафа, внутри, на песочной плите, подогревалась жидкая смесь в фарфоровом стакане. Хлопину помогала жена.
Курчатов попросил прощения, что вторгся в лабораторию, но дело не терпит отлагательства. Хлопин с иронией посмотрел на него:
— Три года терпели, трех часов не смогли? Впрочем, это несущественно. Пойдемте в мою комнату. — Не снимая халата, он прошел в свой кабинетик и холодно показал на диван. — Садитесь, пожалуйста. Так что вы предлагаете?
Напутствие Иоффе било в точку. Уклончивые формулировки, подслащивание горьких пилюль на этого человека не действовали. И Курчатов не мог отделаться от чувства, что Хлопин и вправду подозревает, что к газетной шумихе, поднятой вокруг циклотрона, физтеховцы какое-то отношение имеют. Курчатов готовился резко ответить, если бы такое подозрение было высказано вслух. Но Хлопин, выслушав обоих, только сказал:
— Я бы солгал, если бы объявил, что ваше предложение мне нравится. Во-первых, я не поклонник князя Гостомысла, приглашать варягов на княжение не люблю...
— Какое княжение, Виталий Григорьевич? Я уже сказал вам, мы оказываем вам помощь ради того, чтобы получить помощь от вас.
— А во-вторых, — спокойно продолжал Хлопин, — меня не удовлетворяет формула: помощь ради помощи. Она слишком туманна. Вся сложность в соотношении — какая помощь ради какой? Я не отказываюсь, я только ставлю свои условия. Циклотрон строится для Радиевого института, и, кто бы нам ни помогал, мы остаемся его хозяевами. О деталях совместной работы договоритесь со Львом Владимировичем.
Выйдя из лаборатории, Курчатов со смехом сказал Мысовскому:
— Результат — какой хотели. Разговор — никаких резкостей. Состояние — как если бы сперва горячо попарили, а потом хладнокровно высекли.
Мысовский невесело спросил:
— Когда начнем? Не хотелось бы откладывать...
— Зачем откладывать? Сейчас и приступим.
В этот день Курчатов явился так поздно и выглядел таким усталым, что Марина Дмитриевна встревожилась.
— Начал налаживать циклотрон у радиохимиков, — объяснил он, набрасываясь на еду, слишком позднюю для ужина и слишком раннюю, чтобы назвать ее завтраком.
— Три раза просыпалась и опять засыпала, — пожаловалась жена. — Пожалуйста, предупреждай заранее каждый раз, когда придется задерживаться допоздна, чтобы я так не беспокоилась.
— Каждый раз не выйдет, Марина, слишком много будет разов. Предупреждаю вперед на месяц: буду приходить поздно. Можешь спать спокойно.
Она дожидалась, засыпала, не дождавшись, спала неспокойно. Он приходил после полуночи, мылся, присаживался к столу, она поднималась, садилась рядом. Ночные минуты теперь были единственными, когда можно было поговорить с мужем, она не хотела терять эти драгоценные минуты. Она ужасалась — он слишком много взял работ, и половины бы хватило. Он отвечал, что и в два раза можно бы больше взять, будь в институте хороший теоретик-ядерщик. Экспериментатор без теоретика, освещающего тут же любой темный эксперимент, теряет половину своей эффективности. Какая была недавно роскошь! В двух соседних институтах — сразу четыре теоретика: Френкель, Гамов, Иваненко, Бронштейн. Гамова черт дернул за границу, Иваненко переселился в Томск, Бронштейна тоже нет. Остался Френкель, но у него свои интересы, он не сядет за один стол с экспериментаторами, а нужен именно такой.
— Раньше ты относился к теоретикам по-другому, — заметила Марина Дмитриевна. — Они делали свое, ты — свое.
— Раньше — да. Мы работали разобщенно. Только дружески любопытствовали, что у каждого получается. А хотелось бы потрудиться по-иному, чтобы теоретик был глазами экспериментатора.
...Он мог об этом только мечтать, таких теоретиков пока не существовало. Он и не догадывался, что жизнь всего через пять-шесть лет повелительно предпишет именно эту организацию науки, и что осуществит ее он сам, и что она приведет к огромному научному и практическому успеху: собранные вместе блистательные теоретики составят единую группу с экспериментаторами. Исстари сложившаяся разобщенность теоретиков и экспериментаторов пока что была прочна. Он уже ощущал ее неудобства, но она еще не стала препятствием к успеху, ее еще не требовалось отменять. Да это и не было бы в его силах.
9
Иоффе часто вспоминал разговор с Вавиловым. Руководить институтом становилось все трудней. В наркомате намекнули, что очень уж широко представлены общетеоретические темы — не следует ли их кое-где пообрубить, институт-то ведь технический! Иоффе разъяснил, что делать этого не следует, в основе практики лежит теория — разве это не аксиома? Начальник научно-исследовательскою сектора наркомата с аксиомами соглашался, но посетовал, что науке в институте внимания куда больше, чем практике. Надо, надо менять нездоровое соотношение между наукой и практикой, ликвидировать ненужный перекос к абстрактным исследованиям.
— Вглядитесь в вашего соседа, в Оптический институт, Абрам Федорович, — любезно посоветовал он. — Институт — академический, руководители его, Рождественский с Вавиловым, — крупнейшие ученые. А ведь для промышленности дали больше, чем вы, институт промышленный!.. Тот же Радиевый... На нем держатся многие наши заводы. А какой завод опирается на ваши лаборатории? И вы это считаете нормальным?
Иоффе считал это нормальным. Оптический институт разрабатывает технологию варки и обработки стекла, у оптиков нет пока инженерной науки. Не им же, физтеховам, учить инженеров, как строить генераторы и трансформаторы, конструировать станки и автомобили, паровозы и самолеты? Они призваны вооружать промышленность идеями, а не проектами. О чем спорить?
— Есть о чем спорить. На мартовскую сессию Академии наук вынесен ваш доклад о работе Физтеха. Надеюсь, обсуждение прояснит ситуацию...
Академия наук открывала первую сессию в столице с еще невиданной торжественностью. В пышном зале на Волхонке собралось 800 человек, могло бы прийти и больше — не хватило мест. На стене висели листы проекта нового здания академии, разработанного Щусевым, перед ними толпились, ими восхищались. «Именинники мы! — с энтузиазмом твердил бывший народоволец, седобородый химик Бах. — Вот уж радость так радость!»
Сессия была посвящена физикам. Рождественский и Вавилов докладывали о важных исследованиях, с успехом внедренных в промышленность. В трехчасовом своем докладе Иоффе не мог похвалиться такими же удачами. Он лишь настаивал, что линия института правильна. То, что с пренебрежением называется чистой наукой, лучше бы назвать фундаментальной. Слово «чистая» напоминает о надоблачных высотах, о холодной пустоте, суть же в создании фундамента техники будущего, к этому сводится цель любой плодотворной физической теории. Иоффе чувствовал сам, что дает благодарный материал для критиков. Возвратившись на свое место в президиуме, он заглянул в список, лежавший перед председателем, — двадцать четыре человека просили слова!
Они шли на трибуну — физики и хозяйственные руководители, философы и металлурги, партийные работники и электротехники. Иоффе не сомневался, что его будут критиковать. Он не предвидел лишь, что спор поведут с такой страстью! Страсть была сильней аргументов, возражать было трудно. Еще Миткевича, в который раз запальчиво обвинявшего Френкеля в идеализме, или Аркадия Тимирязева, грубо нападавшего на теорию относительности, можно было игнорировать — те вносили в научную полемику какой-то посторонний дух. Но совсем по-иному воспринимались речи металлурга Байкова, электротехника Чернышева, агронома Тулайкова, они просили о помощи — от просьб не отмахнуться! В стране появились невиданные еще заводы, перестроено сельское хозяйство, тысячи проблем внезапно возникли перед практиками... «Почему игнорируете наши запросы?» — с обидой спрашивали у Иоффе. Он хмурился, нервно постукивал пальцами по столу. Он мог бы и раздраженно крикнуть — я отвечаю лишь за один институт в стране, один институт не может дать ответа на все возникающие вопросы. Он не мог так говорить, такой ответ был бы неправдой. Он чувствовал, что отвечает не за один свой институт, за всю науку. Перед наукой вправе ставить любые вопросы, она обязана на каждый искать ответа. Он был подавлен безмерной своей ответственностью. Со стороны казалось, что он растерялся. Но все было куда сложней, чем простая растерянность. Он мог бы даже обрадоваться, а не огорчаться, это тоже не противоречило обстановке. Радость вдруг стала неотделима от огорчения. Надо было радоваться, что науку, им представляемую, каждый выходящий на трибуну считает главной среди всех наук, этим и объяснялась безмерность требований. И надо было огорчаться, что от физики хотели большего, чем она могла дать, ее реальную силу преувеличивали. Иоффе не знал, как держаться. Он мог защитить свою науку, только опорочив ее. Вы приписываете нам роль, которой реально нет, мы маленькие, а вы увидели в нас великанов — это был бы честный ответ. Так отвечать означало бы разочаровать друзей, а не отразить удары противников. Он мог защищаться. Разочаровывать он не хотел.
И, слушая своих критиков, он не переставал удивляться высокому рангу, так неожиданно приписанному физике. Еще недавно она была одной из многих наук, такой же, как биология, как химия, пожалуй, пониже химии, — когда же совершилось ее коронование в королевы? Сами физики не возводили свою науку на трон, а она — на троне! И, нападая на нее, никто и не усомнился: заняли престол по праву. И даже то удивительно, размышлял Иоффе, что на сессии, кроме основных докладов — его, Рождественского, Вавилова, — еще выступают с частными докладами, каждый о своем — Тамм, Фок, Френкель. Они говорят о строении внутриатомного ядра, о внутриядерных силах, о плавлении тел... Какие это доклады для всесоюзной сессии? Скорее уж лекции для теоретического семинара! А слушают не студенты, не аспиранты, нет, академики, промышленники, партработники — вот какое значение вдруг увидели они в специальных темах! И то, что Тамм сказал, пожимая плечами, что говорить о вещественности магнитных линий все равно что спорить, какого цвета линии меридиана, а Миткевич язвительно возразила «Почему не поспорить? Мой меридиан красного цвета, а у вас?» — даже эта странная перепалка возникла из той же иллюзии: физике приписывается непомерное значение, в ее абстрактных теориях выискивают чуть ли не политический смысл. И ведь никто, говорил себе Иоффе, не оспаривает значение ядерных исследований — просто требуют немедленного промышленного эффекта. Физика такая всесильная, вынь да положь эффект — разве не это твердят с трибуны?
Мысли эти то утешали, то тревожили. И, отвечая оппонентам, Иоффе то признавал и ошибки, и недоработки, то непоследовательно — так всем казалось — настаивал, что и недоработки закономерны, и ошибки неизбежны, и работа и дальше должна идти так же.
Академик Н. П. Горбунов с огорчением написал об этом дне: «Под влиянием единодушной критики академик Иоффе в заключительном слове признал ряд допущенных им и его школой ошибок, однако это признание не было исчерпывающим». А сам Иоффе, еще не остыв от жара спора, чувствовал, что борьба, от которой он уклонялся, не завершена, а начата. В ушах звучал недобрый выкрик Рождественского: «Я предупреждал вас, Абрам Федорович, не послушались! Неправильное направление взяли, я говорил вам!»
— Не огорчайтесь! — посоветовал Вавилов в перерыве. Он знал, что Рождественский и Иоффе, когда-то друзья, теперь были более чем в холодных отношениях. — Дмитрий Сергеевич перехлестнул. Это, конечно, преувеличение, что все направление вашего института неправильное...
— Другое меня тревожит, Сергей Иванович, — сумрачно сказал Иоффе. — На сессии вопросы ставятся широко, люди — компетентнейшие. Но и преувеличений не избежали, и придирок масса!.. А работать нам потом с административным начальством, с плановиками — люди иного кругозора... Предвижу трудности — мелкие, раздражающие, непробиваемые!..
Вавилов согласился, что придирок не избежать. Но ведь есть и выход — сосредоточить всю чистую науку в одном институте, академическом, а не промышленном. Кто тогда посмеет придраться к исследованиям ядра, космических частиц, структуры звезд? Кто потребует от астрофизика внедрения его трудов в промышленность? Разве к востоковеду Крачковскому, к историку Древней Руси Грекову обращаются с просьбой помочь своими исследованиями организационно-хозяйственному укреплению колхозов? Чистую науку нужно перенести на почву, где ей всего удобней цвести и куститься!
— Посмотрите, Абрам Федорович, — взволнованно сказал Вавилов, подводя Иоффе к щусевскому проекту. — Вот наше будущее. Оно же так прекрасно, что дух захватывает. Ни одна страна мира мечтать не смеет о таком дворце науки, а нам его реально готовят. Вот куда я предлагаю переместить ваши главные исследования! Разве не честь творить и побеждать в армии, штаб которой заседает в таком дворце? Дело не в здании, конечно, нам с вами это понятно. Но какое внимание к нам, какое уважение к нашей работе — вот о чем свидетельствует проект Щусева!
Иоффе уже разглядывал проект Академии наук, уже, как и все, восхищался. Когда созданное воображением Щусева творение займет отведенное ему место на набережной Москвы-реки, о нем будут говорить как о прекраснейшем здании столицы, архитектора его будут называть лишь с прибавлением эпитета «великий». И конечно, когда-нибудь в одном из дворцов науки, созданных тем же Щусевым, найдет себе место вся та физика, что сегодня именуется чистой вместо правильного термина «фундаментальная». Но ведь все это — будущее. Это пока — журавль в небе. Ради непойманного журавля от него требуют синицу, всем своим телом уже бьющуюся в его руках!
— Ну, хорошо, Сергей Иванович, мы переместим в ваш институт исследования по ядру. Что нам остается?
— Ваша личная тематика. Непосредственно ядром вы ведь не занимаетесь. Освободится больше времени для собственных работ.
— Личная тематика, собственные работы, — с горечью повторил Иоффе. — А Физтех? У него тоже имеется собственное лицо. Я не уверен, что оно определяется лишь моей личной тематикой.
К ним подошли Тамм и Френкель. Они тоже восхищались проектом Щусева, говорили о том, что вскоре набережные Москвы-реки, украшенные такими зданиями, будут с успехом соперничать с прославленными набережными Невы. Никто из физиков не знал, что политическая обстановка заставит страну сконцентрировать усилия на оборонных работах — и великолепный проект Щусева, быть может, лучшее его творение, так и останется неосуществленным.
Вавилов заметил, что критика была резкая, а общее настроение праздничное — все улыбаются, все веселы. Иоффе согласился: и вправду, на сессии атмосфера праздника!
Празднично прозвучал и обобщающий доклад Глеба Максимилиановича Кржижановского о годовом плане работ Академии наук. Вице-президент излагал программу научных исследований, достойных масштабов второй пятилетки, так он сформулировал суть доклада. Еще никогда наука не планировала столь широко свой труд, еще никогда на научное творчество так щедро не выдавали народные средства. В голосе докладчика порой прорывались восторженные нотки, он, называя цифры, вдруг останавливался, начинал растроганно покашливать — зал взрывался аплодисментами. А Иоффе услышал в докладе мысли, которые полностью, казалось бы, противоречили бушевавшей три дня критике. «Основными работами наших физиков, — сказал Кржижановский, — будут, как и прежде, исследования строения атомного ядра».
На обратном пути Иоффе старался разобраться в противоборении разных чувств. В соседних купе спорили Френкель и Фок, Курчатов и Алиханов, Миткевич и Чернышев. Иоффе не вмешивался в споры. Его старались не отвлекать от размышлений.
В очередной обход института Иоффе задержался в лаборатории Неменова. Молодого физика поразило отсутствующее выражение всегда внимательных, умных, холодноватых глаз.
— Что-нибудь случилось, Абрам Федорович?
Иоффе ответил не сразу. Лет десять назад старый друг Михаил Неменов, ныне главный рентгенолог Красной Армии, привел сына Леню, вот этого паренька, со словами: «Даю вам мальчика для работы! Проведите его по всем кругам чистилища, прежде чем он вступит твердой ногой в рай науки!» Мальчик старательно прошагал по низинам науки, теперь вот карабкается на ее высоты. У него золотые руки: собранный им масс-спектрограф наглядно свидетельствует о мастерстве его пальцев. Иоффе печально усмехнулся. Ему предстояло ударить по этим золотым рукам.
— На сессии академии вы стояли рядом со мной на сцене и меняли диаграммы, когда я докладывал, — сказал Иоффе. — И вы сами слышали, как Бауман обвинил нас в том, что мы потратили 250 тысяч рублей на малополезную научную игрушку — на этот вот масс-спектрограф!
Неменов возмутился. Что за чушь! Масс-спектрограф обошелся всего в 32 тысячи рублей, это можно бухгалтерски доказать. Надо разъяснить Бауману, что он ошибается, только и всего!
Иоффе опять усмехнулся. Справки не помогут. Ну, а если и 32 тысячи народных денег? А разве их на ветер — хорошо? — так им возразят. Голос Иоффе стал холодным и твердым. Придется закрыть масс-спектрографические работы, это все же не тематика их института. Не знает ли Неменов, кому предложить прибор? Может быть, им заинтересуется Ленинградский университет?
— Уже заинтересовался! — запальчиво закричал Неменов. — Мечтают соорудить такой же! Сколько приставали, чтобы помог.
— Договоритесь с университетом о покупке нашего масс-спектрографа! — приказал Иоффе и ушел.
Неменов выругался и пошел плакаться к соседям.
У Курчатова по обыкновению пели, работая, на этот раз не старую «По Дону гуляет», а недавно прозвучавшую повсюду песню «Широка страна моя родная». Неменов остервенело плюхнулся на табуретку.
— Что случилось? — удивился Курчатов.
— Выгоняют, — мрачно сказал Неменов. — Не меня — мой масс-спектрограф. Я же по собственной инициативе пойду ко всем чертям.
— Отлично! Я хочу сказать — очень плохо. Но поправимо. Масс-спектрограф отдавай кому хочешь, а сам переводись ко мне.
— Хорошие теннисисты понадобились?
— Толковые работники, — весело возразил Курчатов. — Ты прирожденный циклотронщик, только сам того не знаешь. Зато я знаю!
Неменов договорился с университетом о продаже масс-спектрографа за 16 тысяч рублей и перешел к Курчатову. Скобельцын объявил об уходе к Вавилову. Иоффе лишь молча развел руками. Вавилов организовал в ФИАНе лабораторию атомного ядра, в ней Скобельцын взял заведование отделом космических лучей — работы планировались с размахом.
Курчатов в это время уже не только фактически, но и формально определился на «двухстулье». Тяжелая болезнь на долгое время прервала работу Мысовского: нападки в связи с циклотроном и внутренние раздоры в отделе сказались на сердце. Хлопин подписал приказ, что заведование физическим отделом Радиевого института по совместительству поручается Курчатову. Новое отношение к Физтеху сказалось и тут. Хлопин дал понять, что надеется на результаты, непосредственно полезные и для промышленности. Он не против экспериментов, обогащающих физическую теорию. Он лишь настаивает на соединении теории и практики. Он хотел бы, чтобы Курчатов с помощью циклотрона установил не только возможность возникновения новых радиоактивных элементов, но и методы их практического получения: страна остро нуждается в радиоактивных материалах. Такую же точно задачу перед своими физиками Хлопин ставил и шесть лет назад, но тогда она была невыполнима: еще не открыли ни одного искусственного радиоактивного элемента. Сегодня таких элементов было известно много. Хлопин требовал не только их изучения, но и накопления — это и было бы совмещением теории и практики.
Иначе директор Радиевого института и говорить не мог, иного новый заведующий физическим отделом и не ожидал услышать. Но оба чувствовали, что надо бы им говорить по-иному, что лучше бы им не обещать что-то друг другу, а вслух взаимно удивиться, насколько парадоксально внешность у каждого противоречит сути. Суховатый, вежливый, всегда безукоризненно одетый Хлопин как бы являл собой живое воплощение науки, углубленной в саму себя, досадливо отворачивающейся от докучливых требований дня, а он был превосходным аналитиком, этот старомодный химик, дотошным практиком. Через его руки прошли сотни тонн минералов, он своими холеными пальцами растворил, профильтровал, осадил, взвесил, расфасовал в пакетики, закупорил в баночки сотни килограммов сложнейших соединений — не просто сложнейших, а и очень опасных для тех, кто с ними работает. А напротив сидел рослый мужчина, шумный, веселый, стремительно соображающий, стремительно двигающийся, не отшельник, не отстранившийся от жизни, а самый реальный образ современной бурной жизни, активист-общественник, как называют таких людей: председатель месткома у себя в институте, член Ленсовета. И этот человек в своей научной работе уходит в такую абстрактную глубь, что и тропочки от нее не увидеть к шумящей вокруг реальности, и надо его предостерегать, чтобы не забывал о нуждах практики, и упрашивать, чтобы он в своем отделе не нарушал общего стиля института, всегда гордившегося тесной связью с промышленностью.
— Я понимаю вас, Виталий Григорьевич, — сказал Курчатов, вставая. — Считаю, что мы договорились.
У Хлопина такого ощущения не создалось. Можно понимать и не принимать, познавать и не признавать. Хлопин с раздражением ощущал — Курчатов не из тех, кого легко поворачивают на любую дорогу. В отличие от куда менее работоспособного и куда более покладистого Мысовского этот человек шагал только по своему пути.
Курчатов собрал сотрудников физического отдела — Алхазова и Гуревича, Мещерякова и Рукавишникова, Бриземейстера и Мостицкого. Отныне он официально их грозный начальник, пусть его страшатся. Общая цель — наладить устойчивую работу циклотрона. Каждому дается конкретная задача, иначе говоря, каждого «озадачат». Так вот, «озадаченные», и вкалывайте в три киловатта мощности каждый.
Сотрудники радостно ухмылялись. Что начальство у них грозное, никто не верил. А вкалывать приходилось и раньше. Это тоже была не новость.
Поздно вечером Курчатов, уходя, столкнулся в узком коридоре с Хлопиным. Оба уставились глазами в пол, шли к выходу и что-то бормотали себе под нос. Хлопин, большой любитель стихов, читал по-французски «Пьяный корабль» Рембо. Курчатов напевал баритоном, почти баском: «Все идет вперед, время катится, кто не курит и не пьет, тот спохватится!» Оба остановились, ошеломленно уставились друг на друга, рассмеялись и разошлись — академик звучно скандировал по-французски мужественные и печальные строки, доктор наук рассеянно повторял легкомысленную, чем-то понравившуюся песенку.
10
В мире происходили большие перемены, они не могли не отозваться на научных исследованиях. Газеты еще сообщали о бегстве ученых из Германии, но это уже были единичные случаи, все, кто не мог примириться с фашизмом, либо были за границей, либо сидели в концлагерях. Зато все больше публиковалось сообщений, что иссякает приток ученых в Германию из других стран, туда отказывались ездить на конференции и совещания, не выпрашивали командировок в недавно еще такие притягательные немецкие университетские центры. Стало известно о выпаде ректора Геттингенского университета Гильберта против научной политики нацизма. Министр Руст сказал на банкете Гильберту: «Наши враги кричат за рубежом, что ваш знаменитый Геттингенский университет сильно ослаб вследствие изгнания профессоров, враждебных Гитлеру. Это ведь вранье, не так ли?» И величайший математик Германии громко — чтобы все услышали — отозвался: «Конечно, вранье, господин министр. Наш знаменитый Геттингенский университет не ослаб, а погиб!»
А в Советский Союз увеличивался приток гостей. В стране отменили карточную систему, продовольственные трудности первой пятилетки остались позади. Все повторяли слова, звучавшие как лозунг: «Жить стало легче, жить стало веселее». Сам Бор с женой Маргрет захотел посмотреть на молодые центры физической науки, где видное место заняли его ученики. В поездке по стране его сопровождал Френкель, он вел Бора из института в колхоз, из Академии наук в колонию беспризорников. «Великолепно! У нас ничего похожего нет!» — взволнованно твердил Бор. «Я отныне ваш друг, — говорил он в Ленинграде, Москве и Харькове. — Я верю, что ваши успехи в науке будут громадны!» Он похвалил высоковольтные установки харьковского Физтеха, пришел в восторг от исследований Алиханова.
В Москву на первое Менделеевское чтение приехали известные ученые из-за рубежа. Среди гостей были Фредерик и Ирен Жолио-Кюри.
Жолио был тот же, что три года назад, когда впервые появился в Ленинграде, — и совершенно иной. Внешне он не переменился — моложавый, порывистый, приветливый. Внутренне — повзрослел на десяток лет. Тогда, три года назад, он лишь талантливо начинал в науке. В прошлом году его и Ирен отметили высшей наградой физика — Нобелевской премией, это было уже всемирное признание. И он не забыл, что слава пришла к нему после блистательного успеха в Ленинграде, после немедленно за этим последовавшего сокрушительного провала в Брюсселе. Он здесь среди друзей, подчеркивал Жолио, научная молодежь русской физики сегодня, возможно, восприимчивей всех в мире к новым идеям. Да и какая это молодежь? Может быть, по годам, но не по значению работ. Он побывал в ФИАНе, посетил ленинградские Физтех и Радиевый, потом заявил советским корреспондентам:
«В области химии и физики атомного ядра, в вопросах строения атома за последние два года Советский Союз выдвинул целую плеяду талантливых исследователей. Если научно-исследовательские работы в вашей стране будут продолжаться с той же быстротой, то, несомненно, уже через несколько лет советская научная продукция в этой области займет передовое место в науке. Необходимо, чтобы научные труды, выходящие в вашей стране, печатались и во Франции».
Его спросили, надо ли понимать его так, чтобы сборники трудов советских физиков, печатающиеся у нас на английском и немецком языках, одновременно дублировались и на французском? Он сделал резкий жест рукой. Нет, его неправильно поняли. Германия, попавшая под власть фашизма, утратила положение передовой научной державы. К ней по привычке относятся с почтением, которого она уже не заслуживает. Физика деградировала в этой недавно еще великой стране. Достаточно привести один впечатляющий факт — количество научных изданий в Германии сократилось ровно втрое. Нет, русские физики напрасно издают свои труды на немецком языке. Им не нужно популяризировать среди немцев свои достижения, научные успехи русских говорят о себе сами.
— Франция и Россия в науке друзья еще большие, чем в политике, — настойчиво повторял он. — Я с надеждой гляжу вперед, я вижу впереди крупные открытия, совершенные совместно русскими и французами. В дни, когда темные силы раздувают национальную рознь, мы должны усиливать, должны гордо подчеркивать наше научное единение!
На Менделеевское чтение приехали и немцы — директор Химического института общества кайзера Вильгельма радиохимик Отто Ган и его многолетняя сотрудница Лиза Мейтнер. Это она, вторая по знаменитости женщина-физик в мире после Марии Кюри, так жестоко обрушилась на Ирен и Фредерика на Сольвеевском конгрессе. Правда, Мейтнер и Ган, быстро подтвердив открытие искусственной радиоактивности, как бы протянули французам руку дружбы после жестокого спора. Холодок все же остался: Ган и Жолио не сделали и шага, чтобы вступить в Москве в контакт. Знакомство их состоялось через год в Риме, и там неожиданно они понравились друг другу.
И Ган, и Мейтнер узнали, как Жолио высказался о немецкой науке. Оба промолчали. Оба как бы молчаливо подтвердили его оценку. Доказав свое неодобрение нацизма и свою смелость тем, что приехали из Берлина в Москву, они помнили, что надо возвращаться в Берлин, — осторожность предписывала не вступать в дискуссии на политические темы. И хоть приветливые хозяева подчеркивали, что не смешивают понятия «фашист» и «немец», немецкие гости держались подальше от газетчиков. Зато в научной полемике Мейтнер не ставила себе препон. Ее молчаливый друг непрерывно курил сигару, она с увлечением спорила. Она всегда внутренне кипела, достаточно было малейшего толчка, чтобы возбуждение бурно вырвалось. «Фрау профессор, фрау профессор! — умоляюще пытался ворваться в ее речь какой-нибудь оппонент. — Но позвольте же мне, фрау профессор!..» Она не позволяла. Возражения оппонентов не стоили того, чтобы тратить драгоценное время на их выслушивание.
В «Красной стреле» по пути из Москвы в Ленинград в купе Гана и Мейтнер появился изящно одетый японец и, вежливо улыбаясь, пересыпая речь извинениями, предъявил требование на место Мейтнер. Сперва испуганная, потом возмущенная, она энергично выдворила непрошеного гостя — подоспевший проводник отвел японцу другое купе. Ган посмеивался, выдыхая сигарный дым. Проводник сказал ему с уважением: «Дамочка ваша — огонь! У нас в Рязани тоже бабе в рот пальца не ложь, но и там с вашей фрау не пропадешь!» Ган закивал головой, он понял, что Лизу хвалят.
В Ленинграде немецкие гости наконец ответили на обвинения Жолио. Кое-кто говорит, что научная жизнь Берлина потеряла прежнюю интенсивность. Это преувеличение. Немцы не разучились работать. Поющие за упокой немецкой науки очень торопятся.
Знаменитые берлинские радиохимики посетили Радиевый институт, это было главной целью их поездки в Ленинград. Они говорили, что в Берлине высоко оценивают достижения русских радиохимиков в изучении радиоактивных элементов, в частности протактиния, открытого семнадцать лет назад госпожой Мейтнер и господином Ганом. И, кроме самого господина Хлопина, у них имеются другие знакомые в Радиевом институте, например прекрасный радиохимик Борис Никитин, три месяца с успехом проработавший в Берлине у Гана — там до сих пор с уважением вспоминают и его самого, и выполненные им важные работы.
Гости ходили по институту, знакомились с исследованиями, кое-что похвалили, кое-что покритиковали. Особенно же заинтересовали их поиски трансурановых элементов. Эксперименты по трансуранам вел сам Хлопин с женой и его ученик Александр Полесицкий. После первого, не подтвердившегося сообщения Ферми, что им созданы два трансурановых элемента, проблема этих не существующих в природе в естественном виде элементов захватила многих радиохимиков. И в Риме у Ферми, и в Берлине у Гана и Мейтнер, и в Париже у госпожи Ирен Жолио-Кюри усиленно ищут эти загадочные трансураны, но ничего твердого не установлено: то они вроде бы появляются, то их вроде бы нет. В общем, воспроизводства результатов нигде не наблюдается, а без него нельзя говорить о чем-то реальном. Гана и радует, что исследования трансуранов поставлены в Ленинграде солидно, и огорчает, что ленинградцы, как и берлинцы, и парижане, а до них римляне, не могут опубликовать ничего окончательного. Он, Ган, уверен, что трансураны — самая сейчас интересная проблема радиохимии, да, пожалуй, и всей ядерной физики. В Берлине изучение их будет продолжаться и углубляться. Хлопин заверил Гана, что в Ленинграде вполне понимают значение трансуранов для науки об атомном ядре и что начатые в Радиевом институте эксперименты по их обнаружению ни в коем случае не прервутся.
Молодых физиков Радиевого института и Физтеха и поиски упрямо не дающихся в руки трансуранов, и соперничество в этой области двух знаменитых женщин — Ирен Кюри и Лизы Мейтнер — интересовали гораздо меньше, чем зловещее пророчество Жолио, провозглашенное им в Менделеевском докладе. Собственно, об этом же он говорил и в своей Нобелевской лекции, но, повторенное в Москве, оно прозвучало сильней. Жолио закончил доклад словами:
«Исследователи, конструируя или разрушая элементы по своему желанию, смогут осуществить ядерные реакции взрывного характера, настоящие цепные химические реакции. Если окажется, что такие превращения распространяются в веществе, то можно составить себе представление о том огромном освобождении полезной энергии, которое будет иметь место. Но, увы, если эта «зараза» охватит все элементы нашей планеты, то мы должны с опасением предвидеть последствия такой катастрофы. Астрономы иногда наблюдают, что звезды средней яркости внезапно разгораются... Такое внезапное возгорание звезды вызывается, быть может, превращениями взрывного характера, которые предвидит наше воображение. И если когда-нибудь исследователь найдет способ их вызывать, то попытается ли он сделать опыт? Думаю, что он этот опыт осуществит, так как исследователь пытлив и любит риск неизведанного».
Курчатов с удивлением спросил Жолио, когда тот приехал в Ленинград:
— Вы серьезно считаете, что наши труды могут породить такие ужасные последствия?
— Совершенно серьезно! — твердо сказал Жолио. — И считаю нужным предупредить человечество об этом.
— Но если это вызовет страх перед научными исследованиями?
— Лучше породить страх уничтожения, чем дождаться уничтожения. Я верю в разум человечества. Слишком много безумия принесли в политику нацисты Гитлера. Я хочу вызвать отвращение к безумию. И хочу, чтобы каждый ученый понял свою ответственность за возможные последствия его работы. Вот почему я и сделал такое заявление. Вы несогласны со мной?
— В принципе — верно, — Курчатов улыбнулся. — Вы также сделали заявление об освобождении огромной полезной энергии. Эта часть вашего пророчества мне нравится больше.
Иностранные гости уехали, эхо их отзывов и оценок еще звучало.
Иоффе ощутил, что на некоторое время ослабли раздражавшие его придирки со стороны наркоматовских плановиков. Затем ему позвонили, что в Физтех прибудет комиссия — товарищи из Москвы, ленинградские руководители. Он долго размышлял, прежде чем пригласил к себе Курчатова, Арцимовича и Алиханова. Комиссии в Физтехе были нередки, трое физиков дружно пообещали, что посетители останутся довольны их объяснениями.
— Нет, — сказал Иоффе. — Не будет ваших объяснений. Наоборот, я попрошу вас уйти. Пойдите в кино или музей. Сегодня погода хорошая, дождь, правда, но можно погулять. И раньше, чем комиссия не удалится, не появляйтесь. Хоть в командировку поезжайте!
— Всех работников освободить? — удивился Курчатов.
— Работники пусть работают. Кто пилит, кто подгоняет детальку, кто налаживает прибор... Каждому видно — занятие конкретное, придраться нельзя. Удаляются руководители лабораторий.
Алиханов вскипел. Руководителям доверяют меньше, чем техникам и лаборантам! Их, видимо, считают менее компетентными, только так можно объяснить подобное неуважение.
Иоффе спокойно возразил:
— Совсем наоборот. Боюсь того, что вы больше всех компетентны в ваших лабораториях. Боюсь вашей увлеченности. Начнут расспрашивать, вы загоритесь... Комиссия перепугается — столько огня! И где — в темах чистой науки, самой чистейшей, самой абстрактной! Вон куда академик направляет своих талантливых ученых... Нет уж, погуляйте! От греха подальше.
Минут через десять трое физиков вышли за ворота института. Арцимович с гримасой посмотрел вверх. С неба сыпался мелкий дождь. Собакам лучше, чем физикам: хороший хозяин в такую погоду и пса не выгонит! Алиханов уныло глядел под ноги. Курчатов прислушивался, как звучно шлепают калоши по лужам. Арцимович безнадежно сказал:
— В ресторан, что ли? Сто лет не был в ресторане!
— А что? Идея! — подхватил Курчатов. — Посидим, поговорим. Я захватил «Физикл ревью» и «Нейчур». Бор интереснейшую статью опубликовал насчет составного ядра — читали?
— Читали, — ответил Алиханов. — Поговорить есть о чем. А куда? В «Европейскую», «Асторию», «Вену»? Далековато, дороговато, шумновато. Там такие джазы!
— Пойдемте в «Белые ночи», — предложил Курчатов. — Неплохой ресторанчик на площади Льва Толстого. Я туда часто захожу, когда возвращаюсь из Радиевого. Уютно, пиво — всегда, оркестр — только вечером. Идеальное местечко для разговора!
11
Френкель пришел на семинар для студентов и аспирантов Политехнического института и Физтеха. Поправив очки, он оглядел аудиторию. Все были на местах, никто не опоздал, кроме него самого. Впрочем, он опаздывал всегда, к этому привыкли. Уловили даже закономерность в его опозданиях — на лекции он опаздывал минут на десять, на заседания — уже на двадцать, а на семинары — минут на шесть максимально. Семинары он любил.
— Вы помните, о чем мы беседовали в прошлый раз? — спросил он, раскладывая листочки с записями. — Кто хочет дополнительно высказаться?
Тему прошлого семинара нельзя было забыть. Она не только будоражила ум, но и хватала за душу. Бор выступил с новой моделью атомного ядра, отлично объясняющей ядерные реакции. Он доказывал, что при бомбардировке ядра посторонними частицами те вторгаются внутрь, образуя пересыщенное энергией новое, составное ядро. В ядре, как в капле, стянутой силами поверхностного натяжения, толкаются протоны и нейтроны. Ворвавшаяся извне частица отдает свою энергию старым — образуется перевозбужденная неустойчивая система. Одна из частиц набирает такую избыточную энергию, что преодолевает потенциальный барьер и выбрасывается наружу, оставляя после себя ядро устойчивое. А что выбросится — протон, нейтрон или альфа-частица — будет зависеть от номера атомного ядра, от его массы, от степени возбуждения.
На прошлом семинаре аспирант Френкеля Аркадий Мигдал доказал, что у Бора в вычислениях неточность. Все разошлись, недоумевая: теория вроде бы правильная, очень наглядная, а содержит в себе ошибку.
Новые соображения появились у дипломанта Померанчука. Он пошел к доске, поправляя сползающие очки. Они у него сползали с носа, даже когда он сидел спокойно за столом. А начиная говорить, он волновался, от этого они совсем переставали держаться на носу, левая рука ежеминутно поднимала их, укрепляя поближе к глазам. Расхаживая перед доской, он быстро покрывал ее формулами. Проделанное им дома вычисление доказывало, что у Бора была не одна, а две неточности и вторая нейтрализовала первую. Аудитория радостно зашумела, все возбужденно задвигались. Великолепная теория составного ядра была спасена.
— Поговорим теперь о моем дополнении к этой теории, — сказал Френкель, убедившись, что Померанчук не ошибся.
Френкель, независимо от Бора, пришел к тем же мыслям, но в отличие от него старался объяснить ядерные явления с помощью законов статистики, а не механики. Если частицы в ядре хаотично толкаются, то каждая имеет собственную энергию движения. Энергия молекул тела определяет его температуру. Можно сказать, что каждое ядро имеет свою температуру. Если температура ядра высока, частицы испаряются с его поверхности, а само ядро охлаждается — так, привычными терминами, можно объяснить радиоактивность.
Он говорил, расхаживая перед столиком. Впереди сидели слушатели постарше, аспиранты и дипломанты, позади студенты. Аспирант Мигдал, опустив скульптурно четкое, хмурое лицо, что-то чертил на бумаге — вычислял или рисовал. Неподалеку примостился Померанчук, курчавый, широколобый, близорукий, он, слушая, размышлял — за стеклами очков виднелись углубленные в себя глаза, такие сосредоточенные, что они казались рассеянными. А за ними компактной группкой сидели студенты, на них Френкель посматривал с особым удовольствием. Они слушали самозабвенно. У Юры Флерова раскраснелись щеки, горели глаза; другой Юра, Лазуркин, раскрыл рот да так и забыл его захлопнуть; румяный, плотный Витя Давиденко и стройный Игорь Панасюк, сидевшие рядом, так согласно вертели головы за лектором, словно стали одним двухголовым телом; Костя Петржак что-то рассеянно рисовал на листке блокнота, он всегда рисовал — и чем сосредоточенней слушал, тем быстрей; Миша Певзнер подпирал рукой темноволосую голову; позади него сидели Толя Регель и Сережа Никитин.
Френкель вспомнил, как одна студентка, заглянув в открытую дверь, громко сказала подруге: «Гениальные мальчики в полном сборе». — «Точно, все наши гении», — подтвердила вторая.
Френкель не был уверен, станут ли эти парни гениями, но что физики из них выйдут хорошие, не сомневался. Из всех семинаров, какие он вел, этот был самым сильным. Слушатели, рассаживаясь по местам, смеялись, шутили, толкались, перебивали друг друга — в общем, нормальные студенты и аспиранты, — но сразу замирали, чуть он начинал говорить. Слова «нейтрон», «позитрон», «нейтрино» волновали их, у всех загорались глаза. Это были романтики науки, каждый термин звучал в их ушах загадочно и захватывающе, они как бы пьянели от новых фактов и новых мыслей — интеллектуальным опьянением, равнозначным вдохновению. Френкель сам загорался, когда поглядывал на них. Увлекательно читать лекции увлеченным!
— Юра, ведь сегодня ваш доклад, — сказал Френкель Флерову. — Электрический потенциал солнца, так? Ну, что вы открыли на солнце?
Флеров, пока шел к доске, бледнел, краснел, снова бледнел. Голос его дрожал. Он делал первый доклад в своей жизни и заранее предупредил об этом руководителя семинара. Френкель ободряюще ему улыбнулся. Кое-как справившись с волнением, студент стал развивать тему. Для первого доклада в жизни он говорил неплохо. Френкель, однако, отметил, что Флеров не достал печатных материалов по теме. Зато с формулой Ричардсона, связывающей температуру металла с потоком вылетающих из него электронов, он обращался более чем свободно. С ее помощью он самостоятельно вычислил потенциал солнца, при котором наступает равновесие между исторгаемыми и возвращаемыми электронами. Френкель изумленно качал головой — такие получались величины.
— Слушайте, Юра, и при вашей дьявольской фантазии вы хотите стать теоретиком? Вас же любое вычисление уведет в безбрежность! Маяковский говорил — наступить на горло собственной песни! Вычисления вроде песни, их тоже надо временами хватать за горло.
Закончив семинарские занятия, Френкель сделал знак, чтобы Флеров задержался.
— Нет, Юра, серьезно. Фантазия — великолепная штука, но и ее нужно ограничивать. Я вам советую стать экспериментатором. Приборы, трансформаторы, выпрямители... Все это, знаете, держит фантазию в рамках. А в теории вас будет ограничивать лишь то, что математик вы не первоклассный. Но это тормоз слабый.
Флеров обиженно молчал. В физике, вероятно, не существовало ученого с такой же буйной фантазией, как Френкель. И этот человек советовал поменьше фантазировать! Френкель ласково продолжал:
— Вы сидели обиженный, Юра, а я думал, как с вами быть. Знаете, что? Идите к Курчатову! Я уже говорил с ним, описал, какой вы. Он согласен вас взять.
«Гениальные мальчики» ожидали товарища в коридоре. По его сияющему лицу они поняли, что разговор с руководителем семинара прошел отлично. Флеров сперва шумно радовался, потом погрустнел. Ему стало совестно, что удача выпала ему одному. Он горячо хотел оделить всех друзей таким же успехом. Он сказал Лазуркину — они недавно, сверх учебных заданий, ставили в институтской лаборатории опыты по поглощению нейтронов:
— Курчатов спросит, что я делал, я расскажу о нашей работе. И о тебе расскажу, — пообещал он Панасюку. — Попрошу, чтобы взял нас всех. Мы же не ради денег, мы можем и бесплатно.
Он говорил с такой горячностью, словно уже работал у Курчатова и твердо знал, что Курчатову нужны они все.
Стоявший поодаль Померанчук прислушивался к разговору студентов. Они готовились в экспериментаторы, эксперименты не интересовали Померанчука. Но он только что закончил институт, от новенького диплома в нагрудном кармане исходило тепло, оно радовало и беспокоило — надо было решать, куда предъявить диплом в качестве визитной карточки. Студенты толковали о выборе научного пути. Это было интересно.
— Посоветуюсь с Яшей, — пробормотал Померанчук и направился в Институт химической физики.
Он уже не раз бывал там. Френкель порекомендовал Семенову своего студента — Померанчуку разрешили посещать семинары. Он вскоре стал более прилежным посетителем, чем работники института. Он приходил до начала, садился позади, сразу раскрывал тетрадь для записей.
Как-то рядом сел невысокий паренек и с аппетитом стал есть бутерброд. Паренек объяснил, что не успел позавтракать, потому что не терпелось начать важное вычисление, а на обед опоздал, потому что вычисление не удалось закончить. К счастью, в буфете удалось кое-что перехватить. Померанчук это мог понять: хорошее вычисление, конечно, было важней обеда. Паренек назвался Яшей Зельдовичем. С семинара они ушли вдвоем. Яша работал у профессора Рогинского, тематика была разнообразна — и кристаллизация нитроглицерина, и катализ, и адсорбция, и топливные элементы: одно сменялось другим, одно напластывалось на другое. Научные интересы нового друга не совпадали с интересами Померанчука, зато Яша поражал глубиной мысли, каким-то неожиданным взглядом на хорошо известные факты. Померанчука лишь удивило, что нового знакомого хватало не только на научные занятия, но и на кино и театры, и даже на романы и стихи: он нередко читал их наизусть. Глубина научных интересов должна была страдать от такого увлечения жизненными пустяками, как называл про себя Померанчук все, не связанное с наукой. Он рассказал о Яше Френкелю.
— Яша поражает не только вас, — сказал Френкель. — Яша — вундеркинд. Вы знаете, что он не поступил в вуз и, наверно, никогда не будет иметь высшего образования?
— Но ведь он так разбирается в физике!
— Он потому и не стал студентом, что хорошо разбирается в физике. Он считает, что вуз мало даст ему — зачем же терять пять лет? Хотите, я расскажу вам забавную историю? Яше было семнадцать лет, когда он поступил лаборантом к Рогинскому. Тот делал доклад на ученом совете, Яша как лаборант помогал. А когда обсуждение закончилось, Яша вдруг сказал, что эксперимент неправильно интерпретируется докладчиком и выступающими в прениях, и предложил свое толкование. Сперва все удивились — мальчишка поправляет профессора! — потом проанализировали оба объяснения и убедились, что прав лаборант. О нем слагают легенды, вы еще услышите их.
Одну из легенд Померанчук услышал скоро. Кто-то сказал, что Яшу не просто приняли на работу, а выторговали в Механобре в обмен на насос. Померанчук спросил друга: правда ли это? Яша захохотал. Обмена на насос не было, все совершалось гораздо прозаичней. Померанчук пожимал плечами — «проза» мало чем уступала легенде. Яша после школы окончил курсы при Механобре, институте обогащения руд, получил стипендию, обязался проработать положенное время. Однажды курсантам устроили экскурсию в «химфизику». И в лаборатории Рогинского, вместо того чтобы восхищаться показанными им научными исследованиями, курсант высказал свое мнение, как вести эксперимент. Идеи, хоть и неверные, были столь ярки, что Иоффе — химфизики были тогда в системе Физтеха — написал письмо директору Механобра с просьбой отпустить удивительного лаборанта. Пока шли переговоры, Яша ночную и вечернюю смены отрабатывал в Механобре, а днем бегал к химфизикам.
В прошлом году, двадцати двух лет, он с блеском защитил кандидатскую диссертацию по теории адсорбции и с головой погрузился в новую увлекательную область — окисление азота при горении.
Померанчука интересовала одна наука, ко всему остальному он был равнодушен. Он делился своими поисками и находками с Зельдовичем, Яша находил остроумные ходы в путанице вычислений, подавал советы. Год назад он уговорил Померанчука стажироваться в Харькове у Ландау. Померанчук сдал Ландау тяжелейший теоретический минимум, много превышающий обычный вузовский объем знаний, и вместе с еще одним молодым харьковчанином — Ахиезером — написал статью о сталкивающихся квантах света, она должна была появиться в «Нейчур».
Было поздно, в обычных учреждениях давно погасли огни. Зельдович был, конечно, в лаборатории. Невысокий, быстрый, с лысеющим — не по возрасту — лбом он, увидев приятеля, радостно замахал густо исписанными листочками. Нет ничего повседневней пламени, но до чего мало исследован процесс горения, теория его разработана так скудно, что надо создавать ее почти заново, вот послушайте!
Он сам загорался, заговорив о пламени. Он все свои работы вел с увлечением. И он умел в любой проблеме, его увлекавшей, находить массу неизвестного, неожиданные загадки, требовавшие разрешения. Великое искусство удивляться перед лицом неведомого было характерной особенностью всей его работы. И он ставил перед собой задачи такие широкие и сложные, что они временами, выходя за узкие пределы химической физики, казались почти философскими. Не так давно, рассчитывая конструкции топливных элементов, он поражал Померанчука обобщениями, далеко превосходящими непосредственное задание.
— Знаете, в чем суть проблемы электрохимического элемента? Из беспорядка создается порядок, из хаоса — режим! Каждый акт электрического разряда на пластинках электрохимического элемента случаен, а в целом — устойчивая разница потенциалов, устойчивый электрический ток! Замечательно, не правда ли!
Нынешнее его исследование природы пламени было, вероятно, еще интересней, чем прежние — правда, незавершенные — работы с электрохимическими элементами. Но Померанчук, всегда внимательный, рассеянно кивал. Невнимание было так явно, что Зельдович удивился. Померанчук всегда превосходно слушал. Он, как камертон на удар, резонировал на каждую мысль, сам как бы звучал в ответ. Он заряжался идеями собеседника, наэлектризовывался ими и заставлял собеседника приходить в умственное напряжение, потому что слушал с напряжением. Разговор с ним был творческим действием, а не обменом информацией. Сегодня он только воспринимал сведения, а не зажигался ими. Это было невероятно!
— Что случилось? — Зельдович придвинул очки ближе к глазам, чтобы лучше видеть друга.
— Яша, мне надо решить, куда идти работать.
И он объяснил, что возможностей много. Преподавать в университете? Определиться в Физтех аспирантом к Френкелю? Поехать в Москву в ФИАН к Тамму? Или в Харьков к Ландау?
Зельдович категорически сказал:
— Только к Ландау! Я это советовал раньше, советую и теперь. Дау теоретик широкий, у него можно заниматься всеми вопросами теоретической физики. В его школе, уверяю, вы займете видное место.
Померанчуку тоже казалось, что лучше всего ехать к Ландау, он хотел лишь подтверждения, что не ошибается. Кстати, почему сам Яша не едет в Харьков? Он увлекается теоретической физикой, теперь ему, кандидату, все дороги открыты.
— Мне и здесь хорошо. У нас узкая специализация — цепные химические реакции. В частности — горение и взрывы. Страшно интересно! Так будете слушать, что я получил?
Теперь Померанчук снова был превосходным собеседником — удивительным индикатором на любую свежую, на любую ценную мысль.
12
Курчатов с охотой согласился взять Флерова. Юра немедленно оповестил друзей об удаче. Давиденко пообещал: «Тебя на новом месте я навещу, посмотрим, как ты там распространяешься».
Флеров не так распространялся, как бегал. Он явился в лабораторию в день, когда из Радиевого института принесли свежий источник нейтронов — очередную ампулку с радоном и бериллием. Активности источника хватало на пять-семь дней. Флеров азартно включился в спринтерский бег с облученной мишенью в руках от источника к счетчику. Щепкин, с бóльшим увлечением мастеривший индикаторы и счетчики, чем рвавший рекорды в беге, с облегченной душой возвратился к верстаку. Стажер с таким пылом мчался по институтскому коридору, что от него шарахались. Курчатов похвалил его: проворные ноги свидетельствовали о настоящей научной душе, без души спринта не показать.
— Будете мастерить из жести камеру Вильсона, — сказал он, когда источник «выдохся» и наступила передышка в два-три дня, пока в Радиевом институте накопится радон для новых ампул. — Перечтите описания, доставайте материал и инструмент. Действуйте!
Работать с жестью оказалось труднее, чем бегать. Тут нельзя было взять усердием и физической силой. Давиденко позавидовал другу. Флеров до института работал чернорабочим, электромонтером, потом пирометристом, Давиденко — токарем и жестянщиком.
— Мне бы твою работешку, Юра, — сказал Давиденко. — Ты ведь на заводе только таскал провода, носился с оптическим пирометром на груди — жестяной подгонки не осилишь! Пальцы нужны как у пианиста!
Давиденко тоже стажировался в Физтехе, но у Наследова, а не у Курчатова, — исследовал электрические эффекты в магнитных полях. И хоть своего дела хватало по горло, Давиденко, выискивая свободный часок, заскакивал к приятелю — помочь советом или самому взять деревянный молоток, если тот позволял: Юра старался все делать сам.
— Откуда и кто? — поинтересовался Курчатов, застав вечером приятелей за подгонкой жестяных деталей. Он с удовольствием смотрел на румяного, широкоплечего, мощногрудого парня — от него так и веяло несокрушимым здоровьем. — Ну-ка, заполним устно анкету. Люблю знать, кто посещает мою лабораторию.
Анкета у Давиденко была простая — родился на Нижней Волге, пятнадцати лет приехал в Ленинград, поступил на рабфак, потом — в Политехнический, долго бедовал с квартирой, одну сессию сдавал, ночуя на вокзалах, каждую ночь на другом, чтобы милиционеры не запомнили в лицо, сейчас в общежитии, на год раньше Юры кончает. Пришел поглядеть, как приятель справляется.
— Подбирайте дипломную тему, Юра, — предложил Курчатов, когда Флеров закончил и испытал камеру. — На чем вы хотите сосредоточиться?
Стажер хотел сосредоточиться на нейтронах. Он не мыслил работы вне этой главной ядерной темы. Курчатов задумался. Флерову показалось, что Курчатову не понравилось его желание. Но Курчатов вспомнил старый спор с Арцимовичем, когда они открыли резонансное поглощение нейтронов и утеряли приоритет, потому что не торопились с опубликованием. Поспешность нужна не только при ловле блох, повторил он про себя изречение Пруткова и внутренне усмехнулся: нет уж, лучше потерять приоритет, чем попасть впросак!
— Хорошо, нейтроны. Тема необъятная. Что возьмем из нее? Может быть, резонансное поглощение?
О том, что нейтроны в некоторых границах скоростей поглощаются ядрами особенно сильно, Флеров знал. Курчатов рассказал о поглощении медленных нейтронов при низких температурах. Он сделал эту работу в харьковском Физтехе совместно с Фоминым, Хоутермансом, Лейпунским, Щепкиным, Шубниковым. Еще детальней исследовал те же явления Тимошук. Но много оставалось еще неясного. Если поведение нейтронов при температурах жидкого кислорода изучено детально, то как они ведут себя, скажем, при температуре кипящей воды? Не хотелось бы Юре взяться за решение этой задачи?
— Хочу! — быстро сказал Флеров. — Разрешите, я быстренько подработаю схему эксперимента.
В тот же день стажер принес набросок опыта. В замедлители нейтронов он предлагал масло. Оно имело то преимущество, что его можно было нагреть и выше температуры кипения воды. А подогрев масла осуществлялся обычными нагревательными элементами от электрических утюгов и чайников.
Курчатов похвалил остроумное оформление эксперимента. Стажер ожидал уже команды: «Действуйте!», но Курчатов рассеянно глядел куда-то вдаль.
— Вы хорошо бегаете, Юра. Это не годится, — сказал он вдруг.
Флеров удивился: разве было бы лучше, если бы он бегал плохо? Курчатов спокойно подтвердил — да, было бы лучше, если бы дипломант бегал похуже. Тогда бы он сам убедился, что даже спринт по коридору с облученной мишенью в руках отнюдь не способствует точности эксперимента: активность многих элементов в считанные секунды ослабевает в два, три раза — именно в те секунды, какие тратятся на бег до счетчика.
— Мы так работали три года, — сказал Курчатов. — Пришло время отказаться от этого. Надо ставить счетчик рядом с источником, а не бегать. Вальтер Боте сконструировал прибор, который не реагирует на нейтронный фон. Попытайтесь изготовить такой же.
Фон в лаборатории, и вправду, был неважный. Иногда разбивались стеклянные ампулки с радоном, это тоже не способствовало чистоте воздуха. Флеров прочел заметку Боте.
Боте покрывал поверхность счетчика пастой из бара и лития, смешанной с шеллаком, — этот защитный слой предохранял от внешнего излучения. Стажер нашел, что если литий сжигать в дым, тогда он оседает на стенке еще более равномерным слоем. Правда, от едкого литиевого дыма здорово чихалось, но то уже были неизбежные издержки эксперимента. Хуже было, когда нагревалось масло. Пары его ели глаза, запах распространялся по всему этажу — соседи морщились и ворчали...
— Действуйте! — сказал Курчатов, убедившись, что с бегом по коридору теперь покончено.
Флеров пошел в Радиевый институт за источником нейтронов.
Здесь, в сейфе, в сосуде, где в растворе хранился грамм радия, накопилось достаточно газообразного радона, чтобы наполнить им очередную ампулку. Пока из сосуда перекачивали ртутными насосами радон, Флеров разговорился с двумя молодыми сотрудниками физического отдела — Гуревичем и Петржаком. Гуревич тоже работал с радон-бериллиевыми источниками нейтронов, облучая ими различные эмульсии. Он изучал особенности замедления нейтронов. И его исследованиями руководил Курчатов. Стажер, выслушав, высказал несколько возникших тут же идей касательно замедления нейтронов. Идеи были единственным, на нехватку чего он не мог пожаловаться. Зато когда Гуревич, заметив, как импульсивно срывается с места дипломант Курчатова, высказал опасение, что у него все горит в руках, и посоветовал осторожней обращаться с ампулой, Флеров смущенно признался:
— Не так горит, как ломается. Но ампулку я не сломаю, скорей сам разобьюсь.
А Петржак припомнил, как руководил его дипломной работой тот же Курчатов. Петржак конструировал счетчик Вин-Вильямса. Дело было нелегкое, тонкие подгонки, а Курчатов все умножал задания и требовал немедленного отчета в выполнении. Как-то в полночь он поставил новое задание и велел:
— Не уходи, пока не кончишь. А кончив, зайти продемонстрировать результат.
Петржак огрызнулся:
— Да я раньше трех часов ночи не управлюсь.
— Вот в три часа ночи и приходи.
Петржак выполнил задание в середине ночи и отправился будить руководителя. Курчатов протер глаза, посмотрел на часы, проверил выполнение и похвалил:
— Молодец, уложился в срок. Иди отдыхай. Утром продолжим.
— А на дворе светало, — с усмешкой вспоминал Петржак. — Я, естественно, возвратился в лабораторию. Вот так он руководит! Себя не пожалеет, но и тебе пощады не даст. А уж результат выжмет!
Петржак мог с удовлетворением говорить о результатах. Изготовленный им счетчик использовали при изучении распада тория, а это давало возможность определить возраст Земли. Сам Хлопин докладывал на международном конгрессе геологов о константе радиоактивного распада тория, установленной с помощью аппаратуры Петржака. Он получил за дипломную работу всесоюзную премию. Сейчас он занимался радиоактивными изотопами самария. Работа была как работа — можно ограничиться служебными часами. Да и руководил ею не Курчатов. Никто не требовал ни бессонных ночей, ни докладов перед рассветом. Петржак словно бы жалел, что ночи отданы сну. Он грустно покачал головой, признавая, что все теперь идет нормально.
13
На очередном теоретическом семинаре Иоффе наклонился к Курчатову. Не пора ли им созвать вторую конференцию по ядру? В мировой науке и в лабораториях страны накопилось много такого, о чем бы следовало побеседовать.
— Я поговорю в наркомате, — сказал Иоффе.
Из Москвы он возвратился с решением о созыве конференции. Правда, наркомат отказался от такого мероприятия. Зато в Академии наук Иоффе встретил понимание. В последние годы роль академии колоссально возросла. Теперь это был подлинный штаб науки с большими финансовыми и организационными возможностями. Вавилов энергично поддержал Иоффе в Совнаркоме. Чтобы подчеркнуть заслуги ленинградского Физтеха, председателем оргкомитета назначили Иоффе, а главный доклад о взаимодействии нейтронов с веществом поручили Курчатову.
— Украинцы доложат о своих ускорителях, москвичи сосредоточатся на космических лучах, теперь нас эти проблемы касаются мало, — говорил Иоффе. — У нас свой стиль. Нейтронная физика! Вот направление вашей лаборатории, не правда ли?
Доклад давался Курчатову трудно. Он исписывал страницы, потом комкал их и выбрасывал. С каким энтузиазмом он готовил первую ядерную конференцию: ничего похожего на прежнее воодушевление и в помине не было. И книгу о расщеплении ядер он писал два года назад по-иному. Что он знал тогда? Что умел? Несколько опытов, повторяющих исследования западных физиков, второстепенные новые факты — и все! А писал запоем, днем, ночами, перед обедом, после обеда, вместо обеда, — и книга, созданная с предельной быстротой, имела успех, ее цитируют, на нее ссылаются. Тогда он только начинал. Не так уж и блестяще начинал. Скромно, но солидно — единственная подходящая оценка.
Сегодня к докладу готовился видный физик. За его плечами почти тридцать работ по ядру. Он авторитет в своей области. Об открытой им ядерной изомерии пишут за границей. Его учеников называют «курчатовцами» — складывается школа. В самый раз создателю школы поведать миру, что он создает. Будь четыре года назад такие успехи, какой бы доклад он прочитал с трибуны! Не пришлось бы Кириллу Синельникову корить его, что отмалчивается. А сейчас он и не хотел делать такого доклада, хотя и мог. Боязнь какая-то, удивленно сказал он себе. Вот уж чего никто о нем не подумает — что снедает его боязнь! Эх, размахнуться бы на широкий обзор со смелыми картинами перспектив, в стиле Иоффе, живописующего в каждой статье фантастические возможности науки! А что? Он бы нарисовал впечатляющую картину.
Курчатов снова порвал лист. Только точные данные — аппаратура, измерения, анализ, результат. И все! Что вне измеренного и реально увиденного, то от лукавого! Пусть гипотезами занимаются теоретики. Его дело маленькое — присматривайся. А увидел — расскажи.
Доклад получился четкий и деловой. Но беспокойство не прошло. В докладе чего-то не хватало. И опять Курчатов одного только не знал — чего не хватает?
Беспокойство не оставляло его и в Москве. Конференцию организовали превосходно. Прибыли и гости из-за рубежа — Вильямс и Пайерлс из Англии, Оже из Франции, Паули из Швейцарии. Друга Ландау, Пайерлса, эмигранта из Германии, женатого на ленинградке Евгении Канегиссер, советские физики знали хорошо. Нового в его докладе было мало, но ученого, пострадавшего от фашизма, встречали с симпатией.
Знаменитый Паули говорил о нейтрино, об изобретенной им, всеми признанной, но никем еще не открытой загадочной частице. Все доклады были интересны — и сообщение Франка о свечении в жидкостях под действием быстрых электронов (это явление назвали излучением Черенкова — Вавилова), и новые данные о космических лучах, и теоретические исследования Ландау и Тамма, и информация об опытах с нейтронами.
Курчатов слушал прекрасные речи, а недовольство росло. Даже то, что его доклад приняли хорошо, не улучшило настроения. Он никому не признавался в своем странном состоянии. Он улыбался. Улыбающийся Курчатов — это был стиль, он не мог изменить стилю. Но про себя с недоумением допытывался — что все-таки с ним происходит?
Лишь возвратившись в Ленинград, он понял, что испытывает разочарование. Начиная исследования ядра, он ожидал большего, чем получили — и не он лично, а вся мировая наука. Ученик Иоффе, он многое перенял от фантазий учителя. Он предвидел великие открытия, новые главы в науке. Великих открытий не было, шло накопление фактов, нужных, но мелких. Конференция в Москве подтвердила, что уже несколько лет ничего крупного в науке не происходит. Отсюда шло разочарование.
Вместе с тем, предчувствие необычайного не только не пропадало, но все усиливалось. За мерным накоплением мелких фактов угадывалось, что близится нечто огромное. Всем своим существом физика Курчатов предугадывал назревающие перевороты.
14
Флеров вынул из кармана и с наслаждением перечел диплом. Плотная книжица устанавливала, что армия физиков мира увеличилась еще на одного квалифицированного специалиста. Дипломная работа «Резонансное поглощение нейтронов кадмием и ртутью» удалась на славу. С каким вниманием комиссия слушала защиту. Особенно, когда он доказывал, что кадмий не поглощает, а пожирает нейтроны: из ста частиц лишь одна проскальзывает сквозь кадмиевую пластинку. «Бездонная яма, а не фильтр!» — сказал кто-то удивленно. Удивление было равнозначно уважению.
— Теперь куда? — осведомился Давиденко, обозрев диплом от верхнего левого угла до правого нижнего. Сам он уже работал в Физтехе по полупроводникам с Иоффе и Анной Васильевной, его женой. Полупроводники, доказывал он, превосходная тематика, еще важней ядра — у ядра выходы в практику вряд ли при нашей жизни будут, а полупроводники — завтрашний день техники. Никто скептически не пожмет плечами: «А для чего, милок, стараешься? Кому это нужно?»
— Куда пошлют! — беспечно отозвался Флеров и, подумав, добавил: — В Ленинграде оставят. Куда еще?
На другой день обескураженный Флеров вертел в руках направление в харьковский Физтех. Комиссия по распределению молодых специалистов нашла, что в Харькове он будет полезней. Поразмыслив, Флеров успокоился. В Харькове мощный центр физической науки! Там ядерщики в почете. И там он получит квартиру.
От этих радужных мыслей Флеров повеселел. В самом радостном настроении он появился в харьковском Физтехе. Помощник директора — им недавно стал Латышев — пожал руку новому сотруднику, пообещал интереснейшую работу — им до крайности нужны толковые физики, но предупредил, что об отдельной квартире пока и не мечтать, квартир сотрудники института ждут по три года. Койку в общежитии он обеспечит, это в границах возможного.
— Поговорите с Тимошуком и Голобородько, — посоветовал Латышев. — Они, как и вы, занимаются нейтронами. А если потянет на высоковольтные установки, милости просим, Вальтеру и Синельникову люди нужны. Вам повезло, завтра возвращается после вынужденного отсутствия Александр Ильич Лейпунский. Поговорите с ним. Что я вам пока посоветую? Побегайте, поглядите, чего-нибудь подберете.
Флеров вошел в большую комнату. Вдоль стен стояли деревянные стойки. У стоек работники занимались сборкой и наладкой приборов. Ни беготни, ни шумных разговоров, ни песен за работой, ни споров, к которым он привык в Ленинграде. Работали чинно, старательно, без спешки. По комнате ходил человек в белых, но весьма замурзанных брюках. Он подал Флерову руку.
— Голобородько, Тимофей Архипович. Из Ленинграда? Нейтроны, говоришь? Мне подойдет. Поработаем вместе. Но не неволю. С Митей Тимошуком потолкуй, у него работешка еще интересней. — Он уловил взгляд Флерова, брошенный на его брюки, и вдруг рассердился: — Чего засматриваешься? Думаешь, у тебя чище? Темные, не видно, что налипло, а еще погрязней моих. Работа не кабинетная. Вы по скольку одежду таскаете? — язвительно поинтересовался он, переходя на «вы». — По году, по два — так? А я в мае надеваю, шестого ноября выбрасываю. Скоро подойдет дата, буду в новеньком щеголять — загляденье!
Он рассмеялся, дружески огрел пятерней по плечу и удалился.
Флеров продолжал бродить по помещениям института. В зале электростатических генераторов он задержался. Малый генератор, на полмиллиона вольт, впечатление не производил. Большой ошеломлял. На трех изолирующих колоннах — высотой в десять метров и толщиной в два каждая — покоился металлический, десятиметрового диаметра, шар.
Флеров, восхищенный, обошел гигантское сооружение, заглянул в помещение, где экспериментировали с ускоренными на большом «Ван-Граафе» электронами. Ускоритель в этот день «отдыхал», в помещении мирно беседовали физики. Двоих он сразу узнал, это были известные люди — Кирилл Синельников и Антон Вальтер. Флеров недавно читал книгу Вальтера об атомном ядре, надо было поговорить о возникших при чтении вопросах. Но он не осмелился нарушить беседу двух ученых. О веселости и проказах Вальтера в Ленинграде ходили легенды, но сейчас, возможно, что-то не ладилось с работой — профессор выглядел мрачным.
К Флерову подошел один из сотрудников, назвал себя: Борисов, лет пять назад делал с Курчатовым совместные работы, сейчас исследует быстрые электроны и гамма-лучи. Он сказал, что слова «ученик Курчатова» будут в Харькове для Флерова отличной визитной карточкой — у Курчатова не может быть плохих учеников.
— Нравится? — спросил он, показывая на ускоритель.
— Очень!
— Получили на нем три миллиона вольт, постараемся довести до пяти. Сегодня он самый крупный в мире. И надолго останется им. Вряд ли кто будет строить махины крупней. Конструкция сложная, усовершенствованию почти не поддается. Недавно к нам приезжал сам Ван-Грааф, очень радовался. У вас, говорил он, я сам могу поучиться, как надо реализовать мое изобретение.
То, что большому генератору Ван-Граафа предстоит надолго остаться самым крупным, немного охладило восхищение Флерова. Три миллиона электрон-вольт — неплохо для исследований ядра. Но скоро таких энергий будет недостаточно. Поработать на нем интересно. Посвящать ему научную будущность — не увлекало. Он вспоминал циклотрон Радиевого института. Вот там ускоритель! Как бы сам Ван-Грааф ни хвалил свои изобретения, циклотроны лучше. И будущности у них больше!
Вечером Флеров установил, что общежитие, куда его направили, принадлежит пожарному отряду. Пожарники, все как на подбор ребята крепкие, молодые, так лихо носились по коридорам, так яростно тренькали на балалайках, так самозабвенно пели, что Флеров, засевший было за научный журнал, не осилил и страницы. В трехместной комнате сидело на кроватях человек шесть, и хоть эти не пели, зато, дружно хохоча, рассказывали забавные истории из «пожарной жизни». Одного преподаватель прогнал с экзамена: «Вытверди раздвижную лестницу, погрызи крюки и топорики — и пожар тебе обеспечен!» Все подшучивали над неудачливым товарищем, он сам смеялся: «На лестнице провалился, о крюк споткнулся — и где? Не на пожаре, у доски!»
Флеров бросил книгу и пошел погулять по ночному Харькову.
Он шел по темным и освещенным улицам, бродил по обрывистому бережку Лопани, скорее ручейка, чем реки, вышел на такой же ручеек, его звали Харьковом... Как уступали эти узенькие полоски воды любому протоку и каналу, соединявшему широкие рукава Невы! Ночь была тепла, в парке звенела музыка, по аллеям бродили ребята с гитарами в руках, девушки пели, парни подхватывали, на каждой полянке с подвизгиванием и смехом плясали — южный город жил музыкой и весельем.
Флерова охватывало недоумение, почти тревога. И шум на улицах и в парках, и отовсюду доносящаяся музыка были скорее приятны, чем тягостны, он и сам когда-нибудь пустится плясать на полянках, когда подберет товарищей. Но работать здесь будет труднее, чем в Ленинграде. В общежитии с пожарниками не сосредоточишься на науке. И что-то ему не нравилось в самом институте. Здесь вроде бы отсутствует дух увлечения физикой. Ходят на службу, сказал он себе. Солидное, в общем, учреждение, но не храм науки. Это до того противоречило тому, что он слышал об УФТИ, что он себя одернул. Не надо поспешных выводов. Раньше поговори с Лейпунским.
Лейпунский появился утром. Он подолгу разговаривал с сотрудниками, улыбался в ответ на поздравления — его возвращению все радовались.
До Флерова очередь дошла после обеда.
— Дипломник Игоря Васильевича, — одобрительно сказал Лейпунский. — Это хорошо. Сейчас директор института — Александр Иосифович Шпетный, а я заведую лабораторией радиоактивности. Впрочем, это по вашему профилю. Думаю, вам лучше поработать с Дмитрием Владимировичем Тимошуком.
Флеров почти с испугом разглядывал бывшего директора института. Он видел его на одном из семинаров в Ленинграде. У Лейпунского тогда были темные густые волосы, он их часто приглаживал рукой. Сейчас он был очень небрежно, под машинку острижен.
Лейпунский нахмурился:
— Что вы меня так разглядываете? Идите к Тимошуку.
Тимошук равнодушно выслушал, чем занимался Флеров в Ленинграде, равнодушно сказал, что эти же работы он сможет продолжить и в Харькове. Флеров поинтересовался, будет ли помощь. Тимошук без энтузиазма ответил, что без помощи не обойдется, но о Курчатовской и не мечтать. Размах здесь иной, чем в Ленинграде. Флеров не выдержал:
— О харьковском Физтехе слава как о передовом институте страны! К вам стремились отовсюду, даже из-за рубежа. Почему вы так странно говорите?
Тимошук рассеянно глядел куда-то мимо Флерова. Он немного косил, и от этого казалось, что, разговаривая, глядит в сторону.
— Не странно, а объективно. Наш Физтех уже не тот, что был. И, во всяком случае, не тот, каким собирался быть.
И, понемногу разговорившись, он осветил положение в институте.
Первые трудности начались, когда столицу Украины перенесли в Киев. Надо бы и Физтеху перебазироваться, да не захотели демонтировать громоздкие установки. Харьков, внезапно превращенный в областной центр, не мог больше претендовать на особое положение в республике. К тому же многие видные сотрудники покинули УФТИ...
Флеров начал работу без азарта. Дух бесстрастной старательности, господствовавший в институте, не вдохновлял. Ночи в гремящем, хохочущем общежитии (иногда там происходили и учебные тревоги, тут уж и мертвый мог в испуге вскочить) не приносили отдыха. Флеров вскоре поймал себя на том, что по утрам размеренно шагает на казенную службу, а не бежит нетерпеливо на свидание с экспериментом, как было раньше. И в обеденный перерыв он уже не заскакивал на пять минут в буфет, чтобы перехватить чего-нибудь и мчаться обратно в лабораторию, а чинно высиживал весь отведенный на еду час. Он ужасался: он превращался из энтузиаста в службиста.
Он написал отчаянное письмо в Ленинград — просился обратно. Ему была нужна не просто наука, ее здесь хватало, а прежний дух научного горения. Он хотел, чтобы после работы до трех часов ночи ему с одобрением говорили: «Молодец! Иди, отдыхай до утра!» Он просился в трудности, не на легкую жизнь. Он хотел возвратиться к Курчатову.
Через несколько дней Флерова вызвал Лейпунский:
— Мне сегодня позвонил Курчатов. И попросил: «Саша, отпусти моего дипломанта!» Я вас отпускаю, Флеров.
В этот же вечер Флеров умчался в Ленинград.
Глава третья КТО БУДЕТ ПЕРВЫМ?
1
До института было недалеко, время — раннее, а Курчатов торопился так, словно боялся недопустимо опоздать — комья сыроватого снега звучно отлетали от калош.
Февраль в этом году был капризным. С Финского залива нагнетало воду, лед на Неве вспучивался и ломался. Вдруг налетали оттепели, снег под ногами чавкал. В автобусе старушка скорбно сказала соседям: «Сегодня зима нехорошая». Марина Дмитриевна, только он встал, пожаловалась: «Голова болит, Игорек, как бы гриппом не заболеть!» Он посоветовал принять кальцекс, говорят, чудодейственное средство, а еще лучше полежать, лежачего болезнь не бьет. У него тоже звенело в ушах, в распухшем носу свербило, судорожный чих не отпускал по минуте — самый раз показать, как болезнь отступает от лежачего. Он торопливо проглотил стакан чаю, закусил двумя таблетками кальцекса, двойным опоясом саженного шарфа укутал шею и умчался. Марина Дмитриевна сделала попытку поставить ему перед уходом градусник. Он удивился: «Какая температура, Мариша? Здоров как бык!» — и поспешил скрыться. Температура, конечно, была, но сегодня было не до температур. Пока Марина Дмитриевна готовила чай, он успел позвонить в Физтех: немецкие журналы, которых он ждал, только что пришли, они лежали в приемной директора. Курчатов бежал к этим журналам, как на долгожданное свидание: в них, он уже знал это, напечатано о новом важнейшем открытии.
И, схватив январский номер «Натурвиссеншафтен», он ушел к себе. На столе лежал английский «Нейчур» — тот вышел позже немецкого «Натурвиссеншафтен», но прибыл в Ленинград раньше. Курчатов торопливо раскрыл журнал из Берлина. Так и есть — работа, на которую ссылаются в «Нейчур», напечатана здесь. Он пробежал глазами статью берлинских радиохимиков Отто Гана и Фрица Штрассмана, перечел две заметки в английском журнале — они давали истолкование экспериментов в Берлине, — снова вернулся к немецкой статье — читал медленно, по фразе, потом откинулся на спинку стула. Итак, в науке об атомном ядре открывается новая глава. Он предчувствовал, что назревает нечто невероятное. Он втайне надеялся, что предвиденное невероятное совершится в его лаборатории. Этого не произошло. Известие о новом открытии донеслось в Ленинград сперва эхом из Лондона и лишь сегодня — прямым грохотом берлинских экспериментов.
Он встал и подошел к окну. Сосны стояли черные на пористом, осевшем снегу. Курчатов вспоминал, как два с лишним года назад в Ленинград приехали Отто Ган и Лиза Мейтнер, он видел их тогда в Радиевом институте, слушал рассказ о том, как они бьются с трансурановыми элементами и как их чуть ли не в отчаяние приводит, что эксперименты воспроизводятся плохо, результаты в одинаковых опытах почему-то разные. И они интересовались, как исследуют трансураны уважаемые ленинградские коллеги, получено ли что-нибудь надежное у господина Виталия Хлопина и его ученика господина Полесицкого? Нет, отвечал им Хлопин, он с Полесицким и своей женой Марией Александровной Пасвик поставил много экспериментов по облучению урана нейтронами, но тоже не выделил заурановых элементов. Столько времени прошло с тех дней, но никто не обнаружил трансуранов — вот уж воистину призраки почудились в Риме и Берлине, что-то в других городах они ни разу не появлялись! И вот недавно Ирен Кюри, вспоминал Курчатов, рассеянно глядя в окно, вдруг сообщила, что она со своим ассистентом югославом Павле Савичем нашла в продуктах облучения урана какой-то лантаноподобный элемент. Она так и написала — лантаноподобный! В Берлине, конечно, поиздевались над новой путаницей у французских радиохимиков. В Берлине не верили в точность парижан. Немцы продолжали с тем же упорством поиски уже объявленных, но все не дающихся в руки трансуранов. В результате последних точнейших опытов они обнаружили в облученном нейтронами уране самый настоящий, всем известный лантан, а не следующий в таблице за ураном один из незнакомцев, каких искали. А кроме него из продуктов реакции выделен еще и барий — о нем парижане и не подозревали. Облучают нейтронами тяжелый элемент уран и получают почему-то элементы среднего веса! Немецкие ученые боялись поверить собственным результатам. Они заканчивали статью невероятным признанием:
«Как химики, мы должны заменить радий и актиний на барий и лантан. Как ученые, работающие в ядерной физике и тесно с ней связанные, мы не можем решиться на этот шаг, противоречащий всем предыдущим экспериментам».
Еще не было случая, чтобы добросовестные, но отнюдь не страдающие от недостатка уверенности в себе немецкие исследователи так открыто признались в растерянности!
Зато у верной сотрудницы Гана Лизы Мейтнер сомнений не существовало. Мейтнер посчастливилось прошлым летом бежать в Стокгольм из Германии, где ей уже было уготовано место в концлагере. Получив письмо от Гана, в котором тот сокрушенно информировал подругу о новых загадках, Мейтнер со своим племянником Отто Фришем, сотрудником Бора, немедленно нашли объяснение — оно-то и ошеломляло!
Когда в ядро урана попадает снаряд-нейтрон, оно распадается — трескается, ломается, разваливается на два осколка. Можно применить и термин «делится» по аналогии с делением клетки. Мейтнер с Фришем так и назвали совместную заметку: «Деление урана с помощью нейтронов. Новый тип ядерной реакции». Они давали и расчет энергии осколков. Получалась чудовищная цифра — 200 миллионов электрон-вольт на каждый акт деления. В миллионы раз больше, чем при химических реакциях! Прямо-таки звездные энергии! А во второй заметке, написанной одним Фришем, сообщалось, что, возвратившись в Копенгаген после встречи с теткой, он в специальном опыте уловил осколки распавшегося ядра урана.
Курчатов размышлял. Итак, решена одна загадка — что происходит с ураном, когда его облучают нейтронами. Взамен появилось десять новых. Во-первых, так и неясно, появляются ли все-таки трансураны или нет? И во-вторых, на какие осколки распадается ядро урана? Из одного ядра не могут одновременно получиться лантан и барий, их суммарный вес больше веса урана. Значит, еще элементы? И очевидно, вылетают электроны, их появление фиксировали и раньше. А может быть, и нейтроны? И если нейтроны, то сколько их? Если один нейтрон разбивает ядро, а из ядра вырываются вторичные нейтроны, то ведь они могут в свою очередь разбить новые ядра, а те выбросят новые нейтроны — и вспыхнет ядерный пожар! Почему об этом умалчивают берлинцы и Мейтнер с Фришем?
Курчатов схватил оба журнала и направился к Иоффе. Директор Физтеха, тоже взволнованный поразительным открытием в Берлине, торжественно произнес:
— Свершилось, Игорь Васильевич!
— Свершилось! — радостно отозвался Курчатов. — И знаете, о чем я думаю? О вторичных нейтронах! Если они вырываются из ядра и если их в среднем больше одного, то ведь это ядерный пожар, охватывающий кусок урана! Уверен, что не я один сейчас об этом думаю.
Курчатов набрасывал на бумаге цифры. Если опыты Фриша верны, то распад урана должен обеспечить выделение энергии в миллионы раз больше, чем горение угля. Килограмм урана равноценен тысяче тонн антрацита — это звучало фантастично!
Иоффе задумчиво сказал:
— Какое сейчас волнение в больших лабораториях мира! Все торопятся воспроизвести опыты Гана и Фриша... Мы, надеюсь, не будем стоять в стороне от великого похода на ядро урана?
Курчатов собирался вырываться вперед. Распад урана ставит массу вопросов. Две наисрочнейшие и наиважнейшие проблемы — какова природа осколков уранового ядра и имеются ли вторичные нейтроны. Ставим эксперименты в этих двух направлениях!
Иоффе показал на журналы:
— В Париж и в Рим они пришли на две недели раньше, чем к нам, даже Нью-Йорк опередил нас на неделю. В гонке урановых исследований, которую я предвижу, и неделя будет иметь значение. Вы правильно говорите — не вы один об этом думаете. И, вероятно, не первый подумали о вторичных нейтронах.
Курчатов покачал головой. В гонке исследований важно, кто раньше начнет, но еще важней, с какой быстротой пойдет работа. Он приступает к исследованиям сегодня же. Ни одного часа промедления!
— Что до первой проблемы — на какие элементы распадается ядро урана, — то за нее лучше взяться радиохимикам, — заметил Иоффе. — Кстати, Хлопин несколько лет занимался облучением урана — разве не так? Определение вторичных нейтронов, естественно, дело физиков.
Курчатов с воодушевлением сказал:
— Если надежды наши осуществятся, в технике произойдет революция! Это ли не выход теоретических исследований в живую практику!
Иоффе одобрительно улыбался. Вероятно, Курчатов преувеличивал скорость выхода научных экспериментов в практику производства. Это было хорошее преувеличение — творческое приближение к грядущему. Невероятное становилось реальностью. То, что недавно называлось пророчеством, сегодня — тема эксперимента. Было от чего кружиться голове!
2
Не заходя к себе, Курчатов поехал в Радиевый институт. Ватные тучи, обложившие небо, наконец прорвало — снег валил так густо, что прохожие превращались в подобие снежных баб. Курчатов уткнул нос в шарф, чтобы не дышать холодным воздухом. Проклятый грипп давал о себе знать и чиханьем, и слезящимися глазами, и повышающейся температурой. «Валит в постель, шельма!» — с досадой подумал Курчатов и проглотил две таблетки кальцекса. От мысли, что какое-то лекарство принято, стало легче. Он быстро прошел мимо циклотронной лаборатории и поднялся на второй этаж. Хлопина в его маленьком кабинетике не было. Курчатов прошел в соседнюю комнату. Хлопин с женой — оба в белых халатах — расставляли в лаборатории баночки с реактивами.
— Не ждали, Виталий Григорьевич? А я — вот он, в натуральную величину!
— Ждали! — весело отпарировал Хлопин. — Ни Мария Александровна, ни я не сомневались, что сегодня будете. И я вам нужен, и еще больше — вы мне! Как по-вашему, что в баночках?
— Хотелось бы, чтоб урановые соединения!
В баночках были препараты урана. Хлопин с живостью заговорил о статье Гана. Ган один из лучших радиохимиков мира, но в его сообщении присутствует желание поскорей поделиться сенсацией. В продуктах распада урана нашли лантан и барий, но одно ядро урана на эти два элемента распасться не может. Значит, есть несколько путей деления урана: один приводит к лантану, другой — к барию. Несомненно, и другие элементы будут, Ган, вероятно, уже ставит новые опыты, чтобы выяснить конкретные схемы распада урана. Этой темой займется и Хлопин с женой. В радиохимических лабораториях мира сейчас лихорадочно готовят эксперименты. Они в Ленинграде не отстанут.
— К вам, Игорь Васильевич, у меня много просьб. От вашей энергии зависит успех работы. Источники нейтронов, которыми мы снабжали Физтех, понадобятся нам самим. Нам придется ужаться с помощью, которую оказывали другим институтам, Игорь Васильевич... Мы на циклотроне будем облучать собственные урановые мишени.
Курчатов понимал, что возражать бесполезно — Хлопин решал важные административные проблемы не по внезапному наитию, а заранее обдумав. Он высказывал не просьбу, даже не пожелание, он приказывал. Курчатов все же с обидой указал, что он не только работник Физтеха, но и руководитель физического отдела Радиевого института, у него здесь свои работы — что же, прекратить их на полусвершении? Хлопин покачал головой. Нет, о прекращении ведущихся работ и речи нет. Курчатов сейчас усовершенствует циклотрон, чтобы получить пучки с энергией до 5 миллионов электрон-вольт и интенсивностью до одного микроампера, — разве его просят прекратить эту тему? Его аспирант Мещеряков определяет сечения захвата быстрых нейтронов для двадцати семи элементов от натрия до висмута — ни один из элементов не будет выброшен. И разве отменяются исследования самого Курчатова по селективному захвату нейтронов кадмием, свинцом, гадолинием, разве забирают его помощников по этой теме — Алхазова, Гуревича, Рукавишникова? Все работы идут, как намечено, спорить не о чем.
— Новая обстановка требует изучения новых тем, — хмуро возразил Курчатов.
Голос Хлопина стал холодным. Мария Александровна, не вмешиваясь в разговор и не прерывая возни с препаратами, с любопытством поглядывала на спорящих. Да, конечно, новая обстановка требует изучения новых проблем. Но изучать их лучше всего в стенах Радиевого института, а не в другом месте. Он напоминает, что РИАН — Радиевый институт Академии наук, так он теперь стал называться, уйдя из Наркомпроса в академию, — единственное в стране учреждение, которое ставит своей задачей познание всех явлений искусственной и природной радиоактивности. Может ли то же сказать о Физтехе уважаемый Игорь Васильевич? Он берет на себя смелость утверждать, что и среди всех мировых радиевых институтов РИАН единственный в своем роде, так как имеет в своем составе три отдела — физический, химический и геохимический, то есть обеспечивает комплексный характер изучения всех форм распада ядер. А разве деление ядер урана не одна из форм такого распада? Уже одно то, что Игорь Васильевич задолго до открытия деления урана попросился к ним в совместители, показывает широту их института. И он напоминает еще о том, что их циклотрон, уже не единственный в Европе, остается все же самым крупным, и что только с его помощью можно ставить солидные эксперименты с ураном, и что два года назад он, Хлопин, предупреждал: циклотрон строится в Радиевом институте для работ именно в этом, а не ином научном учреждении.
— Вам нужно форсировать свой циклотрон, Игорь Васильевич. И хоть он, кажется, будет крупней нашего, мы не станем затруднять вас просьбами уделить на нем время для наших работ.
— Все ясно! До свидания! — Курчатов порывисто встал.
Он возвращался в Физтех и довольный, и раздосадованный. Хлопин не изменил себе. Еще в тридцать втором году, когда никто и не помышлял об искусственной радиоактивности, он настаивал, чтобы физики его института решали при помощи строящегося циклотрона именно эту проблему, создавали не больше, не меньше как искусственные радиоактивные элементы. В те годы можно было лишь улыбаться, услышав такое полуфантастическое требование. Сейчас, в дни гонки урановых экспериментов, он крепко зажмет циклотрон для своих исследований. А жаль, машина солидная! При испытании разных мишеней, помещенных между дуантами, выход нейтронов уже доведен до эквивалентного тому, какой дает смесь бериллия с тремя килограммами радия! Три килограмма радия! А один его грамм стоит в валюте 80 тысяч рублей! А в химических радоновых мишенях, с которыми мы возимся, активность всего-то 500 милликюри, в тысячи раз меньше! Нет, без своего циклотрона не обойтись, прав Хлопин — все силы отдать этому! Зато одно в этой невеселой беседе отрадно — Хлопин сам будет изучать продукты деления ядер урана. Огромный груз — с плеч! Можно сосредоточиться на чисто физических, без примеси радиохимии, проблемах. И решать их будем по-старому, с помощью слабеньких химических источников нейтронов — по одежке протягиваем ножки! Ничего, и таким методом кое-чего добьемся!
Отделавшись от сожаления, что овладеть циклотроном для своих тем не удастся, отныне эта замечательная машина лишь формально будет в его распоряжении, Курчатов размышлял теперь лишь о загадках, какие поставили статьи Гана и Штрассмана, Лизы Мейтнер и Фриша. Главная — вторичные нейтроны. Есть они или их нет? И если есть, то сколько их вырывается из ядра урана на каждый попавший извне нейтрон?
А кому поручить исследование вторичных нейтронов? Курчатов перебирал в уме сотрудников. Одного нельзя оторвать от срочных дел; другой не выказал особой энергии, а сегодня — в начавшемся во всем мире беге экспериментов — нужна только та энергия, какую называют дьявольской; третий в нейтронной физике разбирался, но души ей не отдавал. Поиски свелись в одну точку — Флеров. Это была кандидатура почти идеальная — увлеченный, горячий, в нейтронах давно увидел смысл жизни — такого и подгонять не нужно, скорее, сдерживать. Он всюду поспевал, за все с жаром брался, и пока дело у него шло. Многовалентный Флеров, сказал о нем кто-то насмешливо. В насмешке было больше признания, чем иронии.
Курчатов прошел к себе. По молчанию, с каким физики работали, по украдкой бросаемым взглядам он угадывал нетерпение. В науке совершилось чрезвычайное событие — кого оно коснется? Каждый жаждал приобщиться, никто не осмелился вылезть вперед других. Иные поворачивались спинами — сам не напрашиваюсь, а там — ваше дело.
Когда Курчатов уходил, Флеров помогал аспирантке Тане Никитинской налаживать ионизационную камеру. Сейчас он и Русинов включали осциллограф в схему. Этот американский прибор, еще мало знакомый физикам, Русинов, заместитель Курчатова по лаборатории, недавно добыл в Радиотехническом институте. Осциллограф выпрашивали то один, то другой — настала, видимо, и очередь Флерова поработать с ним.
Курчатов подозвал Флерова:
— Георгий Николаевич, хочу поручить вам деление урана.
— Повторить опыт Фриша? Измерить энергию осколков? — быстро спросил Флеров.
Курчатов отрицательно покачал головой. Поверим, что измерения Фриша правильны и пойдем дальше Фриша. Следующий шаг таков — вылетают ли вторичные нейтроны при делении ядер урана? И сколько их? Достаточно ли для того, чтобы реакция под действием нейтронов извне пошла потом под действием собственных нейтронов — с выделением, а не поглощением энергии.
Нет ли здесь аналогии с поджиганием угля? Вначале подводится тепло, а когда начинается горение, тепло выделяется.
В комнату вошел Борис Курчатов и подсел к столу. Русинов, оставив осциллограф, с обидой воскликнул:
— Игорь Васильевич, а я? Разве мы не можем взяться вместе с Флеровым? Еще быстрей пойдет!
Лев Ильич Русинов, старый, еще со времен карборундовых выпрямителей, сотрудник Курчатова, доказал свою опытность и умение исследованием изомерии брома. Он, несомненно, предвидел важные результаты в работе с ураном.
— Работайте вместе. Схему опытов представите сегодня в... — Курчатов посмотрел на часы и поправился: — Завтра утром. Понадобится немало урана. Где его достанем? В каком виде? Твое мнение, Борис?
— Металлический уран вряд ли достанем в Ленинграде, — объяснил Борис Васильевич. — Зато в магазинах продается азотнокислый уранил, зеленовато-желтые кристаллики, известные каждому фотографу. Приготовить порошковую окись урана из фотопрепарата — несложно.
— Итак, схему опыта приносите мне до открытия фотомагазинов, а затем — рейд в Гостиный двор и районные универмаги! — подвел итоги Курчатов. — Теперь — финансы. — Он вынул бумажник. — Пока заявление в бухгалтерию, пока резолюция — потерянное время. Действуйте!
Русинов взял деньги, добавил свои и Флерова. К ним подходили сотрудники, и каждый, поговорив, хватался за кошелек. Курчатов с усмешкой пожалел ленинградских фотолюбителей — они и не подозревают, какая гроза завтра начисто сметет запасы столь нужного им препарата.
— Хлопин предупредил, что прижмет с радон-бериллиевыми ампулами, — со вздохом сказал Курчатов Борису. — И циклотрон радиохимики загрузят своими темами по урану. Плохо, плохо без циклотрона!
Брат рассеянно чертил на листке формулы восстановления урана из азотнокислой соли. Он ничем не мог помочь; оставалось лишь удивляться, как Игорь порой сам создает себе затруднения: он держался так, будто обязан помогать всем. К чужому исследованию он относился, словно отвечал за него. Борис Васильевич мог бы возразить, что заведует физическим отделом Радиевого института брат, и что пустил циклотрон там тоже он, и что без него, совмещающего две должности, циклотрон потеряет добрую долю своей ценности, и что, стало быть, он имеет право на свою тематику. Скажи это Игорю, тот рассердится. Борис Васильевич был убежден, что Хлопин должен сам позаботиться, чтобы исследования у любого его подчиненного шли — а разве Игорь не его работник? А было наоборот — Игорь энергично создавал условия для успешных исследований радиохимиков, забывая себя. Так он вел себя со всеми. Иным, кто посамолюбивей, казалось, что отзывчивый физик подминает их, заставляет танцевать под чужую музыку. Другие, их было больше, спокойно пользовались щедрой помощью. Обычно руководители работ ставили свою фамилию на отчетах, даже если собственными руками не участвовали в исследованиях. Курчатов не позволял себе такого «умножения» числа своих трудов. Даже если его фамилия в отчете по руководимой им теме не упоминалась, он и это равнодушно сносил.
— Пойдем к Алиханову, Боря, — предложил Курчатов.
У Алиханова собрались все циклотронщики Физтеха: строительство своей ускорительной машины, все понимали это, после новых открытий в ядерной физике стало задачей срочной. Проектом руководил Курчатов, на бумаге была создана внушительная установка: полюса электромагнита 1,2 м, вес его 75 тонн, все остальное — под стать гиганту. Этот циклотрон не только стал бы самым крупным в Европе, но и долго оставался бы им — в других европейских странах тоже проектировались и строились циклотроны, но все они были меньше. В свое время Курчатов получил премию за отлично выполненный проект, премию давно успел истратить, а строительство практически не велось. Алиханов, оставив Курчатову проектирование, взял на себя «внешние дела» — добывал фонды на материалы, финансы, размещал заказы по предприятиям. Настойчивый и энергичный, он отлично завязывал контакты с нужными людьми, но его подводила природная «южная» вспыльчивость — он быстро выходил из себя, когда наталкивался на препятствие, которое сразу не преодолеть. Сейчас, раздраженный донельзя, он описывал собравшимся, какой неудачный вышел у него разговор с главным инженером «Электросилы» Дмитрием Ефремовым.
Циклотронщики Физтеха слушали Алиханова, не прерывая, — ему надо было выговориться, без этого он бы не успокоился. Худой, по спортивному гибкий Леонид Неменов сидел на стуле с ногами — обхватил колени руками, опер о них подбородок, он любил необычные позы. Сосредоточенный Венедикт Джелепов сочувственно кивал головой в ответ на гневные излияния Алиханова. Яков Хургин стоял у окна, напевая про себя серенаду Шуберта, голоса у него почти не было, но отличный слух помогал точно воспроизводить мелодию — он всегда что-нибудь тихо пел, особенно когда волновался, к этому уже привыкли.
— Нет, ты понимаешь, Игорь! — раздраженно закричал Алиханов, когда братья вошли. — Удивляюсь, как я удержался от скандала! Я ему вежливо говорю, что надо совести не иметь, чтобы так задерживать чертежи магнита. Он ответил, что совесть у них не в дефиците, зато чертежников нехватка. И вообще, сказал он, масса неясного, до рабочих чертежей еще далеко.
— Он возражает против изготовления электромагнита? — удивился Курчатов. Дмитрий Васильевич Ефремов славился интересом к сложным электрическим машинам. — Но ведь у него на «Электросиле» шесть лет назад изготовили такой же электромагнит для циклотрона Радиевого института.
— Изготовили! И я ему об этом сказал. А он отвечает: «Вовсе не такой, тот был в два раза меньше, а увеличение в два раза порождает принципиальные новые особенности». В общем, ему неясна конфигурация магнитного поля. А ведь профессор электротехники! Может быть, ему поработать в нашей лаборатории механиком-измерителем для усовершенствования?
Курчатов видел, что нетерпеливому Алиханову трудно столковаться с дотошным главным инженером «Электросилы».
— Сам поеду к Дмитрию Васильевичу, — пообещал Курчатов. — И вы со мной, Яков Львович, у вас природный дар прояснять неясности.
Хургин, прервав напевное бормотанье, поспешно заверил, что прочтет электросиловским инженерам такую лекцию, после которой никаких вопросов не зададут. Курчатов не сомневался, что так и будет. Хургин появился в Физтехе лет пять назад и, отличный физик, быстро выделился незаурядными математическими способностями. В прошлом году он защитил диссертацию по теории циклотрона: разработал свои оригинальные методы расчета циклических ускорительных аппаратов. Мысовскому, уже после пуска своего циклотрона, профессор Дональд Куксей, помощник создателя этих машин Лоуренса, прислал 15 листов расчетов и чертежей — и оказалось, что Хургин, идя своим путем, пришел к тем же результатам. Курчатов в основу проекта циклотрона для Физтеха положил расчеты Хургина.
— Баба с возу, кобыле легче! — объявил повеселевший Алиханов. — Кончаем заседание, товарищи. Поворот «все вдруг», как у моряков. Все указания отныне дает Игорь Васильевич.
Курчатов остался, остальные удалились. Алиханов спросил: верно ли, что Курчатов сосредоточивается на делении урана? Об этом с час назад говорил Иоффе. Алиханова тоже привлекало деление урана, жутко же интересная проблема, но не хотелось бросать успешно идущих исследований быстрых электронов. И позитронов: столько в них вложено труда, столько на них потрачено времени!
— Ты прирожденный совместитель несовместимого, — сказал он с завистью. — Совершенно разные ядерные проблемы — и на каждую тебя хватает. Я займусь одним экспериментом — и ничем другим!
Курчатов рассеянно глядел на стену:
— Эксперименты, да... Знаешь, в чем беда? Нет у нас глубокого теоретика по ядру. Ни один ведь не предсказал деления урана! На три четверти на ощупь работаем. Эх, был один!..
— О ком ты?
— О Гамове. Искал человек легкой жизни, думал — легкая жизнь и творчество — синонимы... А каков результат?
Алиханов промолчал.
...Гамов метался из страны в страну, из города в город, отыскивая место по душе. Места были, души не было. Он, знавший на Родине лишь одну науку и досадовавший, что трудности быта слишком отвлекают от нее, большими научными успехами пока не блистал. Он не переставал работать, типографские машины часто набирали его фамилию. Но то была странная работа — популярные книжицы, хорошо написанные рассказы о науке для тех, кто ею серьезно не интересуется, — труд для денег! И в этих книгах о чужих научных успехах вдруг уродливо прорывалась тоска по легкомысленно брошенной Родине, по друзьям, переставшим быть друзьями, по поклонникам таланта, отвернувшимся от былого кумира. То он ссылался на русского астрофизика Витьку Амбарчика — и рецензенты удивлялись, как мог господин Гамов так перепутать хорошо ему знакомую фамилию, ведь известного русского ученого зовут Виктором Амбарцумяном; то цитировал другого ученого, Люську Харитона — это тоже казалось опиской. Он, казалось, все не мог оторваться памятью от бывших друзей, и постоянно твердимые их имена и прозвища создавали иллюзию общения, он был как бы среди своих. Затянувшийся творческий кризис превращался в тяжкую болезнь души...
Ни Алиханов, ни Курчатов не знали всех обстоятельств жизни Гамова, тем более семейных его неурядиц. Но и не зная всех фактов, они чувствовали, что там, на чужбине, Гамов несчастен. Его в Америке уважали как ученого, ценили как талантливого популяризатора — премия Пулитцера отметила высокое качество его общедоступных книг. Но это все мало походило на то, чего он хотел и на что надеялся. Он не стал тем, кем мог бы стать. Он обещал много больше, чем сумел сделать в первые годы своего добровольного изгнания. И, вспоминая Гамова, бывшие друзья удивлялись продолжительности его творческого кризиса. В него продолжали верить. От него продолжали ждать великих работ.
Но кризис, поразивший Гамова, был глубже, чем думал он сам, чем думали все знавшие его. Лишь на исходе сороковых годов, через пятнадцать лет после бегства за рубеж, Гамов опубликовал труды, напомнившие о прежнем его научном блестящем дебюте, — создал теорию «горячей вселенной», провел исследование генетического кода. И эти глубокие, полные оригинальных научных идей работы с еще большей остротой заставляли жалеть о полутора десятках лет, прожитых вполнакала...
— Пойдем, Игорь, время к полночи, — сказал Алиханов.
На улице с тем же упорством валил снег, добавился еще и ветер. Алиханов спрятал лицо в воротник и пробурчал:
— Как до сих пор не подцепил гриппа? Погода — ужас!
А Курчатов вдруг ощутил, что и насморк пропал, и глаза на ветру не слезятся, и чихать не хочется. Упрямо наседавший грипп отступил под напором переживаний этого дня.
3
И раньше он не мог посетовать на вялость сотрудников. Но что было приемлемым вчера, стало недопустимо сегодня. Он восклицал, едва переступив порог: «Физкультпривет! Открытия есть?» Вопрос задавался с улыбкой, но звучал приказом — должны быть! В лаборатории разучились ходить — от прибора к прибору мчались, даже из комнаты в комнату перебегали. Сам он, высокий, длинноногий, двигался так быстро, что поспеть за ним можно было лишь бегом. Как-то вечером усталые экспериментаторы, проработав часов одиннадцать, запросились домой. Курчатов рассердился:
— В мире дикая гонка экспериментов. Мы опоздали на месяц. Как собираетесь преодолевать отставание?
В институте было заведено, что иностранные журналы поступают к Иоффе, он надписывает, кому что прочесть. Теперь раньше директора за них хватался Курчатов. В журналах главной темой стало деление урана. Курчатов ждал вестей из Парижа. Фредерик Жолио в последние годы не печатал крупных работ. Он строил первый французский циклотрон, читал лекции, выступал на митингах против фашизма, собирал вокруг себя молодых ученых. Он не мог не откликнуться на новые события в науке, одним из создателей которой был. Он должен был вернуться к исследованиям ядра.
И, когда пришли французские журналы, стало ясно, что и Жолио берется за деление урана. Уже 30 января 1939 года, еще до того как в Ленинграде узнали об экспериментах Гана и Фриша, он сообщил, что обнаружил развал не только урана, но и тория, и что осколки разлетаются с огромными энергиями. А в мартовском «Нейчур» Жолио с Хальбаном и Коварски писали, что они наблюдали при делении и вторичные нейтроны, правда, еще не знают, сколько их на один нейтрон извне. Они обещали выяснить и это — ставили заявочный столб на еще не разработанном участке.
Курчатов с журналами подошел к Флерову и Русинову. Подготовка к эксперименту шла в лихорадочном темпе. Лаборанты чистили пластинки кадмия, смешивали порошкообразный кадмий с бором, вкладывали азотнокислый уран в парафиновый блок. Русинов закреплял в другом парафиновом блоке источник нейтронов. Флеров то присоединял, то отсоединял ионизационную камеру от усилителя — она служила индикатором вторичных нейтронов, от ее чувствительности зависела удача опыта.
— Открытий нет, — без улыбки установил Курчатов. Голос его звучал так странно, что Флеров оторвался от ионизационной камеры, а лаборанты перестали уминать парафин.
— Будут, Игорь Васильевич, не торопите! — проворчал Русинов.
— А у французов уже есть, — жестко сказал Курчатов и развернул на столе оба журнала.
Русинов и Флеров склонились над страницами. Оба физика молчали, все было ясно. Жолио включился в гонку экспериментов и сразу же вырвался в лидеры. В Ленинграде лишь готовились искать вторичные нейтроны, а Жолио успел и найти их, и сообщить о своем открытии.
— Напрасная наша работа! — сказал один физик.
Другой хмуро добавил:
— Открывать уже известное...
— Нет! — сказал Курчатов. Он ждал такого вывода. Дело было слишком важным, чтобы разрешить хоть кратковременный упадок духа. — Вторичные нейтроны обнаружены качественно, а не количественно. Сколько их на каждый акт деления? На этот важнейший вопрос Жолио не отвечает. Он торопится оповестить об открытии вторичных нейтронов, это ему удалось. Наша цель теперь — определить их количество. И если их много — экспериментально пустить цепную реакцию!
Он добился своего — оба повеселели.
Подготовка опыта шла с прежней энергией. Он не мог предсказать результата, но про себя знал его. Приближался переворот в науке. Кто первым осуществит цепную урановую реакцию? Он с помощниками? Жолио, ставящий сейчас аналогичные эксперименты со всем своим непревзойденным искусством? Фриш в Копенгагене? Ферми в Нью-Йорке, куда он бежал из Италии несколько месяцев назад? Имя первооткрывателя не так уж важно. Важен факт. Возможна цепная реакция деления урана или невозможна? Все остальное было несущественно. Если бы Курчатов высказал эту мысль вслух, она вызвала бы удивление! Творец должен ставить свою подпись под творением, без этого оно теряет для творца половину привлекательности, сказали бы с укором. И нечего возразить! Но он ловил себя на том, что ожидает свежих журналов из-за рубежа с таким же нетерпением, как и открытий от помощников. Чувство личного участия, такое всегда обостренное, уступало место тревоге ожидания.
— Да или нет? Ты знаешь, я теперь понимаю муку гамлетовского вопроса, — сказал он брату. — Быть или не быть освобождению внутриядерной энергии — вот вопрос вопросов! А кто даст ответ, не так уж важно. — Он лукаво усмехнулся, глаза его заблестели. — Лучше, если мы. Но главное — поскорей. Ожидание терзает
— Надеюсь, на меня нареканий нет? Урановые препараты я готовлю своевременно? — поинтересовался Борис Васильевич.
Ни на кого нареканий не было. Каждый понимал, что завтрашний день способен принести ошеломляющие результаты и что завтрашний день можно приблизить собственной работой. Из Москвы сообщали, что Илья Франк тоже исследует деление урана. Лейпунский писал, что в Харькове сосредоточиваются на урановой проблеме. А в Радиевом Хлопин совершал открытие за открытием. Уже больше двух десятков осколков урана удалось установить химически, и каждый был элементом среднего веса.
Приходя в Радиевый институт — теперь в РИАН, Курчатов встречал в циклотронной уже не только хорошо знакомых физиков, с которыми давно работал: Михаила Мещерякова и Исая Гуревича, твердо числивших себя «курчатовцами», молодых Константина Петржака и Николая Перфилова, но и радиохимиков, совсем не знакомых или знакомых лишь в лицо. Об одном из этих посетителей циклотронной, Александре Полесицком, говорили как о любимом ученике директора: сейчас, забросив свои прежние темы, он выяснял, делят ли нейтроны кроме ядра урана еще и ядра тория. Выздоровевший после болезни, но совсем отстранившийся от административных дел Мысовский со своим прежним сотрудником Александром Ждановым изучал следы деления урана в изобретенных ими толстослойных пластинках, им помогал Георгий Горшков, из ветеранов физического отдела института. И техник Петр Иванович Мостицкий — его именовали Пим по начальным буквам — разрывался на части, стараясь угодить каждому, кто требовал своей доли участия на циклотроне. Он больше всех радовался появлению Курчатова, спешил к нему навстречу — в трудные дни и ночи наладки ускорительной установки Курчатов брал на свое дежурство почти всегда Пима, тот с полуслова понимал, что надо делать, и так азартно выполнял приказы, что каждому было видно: вот человек, которому доставляет радость быть исполнительным. Не только Пим, но и другие сотрудники отвлекались от своего дела, спешили, улыбаясь, к Курчатову — он оставался руководителем отдела, вел здесь свои работы, с ним надо было посоветоваться, получить от него указания. Но он, никому не открываясь, чувствовал что-то новое в обстановке. И радость, с какой его встречали, переставала нравиться — так встречают скорее дорогого гостя, чем своего, всегдашнего, обычного, привычного. Он вдруг почувствовал, что перестал здесь быть необходимым. Неполадок не возникало, каждый с увлечением выполнял свои задания, и заданий становилось больше, и людей прибавлялось. Сам Хлопин, посещавший циклотронную прежде лишь по директорской обязанности, теперь засиживался у физиков, проверяя, как идут их общие с радио-химиками работы. И все подчинялось основному, главному — изучению деления ядер урана. Хлопин обещание свое выполнял — работы по урану развернулись широко: гораздо шире, чем сегодня могли их поставить ядерщики в Физтехе, признавался про себя с грустью Курчатов.
Только один из крупных физиков РИАНа не пожелал «повернуться лицом к урану». Александр Брониславович Вериго, соперник Мысовского по исследованию космических лучей, остался верен прежней страсти. Невысокий, плотный, атлетического склада, он слыл в институте живой легендой. Он и впрямь поражал: сухое перечисление его дел для науки звучало увлекательной авантюрной повестью. Это он с тяжелыми приборами на плечах несколько раз поднимался на вершину Эльбруса: однажды в трудную погоду, когда опытный проводник отстал, рискнул идти дальше один, провел на вершине ночь, чуть не замерзнув на ледяном порывистом ветру, на рассвете с час танцевал на скале, восстанавливая кровообращение, и, лишь выполнив все запланированные измерения, спустился вниз, подобрав по дороге измученного проводника. И, решив узнать, как поглощают космические лучи большие толщи воды и массы металла, он проводил свои измерения в отсеках дважды для этого опускавшейся на дно подводной лодки, и броневой башне линкора, залезал даже со своей аппаратурой в ствол орудия большого калибра, потом удовлетворенно говорил: «Тесновато в дуле, но работать можно, а выстрелили бы мной, полетел бы не хуже двенадцатидюймового снаряда. А что? Если со всей аппаратурой, так весу будет не меньше, чем в снаряде». В 1932 году он совершил путешествие на ледоколе «Малюгин» в Арктику, чтоб узнать интенсивность космических лучей на высоких широтах. Но самым, быть может, поразительным — до его дел в блокадные месяцы Ленинграда, но о них после — из всех событий его исследовательской работы был полет на стратостате «СССР-1 бис». Высота Эльбруса показалась Вериго мала, энергичный профессор добился от Академии наук ходатайства перед правительством о серии измерений в стратосфере. В гондолу стратостата погрузили пять внушительных электрометров, один в свинцовой броне, две камеры Вильсона с автоматическим управлением конструкции самого Вериго, батарею аккумуляторов. 26 июня 1935 года стратостат стартовал, полтора часа поднимался и уравновесился на 16 километрах над землей, десять минут пробыл на этой высоте и вдруг стал опускаться из-за неожиданного повреждения оболочки — сперва медленно, потом все быстрей. За короткое время подъема и равновесия на высоте Вериго успел проделать почти все запланированные измерения. Командир стратостата Кристап Зилле, сбросив весь балласт, приказал спускать груз на парашютах. Первыми сбросили тяжелые аккумуляторы, за ними — защищенную измерительную аппаратуру. Падение стратостата все усиливалось. В 7 часов 30 минут настала очередь людей покидать аварийный корабль. Вериго, которому уже исполнилось 42 года и который до того ни разу не прыгал с парашютом, первый подошел к открытому люку. Удачный прыжок немолодого профессора удивлял потом заправских парашютистов — он приземлился на капустное поле без повреждений, хотя и с ушибами: «Петь во время падения, да и после не хотелось, но и плакать, знаете, не было причин». Прыгавший за физиком второй пилот Юрий Прилуцкий повис на березе. В 8 часов Зилле благополучно приземлил неподалеку освобожденный от груза стратостат. Все приборы были целы, Вериго, доставив их из Калужской области, где произошло приземление, в Ленинград, немедленно засел за обработку измерений.
За этот мужественный прыжок и важные научные данные, полученные в полете, Вериго наградили орденом Ленина. Появившись в Радиевом институте после награды, он, счастливый, показывая знакомым орден в красной розетке на груди, растроганно басил: «Видали? Допрыгался!»
— Как дела, уранисты? — говорил он, входя в циклотронную. — Не нужно ли помощи от космиков?
В Радиевом институте Вериго руководил измерительной лабораторией. Среди его многочисленных увлечений, быть может, главным было конструирование приборов, ремонт механизмов, налаживание разнообразной аппаратуры. Он сам отлично пилил, строгал, резал, шлифовал, точил, фрезеровал. Страстный автогонщик и мотоциклист, он собрал из немыслимого барахла — бренных остатков доброй дюжины разномастных иностранных машин — удивительного вида автомобиль, которому позавидовали бы и пассажиры «Антилопы-Гну». И любил подвозить на своем «прыгающем гробу» сотрудников, если выходило по дороге. Только Хлопин, как-то воспользовавшийся услугами своего старого друга — Вериго, как и Мысовский, приятельствовал с Хлопиным еще со времен совместного учения в одесской гимназии — и опоздавший на заседание в Академию наук из-за поломки в дороге, с той поры упрямо отказывался от механизированного транспорта и продолжал ходить пешком. Вечные поломки скорее скачущей, чем катящейся машины нисколько не умаляли славы ее хозяина, как конструктора и механика: приборы, выходившие из его лаборатории, отличались надежностью и точностью.
— Вот создадите со своими уранистами или уранцами, не знаю, уж как их назвать, портативный ядерный двигатель, будем с вами обходиться без бензина, Игорь Васильевич, — оптимистически уверял он Курчатова: тот с недавних пор тоже разъезжал на своей машине, но не собственной сборки, а на обыкновенной «эмке» с заводского конвейера,
Курчатов усмехался. Дорога к портативному ядерному двигателю была далека, вряд ли они при своей жизни пройдут ее. Надо же что-нибудь оставить для работы и будущим поколениям ученых!
— Зайдите ко мне, Игорь Васильевич, — попросил Хлопин, повстречав Курчатова в циклотронной. И в крохотном своем кабинетике, показав рукой на диван, продолжал: — Ну-с, если и не время подводить итоги, то о некоторых результатах поговорим. Должен, прежде всего, поблагодарить за превосходную отладку циклотрона. Правда, до обещанной Львом Владимировичем мощности далеко, но отрадно, что машина работает как часы. Помните его выступление на юбилейной сессии Ученого совета в декабре 1937 года? Звучало как стихи. И что циклотрон в качестве нейтронного источника будет эквивалентен ста килограммам радия, и что вообще вскоре станет выгодней покупать за границей циклотроны, а не радий... От импорта радия мы давно отказались, обходимся отечественным, но что-то я не знаю пока страны, которая занялась бы экспортом циклотронов.
Курчатов заметил, что мощность, равноценная 100 килограммам радия, вряд ли достижима на их машине, но нейтронный поток, эквивалентный смеси 15 килограммов радия и бериллия, будет получен еще в этом году. Хлопин улыбнулся. Улыбка разительно меняла его суховатое, вежливо-сдержанное лицо, в нем вдруг появлялось что-то детски-радостное. И тогда верилось, что, и вправду, этот человек может весело проказничать, наряжаться в шуточные маски, танцевать, играть на гитаре, с увлечением петь романсы и оперные арии — так о нем говорили хорошо знавшие его люди. Курчатов никогда его не видел таким. Академик не скрыл своей радости. Мощность, эквивалентная 15 килограммам радия, как раз то, чего жаждут радио-химики. Будем проверять многие загадочные наблюдения. Им за это время изучены десятки осколков распада урана, в общем, картина, лишь немного отличающаяся от той, какую рисуют Ган и Штрассман и их последователи за границей. Но вот что интересно. Были собраны продукты деления, и некоторые из них через много часов после облучения нейтронами показывали явственную активность. Что это? Осколки урана радиоактивны? Или все же образуются загадочные трансураны? Он склоняется к последнему. Для приоритета послал сообщение в печать, будет докладывать на Президиуме Академии наук.
— Пока вы их не выделите химически, прямого доказательства не будет. Слишком уж много путаницы накопилось в мире с трансуранами, — сдержанно заметил Курчатов.
Хлопин кивнул. Правильно, надо накопить побольше продуктов распада урана и проанализировать их состав химически. Практически весь физический отдел института будет служить этой цели. Хлопин переменил тему разговора. В институте выросли свои научные кадры, два радиохимика — Борис Никитин, Александр Полесицкий — защитили докторские диссертации, но, к сожалению, не у себя, а на стороне — в университете, в Технологическом институте. РИАН, хоть и стал академическим, пока не получил права проводить у себя защиту, приходится с этим считаться. У физиков на подходе Гуревич, за ним готовят диссертации аспиранты Мещеряков, Петржак, Перфилов. Гуревичу защищаться, видимо, в университете или Физтехе, оппонентом в любом из этих мест пригласят Курчатова. Какого он мнения об исследовании Гуревича по распределению уровней в тяжелых ядрах? Работа сложная... Диссертант до сих пор больше экспериментировал, а здесь выступает и как теоретик.
— Мнение мое вполне определенное, и я его выскажу в своем отзыве. Гуревич из тех, кто хорошо совмещает эксперимент с теорией. Его гипотеза о фазовых переходах ядерного вещества — глубокое обобщение существующих сейчас представлений о структуре атомного ядра. Она привлекла всеобщее внимание физиков и получила высокую оценку такого замечательного ученого, как Нильс Бор. Я прямо напишу, что диссертация не только полностью удовлетворяет требованиям к кандидатской работе, но идет выше этих требований.
Хлопин, удовлетворенный, встал, запахнул халат. Это означало, что разговор закончен и ему пора в соседнюю комнату — в свою лабораторию. Курчатов спустился вниз. У двери в физический отдел он в нерешительности остановился — возвращаться к своим или нет? Он хмуро усмехнулся. Опять, конечно, обрадуются, будут забрасывать вопросами, рассказывать о своих опытах — как и час назад. Ничего не изменится, если он пройдет мимо. Все налажено — хорошо начинается, хорошо завершается... Он еще недавно сидел здесь по пять дней в неделю, проводил дни и ночи в циклотронной — это было необходимо, без этого дело бы не пошло. Сейчас вполне достаточно появляться раз в неделю...
Курчатов прошел мимо циклотронной, обогнул «старую химичку» и вышел на улицу Рентгена.
4
В начале апреля Русинов с Флеровым положили на стол Курчатову сводку измерений. Почти двести тысяч записанных импульсов ионизационной камеры свидетельствовали, что вторичные нейтроны при делении ядра урана всегда появляются. А тонкий анализ этих двухсот тысяч измерений доказывал, что в среднем на один первичный нейтрон, раскалывающий ядро, оно выбрасывает наружу около трех нейтронов. Курчатов проверял расчеты, придирался к цифрам — все было верно: три нейтрона плюс, минус один. Не меньше двух, не больше четырех,
— Да знаете ли, ребята, что вы сделали! — Курчатов возбужденно ходил вдоль стола, на него в четыре восторженных глаза смотрели помощники. — Это же документированное извещение о грядущем перевороте в технике! Сегодня жжем уголь, завтра будем жечь уран. И запал — нейтронный источник, поднесенный к глыбе урана! Вот о чем говорят, нет, не говорят, кричат ваши измерения!
Иоффе, вернувшись из очередной поездки в Москву, информировал заведующих лабораториями, что спор о направлении их института подходит к завершению. Иоффе достал из портфеля несколько листков, один протянул Курчатову. Тот прочитал вслух: «Президиум констатирует важность правильной организации работ по изучению атомного ядра и космического излучения для успешного развития этой центральной проблемы современной физической науки. Президиум отметил известные успехи, достигнутые советскими физиками, в особенности молодежью, в изучении атомного ядра и космического излучения, и констатировал неудовлетворительное состояние этих работ, выражающееся в раздробленности ядерных лабораторий по разным ведомствам, в нерациональном распределении руководящих научных работников в этой области и т.п.».
— Очень выразительное «и т.п.», — Курчатов засмеялся. — С одним не соглашусь — космические лучи объявлены равнозначными ядерным работам. И это после открытия Гана!
Иоффе посверкивал умными холодноватыми глазами.
— Вывод был такой — объединить все ядерные исследования в Академии наук. Я предложил взять в академию институт целиком. В общем, удалось договориться, что Наркомат тяжелой промышленности нас отпускает, а академия берет. Теперь никто не посмеет упрекнуть вас, что занимаетесь оторванными от жизни темами. Фундаментальные исследования — прямая обязанность академических институтов.
Иоффе, похоже, ожидал изъявлений восторга. Сам он торжествовал, долгая борьба за самостоятельность Физтеха завершилась победой. Сотрудники порадовались, но не так, как ему хотелось. Они радовались скорей за него, чем за себя, — основные нападки до сих пор рушились на директора, им же под его мощной защитой жилось довольно вольготно.
Иоффе отпустил всех, кроме Курчатова. Новое положение Физтеха создавало особые условия для лаборатории ядра. Разговор предстоял щекотливый, мягкий Иоффе затруднялся начать его прямо. Он молча протянул Курчатову два листочка.
Курчатов нахмурился. Он не хотел показывать Иоффе, что обижен, но совладать с лицом не мог. Членов Президиума Академии наук информировали, что на циклотроне РИАНа работала бригада в составе А. И. Алиханова, И. В. Курчатова (бригадир), Л. В. Мысовского, инженеров Д. Г. Алхазова, К. А. Бриземейстера, П. И. Мостицкого. В списке многочисленных работ, произведенных на циклотроне, упоминалось поглощение медленных нейтронов в диспрозии, изученное И. И. Гуревичем и М. Г. Мещеряковым, и исследование быстрых нейтронов, проделанное Н. А. Перфиловым.
А второй листочек содержал постановление Президиума академии по докладу академика В. Г. Хлопина, утвержденного недавно директором РИАНа, после того как Вернадский отказался от этой должности — из-за его нездоровья и жизни в Москве она была чисто формальной. Курчатов читал: «Решено реорганизовать Радиевый институт Академии наук СССР с тем, чтобы основное, ведущее направление его тематики определялось химическим отделом института. На физический отдел института возложено решение задач и исследовательская работа по естественной и искусственной радиоактивности. Впредь до постройки нового циклотрона в Москве президиум признал необходимым использовать установки Радиевого института для подготовки кадров и предварительных исследований».
Там же сообщалось, что Президиум создал постоянную комиссию по атомному ядру при физико-математическом отделении Академии наук СССР в составе: С. И. Вавилов — председатель, члены — Иоффе А. Ф., Франк И. М., Алиханов А. И., Курчатов И. В., Шпетный А. И. и Векслер В. И.
— Поздравляю с избранием в члены ядерной комиссии, Игорь Васильевич — В голосе Иоффе слышалась ирония. — Сперва ударили, потом погладили. Все-таки компенсация.
— Нет. Не получается компенсации! — Курчатов раздраженно покачал головой. — Получается по Шиллеру: мавр сделал свое дело, мавр может уходить!
Иоффе сочувственно улыбался. Он никогда не одобрял «двухстулья» Курчатова. Но с его удивительной работоспособностью нельзя было не считаться — ни одна из работ в Физтехе не страдала от того, что половину времени Курчатов отдавал Радиевому институту. Скверно было лишь то, что реорганизацию в своем институте Хлопин задумал произвести, когда единственный в стране циклотрон был отчаянно нужен физикам.
— Мое мнение — пришла пора вам с Радиевым распрощаться, — сказал Иоффе. — Имею в виду административные должности, а не научную кооперацию. Став полновластным хозяином института, Хлопин твердо проведет свою линию на главенство в нем химиков. Новая метла чисто метет, а эта метла к тому же — жесткая...
— Подумаю.
— Подумайте. Семинар сегодня будет?
— Конечно. Обсуждаем работы Френкеля и Флерова с Русиновым.
Четверговые семинары в Физтехе всегда привлекали много слушателей. Когда же главной темой стало деление урана, в аудиторию набивалось столько, что опоздавшим приходилось стоять. Курчатов, заняв председательское место, обвел глазами аудиторию. Впереди сидели Иоффе, Алиханов, Кобеко, Арцимович, Александров, Френкель — все видные ученые Физтеха; за ними компактная группка — Харитон, Зельдович, Щелкин, Рогинский, Семенов — это были из химико-физического, а за ними радиохимики — Петржак, Мещеряков, пышноволосый Гуревич, частый докладчик на семинаре. Курчатов кивнул головой главному инженеру «Электросилы» Ефремову — этот круглолицый, с усиками, улыбающийся человек, профессор электротехники, пришел разобраться, чего физики ожидают от конструируемых у него машин.
— Поговорим о гипотезе деления тяжелых ядер, предложенной Яковом Ильичом, — объявил Курчатов.
Время, когда на семинарах физиков главенствовали теоретики, давно прошло. Ландау, покинув Харьков, предпочел Ленинграду Москву. Иваненко переселился в Томск, Бронштейна не было, Померанчук определился к Ландау в Институт физических проблем, туда же собирались и молодые теоретики Мигдал и Смородинский. Но Френкель с прежней энергией разрабатывал сложные проблемы физики. И созданная им модель деления урана породила сенсацию.
Сенсацией была не сама теория, а наглядность модели, до того зрительно яркая, что ее можно было изобразить рисунком. Френкель видел природу в образах, он, мастерски оперируя вычислениями, предпочитал формулам картины. Теоретиков, считавших, что природа выражает себя лишь языком матриц и интегралов, временами раздражала почти поэтическая наглядность мышления Френкеля, но и они не отрицали, что его модельные теории хорошо согласуются с опытом. Водя мелком по доске, Френкель рисовал ядро тяжелого элемента — что-то вроде обычной капли, только образованной смесью протонов с нейтронами. Силы, стягивающие эту смесь в шарик, были похожи на те, что образуют поверхностное натяжение в любой жидкой капле, только в миллионы раз более сильные, — они-то и определяли крепость ядра. Когда в такое ядро-каплю врывается посторонний нейтрон, оно начинает колебаться, растягиваться, где-то посередине образуется перетяжка, ядро уподобляется пульсирующей гантели, перетяжка рвется — ядро распадается на две половинки, на два новых элемента, только уже среднего веса. А так как в тяжелом ядре избыток нейтронов, то они тоже выбрасываются наружу. Деление — свойство тяжелых ядер, только они образуют неустойчивую ядерную каплю: для сконструирования тяжелого ядра нужно много нейтронов и протонов.
— Теперь послушаем, как мы обнаружили вторичные нейтроны, — Курчатов попросил Флерова приступить к докладу.
В этот вечер семинар затянулся допоздна. Физики не торопились расходиться. Флеров и Русинов описывали факты, не предлагая далеких выводов. Слушатели делали их сами. Выводы ошеломляли, их масштабность была фантастична!
Уже после семинара обсуждение продолжалось в узком кругу. Курчатова забрасывали вопросами. Ядерные реакции идут с колоссальной быстротой. Но ведь тогда цепная реакция деления урана — взрыв!
Курчатов пожал плечами. Конечно! Жолио так и назвал свое второе сообщение: «Испускание нейтронов при ядерном взрыве урана». Что, собственно, товарищей смущает? Товарищей волновало, что ядерный взрыв не будет похож на обычный. При обычном взрыве выделяется не больше энергии, чем при горении угля, даже меньше, но выделяется значительно быстрей, отсюда и разрушительная сила. А при распаде урана энергия в миллионы раз больше. Жолио говорил о взрыве одного ядра, а если взорвется кусок урана, содержащий миллиарды миллиардов ядер? Силу разрушения такого взрыва и вообразить себе невозможно!
— Что-то мы недооцениваем или чего-то не знаем, — задумчиво сказал Курчатов. — Главная предпосылка цепи — появление вторичных нейтронов — обнаружена. Но в экспериментах Флерова и Русинова нет даже намека на цепь... Почему? Очередная загадка! И еще одно — взрывная реакция может быть использована в военных целях.
Возражения не развеяли тревоги. Жолио четыре года назад говорил, что взрывные превращения ядер могут уничтожить всю планету, если охватят большое количество элементов. Тогда это казалось фантастикой. А если это — пророчество? Фашизм ведет мир к истребительной войне. Деление урана открыто в Берлине, не надо об этом забывать. Из Германии масса талантливых физиков бежала, но и многие остались. Кто даст гарантию, что все они сейчас не нацелены на создание ядерной взрывчатки?
...Ни Курчатов, ни его друзья не знали в тот апрельский день, что не их одних пугала грозная перспектива военного применения урана. Ровно за две недели до этого физики-антифашисты, эмигрировавшие в Америку, обратились к французам с предложением прекратить публикации по делению ядер. Стремительность, с какой Жолио вмешался в урановое соревнование, сама по себе была естественна. Но первые же статьи, посланные им в печать, привели их в ужас. Сперва Силард, потом Вайскопф просили французов подумать о военном резонансе их работ. В страстной телеграмме из ста слов Виктор Вайскопф указывал Жолио, что Гитлер может употребить во зло их открытие. Вайскопф выполнял обещание, которое шесть лет назад давал в Ленинграде, — предупреждал со всей строгостью и со всей честностью о моральной ответственности ученого за свои работы...
Курчатов всегда засыпал, чуть голова касалась подушки. В эту ночь он долго не мог уснуть. Тревожная беседа породила тревожные мысли и видения. Это не был кошмарный сон, это была бессонница, расцвеченная кошмарами.
5
Следующая неделя принесла временное успокоение.
Пришли свежие американские журналы. Нильс Бор дал свое толкование опытам Гана и Фриша. И оно объясняло, почему у Флерова и Русинова не пошла цепная реакция. Все дело было в том, что уран состоял из смеси разных ядер и распадался лишь тот изотоп, которого было в 140 раз меньше, чем второго, — а второй, основной, не стимулировал, а гасил реакцию.
Небольшая, на три странички, заметка Бора, датированная февралем, переходила из рук в руки. О том, что имеется несколько разновидностей урана, известно стало уже два года назад. И тогда же было установлено, что природный уран всегда содержит изотопы с массой в 238 атомных единиц 99,28%, а урана полегче, с массовым числом 235 — 0,714%. И Бор доказывал, что только уран-235 способен делиться под действием любых нейтронов, основная же масса ядер лишь поглощает их, если только они не очень быстры. Один изотоп урана легко порождает быстро нарастающую лавину нейтронов, другой еще быстрей гасит цепную реакцию.
И хоть новая теория Бора показывала, что возбуждение цепной реакции задача куда сложней, чем думалось вначале, Курчатов почувствовал облегчение. Перспектива взрыва куска урана на лабораторном столе переставала быть реальной. Но опять возникали вопросы. Какова энергия вторичных нейтронов? Может быть, она так велика, что не только легкий, но и тяжелый изотоп урана будет вовлечен в реакцию распада? Как странно идет развитие науки — умножается число распутанных загадок и одновременно увеличивается число вновь возникающих!
В новом выпуске «Нейчур» Жолио с Хальбаном и Коварски опубликовали сообщение «Число нейтронов, испускаемых при ядерном делении урана». Схема опыта была иная, чем у Русинова и Флерова, а результат похожий: парижане устанавливали, что при каждом акте деления ядра выделяется в среднем 3,5 нейтрона против 3,0, найденных в Ленинграде.
Дата заметки была 7 апреля — на три дня раньше, чем Флеров докладывал на семинаре. Опять энергичные французы опередили советских физиков! Всего на три дня, но счет сейчас шел на часы.
— Не огорчайтесь! — посоветовал Курчатов помощникам. — Еще неизвестно, у кого точней цифры — у нас или в Париже. Не вешать носа.
Помощники носа не повесили, но им надоело постоянно быть вторыми. Нагромождаем опыт на опыт, измерение на измерение — тысячи перепроверок! За границей по-иному — что-то нашел, ага, мигом в печать! Перепроверки сделают другие, зато приоритет — твой! Курчатов возразил, что раз приоритет отпал, надо взять основательностью. Пусть эффекту вылета вторичных нейтронов и присвоят имя Жолио, он этого заслужил, но сделайте так, чтобы цитировали данные Русинова с Флеровым, а не Жолио.
— Итак, продолжаем исследование, — резюмировал Курчатов. — И очередной вопрос связан с гипотезой Бора. Какой из изотопов урана делится? И какими нейтронами — быстрыми, медленными, тепловыми? От решения этого вопроса зависит, возможна ли вообще цепная реакция в натуральном уране.
Оба физика удалились обсуждать схему нового опыта. Вскоре Курчатов отозвал Флерова. Как Юра относится к своим работам? Молодой физик покраснел, немного растерялся. К работам он относится хорошо. Разве он в чем-нибудь проштрафился? Почему такие вопросы?
— Вас называют многовалентным, Георгий Николаевич. Хочу проверить, так ли это? Надо установить, может ли делиться тяжелый изотоп урана.
— А что мы со Львом Ильичом готовим? Именно этот опыт!
Нет, опыт с Русиновым другой. Вдвоем они выяснят, как делится уран-235. Совсем другая тема — найти условия, при которых делится уран-238. Вряд ли Лев Ильич захочет проводить сразу два опыта. Самое важное сейчас — точное знание констант распада урана! Без этого нельзя двигаться дальше. И лучше работать с радием в Радиевом институте, а не в Физтехе: там все будет под рукой.
— Хочу состыковать вас с Костей Петржаком. Парень после дипломной работы тоскует по большому эксперименту. У вас буйная голова — семь идей на неделе, и все ослепительные. У него хорошая интуиция и золотые руки. Аппаратурное оформление у Петржака — на высоте. Со Львом Ильичом вас в целом — больше одного и меньше двух. С Костей, уверен, суммируй вас, получится больше двух. Лады?
Флеров побежал в Радиевый к Петржаку. Курчатов знал, что новая тема обрадует Флерова. Он теперь искал урановые цепные реакции даже в природе. На одном из семинаров он доказывал, что вулканические явления вызваны цепным распадом урана. Сторонников он не приобрел, но остался при своей «урановой фантазии». И он понимал, что цепная реакция на натуральном уране открывает дверь в иной мир. Молодого физика не мог не увлечь вопрос, почему эта дверь пока остается закрытой.
Вечером пришел Борис Васильевич. Он спросил, как дела на циклотроне. Курчатов ответил, что в циклотронной все рабочее время отдано темам радиохимиков.
Помолчав, Курчатов добавил:
— И вообще — хочу уйти с должности заведующего физическим отделом. Трудно стало сидеть на двух стульях. Приходить и помогать по-прежнему буду.
Борис Васильевич хотел возразить. Курчатов не дал:
— Постой! Не возмущаться же, что у радиохимиков своих исследований невпроворот? Предъявлять мандаты на заслуги? Обидно, скрывать не буду. Даже очень обидно! Переживу. Работаю не для умножения списка своих трудов и не для личной славы. В конце концов, дело общее. И дальше так буду держаться! Точка. Физкультпривет!
Когда брат говорил таким тоном, Борис Васильевич переставал спорить.
6
В автобусы в этот утренний час набивалось так много пассажиров, что лишь счастливцы могли сидеть. Зельдович уцепился рукой за ремень, свисавший с перекладины, и ритмично покачивался. Покачивание помогало размышлению. Вчера он начал один расчет, под покачивание — вычисление в уме шло неплохо.
Сзади до него донесся знакомый тенорок:
— Яша, идите ко мне! Яша, вы слышите?
Зельдович оглянулся. У задней двери, сдавленный прихлынувшей на остановке толпой, обеими руками цеплялся за ремень Померанчук. Зельдович хотел крикнуть приятелю, чтобы тот пробирался к нему, но вместо этого стал энергично проталкиваться назад.
— Здравствуйте, Яша, — сказал Померанчук, поправляя сползающие от тряски очки. — Вы читали статью Перрена?
Зельдович не сомневался, что разговор пойдет о каком-либо научном факте. У Померанчука не бывало иных разговоров, кроме как о науке. В последнее время стали модными занятия, отвлекавшие от основных забот, — спорт, пикники, составление коллекций. Померанчук знал лишь одну страсть — науку. Тех, кто наукой не увлекался, он избегал.
— Яша, надо прочесть статью Перрена, — продолжал Померанчук. — Она написана специально для вас. Я хочу, чтобы вы прочли Перрена, Яша.
Автобус встряхивало на колдобинах. Зельдович легко амортизировал толчки, он умел ловко пружинить и ослаблять мускулы. Померанчук же, если бы не спасительный ремень, падал бы при каждом сильном толчке. Зельдович удивился. Зачем ему статьи Перрена? Он знает о нем только то, что этот французский теоретик работает с Жолио. Область его интересов далека от всего, чем занимается Зельдович. В недавно защищенной докторской диссертации Зельдович обосновал теорию окисления азота при горении и взрывах, он и дальше продолжает эту тему. Взрыв, процесс, начинающийся с единичной молекулярной реакции и стремительно разветвляющийся, — что может быть увлекательней? Нет, труды Перрена не могут заинтересовать его!
Померанчук кивал так серьезно, словно Зельдович подтверждал какую-то его очень важную мысль и он во всем согласен с другом. А сказал он совсем иное:
— Работы у Перрена интересны, Яша. Я слышал его, когда он приезжал в Ленинград на конференцию по ядру. Спросите Исая Гуревича, Исай тоже был на конференции. Перрен только что опубликовал статью о вулканизме. Он считает, что происхождение вулканической деятельности надо искать в цепной реакции деления урана, самопроизвольно возникающей в недрах земли.
Зельдович вспомнил, что такую же идею о причинах вулканической деятельности высказал и Георгий Флеров. Ну и что? Все сочли идею фантастичной. Померанчук как бы не услышал возражений. Он продолжал говорить о статье Перрена. У Перрена не голая идея, но и расчет. Сейчас уже известно, что под действием очень быстрых нейтронов делятся оба изотопа урана. Перрен вводит новые понятия — критический объем и критическую массу. И показывает, что если масса урана меньше критической, то цепная реакция в нем не разовьется. Зато если спрессовать порошкообразную массу окиси урана, то в шаре из такой массы с радиусом всего в 130 сантиметров и весом всего в 42 тонны непременно вспыхнет цепная реакция. В природе возможны условия, когда при рудообразовании потоки урановых минералов сольются где-нибудь в объем, допускающий цепную реакцию. Если поискать около вулканов, то, может быть, найдут продукты распада урана — это было бы доказательством в пользу уранового происхождения вулканизма.
По мере того как Померанчук излагал соображения Перрена, в Зельдовиче пробуждался интерес. Померанчук закончил:
— Я вспомнил о вас, Яша, когда читал Перрена, потому что вы же специалист по цепным реакциям. Ваша докторская диссертация — это же сплошная химическая кинетика! У вас в институте все занимаются цепными реакциями — разве не так? Я даже скажу, Яша, у вас появился такой научный снобизм: ценятся только те работы, где упор делается на кинетику процесса, а не на окончательные результаты реакции. Или не так? А что такое урановая цепная реакция? Разновидность того же кинетического процесса, что и ваши горение и взрывы! Нет, Яша, не говорите, вам эти понятия ближе, чем Френсису Перрену.
Зельдович не мог не согласиться, что друг во многом прав. В их институте, точно, значение работ оценивалось по тому, насколько глубоко разработана химическая кинетика, — это можно было назвать и своеобразным научным снобизмом. Дух увлечения химической кинетикой привил своим сотрудникам Николай Николаевич Семенов, именно таким направлением работ сам он обязан своей нынешней всемирной научной известностью. Кстати, Юлий Борисович Харитон, один из крупнейших их специалистов по кинетике горения и взрывов, интересуется и ядерными проблемами, это старое его увлечение.
— Правильно, он! — обрадовался Померанчук. — Я так скажу, Яша. Идите к Юлию Борисовичу. Если вы с Ю-Бе займетесь ураном, плохого не получится, будет только хорошее. Больше не надо убеждать, Яша?
Зельдович уже был убежден, что стоит заняться проблемой ядерных цепных реакций. «Урановая лихорадка», трепавшая физиков мира, докатилась наконец и до него. Померанчук улыбался: он привил другу хорошую болезнь.
Они вместе вышли из автобуса. Померанчука вдруг охватили угрызения совести. Они давно не виделись, а он не поинтересовался, как у друга дома. Зельдович был не только молодой доктор наук, но и молодой муж и еще более молодой отец. Два года назад он женился на Варваре Павловне Константиновой, физике, как и он, в прошлом году у них родилась дочь Оля. Смущаясь от того, что разговор пошел не о науке, а о «жизни», Померанчук спросил, как жена и ребенок. С женой и ребенком было все хорошо. Померанчук успокоено кивнул головой и пошел по своим делам.
В институте Зельдович не мешкая направился к Харитону. Они не были близкими друзьями: мешала разница опыта и возраста — Харитон, на десять лет старше, руководил большой лабораторией, редактировал на правах заместителя Вавилова физический журнал. Но они часто встречались в институте и на семинарах, беседовали и спорили.
Юлий Борисович Харитон начинал с физики: стажировался в Англии у Резерфорда, изучал ядерные реакции, был удостоен степени доктора Кембриджского университета. Казалось тогда, все его научные поиски связаны с ядром. Курчатов в это время работал с карборундовыми выпрямителями. Они почти одновременно сделали крутой поворот: Курчатов углубился в ядро, Харитон отошел от ядра. С приходом Гитлера в мире зловеще запахло порохом. Харитон раньше своих друзей понял, что изменившаяся обстановка накладывает отпечаток на науку. Война неотвратимо надвигалась, надо было к ней готовиться. Харитон углубился в быстро протекающие химические реакции. Горение, пламя, взрыв стали в его лаборатории темой научных исследований. Но старый интерес к ядерным проблемам сохранился — на него и рассчитывал молодой доктор физико-математических наук, торопясь к старшему товарищу.
Оба склонились над статьей Перрена. Французский физик задался целью вычислить ту минимальную массу, при которой возможна цепная реакция распада урана. В малом куске урана много вторичных нейтронов вылетает наружу, это не позволит цепной реакции развиться. Нужен такой объем, чтобы вторичные нейтроны, почти полностью поглощаясь внутри, тратились только на разжигание «цепи». Физиков до сих пор интересовали константы отдельной ядерной реакции — сколько вторичных нейтронов возникает на один извне, какова скорость вторичных нейтронов? Перрен от единичной ядерной реакции переходил и к суммарным процессам. Это было исследование кинетики деления ядер в большой массе урана — процесс, порождающий ядерный взрыв. Микрофизика ядра становилась макрофизикой больших масс и объемов.
Перрен наполнил свою статью математическими расчетами, математика у него была убедительная. Но оба физика сразу увидели, что о кинетике цепных процессов он имел представление туманное. Перрен затронул интересную тему, решение ее было недоказательно.
— Мне кажется, Перрен плохо учитывает, сколько нейтронов поглощается, не вызывая деления, — сказал Харитон. — Начнем с того, что выпишем константы, без которых не произвести вычисления.
Все известные константы были сведены в таблицу. Расчет показал, что цифры Перрена не реальны. В шаре окиси урана весом в 42 тонны деление гасло, едва начавшись. Если легкий изотоп урана и распадался, выбрасывая около трех нейтронов, то тяжелый поглощал их, не допуская нового деления. Правда, при делении выбрасывались очень быстрые нейтроны, они делили и тяжелый изотоп. Но энергия четырех из пяти таких нейтронов быстро опускалась ниже порога деления, не вызывая распада, а замедленные активно поглощались тяжелым изотопом. Цепная реакция могла бы еще пойти, если бы при делении выделилось больше пяти нейтронов. Но их было меньше трех. Последние эксперименты говорили о 2,5–2,7 нейтрона в среднем.
Оба физика долго рассматривали цифры, убивавшие лихорадившую научный мир «урановую сенсацию». Проекты быстрого приручения гигантской энергии распада ядра были не больше, чем мечтами.
— Мы взяли сравнительно небольшой объем урана, — попытался раскритиковать результаты Харитон. — Часть нейтронов вылетает наружу, это усложняет ситуацию.
— Возьмем бесконечный объем, Юлий Борисович! Учтем все нейтроны. Сомневаюсь, чтобы это изменило ситуацию.
Новое вычисление показало, что цепная реакция в натуральном металлическом уране — тем более в окиси — могла возникнуть лишь при средней энергии вторичных нейтронов около трех миллионов электрон-вольт.
— Пойдемте к Курчатову, — предложил Харитон.
Курчатов сразу оценил важность короткого вычисления. Флеров с Петржаком, чуть начав совместные работы, установили, что нейтроны с энергией ниже одного миллиона электрон-вольт, не делят тяжелый изотоп. Американцы считали порогом деления полтора миллиона. И эксперименты показывали, что средняя энергия вторичных нейтронов колеблется около двух миллионов. Цепная реакция на быстрых нейтронах в натуральном уране была невозможна.
В крупнейших лабораториях мира в эти минуты вновь и вновь с лихорадочной поспешностью, с неослабевающей настойчивостью ставились опыты, чтобы практически обнаружить цепное деление урана. Все эти без конца повторяющиеся опыты были неизбежно обречены на неудачу.
Радостно блестя глазами, Курчатов напомнил о недавнем споре:
— Ваш расчет гарантирует и от того, что кусок урана в лаборатории вдруг взорвется, превратив в радиоактивную пыль все окружающее!
Его и огорчало, что легкое высвобождение энергии урана нереально, и радовало, что отпадала и вторая возможность: где-то агрессоры воспользуются открытиями физиков для разработки истребительного оружия. Курчатов посоветовал проделать такие же вычисления для медленных нейтронов. Если в смеси урана и замедлителя нейтронов быстро уменьшать энергии вторичных нейтронов ниже резонансной области, то они будут делить только легкий изотоп, а тяжелый останется пассивной массой. Не пойдет ли тогда цепная реакция? Уран и на одном легком изотопе будет топливом, потенциально в 100 тысяч раз более эффективным, чем уголь. Замедлители нейтронов — вода, тяжелая вода, гелий, углерод, бериллий.
— Можно сделать и такой расчет, — согласились оба физика.
В этот день Курчатов казался рассеянным. Он непрестанно возвращался к разговору с обоими физиками, мысленно оценивал их. Харитон — прекрасный экспериментатор, незаурядный теоретик. Очень скромный, он не любит выделяться, не терпит шумихи, но вряд ли есть другой с таким точным пониманием возможностей научной проблемы, за которую он берется. В институте Семенова, отнюдь не скудном талантами, выделяется своим дарованием Зельдович. В двадцать пять лет — доктор! Этот парень обладает поразительным чутьем — находит неожиданные пути в запутанных проблемах. Содружество этих двух людей не могло не дать эффекта. Оба начали работу, которая станет этапом в исследовании урана. В страшной сумятице сегодняшних экспериментов, в путаном лесу разных мнений и слишком поспешно публикуемых наблюдений они прорубали широкую просеку — единственный верный путь к истине.
И с удовольствием Курчатов думал, что есть научная справедливость в том, что эта этапная работа начата в нашей стране и ведется именно в Институте химической физики. Даже в его лаборатории, целиком занятой урановыми исследованиями, даже в РИАНе, в харьковском УФТИ, в московском ФИАНе такая работа была бы чужеродней, чем у тех, кто именовал себя химфизиками.
Хоть наука в мире и едина, говорил себе Курчатов, но есть открытия, какие легче совершить в этой, а не в другой стране. В каждой свой особый дух, свой особый стиль исследования. Жолио, можно сказать, держал в руках нейтроны, но открыл их Чадвик — Кембриджу нейтрон был по духу ближе. И что тот же Жолио открыл искусственную радиоактивность, было естественно: духом радиоактивности все полно в институте Радия в Париже. А у нас в Ленинграде, в Институте химической физики, глубже всех в мире познали тайны цепных реакций. Процессы окисления, горение и взрыв, — где еще их изучали детальней? И естественно, говорил себе Курчатов, что два талантливейших ученика Семенова сразу же, раньше всех за рубежом, в этом можно не сомневаться, нашли путеводную нить в хаосе противоречащих одна другой гипотез.
Когда физики позвонили, что кое-какие новые результаты получены, Курчатов бросил все дела и поспешил к ним. Он слушал объяснения, спрашивал и переспрашивал. На доске нагромождались и стирались формулы.
— Итак, легкого пути нет, — сказал Курчатов. — Но трудный путь не закрыт!
Что высвобождение ядерной энергии урана при помощи вырывающихся из ядер быстрых нейтронов невозможно, было доказано уже в первом вычислении. Но и реакции на замедленных нейтронах не радовали легкостью. В любом сочетании натурального урана с водой разветвляющаяся цепь быстро обрывалась. Лишь замедлитель, обеспечивающий быстрое падение скорости вторичных нейтронов ниже опасного резонансного уровня, сулил удачу. Полной уверенности быть не могло, но вероятность успеха была большой. Таким замедлителем могла служить тяжелая вода. Зато неожиданно и грозно складывались выводы в том случае, если натуральный уран немного обогатить легким изотопом. Достаточно увеличить содержание урана-235 вдвое, то есть до 1,4%, как делалась возможной быстро протекающая реакция. И вероятность такой реакции становилась равной уверенности: она просто не могла не произойти!
Курчатов задумчиво сказал:
— Итак, при обогащении урана в два раза — взрыв, если взять бесконечный объем материала. Случай чисто теоретический. А скажем, обогащение в пять, в десять раз? Какой тогда понадобится объем?
— Можно подсчитать, — разом сказали оба физика.
— Можно не сомневаться, что он будет не так уж велик. А если чистый уран-235? Сколько его понадобится, чтобы произошел взрыв?
— Вероятно, несколько килограммов будет достаточно.
— И тогда эти несколько страшных килограммов станут урановой бомбой! — воскликнул Курчатов. — И каждый килограмм такой взрывчатки будет мощней десяти тысяч тонн динамита! Счастье для человечества, что еще нет технических средств разделять изотопы урана!
Справясь с волнением, он продолжал:
— Оставим взрывы в стороне. Было бы бесчеловечно разрабатывать урановую взрывчатку! Нет, в эту сторону мы не направимся. Меня интересует контролируемое выделение энергии. Вы доказываете, что полтонны урана и 15 тонн тяжелой воды обеспечат плавную цепную реакцию. Это тоже вне наших сегодняшних возможностей, но поработать над этим стоит!
Расчеты двух физико-химиков, столь успешно примкнувших к отряду ядерщиков, поразили своей фундаментальностью не одного Курчатова. В Москве в августе 1939 года в университетское общежитие на Спиридоньевской пришел профессор Тамм. В общежитии на вечеринку собрались аспиранты и студенты. Тамм объявил собравшимся:
— Новость знаете? Харитон с Зельдовичем рассчитали, что в принципе возможна урановая бомба.
Один из участников этой встречи, Игорь Николаевич Головин, тогда аспирант Тамма, вспоминал впоследствии, что сообщение профессора вызвало не ужас, а ликование. Это было восхищение перед могуществом науки. Ни у кого и мысли не могло появиться, что кто-то вознамерится реально изготовить такое адское оружие.
7
Возбуждение, охватившее физиков мира, проникло и в широкую публику. В газетах и журналах печатались репортажи, знакомившие читателей с последними открытиями в науке об атомном ядре. Англичане узнали из статьи писателя Чарльза Сноу, что на смену энергии из угля и нефти идет энергия из недр атома — начало золотого атомного века не за горами.
Еще сильней поразила опубликованная в июньском номере «Натурвиссеншафтен» статья немецкого физика Зигфрида Флюгге. В ней намекалось на военное значение атомных исследований. Все в статье подводило к мысли об атомной взрывчатке.
Европа доживала последние мирные дни. Грозное предупреждение шло из Германии, та уже готовилась ринуться на своих соседей. Курчатов усмехнулся, пробежав глазами творение берлинского физика. Не шантажируют ли немцы своих противников угрозой атомного нападения?
— Ты думаешь, угроза? — задумчиво сказал Борис Васильевич, прочитав статью Флюгге. — А может быть, взволнованное предупреждение? Извещение для всех — вот над чем нас всех скоро заставят работать! Нацист ли Флюгге?
— Что бы ни таилось за статьей Флюгге, — энергично ответил Курчатов, — вывод один: лихорадка экспериментов во всех лабораториях мира усиливается. И не исключено, что вмешаются военные. Мы не имеем права отставать!
Он-то знал, что в целом не отстает, а кое в чем, возможно, и обгоняет зарубежных ученых. С тем большей энергией он подтягивал отстающие участки. Он умел сидеть сразу на трех стульях, умел руководить исследовательскими работами в разных городах одновременно. Но каждый раз среди множества дел выделялось главное дело, какая-то главная тема становилась из служебного задания страстью души. Такой страстью стало осенью строительство циклотрона. Сейчас это был самый важный и самый отстающий участок. Он взял его теперь полностью в свои руки — и все переменилось. «Нас трясет циклотронная лихорадка!» — с восторгом говорил Неменов, он был счастлив, эта лихорадка была болезнью благородной.
Для Курчатова «циклотронная горячка» имела свои последствия. То, что он давно уже вынашивал и на что все не мог решиться, казалось теперь уже не таким тяжелым. Он положил на стол Хлопину заявление об уходе. Хлопин, побледнев, молча рассматривал несколько небрежно набросанных строк. Курчатов с удивлением увидел, что рука Хлопина непроизвольно подрагивает — он опустил ее на заявление, не взяв пера. Курчатов не раз рассматривал руки Хлопина, даже любовался ими — они были красивы, с длинными, холеными пальцами, казались руками пианиста, когда он клал их ладонями вниз. А если поворачивал, взгляду открывались лишенные подушечек пальцы, как бы стесанные изнутри, со шрамами заживших изъязвлении, с темными пятнами радиоактивных ожогов — следы работы с радием и радиоактивными концентратами. Но пожимал ли Курчатов своей рукой эту руку, покоившуюся сейчас на бумажке, или наблюдал в лаборатории, как она неторопливо брала реактивы или посуду, рука была всегда спокойна, так же строга, так же холодно-сдержанна, как ее хозяин. Подрагивающей Курчатов видел ее впервые. Он сказал:
— Вы сами понимаете, Виталий Григорьевич, этот шаг стал неизбежен.
— Может быть, погодим? — Хлопин колебался — взял перо и положил его обратно. — Кто останется, если вы уйдете? К тому же Лев Владимирович вторично тяжело заболел, неизвестно, вернется ли в институт. Да и не заменит он вас, если бы случилось невозможное и он захотел опять возглавить отдел.
Курчатов молча пожал плечами. Хлопин, больше не сказав ни слова, наложил резолюцию на заявление. С работой в РИАНе для Курчатова было покончено.
28 августа 1939 года, на 52-м году жизни, Мысовский скончался: обширный инфаркт миокарда сделал напрасными все усилия врачей. Курчатов пошел на торжественную панихиду. Приглушенно звучала траурная музыка, по залу ходили притихшие, печальные физики и радиохимики, один за другим на трибуну поднимались официальные лица и товарищи покойного. И Курчатов, стоящий в общей массе, вдруг с острой болью ощутил, до чего латинская заповедь справедливо предписывает об умерших говорить только хорошее или не говорить ничего. Жизнь Мысовского шла неровно, он знал и успехи, и неудачи, и здесь, в зале, много было таких, кто еще недавно запальчиво критиковал его поступки, его руководство, считал себя прямым ему недоброжелателем, — у них в глазах сейчас блестели слезы, а выходя на трибуну, все горячо вспоминали научные заслуги покойного, добрые свойства его характера. Мелкое, спорное, неудачное отсеивалось, оно было второстепенно, малозначаще, оставалось коренное, первостепенное — крупные научные достижения этого человека, то, что он многих зеленых юношей первый привлек в науку и они, теперь серьезные ученые, не могут не быть от души ему за то благодарны...
По залу шел Хлопин, печальный, осунувшийся, за несколько дней как бы постаревший. Курчатов знал, что Хлопина с Мысовским связывала и дружба с детских лет, и глубокое взаимное уважение — такую потерю перенести было нелегко. В институте говорили, что Хлопин не только подавлен, но и растерян, у него все валится из рук, он не может ни на чем сосредоточиться. «Скоро, конечно, пройдет, Виталий Григорьевич человек крепкий, но пока стараемся не беспокоить его служебными делами, если не аварийность», — хмуро сказал один из физиков.
Хлопин, увидев Курчатова, скорбно покачал головой, как бы жалуясь на горе. На мгновение в его глазах зажегся немой вопрос, почти надежда. Курчатов опустил голову, он понял вопрос, но не мог дать ответ, какого Хлопин желал. Хлопин прошел мимо.
Появились первые результаты «циклотронной лихорадки».
В солнечный день 22 сентября 1939 года Физтех отпраздновал осеннее равноденствие по-своему. На свободной площадке в пятидесяти метрах от ближайшего здания торжественно заложили фундамент будущего циклотрона. Сотрудники и гости сошлись на радостный митинг. С трибуны говорили, что в Европе война, самолеты агрессоров в считанные часы превращают в прах то, что потребовало для своего создания десятилетия, а у нас продолжается созидательная работа, свидетельство ее — вот этот циклотрон, сооружаемый для мирного освоения атома. Иоффе положил первый кирпич, руки подрагивали от волнения, кирпич ерзал по цементному тесту. Второй кирпич понес Курчатов, он примостил его в ложок рядом с первым, радостно пристукнул мастерком, как заправский каменщик. За Курчатовым шли гости и сотрудники, каждый нес свой кирпич. Инженер Жигулев, специалист по стальным конструкциям, с беспокойством обратился к бригадиру каменщиков.
— Не многовато ли самодеятельной кладки?
Бригадир широко улыбнулся:
— Пускай радуются!
«Циклотронная лихорадка» на лаборатории Курчатова сказалась своеобразно. Сотрудники перестали видеть руководителя. Он целые дни проводил на заводе, в конструкторских бюро, уехал в Москву за фондами на медь и другие материалы. Его предупреждали, что если дадут хоть сотню килограммов меди — отлично! Он привез накладные на десять тонн. А когда заказы физиков ставились в обычную очередь, а очередь была длинна, а плановики ссылались на твердые планы и строгие инструкции, запрещавшие нарушать твердость планов, Курчатов мчался на своей машине к начальству повыше и получал на руки предписание выполнять заказы немедленно, срочно, вне очереди, вне плана, сверх плана — формулировка менялась, содержание было неизменно одно. «Чем выше, тем ближе», — говорил он, показывая очередную магическую бумажку, сравнительно легко добытую у мягкого начальника после категорического отказа его непреклонного подчиненного.
Иоффе однажды полюбопытствовал, каким образом Курчатов так успешно справляется с препятствиями. Курчатов со смехом ответил:
— Если иду на личное свидание, то секрет в объяснении. Науке все хотят помочь, надо только разъяснить человеку, как он лучше способен это сделать. Он выполняет мою просьбу, а доволен не меньше моего. Хуже, если надо посылать бумажки. Тут основное — формулировочка.
— Формулировка?
— Да, формулировка. Удачная формулировка снимает все препятствия. Один завод систематически сидел в прорывах по вине поставщиков. В конце концов завод скатился на последнее место. С этого-то провала и начался расцвет. Все бумаги поставщикам открывались магической фразой: «Как вы знаете, наш завод по итогам прошлого года оказался на последнем месте в стране. Чтобы выйти из такого положения, мы просим вас в очередной поставке...» И не было случая, чтобы заводу не шли немедленно на помощь!
В разгаре хлопот с циклотроном Курчатов порадовал сотрудников: в Харькове Академия наук созывает очередное совещание по атомному ядру, надо готовить доклады — Русинову о ядерной изомерии, Флерову по вторичным нейтронам. Сам он докладывать не будет. Он будет слушать — и с интересом. Интерес он докладчикам гарантирует.
К Флерову прибежал взволнованный Панасюк. Игорь Панасюк, студент последнего курса, стажировался в Физтехе. Он тоже хотел поехать в Харьков. Флеров посоветовал выпросить у декана факультета командировку, заручившись ходатайством Френкеля. Панасюк поспешил в кабинет Френкеля, выскочил оттуда сияющий и помчался в Политехнический.
Вскоре ленинградские физики уехали на конференцию. Места в вагонах занимали не по билетам, а по сродству душ. Молодые — Флеров, Петржак, Гуревич, Панасюк — составили свой кружок. Конференция, еще официально не открытая, уже шла в вагоне. Гуревич с увлечением излагал придуманную им теорию двух состояний ядерного вещества. Неторопливый, темноволосый, темноглазый, он так изящно водил в воздухе рукой, подчеркивая ею особенности разных фазовых состояний ядра, что один жест убеждал не меньше математических выкладок. «Остроумно, даже весьма!» — сказал слушавший его из коридора Сергей Никитин, работавший с Алихановым по исследованию быстрых электронов.
Как всегда, Курчатов остановился у Синельникова. Первый вечер прошел в разговорах. Старых друзей — Кирилла, Антона Вальтера, Сашу Лейпунского — больше всего интересовало, что нового в Ленинграде. Курчатов пожимал плечами. Ничего сногсшибательного, экспериментируем. А в целом — стоим у врат царства, но врата-то эти, открывающие дорогу в царство внутриядерной энергии, пока закрыты. И золотой ключик, их отпирающий, еще не выкован. Вот так у них в Ленинграде. А у вас в Харькове? В Харькове было так же — ищем, экспериментируем, надеемся на скорый успех.
— Все вы, друзья, переменились, — сказал Курчатов Синельникову, когда они остались вдвоем. — Повзрослели, что ли... А Саша — особенно. Серьезен, немногословен... Он здоров? Работа идет хорошо?
Кирилл заверил шурина, что у Лейпунского все в порядке. И здоровье хорошее, и работает отлично — увидишь по его обзорному докладу. Правда, уже не директор института, отвечает только за свою лабораторию — вероятно, отсюда и некоторая замкнутость.
В Харьков пришла осень, сыпались мокрые листья — месяц ноябрь так и называется по-украински — листопад. По небу тащились грязными перинами тучи, в воздухе густела холодная морось. Курчатов пошел прогуляться с Лейпунским по городу, по дороге сказал, что ему кажется, Саша держится как-то по-новому.
— Ничего со мной, — Лейпунский печально улыбнулся. — Молодость проходит...
— В твои-то годы! Ведь только тридцать пять!
Лейпунский покачал головой:
— Дело не в годах. Дело в ощущении жизни. Иногда говорят, что в молодости лучше воспринимаешь жизнь. Это неправда. В молодости весь заполнен собой, себя ощущаешь куда сильней, чем реальное окружение, несешься впереди реальности. А когда весь ты охвачен ощущением своего окружения и сам становишься из центра бытия хоть и важной для себя, но все же деталью общего человеческого пейзажа — точка, юность завершена. Тебе этого не понять, Игорь. Ты никогда не терял связи с реальностью. В этом твоя загадка.
— Итак, моя загадка в том, что я никогда не был молодым, даже в молодости, — с усмешкой прокомментировал Курчатов.
Лейпунский и внешне переменился. Недавно еще округлое, светлокожее, без единой морщинки лицо потемнело, посуровело, похудело, на нем обозначились скулы, уголки глаз затягивало сеткой морщин, морщины углублялись на лбу. В голосе Лейпунского звучало волнение. Так примитивно истолковать его мысль! Он же сказал — загадка! И она в том, что Игорь не только молод внешне, но и душевно молод, а вместе с тем всегда так слит с окружением, так безошибочно ощущает практические возможности, что только диву даешься! Игорь синхронен жизни, это какой-то дар природы, талант, другого слова не подобрать.
— Я не завидую тебе, но всегда удивляюсь, даже больше — восхищаюсь! Был бы ты политиком, а не физиком, вот бы с твоим чувством возможностей оставил след в истории! Одним личным обаянием сколько бы взял. Тобой бы восхищались, шли за тобой! — Он помолчал и вдруг спросил: — Почему ты не предложил доклада на конференции?
Курчатов пожал плечами. Зачем? Он мог бы сделать доклад лишь на тему, какую уже выбрал Лейпунский. Он уверен, что Лейпунский сделает доклад не хуже. Он не настолько честолюбив, чтобы вырывать у друга из рук хорошую тему.
— Нет, Игорь, нет, — с убеждением сказал Лейпунский. — Ты и самолюбив, и честолюбив. Просто твое честолюбие не мелочно. Именно из самолюбия ты не позволишь себе ущемлять другого. Нет, не из самолюбия, из самоуважения! Ты неспособен на плохой поступок, потому что это значило бы потерять уважение к себе. Самоуважение у тебя так сильно, что — смотри, поберегись! — способно привести в иных случаях и к самоуничижению.
— Отличное психологическое исследование, Саша! — Курчатов тихо смеялся. — И главное — неожиданное. До сих пор я знал в тебе физика, буду считаться теперь и с психологом. Но вернемся к теме. Какова обстановка в институте? Каково твое положение?
Лейпунский старался говорить с нарочитой сдержанностью, но чуткое ухо Курчатова улавливало горечь. Институт — солидное учреждение, не хуже десятка других. И не лучше. Мировой центр физики не получился. А что до личного положения, то лучшего и не желать — заведует лабораторией радиоактивности, ведет исследования по ядру.
— Понятно, Саша! — Курчатов с гримасой смотрел на черное небо, оттуда все гуще прибывало мокрой взвеси. — Пойдем, что ли?
Пока Курчатов прогуливался с Лейпунским, Флеров знакомил друзей с институтом. Они в Харькове были впервые, он чувствовал себя здесь старожилом. И он с такой охотой водил их по помещениям, с таким воодушевлением показывал большой ускоритель, так радостно приветствовал знакомых харьковчан, что его с удивлением спросили: почему он рвался из этого так нравящегося ему и такого, по всему, славного института? Он и сам удивлялся. Харьковский Физтех переменился за год, что он здесь не был — в нем пропал прежний дух вялости, в нем нормально, то есть увлеченно, трудились, а не только ходили на службу. И Голобородько щеголял в новых, мастерски выутюженных брюках — возможно, лишь недавно сбросил белые летние — и с энтузиазмом рассказывал, что они с Лейпунским, облучая бериллий гамма-лучами, получают нейтроны узкого спектра энергий, а не обычную смесь из частиц разных скоростей. Опыты только начаты, опубликуем — поразитесь! И Дмитрий Тимошук заранее излагал свой доклад о быстрых нейтронах — тоже немало нового!
— Замечательный институт! — восторженно объявил Панасюк.
Он не пропустил ни одного важного доклада, бегал с секции на секцию, прослушал сообщение Хлопина о химической природе осколков урана — теперь схема взрыва ядра становилась ясной, как если бы он увидел ее глазами. Его привел в восхищение Аркадий Мигдал, рассказавший, что происходит в атоме, когда внезапно меняется заряд ядра. А на доклад Флерова о нейтронах, вылетающих из ядра во время деления, Панасюк пришел раньше докладчика.
Центральное сообщение — доклад Лейпунского — вынесли на пленарное заседание. Курчатов слушал друга с особым вниманием. На трибуне Лейпунский был прежним — блестящим, глубоким. Подробно изложив состояние проблемы за рубежом и у нас, он заглядывал далеко вперед. «Слишком далеко!» — сказал себе Курчатов. «Возможность получения цепной реакции ставит впервые на реальную основу вопрос о практическом использовании внутриядерной энергии!» — закончил Лейпунский, и зал разразился аплодисментами. «Нет перехода! — думал Курчатов. — Реальные предпосылки освоения атомной энергии — где они?»
Директор УФТИ Александр Иосифович Шпетный водил гостей по всем лабораториям, стараясь в нужных местах расставить их так, чтобы приглашенный фотограф мог побольше лиц уместить на одном снимке и чтобы на фотографии не чувствовалась парадность, а виделся деловой интерес ученых к аппаратуре, какую им показывали. Во время обхода к Лейпунскому обратился Хлопин:
— Александр Ильич, хотелось бы с вами поговорить наедине.
Лейпунский провел Хлопина в свою лабораторию. Отдельного кабинета у него теперь не было, но стол так удобно стоял, что можно было говорить, никому не мешая и не привлекая внимания работающих в комнате.
— Вы знаете, что Лев Владимирович Мысовский скончался этим летом, — начал Хлопин. — И для меня, и для всего института потеря — горькая и невосполнимая. А перед тем от нас ушел Курчатов. Физический отдел РИАНа ныне без руководства. И это в момент, когда циклотрон работает в полную нагрузку и темы исключительно важные — все связанные с делением урана. Хочу просить вас возглавить в порядке совместительства наших физиков. Вы и Игорь Васильевич сегодня самые крупные исследователи атомного ядра.
Лейпунский рассеянно глядел в окно. В предложении директора РИАНа было много привлекательного, но было и такое, что заставляло колебаться. Возобновить систематическую связь с Ленинградом, где прошла юность, — уже одно это подкупало. И циклотрон, конечно! Теперь, когда отладка гигантского «Ван-Граафа» закончена, ясно, что работы на нем можно ставить ценные, но такой глубины и размаха, как на ленинградском ускорителе, не получить. Глупо упускать случай поработать на единственном в стране циклотроне! Какие можно осуществить темы, какие идеи проверить! И единственное, что мешало сразу сказать «да», была мысль, как отнесется Курчатов к тому, что его место занял Лейпунский.
— Мне кажется, мы говорим о разных вещах, — спокойно возразил Хлопин. — Нет места, занятого Курчатовым, есть свободное место. Я ведь уже объяснял вам, что Игорь Васильевич сам отказался от заведования физическим отделом.
Лейпунский обещал дать ответ после разговора с Курчатовым. Во время перерыва между заседаниями он сообщил Курчатову о предложении академика и о своих колебаниях
— Соглашайся, Саша, — посоветовал Курчатов. — Сегодня у радиохимиков возможности исследовать ядро, конечно, больше, чем у тебя. А я ушел лишь потому, что сверх головы забот со строительством своего циклотрона. — И, намеренно меняя тему, он сказал: — Доклад твой отличен, ты, как всегда, заглядываешь далеко вперед. Но послушаем Юлия Борисовича. Тебе понравится. Мне кажется, дается новое направление нашим поискам в ядре.
Лейпунскому — на чуткое ухо — почудилось какое-то недовольство в голосе Курчатова. Но сам Курчатов глядел так весело, так радовался, что теперь у них будут встречи не только в Харькове, но и в Ленинграде, что он перестал колебаться. Он сказал Хлопину, что принимает предложение.
После успеха, выпавшего на долю Лейпунского, доклад Харитона о его совместных с Зельдовичем исследованиях воодушевления не породил. Он сводил с небес на землю, брызгал холодной водой на разгоряченные лбы. Цепная реакция в металлическом уране могла бы пойти и на быстрых нейтронах, будь вторичных нейтронов около пяти, но их явно меньше. Медленные нейтроны дают качественно иную картину, но встает трудная задача, как их замедлить. На обычной воде цепная реакция невозможна, водород не только замедляет, но и поглощает нейтроны. Хорошими замедлителями будут тяжелая вода, гелий и углерод, но точные константы замедления и поглощения пока неизвестны, без этого не рассчитать массы урана и замедлителя, при которых пройдет реакция. Всего лучше обогатить натуральный уран легким изотопом, ураном-235, но нет пока никаких эффективных методов обогащения. Цепная реакция в уране будет двух видов: при быстром течении — почти мгновенный, в микросекунды, взрыв с выделением чудовищных количеств энергии. При плавном течении — легко контролируемый, самоподдерживающийся процесс постепенного высвобождения энергии. Главный замедляющий фактор, автоматически поддерживающий стабильность процесса, — тепловое расширение массы урана.
— Толково, деловито, — говорили физики после доклада. — Обстоятельная критика. Кое-что и в смысле перспективы. Но чтобы поражало воображение — нет!
— Как много мыслей! — сказал взволнованный Курчатов в перерыве. — Столько проблем поставлено, столько возможностей раскрыто!
Курчатов знал все это с момента, когда прочел первый набросок статьи Зельдовича и Харитона. Но как в великом художественном произведении, сколько его ни перечитываешь, каждый раз находишь что-то новое, так и эта работа заставляла обнаруживать все новые стороны проблемы. Доклад Лейпунского увлекал. Доклад Харитона заставлял размышлять.
Настроение, возникшее в Харькове, сохранялось и в Ленинграде.
Курчатов предложил Флерову подвести итог опытам по вторичным нейтронам. Отныне Флеров вместе с Никитинской изучают поведение нейтронов в разных смесях урана с поглотителями, а вместе с Петржаком заканчивают — и поскорей — исследование энергии быстрых нейтронов, делящих тяжелый изотоп урана. И нужно воспользоваться фотонейтронами, с которыми работают Голобородько и Лейпунский. Потоки этих нейтронов слабые, зато нет такого разброса скоростей.
— Задание ясно? Идите отдыхать, Георгий Николаевич.
Как всегда, это означало — идите работать.
8
Загрузив сотрудников, сам Курчатов собирался снова с головой окунуться в циклотронные хлопоты. Внезапное изменение международной обстановки спутало планы. На Карельском перешейке начались военные действия. Ленинград, превратившийся в прифронтовой город, узнал, что такое затемнение. Ефремов, душу вкладывающий в изготовление 75-тонного магнита для циклотрона, разводил руками: «Что я могу сделать, Игорь Васильевич? Приказано всю гражданскую программу временно отставить». Строительство мощнейшего в Европе циклотрона оборвалось, как обрубленное. Лаборатории поредели — юношей призывного возраста вызывали в военкоматы, многие записывались добровольцами. Вечерами рекомендовалось не засиживаться — на все окна не хватало штор для затемнения. «Спал сегодня вволю», — мрачно признавался один физик другому. Второй сочувствовал: «Ужас, что за жизнь!»
Товарищи проводили на Финский фронт Панасюка. Он присылал бодрые письма, наступление шло, но мешали глубокие снега да отчаянное сопротивление противника. Панасюку отвечали всем коллективом.
В жизни Флерова произошли большие изменения.
Теперь он имел то, о чем недавно мог только мечтать. Со студенческими общежитиями было покончено, своя комнатка обеспечивала отдых и работу, к тому же жилье было найдено неподалеку от института. В Ленинград приехала из Ростова-на-Дону мать, Елизавета Павловна создала в скудно обставленной комнатке уют. Брат Николай поступил в МГУ, стал повторять жизненные круги учения, экзаменов и студенческих общежитий. Мать поинтересовалась, не собирается ли Георгий заводить семью: возраст вроде бы подошел, да и девушек много хороших. Возраст помехой не был, девушки тоже встречались хорошие, но все время забирала наука. Эта дама ревновала даже ко сну: сын ложился поздно, вставал рано, а посередине ночи — вначале Елизавету Павловну это пугало, потом она привыкла — вдруг вскакивал, зажигал свет, торопливо записывал внезапно сверкнувшую идею и снова валился на кровать. Он стал водить к себе друзей, они ей нравились — Витя Давиденко, Юра Лазуркин, Костя Петржак. Все это были общительные ребята, они шумно спорили, каждый доказывал свое. Она угощала их чаем и печеньем, прислушивалась к спорам. Вначале ей казалось странным, что друзей сына не интересовали ни последние кинофильмы, ни популярные киногероини, ни красивые девушки, ни модная, ни просто хорошая одежда — а хорошую одежду достать было непросто, ее не продавали, а «выбрасывали» в магазины, такое появилось недавно странное определение для продажи. Но сколько Елизавета Павловна ни прислушивалась к разговорам, она ни разу не слышала этих модных словечек. Чаще других повторялось слово «нейтрон», еще были: нейтрино, позитрон, протон, замедлитель, альфа-частицы, бета-распады, сечение деления, сечение рассеяния, сечение поглощения, барьер деления, резонансные уровни. Слова были незнакомые, но она ласково улыбалась, слушая их, они ей нравились. А друзья, расходясь, благодарили хозяйку. «Какая у тебя замечательная мама! — говорили Юре потом. — И умная, и добрая!»
Елизавета Павловна только вздыхала, когда сын приносил зарплату, а если зарплата задерживалась на день-два, концы с концами никак не хотели сходиться. То, на что Флеров жил вдвоем с матерью, Давиденко, прирабатывавший вечерами на заводе, проживал один. Флеров как-то сказал ему: «Умеешь ты отвлекаться от физики, а я вот не могу!» Это было и горе, и счастье. Тот, кто хотел посвятить себя только одной физике, должен был примириться со скудостью жизненных благ. Флеров не был способен хоть на час оторвать от работы мысли, хоть праздничный день отдать приработку.
День был расписан минута к минуте: сперва к Тане Никитинской — проверить, что сделала за вчерашний вечер, потом помочь Льву Ильичу в каком-нибудь дополнительном эксперименте, после пообедать, если удастся, и в Радиевый, к Косте Петржаку, в который раз уточнять пороговые значения энергии быстрых нейтронов, делящих тяжелый изотоп урана.
Таня, аспирант Курчатова, только что принесла от Бориса Васильевича миску черной двуокиси урана. Осторожно смешав порошок с жидкостью, она энергично растерла плотное тесто и стала прессовать кубики толщиной в палец. Уже с десяток свеженьких кубиков сохли на листе рядом с сотней напрессованных еще вчера.
— Скоро будем выкладывать урановый шар! Вы молодец, Таня! — одобрил Флеров. Она чихнула — порошок окиси урана забирался в нос и горло. Он бросил взгляд на ее почерневшие веки, на щеки, как бы тронутые густым загаром. — Танечка, у вас вид, словно вы от модной косметички! — сказал он и побежал к Русинову.
Русинов анализировал результаты вчерашних экспериментов. Он махнул рукой — не отвлекай! Флеров поспешил в Радиевый институт.
9
Костя возился с ионизационной камерой. Камера, стандартная, на два пластинчатых электрода, была обычной чувствительности. Обычная чувствительность перестала удовлетворять. Тонкий эксперимент предъявил свои требования. Курчатов посоветовал усилить чувствительность камеры хотя бы раза в три. Они увеличили площадь пластин в два раза, но прибор получился такой громоздкий, что и повышенная чувствительность не радовала. Петржак с досадой бросил на стол пластинку.
— Тебя никакая ослепительная идея не полоснула? Может быть, ночью что приснилось? Я читал, что великие идеи являются во сне. Такие, знаешь, деловые сновидения.
У Флерова сны сегодня были бездельные. Что-то развлекательное без выхода в практику. Он рассеянно взял со стола конденсатор переменной емкости и стал крутить его. Одна группа параллельных пластин то входила в пазы другой такой же группы, то выходила, повинуясь движению рычажка. Что-то в этом было интересное. Флеров крутил рычажок все быстрей.
— Хоть бы сотни три квадратных сантиметров было площади на пластинах, — со вздохом сказал Петржак. — Утопия. Камера размером с чемодан! Чего ты всматриваешься в конденсатор?
— Есть! — воскликнул Флеров. — И не триста сантиметров, а добрая тысяча.
И он с торжеством объявил, что камеру нужно делать по типу многослойного конденсатора. Вот как этот приборчик — батарея одноименно заряженных пластин в пазах другой батареи, заряженной противоположно. Десяток таких пластин в одной батарее — общая площадь увеличена ровно в десять раз. А если в пятнадцать? А если?..
Петржак поспешно поднял руку:
— Остановись, Юра! Пятнадцать — в самый раз!
Они набросали схему. На бумаге получалось превосходно. Многослойный конденсатор из пятнадцати пластин давал общую площадь в 1000 квадратных сантиметров, чувствительность в такой камере должна быть в 30–40 раз больше, чем в опытах Фриша в Копенгагене. Флеров захотел посоветоваться с Курчатовым. Курчатов одобрил идею многослойной камеры. Петржак стал мастерить пробную пластину, он макал кисть в урановый лак — та же изготовленная Борисом Курчатовым окись урана, смешанная со спиртовым раствором шеллака, — наносил на листик тонкий слой и, полюбовавшись на изделие своих рук, отправлял пластинку в сушильный шкаф.
— Проспиртуемся, доложу тебе, Юра! — Он с удовольствием втянул густой запах. — Водка на уране мощней знаменитой запорожской калгановки. Не запатентуем, а? Ух, пахнет святым духом!
Флеров с восхищением следил за работой товарища. Было тонкое изящество в каждом его движении — и в том, как осторожно и крепко он хватал кисточку, как неторопливо макал ее в лак, неизменно на одну глубину и захватывая неизменно одно и то же количество пасты, как затем густо пригнанным, одинаковым слоем покрывал пастой лист.
— Костя, ты художник! — объявил Флеров.
— Правильно, художник! Имею диплом мастера по росписи фарфора. На заводе в Малой Вишере такие вазы разрисовывал! И знаешь куда? На экспорт! Заказы из Персии, из Афганистана, там хорошую вазу ценят! А зарабатывал! Сто шестьдесят рублей червонцами, это на наши сегодняшние дензнаки тысячи полторы. Эх, жизнь была! — Он полюбовался законченным листочком и отнес его в сушильный шкаф. — А бросил завод для рабфака и сел на шестнадцать рублей стипендии. Подрабатывал, конечно. Профессору — солидный портрет маслом, секретарше директора — легонький карандашный набросок со смягчением морщинок — на колбасу к хлебу хватало. Между прочим, я ведь собирался в Академию художеств, а не в физики. Да преподаватель математики Рылов уговорил. А в университете Лев Владимирович Мысовский внимание оказал, это и решило судьбу — крашу урановыми красками пластины, а не вазы. — Он критически осмотрел напарника и добавил: — А ты бы подошел для портрета, в лице что-то есть. Только, наверно, не усидеть тебе спокойно.
— Отложим портрет лет на тридцать. К тому времени выработаю спокойствие.
— Не выработаешь, — сказал Петржак. — Спокойствие не твоя стихия. Давай смотреть, что получилось.
Просохшие пластины выглядели прилично. Взвешивание показало, что на каждый квадратный сантиметр нанесено примерно 15 миллиграммов окиси урана. Сборкой камеры занялся Петржак, это дело требовало не только ловкости пальцев, но и спокойствия духа. Флеров готовил усилитель и счетчик импульсов, источник питания, аргон для заполнения камеры. С неделю ушло на подготовку эксперимента. В институт пришел Курчатов, покритиковал плохое выполнение некоторых узлов, проверил, исправляются ли недочеты, и дал добро на включение. Питание на камеру подали поздно вечером. Счетчик затрещал так бешено, что Петржак в испуге вскочил. Флеров успокоил его — микрофонные шумы, в ионизационных камерах это бывает. «Будем отстраиваться от помех», — сказал он. Отстроиться от помех оказалось делом трудным. Камера была такой дьявольской чувствительности, что отзывалась на шаги, на стук двери, даже на громкий голос. А от проезжающего трамвая счетчик трещал, как оглашенный. Листочки качались от любого толчка и, соприкасаясь, замыкались.
— Наверно, я неровно накладывал слои, — сказал огорченный Петржак. — Бугорок где-нибудь — это же источник замыкания!
— Давай самортизируем тряску. Всю установку — на солидный демпфер: стальную плиту в основание, на плиту резиновые амортизаторы.
Резиновый амортизатор нашли легко — автомобильная шина с надутой камерой. Плиту раздобыть было трудней, но, когда ее установили, микрофонные шумы пропали. Теперь камера откликалась только на разряды проезжающих мимо трамваев. Трамваи, однако, по Кировскому проспекту ходили так часто, что о нормальной работе нечего было и думать. Петржак с удивлением сказал: «На улице всегда досадуешь, что трамваев мало, нужного номера ждешь чуть ли не бесконечность, а вот камера устанавливает, что трамваи движутся почти беспрерывно». Флеров ответил что нужно вести эксперименты ночью, когда трамваи убираются в депо. Курчатов одобрил переход на ночную работу.
— Звоните в любое время, если что откроется интересное.
Трамваи прекращали движение во втором часу ночи. Уже раньше было проверено, что счетчик, настроенный для регистрации осколков урана, давал один отчетливый импульс в минуту, когда радон-бериллиевую ампулку подносили вплотную к камере. Можно было начинать работу. Цифры в журнале умножались, пороговая энергия деления вырисовывалась отчетливо.
— Проверим нулевую настройку, — предложил Флеров, убирая источник нейтронов подальше от камеры.
Камера держала нуль хорошо. Счетчик сразу замолчал, когда ампулку унесли. Петржак предложил перекусить. Прихлебывая чай из термоса, они рассматривали колонки записанных цифр. Внезапно счетчик щелкнул. Оба с недоумением обернулись к нему. Счетчик молчал.
— Случайность, — сказал один.
— Случайность, — согласился второй.
— Налей мне еще чаю, — сказал один.
— А мне передай кусок колбасы, — попросил второй.
Теперь они ели молча, на всякий случай прислушиваясь, не повторится ли случайность. Счетчик молчал. Петржак завинтил термос и сунул его в портфель. Флеров пошел за ампулкой, чтобы продолжать эксперименты. В этот момент счетчик опять щелкнул. Экспериментаторы подошли к установке и, ни до чего не дотрагиваясь, осмотрели ее. Нигде не было ни перекосов, ни обрывов, ни расхлябанных соединений. Оба с недоумением посмотрели один на другого. Посторонние щелчки действовали на нервы, они свидетельствовали о невидимом упущении. Флеров с сомнением обернулся к лежавшей в стороне ампулке. Нейтроны на таком расстоянии основательно поглощались в воздухе, она не могла быть причиной разрядов в камере. Счетчик снова щелкнул.
— Не случайность, — удивленно сказал Петржак.
— Случайность, которая повторяется, это закономерность, — поддержал Флеров. Он добавил с тревогой. — Чего-то недоработали, Костя.
— Продолжим эксперимент? — с сомнением спросил напарник.
Флеров покачал головой. Какие могут быть эксперименты, когда не уверены в надежности измерительной аппаратуры? Он отнес ампулку в дальний угол и прикрыл металлическим тазом. Ни один шальной нейтрон не смог бы преодолеть такое препятствие. Счетчик щелкнул в четвертый раз.
— Каждые десять-двенадцать минут, — задумчиво сказал Петржак.
— Проверим, — сказал Флеров, кладя перед собой часы.
Они сидели перед установкой, не отрывая от нее глаз, словно что-то могли увидеть. Время тянулось так вяло, что его хотелось подтолкнуть. Новый щелчок на этот раз раздался только через пятнадцать минут. Внутри камеры, несомненно, распалось ядро урана, лишь его тяжелые осколки, разлетающиеся с огромной энергией, могли вызвать такой разряд. И распалось оно без удара извне. Через семь минут послышался новый разряд. В среднем опять получилось около десяти минут.
— Фантастика! — сказал Флеров восторженно.
— Может быть, снаружи гроза или что? — сказал Петржак.
Они разом подошли к окну и распахнули его. Над Ленинградом простиралась не замутненная облаками ночь. Затемнение прифронтового города погрузило все улицы во тьму. Небо было иллюминировано яркими звездами. Ни трамваев, ни автомашин не было слышно. Флеров предостерегающе поднял руку.
— Сейчас щелкнет, Костя!
Когда до них донесся звук разряда, Флеров отошел от окна и предложил обсудить результат... Они, кажется, открыли новый процесс — самопроизвольное деление ядер урана. Он где-то читал об этом явлении, его называют спонтанным делением — не то доказывали, что оно возможно, не то, что оно нереально, что-то, в общем, было. И вот они его открыли. Завтра информируют об открытии Курчатова.
— Он сказал — звонить немедленно, если найдем что интересное, — напомнил Петржак.
Они вполголоса беседовали, замирая, когда приходило время очередного щелчка. Он иногда запаздывал, иногда раздавался раньше, но среднее время оставалось то же: около десяти минут. Петржак решительно снял трубку телефона. Сонный голос Курчатова спросил, что случилось. Петржак сказал, что они открыли новое явление — судя по всему, спонтанное деление урана. Курчатов помолчал, потом предложил сделать точные записи, утром он сам посмотрит, есть ли что реально ценное.
Оба экспериментатора взялись за карандаши, чтобы записывать интервалы между щелчками. Через несколько минут зазвонил телефон. Курчатов уже совсем не сонным голосом категорически объявил:
— Я обдумал ваше объяснение. Оно противоречит теории. Это какая-нибудь грязь в реактивах или неполадки в схеме. Ищите причины разрядов в оплошностях. Все тщательнейшим образом проконтролировать! Сами себе не верьте.
Молодые физики, ожидавшие похвалы, а не порицания, чувствовали себя обиженными. Но повторявшиеся все с той же средней точностью щелчки успокоили их. Если дело в грязи, то таинственная грязь, создавшая подобное постоянство разрядов, сама по себе составляла удивительное явление, вполне заслуживающее самостоятельного исследования.
Утром появился Курчатов с двумя книжками «Физикл ревью».
— Физкультпривет! — сказал он весело. — Итак, открытие? Настаиваете? Ну показывайте!
Показывать было нечего, надо было сидеть, молчать и слушать. Курчатов молча выслушивал щелчки, потом вскакивал, проверял контакты, устойчивость установки, снова садился и снова слушал. Глаза его сияли. Но и на этот раз он не был щедр на похвалы, каких нетерпеливо ожидали экспериментаторы. Что-то интересное найдено, но спонтанное ли деление урана — вопрос. Кроме самопроизвольного распада ядер, разряды могут породить и другие факторы. Лишь когда каждая из возможных причин будет отвергнута, можно говорить от открытии спонтанного деления. И, видимо, опыт надо повторить не в Радиевом институте, а в Физтехе, там в атмосфере нет радиоактивных загрязнений, здесь они возможны.
— Почему вы так не верите нашему объяснению, Игорь Васильевич? Даже обидно!
Курчатов с улыбкой посмотрел на Флерова. Худенький паренек с тонкими чертами лица, нервный и стремительный, еще не прошел школы неудач, так много научившей его руководителя. Он не имел за своей спиной провала с тонкослойной изоляцией. Его надо уберечь от таких ударов. Эти славные ребята рвутся закрепить свой приоритет в открытии, желание естественное, но в иных случаях лучше потерять приоритет, чем угодить в провал.
Курчатов мягко сказал:
— Сейчас я объясню, почему настаиваю на проверке и перепроверках. Давайте вычислим время полураспада урана при спонтанном делении, исходя из ваших данных.
Он написал на листке, сколько граммов урана на пластинках, вычислил число ядер урана, содержащееся в камере, подсчитал, какая их доля распадается в час. Получилось, что для спонтанного деления урана наполовину требуется десять в шестнадцатой степени лет.
— А сейчас покажу, что вызывает мои сомнения.
Курчатов раскрыл один из принесенных журналов. В нем была напечатана статья Нильса Бора и Джона Уилера «Механизм деления ядер». Курчатов показал место, где авторы вычисляли время жизни урана. Они получили для полураспада при спонтанном делении десять в двадцать второй степени лет, ровно в миллион раз больше, чем вытекало из сегодняшних наблюдений двух физиков.
— А теперь посмотрим экспериментальную проверку теории. — Курчатов развернул второй журнал.
Американский физик Либби сообщал, что пытался определить спонтанное деление урана, но не обнаружил даже намека на него.
— Но у Либби камера раз в тридцать менее чувствительна, чем наша, — начал спорить Флеров. — Там, где мы слышим шесть щелчков в час, он должен был бы получить один щелчок в шесть часов. Он просто не заметил их!
Петржак с удивлением сказал:
— Не понимаю, Игорь Васильевич. Вы вроде и не одобряете нашего эксперимента.
— Нет, — с волнением сказал Курчатов. — Всемерно одобряю! Считаю, что надо вам все прочие исследования отложить и заняться только этим. Такая удача, как у вас сегодня, даже счастливым экспериментаторам выпадает раз в жизни!
10
Порой им казалось, что руководитель придумывает всё новые проверки, чтобы отложить публикацию. Вечером, получив задание, они приступали к работе — успешно снималось очередное возражение Курчатова. Утром Курчатов выдвигал новое возражение, он придумывал его ночью, пока они экспериментировали. Он лукаво посмеивался, его не трогали огорченные взгляды и нахмуренные лица. Он выглядел спокойным, словно речь шла не о важном открытии, а об уточнении второстепенных констант. Лишь изредка он позволял себе показать, что волнение и ему не чуждо. И тогда вдруг звонил в середине ночи и сообщал, что пришла в голову еще одна мысль. Вот поставьте такие-то измерения, утром я посмотрю.
А когда все мыслимые возражения были опровергнуты и оставалось только одно объяснение — самопроизвольный распад ядер урана, Курчатов неожиданно снова усложнил исследование.
— Вы победители! — объявил он. — Спонтанный распад урана вами открыт. Но, между прочим, и победителей судят. Критикуют не победу, а средства, какими ее достигли. Историки непременно укажут, что либо победители дали врагу унести ноги и собрать новое войско, либо собственные потери велики, — в общем, что-нибудь найдут. Так вот — не нравится мне ваша камера. Маловата чувствительность.
Оба физика удивленно переглянулись. Их камера не нравится? Чувствительность, в тридцать раз превышающая обычную, маловата? Курчатов повторил — да, чувствительность недостаточна. Вот если бы повысить ее не в тридцать, а в двести раз, тогда спонтанное деление заговорило бы о себе гораздо убедительней. Итак, получайте новое задание: сконструировать камеру помощней — и повторить с ней всю серию экспериментов. Действуйте. Физкультпривет!
«Озадаченные» физики были и вправду озадачены. Оставшись одни, они долго молчали. Петржак пробормотал, что он и не мыслит себе, как вместо пятнадцати пластин взять сотню. Флеров безнадежно возразил, что выход один: увеличить размер пластин. Он прикинул объем новой камеры. Она получалась в чемодан. На большие листки нанести от руки равномерный слой невозможно, а слой неравномерный при любом покачивании листочка грозил замыканием.
— Придется вспомнить, как мы грунтовали фарфоровые вазы, — сказал со вздохом Петржак. — На заводе вазу вращают на станке, а кистью водят по вращающейся поверхности, равномерность обеспечивается. Внедрим заводскую механизацию и здесь.
Флеров после ночной работы задержался в Физтехе — узнать, что у Тани с урановыми кубиками. К нему подошел Панасюк. Он только что возвратился из армии после окончания действий на Карельском перешейке.
— Юра, ты же обещался взять меня к себе, — напомнил он с обидой. — У вас с Костей в это время состоялось открытие. А мне опять возиться на подсобках? Старший на побегушках...
— Пойдем к Курчатову.
Курчатов удивленно поднял брови при виде входящего Флерова. Уже отдохнул? Что-то маловато поспал! Так какой будет камера?
Флеров, позабыв о товарище, стал набрасывать чертежик новой камеры. Курчатову понравилось, что увеличивают площади, а не количество пластин. И прежняя камера отличалась высокой чувствительностью, а новую иначе, как уникальной, и не назвать.
— Поставьте в моем кабинете. Ночью я не помешаю вам работать. — Он показал глазами на скромно стоявшего в стороне Панасюка. — Собираетесь моего тезку выпрашивать? А он хочет идти к вам в помощники?
Панасюк сделал шаг вперед:
— Он хочет, Игорь Васильевич. То есть — я хочу!..
Курчатов, посмеиваясь, переводил взгляд с одного на другого. Флеров был такого склада, что, чем бы ни увлекался, немедленно старался и друзей увлечь своей работой. Он еще студентом усердно ходатайствовал о привлечении в ядерную лабораторию Панасюка, как, впрочем, и многих других приятелей. Панасюк откликнулся на призыв горячо. И, появившись в ядерной лаборатории, с рвением за все брался. Он был честолюбив, этот высокий сухощавый парень с резко очерченными скулами, с постоянно возбужденным лицом, с нетерпеливой речью. Уловив свободную минутку, он всегда доставал блокнот величиной с тетрадь и заносил туда все, что делал. Среди молодых физиков, щедрых на мысли, быстрых на работу, но скуповатых на записи, Панасюк выделялся истовой систематичностью.
Курчатов сказал:
— Разрешаю. Действуйте. Помогайте Флерову в устройстве аппаратуры и готовьте дипломную работу. Тема — спонтанный распад тяжелых элементов. — Он поднял руку, пресекая возражения, — ошеломленный Панасюк хотел, похоже, возразить, что ему дается тема уже совершающейся чужой работы. — Тема необъятная, на всех хватит. Примените другую аппаратуру, добавите, кроме урана, еще торий, протактиний — достаточно, чтобы показать самостоятельность!
Панасюк тут же получил от Флерова задание по усилению импульсов в камере и, не мешкая, взялся за дело. Петржак портил лист за листом, пока добился равномерного слоя. А когда камера заработала, надо было снова отстраиваться от всего, что и раньше мешало, — микрофонных шумов, случайных разрядов. Многократно усиленные, они теперь доставляли еще больше хлопот. Работа опять шла ночью. «Как на заброшенном острове», — шутили физики, сходясь в лаборатории, — голоса и шаги гулко звучали в пустых коридорах.
А затем повторилось то, что волнующей музыкой сперва звучало в Радиевом, а затем в Физтехе, в кабинете Курчатова. Самопроизвольное деление заговорило о себе отчетливыми разрядами в ионизационной камере, теперь их было не шесть, а почти тридцать в час. Уникальная камера из пятнадцати пластин, с площадью в шесть тысяч квадратных сантиметров показывала свои достоинства. Сто граммов урана, нанесенные тонким слоем на электроды, содержали в себе миллиарды миллиардов атомов, лишь единичные их ядра распадались, но каждый такой распад давал о себе знать электрическим разрядом в аргоне, наполнявшем камеру, сухим щелчком реле, зеленоватой искоркой на осциллографе, цифрой, выскочившей в окошке счетчика. Распад шел самопроизвольно, неотвратимо, неустанно, его нельзя было ни прервать, ни ускорить, ни замедлить, он свидетельствовал о какой-то таинственной неустойчивости в самом прочном кирпиче мироздания — в атомном ядре.
В кабинет Курчатова пришел Иоффе, прибегали физики института — послушать четкий голос распадающегося ядра, переброситься восхищенными взглядами, радостно хлопнуть по плечу счастливых авторов эксперимента. Иоффе сказал, что, возможно, их открытие явится самым крупным научным событием года. А Курчатов признался, что все посторонние причины опровергнуты. Ни радиоактивные загрязнения в атмосфере, ни внешние электрические помехи, ни неполадки внутри камеры не могут объяснить разрядов. Работа сделана убедительная.
— Можно готовить статью? — радостно осведомились оба физика.
Да, готовить статью нужно. И информацию в «Ленинградской правде» дадим. Но работа не закончена. Есть еще одна возможная причина разрядов в ионизационной камере — космические лучи. Этот фактор не исследован. Хорошо бы повторить опыт на дне Финского залива, на глубине метров в 150 — там интенсивность космических лучей столь ослабевает, что их действием можно пренебречь.
— Я свяжусь с командованием Балтийского флота, — пообещал Курчатов. — Попрошу предоставить одну из подлодок для эксперимента. Они уже выделяли одну лодку для экспериментов Вериго, не откажут и нам.
Флеров не верил в действие космических лучей на распад урана. А если такое действие существует, то они открыли явление еще значительнее, чем спонтанный распад! Против того, чтобы опуститься на дно Финского залива, физики не возражали. Это звучало захватывающе — ядерные эксперименты на дне морском! Куда крепче опытов Вериго!
На другой день Курчатов разочаровал обоих. В Финском заливе нет глубин, превышающих 100 метров. И в мире нет пока лодок, способных на погружение в 150 метров.
— Но если нельзя опуститься под воду, то почему не опуститься под землю?
— Угольные шахты! — воскликнул Флеров. — Или рудники!
У Курчатова был другой план. Приезжая в Москву, он с наслаждением катался на эскалаторах метро. И он помнил глубины всех станций метрополитена. Такие, как «Кировская» или недавно построенная «Динамо», вполне подойдут для эксперимента. Если и там разряды повторятся без изменений, то о космических лучах можно не говорить.
— Я отправил просьбу на имя наркома путей сообщения.
Нарком не только разрешил проводить эксперименты на подземных станциях столичного метро, но и предписал всем работникам наркомата оказывать физикам всемерное содействие. Магическая формула — оценил ее Курчатов, она раскроет все двери.
Когда шла погрузка оборудования в скорый поезд, магическая формула не сработала. Проводник наотрез отказался пропустить в вагон громоздкий багаж двух пассажиров. Петржак совал ему в руки предписание наркома. Проводник величественно отвел рукой заветную бумагу.
— Нас не касается. У нас команда — тридцать два килограмма багажа на билет, а что сверх, то в багажный вагон. У вас сколько? Двести кило? Пятнадцать мест? Не могу. Ищите бригадира, пусть он решает. Только бригадир не разрешит, гарантирую.
— Да где его искать, поезд же уйдет! — настаивал Петржак. — У нас же аппаратура, стекло, в багажный вагон сдать нельзя.
— Гражданин, не мешайте посадке. Сказано — не могу.
Флеров попросил проводника отойти в сторонку. Проводник сдал пост напарнику и без охоты отошел, Флеров показал «Ленинградскую правду», где была напечатана статья об их открытии.
— Как же, читал! — с воодушевлением сказал проводник. — Так это ваша работа? А такие молодые, кто бы подумал! Что ж раньше не сказал? Значит, в Москву, начальству показывать? Тащите багаж. Чтоб науке не посодействовать! Да за кого нас тогда считать?
Он сам с энтузиазмом тащил ящики и чемоданы, пристроил их в купе поудобней. Его все удивляла молодость ученых пассажиров.
— Значит, так, ребята. Если кто в Ленинграде предъявит билеты на свободные места в ваше купе, придется пустить. А не будет, в пути не подсажу. Поедете как фон-бароны, вдвоем. Наука охраны требует, кто же не понимает?
В Москве формула «предписывается оказывать содействие» стала, как и предсказывал Курчатов, волшебным ключом, отпирающим все двери. Главный инженер метрополитена разрешил использовать «Динамо», эта станция оборудована лучше других. Физики сделали быструю прикидку — 58 метров земли по поглощению лучей равнозначны слою воды в 180 метров, космическое излучение на этой глубине ослабевало почти в 40 раз. О лучших условиях не приходилось и мечтать.
Вскоре подземный кабинет начальника станции превратился в лабораторию. Нетерпеливый Флеров включил установку, как только ее собрали. Реле затрещало так яростно, звонок — его добавили в схему — так ошалело залился, что испуганный физик мигом снял питание. Поезда метро мешали сильней ленинградских трамваев. И здесь будем работать ночами, чтобы исключить наводки от поездов, — решили физики.
Когда физики приступили к решающему эксперименту, уборщицы заканчивали протирку полов, один за другим поезда уходили на ночные стоянки. Наконец все замерло. Физики включили установку. Все повторилось без изменений. Все те же 25–30 щелчков — теперь еще и звонков — в час. Космические лучи к развалу ядер урана отношения не имели.
Время шло к утру. Внезапно в подземное помещение проник посторонний звук — отдаленный шорох или шелест.
— Что за новая напасть? — с испугом спросил Флеров.
Звук был отчетлив, но, казалось, шел откуда-то сверху.
— Шаги! — с удивлением сказал Петржак. — Самые настоящие шаги! По улицам начинают ходить, а мы на такой глубине слышим, как там стучат каблуками и шаркают подошвами. Скажи кто раньше, ни за что не поверил бы. Теперь понимаешь, почему в былинах герои приникают ухом к почве? В земле отлично слышно на отдалении.
Ночь шла за ночью, записи умножались. Щелчки с таким постоянством повторялись, что физики перестали подсчитывать их. Потом кому-то показалось, что они вроде бы раздаются реже. Проверка с часами в руках установила, что в камере распадается на три-четыре ядра урана меньше, чем накануне На третью ночь спонтанный распад урана совсем ослаб. Эффект, воспроизводившийся столько недель с таким постоянством, еле давал о себе знать. Экспериментаторы лихорадочно искали неполадки — усиливали крепость контактов, вынимали и вставляли лампы, щупали реле, проверяли, прочно ли камера укреплена на амортизирующем устройстве. Единственным результатом проверки было то, что эффект совсем пропал.
Флеров с отчаянием смотрел на товарища:
— Костя, не могли же мы раньше так ошибаться? В чем же дело?
Петржак отсоединил камеру, поднял ее и сильно потряс. Камера загремела, как будто в ней было полно камешков
— Моя вина, — с торжеством объявил Петржак. — Урановый лак осыпался с пластин. Вот почему и пропал эффект.
Аварии немедленно придали облик эксперимента. Поведение камеры с осыпавшимся ураном записали. Для убедительности опыт поставили в чистом виде. Из камеры вытрясли осыпавшийся лак, снова наполнили ее аргоном, снова подали питание, подносили снаружи источник нейтронов, внутрь ввели источник альфа-частиц — реле молчало. Без урана не возникало разрядов достаточной силы, чтобы их можно было зарегистрировать.
Кабинет начальника станции стал похож на малярную мастерскую. Везде сохли свежепокрашенные урановым черным лаком пластины. Собранная заново камера продемонстрировала прежний эффект — в тихом ночном подземелье радостной музыкой зазвучали те же 25–30 щелчков в час.
Когда физики вернулись в Ленинград из затянувшейся командировки, Курчатов порадовал, что заметка о спонтанном делении за их подписью послана в «Физикл ревью». Писал он, передали по телеграфу, сопроводиловку составил и подписал сам Иоффе: он всюду твердит, что два молодых физика, два ленинградских комсомольца совершили самое важное научное открытие года.
— Теперь статью в наш журнал! Обещают напечатать без задержки.
Флеров сказал Петржаку, что подписать статью должны трое — Петржак, Флеров и Курчатов. Петржак колебался — конечно, Курчатов такой же участник работы, как они сами. Но для посторонних он начальник лаборатории, не покажется ли кое-кому, что они приписывают Курчатова только из уважения к его служебному положению? И тогда вспомнят, что Петржак вовсе не работник Курчатова и что своих начальников по Радиевому институту тоже не следовало бы обходить...
— Мало ли кому что покажется! Посторонних людей не вписываем. Открытия не раздаются по чинам и званиям.
Курчатов молча выслушал просьбу физиков поставить свою фамилию на статье — и ответил не сразу. Он размышлял о том же, о чем они говорили между собой: могут подумать, что воспользовался своим положением, чтобы приписаться к работе, сделанной чужими руками. Он думал и о том, что недавно Хлопин, докладывая в Академии наук о радиохимических работах и подробно рассказывая о спонтанном делении, открытом в стенах его института, фамилии Курчатова не упомянул. Хлопин, вероятно, воспринял перевод исследований в Физтех как намерение лишить Радиевый институт заслуженной славы. Вспомнилось и то, как Лейпунский выводил скромность Курчатова из его самолюбия. Какие все это мелочи — самолюбие, престиж! Выше всех таких пустяков — справедливость.
Но в чем она — справедливость? В истине? Истина на его стороне! Он реальный участник исследования. Он имеет право написать свою фамилию на отчете об открытии. И это будет вполне справедливо. Но он не мог согласиться на это. Из маленькой справедливости, воздающей лишь должное ему лично, могла проистечь впоследствии большая несправедливость, он предвидел ее. Сперва будут говорить: открытие, совершенное Курчатовым, Флеровым и Петржаком. Потом появится сокращение: Курчатов и другие. А там и «другие» станут опускаться и забываться. И возникнет железная формула: явление Курчатова, эффект Курчатова, Курчатовский распад урана. Случаи такого рода не единичны, он бы сумел привести несколько подобного рода трансформаций. И получится, что он, сам того не желая, заберет у этих милых парней, у этих энтузиастов науки открытие, с таким блеском ими совершенное. Его даже в пот бросило от такой мысли.
— Благодарю, но отклоняю, — объявил он категорически. — Открытие принадлежит только вам — и никаких сочувствующих и участвующих! Я в вашей рукописи поправил формулировочки, добавил запятые — что-то скуповаты вы на знаки препинания. Перебелите.
Физики ушли огорченные. Флерову сгоряча показалось, что Курчатов вдруг усомнился в открытии и потому не желает связать с ним свою фамилию. Петржак возразил, что Курчатов, в отличие от многих других, не любит умножать число своих подписей под научными трудами лаборатории. Флеров воскликнул, что они сами отметят роль Курчатова, и так отметят, чтобы и недоброжелателю стало ясно, какое значение имели его советы и указания.
И он своей рукой приписал в конце статьи:
«Мы приносим искреннюю благодарность за руководство работой проф. И. В. Курчатову, наметившему все основные контрольные эксперименты и принимавшему самое непосредственное участие в обсуждении результатов исследований».
11
Владимир Иванович Вернадский, когда Радиевый институт в феврале 1938 года перешел из Наркомпроса в ведение Академии наук, сдал директорство своему ученику и другу Хлопину, но не перестал интересоваться институтскими делами. И сам Хлопин продолжал писать ему в Москву подробные письма, как в те времена, когда Вернадский числился директором, — описывал ход исследований и результаты экспериментов, информировал, как функционирует циклотрон, кто болеет, кто здоров, кто в отпуске и командировке. И радиохимики, приезжая в столицу, непременно посещали своего многолетнего руководителя, а бывало, устраивали на его квартире маленькие рабочие совещания, и он внимательно выслушивал их речи и предложения, давал советы. Ему шел семьдесят седьмой год, здоровье — никогда оно не было крепким — основательно пошаливало, но сознание оставалось юношески ясным, юношески свежим был интерес к науке. Он ласково улыбался, читая в письме, что из облученных на циклотроне мишеней выделены радиоазот и радиоуглерод активностью в 3–4 милликюри — «можно получить ожог пальцев», ликующе извещал Хлопин, измеряя мерой опасности нового элемента меру своего успеха. Вернадскому, старейшему ученому страны, знатоку многих наук, создателю институтов геохимии, географии, Радиевого, было понятно, как глубока может быть радость от, казалось бы, малого успеха в своей личной малой научной области, — для творца каждый свой шаг вперед огромен. И он ответно сорадовался, сердечно одобряя сделанное, настойчиво и деликатно подталкивая к следующему успеху.
Но по-настоящему его самого увлекали только большие проблемы — глубокий мыслитель, он философски озирал все волнующееся пространство науки, безошибочно определял, где на этом просторе возникают горные массивы великих открытий, а где простираются ровные поля все умножающихся мелких и мельчайших фактов, создавая то, что можно было бы назвать питательным грунтом науки. И весть о делении ядер урана потрясла его, вероятно, больше, чем людей, непосредственно работающих в этой области. Он сразу разглядел то, что еще мало кому было видно, — человечество реально вступает в новый период своего существования, оно теперь может овладеть источником благоденствия, равного которому еще не было.
Ему легче, чем любому другому, было сделать такой вывод. Редкостно одаренный ощущением необычайности самых, казалось бы, обычных явлений, он не просто двигался среди повседневных фактов и событий, а непрестанно поражался тому, что они именно таковы, а не иные. Быть может, величайшая из способностей ученого — дарование удивляться миру — была богато отпущена ему от природы. Он казался научным пророком, потому что был научным провидцем — в каждом маленьком научном ростке видел мощное дерево, в какое росток неминуемо разрастется.
И, наверно, самым значительным из его научных провидений было утверждение, что недалек переворот во всей человеческой технике и материальных условиях существования общества и что переворот наступит, когда люди подчинят себе распад ядер атомов. В начале века был известен лишь один ядерный распад, даже не распад, а преобразование ядер — и Вернадский увидел в нем зарю грядущей научно-технической революции, с такой глубиной описал суть недавно открытого явления, какая никому, кроме него, и не грезилась. В 1914 году в третьем издании своего труда «О необходимости исследования радиоактивных минералов России» он с убежденностью повторил мысли о значении радиоактивности, высказанные еще в 1909 году: «Это открытие за немногие годы совершенно изменило в самых существенных чертах понимание физических явлений, вызвало целый переворот в научном мировоззрении, переворот, вероятно, больший, чем тот, который был пережит человечеством в научном мышлении в XVII веке... Ибо в явлениях радиоактивности мы имеем дело с огромными эффектами ничтожных масс». И, защищая свою мысль от поверхностно восторженного восприятия, он трезво предупреждал: «Мы впервые вступили здесь на путь перехода от возможностей в область действительности. Не надо, однако, закрывать глаза на то, что переход этот будет тяжкий и длительный. Он потребует огромного труда; он связан с большими денежными затратами на производство предварительных опытов и исследований, на точную регистрацию радиоактивных явлений в окружающей нас природе; несомненно, он сулит много разочарований».
И, понимая, что в частнособственническом обществе мало кого увлекут предприятия, не дающие скорого дохода, Вернадский страстно настаивал, сурово требовал от инертного в хозяйственных делах правительства: «...государственная власть не может оставить без внимания и без учета новую, находящуюся пока в его распоряжении силу, возможность применения которой в жизни и научно допустимое значение которой в будущем превышает все то, что до сих пор было уделом человечества в борьбе с окружающей его природой. Было бы делом государственного легкомыслия не принимать во внимание научно допустимых возможностей, раз только эти возможности позволяют предполагать столь коренные, глубокие и относительно быстрые изменения общественного и государственного равновесия».
Это был глас вопиющего в пустыне. Научные оценки казались плодом восторженного увлечения. Требования к правительству шли дальше того, на что правительство было способно, да и внушали опасения своим радикализмом: по существу, академик доказывал, что природа частнособственнического государства вступила в противоречие с коренными интересами науки. Нужна была революция, чтобы стали возможны настояния Вернадского, — и сразу после революции, по его же инициативе, новая власть взяла под свою руку организацию радиевой промышленности в стране. А Вернадский снова шел дальше, снова опережал свое время. В 1922 году, когда еще никто и не мечтал о контролируемом освобождении внутриядерной энергии, Вернадский предсказывал: «Недалеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, такой источник силы, который даст ему возможность строить свою жизнь, как он захочет». И, рисуя перспективу грядущего благоденствия, дарованного прирученной энергией атома, он столь же пророчески предвидел и попытки поставить великие открытия на службу зла: «Сумеет ли человек воспользоваться этой силой, направить ее на добро, а не на самоуничтожение? Дорос ли он до умения использовать эту силу, которую неизбежно должна ему дать наука?» Это было сказано за тринадцать лет до грозного пророчества Жолио в его Нобелевской речи, за четырнадцать лет до доклада Жолио в Москве, так поразившего физиков. И Вернадский предупреждал с той же силой, что и Жолио: «Ученые не должны закрывать глаза на возможные последствия их научной работы. Они должны себя чувствовать ответственными за последствия своих открытий».
Вернадскому шел семидесятый год, когда нашли нейтрон. Многие крупные физики недоумевали, что делать с этой новообнаруженной частицей. А Вернадский отчетливо понимал, какие грандиозные возможности она таит в себе. Открывая в ноябре 1932 года в Радиевом институте первую всесоюзную конференцию по радиоактивности — прошло всего несколько месяцев со дня обнаружения нейтрона, — он возвестил, что теперь «можно говорить о вхождении в человеческую жизнь новой могучей формы энергии, энергии атомной, энергии ближайшего будущего, которая должна... заменить электрическое сродство». И конкретизировал: «Мы сейчас находимся на новом подъёме, этот подъем только что начинается: с одной стороны имеем открытие нейтрона, что приводит нас реально к вопросу о создании синтеза химических элементов, с другой стороны — те огромные новые пути, которые открываются в вопросе о ядре атома». И, с некоторой грустью вспоминая о малых материальных возможностях созданного и руководимого им Радиевого института, он выражает надежду, что взамен этого института, где до сих пор «свободно двигалась мысль и где были связаны руки», будет в скором времени создан могучий научный центр. Надежды осуществлялись медленней, чем мечталось, — мысль двигалась с прежней свободой, становилась все острей, а материальные возможности долго еще прибавлялись по капле.
В делении ядер урана уже не только Вернадский, но и большинство физиков увидели реальное приближение к тому, о чем он убежденно писал и говорил ровно тридцать лет, — началу атомного века. И если раньше он не уставал почти в одиночестве пропагандировать эту идею, то теперь, когда она, как некий интеллектуальный пожар, охватывала все больше умов, он молчал, прислушивался, присматривался, размышлял: готовился выступить в прежнем, уже привычном духе — снова заглянуть далеко вперед, снова поставить задачи, которые, может быть, придется осуществлять даже не завтра, но точно знать которые нужно уже сегодня. Сын, живший в Америке, присылал ему все журналы и газеты, где хоть что-нибудь писали об уране, они накапливались на столе, к ним добавлялись отечественные издания — старый академик рылся в них, думал, прочитанное становилось как бы собственным умственным достоянием, он откидывался в кресле, рассеянно смотрел в окно, ворошил мысли, как перед тем бумагу, перекладывал, соединял, выстраивал в убедительную логическую цепь... Осторожно входила жена Наталья Егоровна, тихо, как мышь, кралась по своим делам старушка домработница — недавно с большим смущением обнаружили, что она, оберегая покой хозяина, прикрепила кнопкой к входной двери корявое объявление: «Академику звенеть два раза», и бумажка висела с месяц, никто не обращал на нее внимания, пока пришедший в гости ученик, химик Александр Павлович Виноградов, не сорвал ее и со смехом не прочел вслух. Вернадский не отвлекался на то, что совершалось в доме, он жил в мире мысли — это было далеко от непосредственного окружения...
С Хлопиным, пришедшим к нему на квартиру во время очередной командировки в Москву, он с первым поделился новыми мыслями:
— Мне кажется, Виталий Григорьевич, в борении с трудностями сегодняшними мы мало задумываемся над трудностями завтрашними. А разница у них — существенна. Первые просто трудны, но при усердии и если времени станет довольно — преодолимы. А вторые таковы, что, не возьмись за них сегодня, завтра могут стать непреодолимым барьером.
— Вами подразумевается урановая проблема, Владимир Иванович? — уточнил Хлопин.
Вернадский имел в виду ее. Главные интересы физиков и радиохимиков сегодня поглощены ядерными урановыми реакциями. Это хорошо, но в такой увлеченности таится своя опасность. Исходного материала, урана, для лабораторных экспериментов пока хватает, а не хватит, можно купить за рубежом и урановые соединения, и металлический уран, все это продается свободно. Но вот если труды экспериментаторов дадут успех, и к тому же быстро? С одной стороны, великий шаг вперед, а с другой — чуть не государственная катастрофа! Покажи на практике, что урановая энергия освобождается, и мигом уран станет дефицитнейшим материалом. Его зажмут, взвинтят до чудовищной цены при продаже другим странам, а выявится непосредственное военное значение урана, так объявят прямой запрет на его вывоз. И получится, что страны, богатые ураном или своевременно захватившие его месторождения в колониях, завоюют преимущество перед странами уранобедными. Так ведь может дойти и до серьезного нарушения общемирового государственного равновесия. А мы пока страна, ураном бедная. Причины: мало им занимались, куда меньше искали урановые месторождения, чем уголь, или железо, или медь, или апатиты даже. Он-то есть, невероятно, чтобы в таком огромном государстве не нашлось своего урана. Но грянь сегодня предсказанное великое открытие, создай кто реально урановую цепную реакцию — с чем будем строить отечественные «атомные котлы»?
— Нужно специальное правительственное решение, — заметил Хлопин.
Вернадский к этому и клонил — требуется вмешательство государственной власти, ибо проблема наигосударственнейшая. Но правительству надо и разъяснить научную суть дела, и убедить, что откладывать дело нельзя. Первое сравнительно просто. Второе — трудней. Единственным убедительным аргументом явится лишь экспериментально запущенная цепная реакция, а она в свою очередь вызовет свою цепную реакцию — запретов на продажу урана, огромного воздорожания его, если запретов не возникнет. В общем, ждать нельзя, надо приступать к большому государственному делу загодя.
— Ваше предложение, Владимир Иванович?
Вернадский хотел организовать при Академии наук специальную комиссию по урану и снабдить ее такими полномочиями и деньгами, чтобы она могла комплексно руководить всеми сторонами и стадиями урановой проблемы — поисками урановых месторождений, разработкой технологических схем переработки руд, разделением изотопов, созданием необходимых запасов сырья и готовой продукции, составлением прогнозных карт — геологических, производственных, исследовательских. Он напирает на слово «руководить», ибо комиссия не должна заменять поисковые партии, геологические управления, заводы, институты и лаборатории. Правда, при Академии наук существует комиссия по атомному ядру, руководимая Сергеем Ивановичем Вавиловым, она в основном тоже нацелена на уран, но там иные задачи, там обеспечивают исследовательские ядерные работы, это гораздо уже задач урановой комиссии. А если и возникнет кое-где параллелизм, что ж, вспомним поговорку: ум — хорошо, а два — лучше.
— Я согласен, — сказал Хлопин. — И на Президиуме академии, конечно, поддержу вас.
Вернадский, провожая Хлопина, долго жал его суховатую руку своей старческой, ослабевшей — нужно было усилие во всем теле, чтобы рукопожатие вышло крепким. Хлопин казался озабоченным, Вернадский радовался. Он знал свою силу и недостатки, знал силу и недостатки ученика. Своеобразный мессия атомной энергии, Вернадский жил в сфере мечтаний и предвосхищений, они были реальностями завтрашнего дня и потому сегодня казались фантастикой — нельзя было ему самому не считаться с тем, какое впечатление производят его высказывания. Ученик, скромный, трудолюбивый и очень реальный, не позволял себе фантазировать. И хоть своей внешней старомодностью как бы отстранялся от облика сегодняшнего мира, весь он был прочно в этом мире. Иногда даже казалось, что он полемизирует с учителем, оспаривает его устремления. «Мы институт маленький, и проблемы наши маленькие!» — говорил он нередко почти сердито, это звучало как выпад против Вернадского. Но выпадов и полемики не было, было единство двух противоположностей — и такое душевное, прочное и долгое, что только оно и создавало фундамент, на котором двигалась развиваемая ими наука.
Ободренный поддержкой Хлопина, Вернадский думал о следующем шаге. Нужно было просить о созыве Президиума академии, писать в правительство. Бумаги необходимы, конечно, они составляют как бы строительную конструкцию задуманного дела, но Вернадский считал их вторичными, закрепляющими, а не предваряющими. С ними хотелось погодить. Он попросил приема у Председателя Совнаркома СССР. Секретарь Молотова показал Вернадскому рабочее расписание своего начальника — все дни и вечера были заполнены на несколько недель вперед. Старого академика поразило, до чего много приходится работать государственным деятелям, — он долго потом с волнением рассказывал об этом знакомым. Какой-то свободный час все же нашли. Молотов принял ученого, одобрил создание урановой комиссии, обещал помощь в материальных средствах, посоветовал держать связь со своим заместителем: соответствующее указание и ему, и президенту Академии наук будет отправлено.
В начале 1940 года состоялось первое заседание новосозданной Комиссии по проблемам урана, такое она получила официальное название. Присутствовали сам Вернадский, академики В. Г. Хлопин, А. Ф. Иоффе, С. И. Вавилов, П. Л. Капица, А. Е. Ферсман, непременный секретарь Академии наук П. А. Светлов, два секретаря комиссии — геолог москвич Д. И. Щербаков и ленинградец геохимик из РИАНа Л. В. Комлев и другие приглашенные лица. Вернадский доложил о встрече с Молотовым и обрисовал проблему. Во всем мире необычайно возрос интерес к урану. Канада производит 120 граммов радия в год, что соответствует переработке 400 тонн урановой руды. Бельгия интенсивно вывозит из своих африканских колоний руду в Европу. Уран несет с собой переворот в человеческой технике, мы не имеем права отставать в создании своей уранопромышленной базы. Именно для этого и создается Комиссия по проблемам урана. Возглавить ее лучше всего физику — физики пока основные потребители этого элемента.
Он с воодушевлением оглядывал ученых. Физики переглядывались и молчали. Владимир Иванович говорил, как всегда, эмоционально, даже вдохновенно, но не слишком ли далеко он заглядывает? Иоффе взял слово первым. Конечно, урановые реакции дадут какой-то выход энергии. Это теоретически доказано, это экспериментально будет осуществлено. Но каково соотношение затрат и выхода? Он уверен, что еще долго получаемая энергия будет много меньше затрачиваемой. Вряд ли можно ожидать в близком будущем практической отдачи от деления урана. Другое дело — исследование этого процесса. Здесь любое промедление, любая небрежность — недопустимы. Здесь надо всемерно расширять фронт работ. Ибо каждый успех в изучении ядерных реакций — ощутимый шаг вперед к несомненной в грядущем, здесь споров не будет, технической революции. Нет, говорить о срочном создании уранопроизводящей индустрии рановато.
Вавилов в принципе согласился с Иоффе. Надо бы исследовать, нет ли в начавшемся за рубежом урановом буме какого-то трюка промышленных фирм. Потребность в радии возрастает с каждым годом, особенно же быстро в связи с войной, а уран можно рассматривать и как побочный продукт переработки радиоактивных руд. Уран накапливается на складах, от него хотят отделаться. Интересно, что сами иностранные физики гораздо сдержанней, чем иные бизнесмены.
— По-моему, вопрос надо ставить по-иному, — сказал Капица. — Спор — скоро или нескоро получим урановую энергию — зависит и от того, какую мы приложим свою энергию для овладения энергией урана. Выделим много средств, людей, материалов, сконцентрируем на этой теме основные силы, результат будет скорый, а нет — нет. Я — инженер и привык к любой сложной проблеме подходить по-инженерному.
Вернадский обратился к молчаливому Хлопину:
— Виталий Григорьевич, я не вижу энтузиазма у наших коллег физиков. Придется урановую комиссию возглавить вам.
Комиссия по проблемам урана, возглавляемая Хлопиным, ввела в свой состав новых членов, главным образом физиков, организовала экспедиции в разные края страны для определения запасов урана в рудах. Финансовый урановый фонд почти полностью затратили на поездки «сырьевых бригад» в разные районы страны. Хлопин вернулся из экспедиций озабоченный, поделился своими выводами с Вернадским. Если бы физики знали истинное положение с ураном, они не держались бы столь благодушно. Они думают, как все, впрочем, что радий получается только из урановых руд и, значит, чем больше на рынке радия, тем больше на складах урана. Добыча радия у нас непрерывно растет, но на севере его извлекают из подземных радиоактивных вод, к урану это производство отношения не имеет. А разведанные урановые оруденения ничтожно малы, серьезной уранодобывающей промышленности на них не создать.
Вернадский спокойно сказал:
— Я это и предвидел, почему и забил тревогу. Приступаем к следующему шагу, Виталий Григорьевич. Прошу вас, составьте план работ по урановой проблеме на годы 1940–1941, и обратимся с этим планом в Президиум академии и правительство.
Дни, прошедшие за этим разговором, показались в Радиевом институте необычными — Хлопин не выходил из своего кабинетика, аналитики, прибегавшие к Марии Александровне за подготовленными ею пробами и результатами анализов, не видели его в халате у лабораторных столов. И если раньше старались его не беспокоить, потому что он в лаборатории, а в кабинет вторгались без опасений, то теперь боялись ходить в кабинет, потому что он не выходил в лабораторию и, значит, был занят чем-то гораздо более важным, чем собственные эксперименты.
Хлопин часто составлял планы исследовательских работ в своем институте, то всегда были конкретные задания для конкретных исполнителей. Сейчас Хлопин действовал под влиянием своего учителя, и проблемы были огромны настолько, что обозреть их — кружилась голова! Но и в огромные, расписываемые по многим учреждениям задачи Хлопин вводил свой стиль — задачи были конкретны, реальны, ни одна не выходила за рамки практически выполнимого. И они охватывали всю область поисков. Даже сегодня, когда можно обозреть прошлое с гигантской высоты достигнутого успеха в приручении ядерной энергия, поражаешься, как полно описан круг вопросов, как детально расчерчен ход экспериментов, как точно высказан ожидаемый результат. Всего 32 темы намечены для исследования и экспериментального осуществления — и каждая так выпукло подана, так жестко ограничена своими естественными межами, что временами кажется, будто читаешь список тем для диссертаций. И лишь оглядывая список в целом, понимаешь, что в нем дано все, что требовалось изучить в проблеме деления ядер урана: великолепный научный фундамент, на котором потом можно строить основное здание — запускать подготовленную цепную реакцию ядерного деления.
Хлопин четко выделил пять основных вопросов: 1. Выяснение механизма деления урана и тория; 2. Выяснение возможности развития цепной реакции в нормальной смеси изотопов урана; 3. Разработка методов разделения изотопов урана; 4. Разработка методов получения и изучения летучих соединений и металлического урана; 5. Поиски богатых источников урановых руд в СССР и разработка методов их переработки.
И для решения этих вопросов он предлагал привлечь десять союзных научно-исследовательских институтов — основная нагрузка ложилась на РИАН, но не остались в стороне и ленинградские Физтех и Институт химической физики, и харьковский УФТИ, и Днепропетровский институт физической химии, и московские институты ФИАН, органической химии, редких металлов, металлургии, и Лаборатория живого вещества. А в качестве исполнителей Хлопин называл известных ему ученых — 30 фамилий значатся в плане, все видные специалисты в своей области. Только четыре академика вставлены в список — он сам, А. Е. Ферсман да два украинских — А. Е. Лейпунский и специалист по тяжелой воде А. И. Бродский. Лишь иногда он затруднялся назвать фамилии в далеких от него областях науки — тогда появлялись формулы: бригада такого-то института или такого-то профессора.
Для довершения конкретности план разбит на три графы, охватывающие все 32 темы: «1. Название темы; 2. Что будет в результате дано; 3. Исполнители». Картина требуемого и ожидаемого становилась исчерпывающе ясна.
Вернадскому сделанная его учеником работа понравилась.
— Двигаемся дальше, Виталий Григорьевич. Докладываем основные идеи плана в Президиум академии. Добавим требования, без выполнения которых план не осуществить. И подпишем докладную оба.
Новый документ так интересен, что стоит основные его идеи привести дословно. Шел июнь 1940 года. Оба академика писали:
«Открытие в самое последнее время самопроизвольного деления ядер атома урана, с одной стороны, и установление, что деление претерпевают лишь ядра атомов изотопов урана с массами 235 и 234, содержащиеся в обычном уране в количестве 0,7% и 1:17000, а также, что деление это протекает под действием медленных, а не быстрых нейтронов (последнее особенно важно и требует проверки), ставим вопрос о практическом использовании внутриатомной энергии в порядок дня.
Учитывая, что положительное решение вопроса о техническом использовании внутриатомной энергии, хотя и сопряжено с рядом очень больших трудностей, которые, как нам кажется, не имеют принципиального характера, должно в корне изменить прикладную энергетику, — мы полагаем, что Академия наук должна уже сейчас принять ряд мер, которые обеспечили бы Советскому Союзу возможность не отстать в разрешении этой важнейшей задачи от зарубежных стран».
Среди неотложных практических мероприятий названы следующие:
«1. Срочно приступить к выработке методов разделения изотопов урана и конструированию соответствующих установок, для чего... в двухмесячный срок наметить учреждения и лиц, которым поручить это дело, а также определить размеры необходимых для этого специальных ассигнований и потребное количество драгоценных и цветных металлов.
2. Форсировать работу по проектированию сверхмощного циклотрона ФИАН, а также по достройке циклотрона Физико-технического института и постройке помещения и оборудования электросети к уже работающему циклотрону Радиевого института.
3. Созвать зимой 1940/41 гг. при Радиевом институте вторую всесоюзную конференцию по радиоактивности в Ленинграде. Предложить Радиевому институту представить программу ее работ к 15 сентября с.г.»
Были и другие требования — по финансам, по печатанию работ и пр.
Президиум Академии наук отнесся доброжелательно к записке Вернадского и Хлопина — требования были хорошо обоснованы и довольно умеренны. Но и их нельзя было выполнить сверх уже утвержденного плана академии без особого указания правительства. Вернадский вспомнил о совете Молотова — писать его заместителю о всем, что понадобится для работ по урану. Так появилась новая докладная, ее подписали уже не двое, а трое — к Вернадскому и Хлопину присоединился А. Е. Ферсман, вернувшийся недавно из очередной дальней поездки для осмотра ураноперспективных уголков страны. В этой докладной на имя заместителя Председателя Совнаркома СССР, датированной 12 июля 1940 года, трое академиков повторяли мысли первой записки, лишь меняли способ выражения. Указывая, «что если вопрос о техническом использовании внутриатомной энергии будет решен в положительном смысле, то это должно в корне изменить всю прикладную энергетику», они обращали внимание правительства на то, что «важность этого вопроса вполне сознается за границей, и по поступающим оттуда сведениям в Соединенных Штатах Америки и Германии лихорадочно ведутся работы, стремящиеся разрешить этот вопрос, и на эти работы ассигнуются крупные средства».
В завершение академики писали:
«Мы полагаем, что уже сейчас настало время, чтобы правительство, учитывая важность решения вопроса о техническом использовании внутриатомной энергии, приняло ряд мер, которые обеспечили бы Советскому Союзу возможность не отстать в разрешении этого вопроса от зарубежных стран».
А конкретные просьбы были все те же — строить установку для разделения изотопов урана, форсировать строительство циклотронов, еще добавилось предложение создать государственный фонд урана...
— Согласие правительства вне сомнения, — с удовлетворением резюмировал Вернадский. — Теперь дело за нами. Как будем двигаться, Виталий Григорьевич?
— Вероятно, не очень все-таки быстро, зато основательно, — ответил Хлопин, улыбаясь.
Вероятно, так бы и шло, как он наметил, — не очень быстро, зато очень основательно. Но в ход событий вмешались непредвиденные противоположно действующие факторы, и каждый оказал свое влияние.
Самым важным, огромным по своему значению фактором стала начавшаяся через год война с Германией — она сделала невозможным претворение в жизнь любых крупных проектов, не работающих непосредственно на оборону.
12
Это было странное состояние, он впервые его испытывал — почти истерическое желание все ускорять, всюду подстегивать. Он одергивал себя, не позволял жажде действия проявиться резким поступком. Он старался быть тем, кем всегда был, — очень энергичным и не очень торопливым. Но исходившее от него невидимое излучение тревоги и нетерпения заражало сотрудников, он активировал их своим внутренним напряжением.
Новая работа Зельдовича и Харитона, появившаяся в печати летом 1940 года, еще усилила у Курчатова чувство нетерпения. Школа Семенова, глубже всех в мире исследовавшая цепные реакции, снова показывала свои достоинства. До сих пор развал ядер урана исследовался больше качественно, чем количественно. Точной теории цепного процесса не существовало. Зельдович с Харитоном создавали теперь такую теорию. Они строили кинетику цепного процесса для случая неконтролируемого взрыва куска урана, когда, например, быстро сближаются два докритических по объему куска урана, и для случая процесса контролируемого, использующего замедлители нейтронов.
Авторы анализировали сложнейший вопрос — приближение массы урана к тому критическому объему, когда становится возможной реакция с разветвляющимися цепями, типичная цепная реакция. И приходили к выводу, что в этот момент даже очень слабые посторонние факторы начинают мощно влиять на процесс, то гася, то ускоряя реакцию. Впервые привлекая к количественному расчету нейтроны, которые вырываются из разваливающегося ядра не мгновенно, а с небольшой задержкой, авторы показывали, что эти запаздывающие нейтроны, хотя их и очень мало, существенно помогают регулировке процесса на медленных нейтронах. И снова, как и в недавнем докладе Харитона, звучала в подтексте статьи важнейшая идея: взрыв, процесс на быстрых нейтронах, осуществить возможно, но придется преодолеть множество трудностей, а главное, надежно контролируемое выделение энергии в «атомном котле» вполне реально — и поэтому «можно ожидать в ближайшее время попыток осуществления процесса».
Именно о такой «попытке осуществления процесса» в реальном атомном котле и мечтал сейчас Курчатов, на это и нацеливал своих сотрудников. Но все средства, которые были в их распоряжении, и отдаленно не отвечали тому, что практически требовалось.
Он размышлял — нажимать на Иоффе? Что мог дать нажим? Возможности директора института ограничены. Да и не захочет Абрам Федорович обирать все лаборатории, ради того чтобы одна — ядерная — безмерно разрослась Он поощряет урановые исследования, но думает не только о них. И Иоффе не верит, что выход в практику будет скорым. Он как-то обронил фразу: «Атомную проблему решит только третье поколение ученых». И не докажешь, что решение, возможно, совершится завтра! Курчатов терялся, не зная, что предпринять.
В начале июля 1940 года директор Физтеха уехал в Москву на заседание Президиума Академии наук. Он привез из столицы радостные вести. Владимир Иванович Вернадский внес в Академию наук представление об использовании внутриатомной энергии урана. Докладывал он сам — и Президиум отнесся к его инициативе очень благожелательно.
Курчатов слушал восхищенный, немного даже растроганный. Один из старейших ученых страны, глубокий мыслитель в науке, неутомимый организатор, всегда чутко улавливая важные перемены в науке, всегда горячо откликался на трудные вопросы, возникавшие в ней. Он не изменил себе и сейчас!
И Курчатов с надеждой думал о том, что раз Вернадский, с его широким пониманием науки, привлекал внимание Академии наук к урановой проблеме, то это надежная гарантия, что вскоре предстоит внушительное расширение масштабов исследований ядра. К тому же Физтех перешел наконец в систему академии и уже поэтому не мог не получить дополнительные ассигнования на темы, еще недавно полунедоброжелательно обзываемые «чистой наукой».
Еще через две недели Курчатов из нового постановления Президиума Академии наук «О мероприятиях по дальнейшему использованию внутриатомной энергии урана» узнал, что при Президиуме организована специальная Комиссия по проблемам урана под председательством О. Г. Хлопина с тремя заместителями: В. И. Вернадским, А. Ф. Иоффе, А. Е. Ферсманом. Среди членов комиссии Курчатов нашел и себя с Харитоном, Лейпунским, Алхазовым и Гуревичем. Он недоуменно пожимал плечами. В постановлении не было конкретной тематики исследовательских работ, не сообщалось, какие выделяют ассигнования.
— Абрам Федорович, вы заместитель председателя урановой комиссии, — сказал он Иоффе. — Скажите, чем конкретно она будет заниматься? Как сможет помочь нашим работам?
— Вы тоже член урановой комиссии, — возразил директор Физтеха. — Мне думается, именно вам и нужно разработать конкретный план работ по урану, охватывающий не только наш институт, но и другие. А комиссия его утвердит. Если согласится...
Слово «если» прозвучало многозначительно. Курчатов посовещался с помощниками. Руководящая роль Хлопина в комиссии гарантировала, что радиохимии урана будет оказана хорошая поддержка. Без радиохимиков идти дальше немыслимо. Но радиохимических исследований недостаточно. Упор сегодня нужно делать на физику, завтра — искать инженерных решений. Курчатов не был уверен, что все члены урановой комиссии понимают ситуацию так же ясно, как он с помощниками.
— Составляем для академиков план урановых работ, — настаивали помощники. — Исчерпывающе им разъяснить, что речь не просто о важной научной проблеме, а о непосредственной разработке фундамента новой техники. Чего вы колеблетесь, Игорь Васильевич?
Курчатов колебался недолго. В конце концов, речь шла уже не о приоритете славы — кто назовет своим именем новое явление, а о приоритете государственной мощи — какая страна раньше использует в промышленности научные исследования.
— Ладно, пишем, — сказал он.
Сегодня, когда мы знаем, как развивались урановые исследования в нашей стране, представляет большой исторический интерес вопрос, известно ли было Курчатову о плане работ по урану, составленном Хлопиным. Точного ответа нет. Ни в высказываниях Курчатова, сохранившихся в памяти его помощников, ни в подписанных им бумагах нет намека, что его ознакомили с этим планом. Можно с большой вероятностью допустить, что он его не читал. Сам этот документ до обсуждения в урановой комиссии, до утверждения Президиума Академии наук вряд ли мог пойти во всеобщее ознакомление. А позже Курчатов выступил с собственной программой — и «танец пошел от этой печки»: не стало нужды знакомить его с тем, что планировали другие относительно его собственной работы.
Можно, конечно, допустить, что он слышал о разработке такого плана: это мог узнать от Вернадского Иоффе, об этом мог сказать Иоффе и сам Хлопин во время одной из «заседательских встреч» в академии: Иоффе был заместителем Хлопина по урановой комиссии, его нужно было информировать о всех начинаниях в этой области. И Иоффе, нет сомнений, передал бы Курчатову все, что сам узнал.
Как бы там ни было, Курчатов разработал свою программу работ по урану. Она не так детальна, не так конкретна, как хлопинская, в ней нет перечисления мелких тем, хотя во всех основных пунктах повторяется то, что уже наметил Хлопин. Зато она идет дальше, открыто ставит цель, подчиняющую себе все остальное, — практически осуществить цепную реакцию деления ядер урана. В виду большого исторического значения этой программы, ниже приводятся ее основные пункты.
29 августа 1940 года в Президиум Академии наук на имя ее непременного секретаря П. А. Светлова ушло письмо, подписанное четырьмя физиками. В этом письме, озаглавленном «Об использовании энергии деления урана в цепной реакции», авторы писали:
«Исследования последних двух лет открыли принципиальную возможность использования внутриатомной энергии путем осуществления цепной реакций деления урана».
Оговорившись, что многие необходимые количественные данные пока отсутствуют и нужно расширить исследования, чтобы накопить эти данные, авторы продолжали:
«По нашему мнению, программа работ на ближайшее время должна заключаться в следующем:
1. Определение условий разветвления цепи в массе металлического урана.
Эта задача может быть решена в ЛФТИ при помощи установки Винн-Вильямса научным сотрудником Г. Н. Флеровым при условии предоставления институту чистого металлического урана (98–99 % чистоты) в количестве до 1 кг. Этот уран срочно должен быть изготовлен в одном из химических институтов АН СССР.
2. Выяснение влияния нейтронов, возникших при расщеплении урана с атомным весом 238, на ход цепной реакции в смеси урана и воды.
Эта задача может быть решена профессорами Ю. Б. Харитоном и Я. Б. Зельдовичем (ЛИХФ).
В результате подсчетов с применением данных по пункту 1 может возникнуть необходимость постановки опытов со смесью металлического урана в количестве до 300 кг с водой. Естественно, что в этом случае возникнет необходимость организации специального производства металлического урана.
3. Выяснение величины эффективных поперечных сечений для захвата медленных нейтронов тяжелым водородом, гелием, углеродом, кислородом и другими легкими элементами.
Эта задача ввиду ее актуальности для осуществления цепной реакции и трудности измерения и методики должна решаться независимо в ряде институтов и может быть поручена научному сотруднику Л. Русинову (ЛФТИ), академику А. Лейпунскому (УФТИ) и научному сотруднику И. Гуревичу (РИАН).
4. Выяснение условий осуществления цепной реакции в смеси уран-тяжелая вода.
Эта задача должна быть поручена проф. Ю. Б. Харитону и Я. Б. Зельдовичу, результаты расчета которых должны содержать ответ на вопрос о количестве воды и урана, необходимых для самопроизвольно идущей цепной реакции, и на вопрос о том, какие количества тяжелой воды и урана необходимы для экспериментального наблюдения начала развития цепи.
5. Выяснение вопроса о получении тяжелой воды в больших количествах.
Ориентировочные расчеты показывают, что необходимое количество тяжелой воды для цепной реакций составляет величину в несколько тонн. В связи с высокой стоимостью этого количества тяжелой воды (порядка десяти миллионов рублей) необходимо произвести технико-экономическую оценку вопроса о производстве тяжелой воды в большом количестве у нас в Союзе.
Эта оценка могла бы быть произведена акад. Бродским.
6. Обогащение урана изотопом с атомным весом 235.
Решение этой задачи потребует постановки ряда исследований, в первую очередь в небольших масштабах, по разделению изотопов различными методами. Вопрос о месте проведения этих работ должен быть решен в физических и химических отделениях Академии наук СССР.
Мы считаем необходимым:
1. Созвать в конце сентября 1940 года специальное совещание при Президиуме Академии наук, посвященное проблемам урана.
2. Создать при Академии наук СССР фонд урана в количестве нескольких тонн для опытов по цепной реакции».
Письмо подписали четыре физика: проф-доктор И. В. Курчатов, проф-доктор Ю. Б. Харитон, ст. науч. сотр. Л. И. Русинов, науч. сотр. Г. Н. Флеров.
...Мы теперь знаем то, чего не могли знать авторы письма П. А. Светлову, когда подписывали его. В других странах уже интенсивно шли работы по овладению урановой энергией. Крупнейшие физики — экспериментаторы и теоретики — Энрико Ферми, Лео Силард, Артур Комптон, Джеймс Чадвик, Роберт Оппенгеймер, Эдуард Теллер, Отто Фриш, Виктор Вайскопф, Роберт Пайерлс в Америке и Англии; Вернер Гейзенберг, Вальтер Боте, Пауль Хартек, Карл-Фридрих Вайцзеккер, Отто Ган, Фриц Хоутерманс, появившийся снова в Германии, — все эти выдающиеся ученые экспериментировали, рассчитывали урановые котлы, создавали предпосылки для ядерного оружия. Мы можем сейчас объективно сравнить программы их работ с программой Курчатова и его помощников. И, сравнивая их, должны подчеркнуть два момента.
По пониманию того, какие пути ведут к овладению урановой энергией, по полноте частных задач, без решения которых нельзя решить задачу главную, создание уранового реактора, программа Курчатова — как, впрочем, и составленная на два месяца раньше программа Хлопина — не уступала уже осуществляемым на Западе, а кое в чем и превосходила их. Так, немцы выбрали в качестве замедлителя нейтронов только тяжелую воду, что, как мы нынче знаем, очень задержало выполнение их программ, а американцы, отвергнув тяжелую воду, обратились к углероду — Курчатов же намеревался исследовать все практически годные замедлители, в том числе и тяжелую воду, и углерод.
И второе, главное. Программа Курчатова (как и Хлопина) дышит миром, в ней нет акцента на военную сторону проблемы, хотя авторы письма отлично знали о военной стороне, которая в Америке вскоре стала сутью программы, зловещей ее душой. Курчатов с помощниками верят в мудрость человечества, не сомневаются, что создание сверхистребительного оружия антиморально, — и намека нет, что они предлагают заняться урановой бомбой.
Если бы программа Курчатова была осуществлена с запланированным размахом, первый атомный реактор заработал бы у нас гораздо раньше. Франция в дни, когда писалось письмо, лежала под пятой гитлеровских солдат, в ней прекратились ядерные исследования, с такой интенсивностью проводившиеся еще недавно: перед вторжением немцев Жолио выкладывал экспериментальный урановый котел, рассчитанный Френсисом Перреном. И можно считать обоснованным, говорят сейчас на Западе историки науки, что если бы не война, то первые реакторы для производства ядерной энергии были бы пущены во Франции и Советском Союзе.
А Курчатов испытывал удовлетворение. Он наметил грандиозную программу. В технике назревал переворот. Наука подошла к вратам царства внутриядерной энергии. Ворота пока глухо затворены, но уже создан волшебный ключ, отпирающий их. Навалиться, покрепче толкнуть. «Толкните — и отворится!» — повторял он про себя древнее изречение Он крепко толкнул. Не может быть, чтобы дверь не отворилась!
13
Письмо четырех физиков ушло в Москву. Непременный секретарь Академии наук передал его — по принадлежности — председателю Комиссии по проблемам урана.
У нас нет документов, показывающих, с каким чувством Хлопин читал письмо Курчатова и его помощников. Но зная, что произошло потом, можно это чувство правдоподобно восконструировать. Вероятно, его удивило, может быть, даже обидело, что авторы обратились непосредственно в Президиум, игнорируя специально для этих проблем созданную урановую комиссию, членами которой двое из них состояли. И он, конечно, сразу же определил сходства и расхождения своего плана и программы Курчатова. Оба они обсуждали одну проблему, ставили одни и те же вопросы, предполагали получение одних и тех же ответов. И Хлопин не мог не заметить, что собственный его план тщательней разрабатывал круг конкретных тем, требующих изучения, привлекал гораздо больше научно-исследовательских учреждений, гораздо больше специалистов. Его программа была шире и комплексней, она создавала надежную основу для последующей конструктивной работы. Ибо она была программой предварительной, программой изучения, а не свершения, всесторонне исполненных научных оценок, а не разработкой производственных конструкций.
И Хлопин, несомненно, сразу увидел, что Курчатов, хоть и наметил меньше конкретных вопросов, в главных идет гораздо дальше того, что планировали они с Вернадским. Уже разница в названиях показывала неодинаковость намерений. С одной стороны, скромный «План по проблеме урана на 1940–1941 гг.», с другой — категорически звучащее: «Об использовании энергии деления урана в цепной реакции». Сдержанность, нечто, старательно расписанное по годам с учетом возможностей каждого года, — и напористость, почти нежелание считаться со сроками, с реальностью дня. Предварительное выяснение сторон и пунктов было и здесь, но все поглощалось жаждой скорого конечного успеха. В этом было решающее различие — Хлопин хотел вдумчивого изучения, Курчатов нетерпеливо требовал осуществления; один концентрировался на уяснении, другой — на создании! Различие было прикрыто одинаково звучащими терминами, невнимательный взгляд мог бы и не заметить его, но Хлопин не принадлежал к числу тех, о которых говорят, что они невнимательны.
И со все нарастающим удивлением он повторял про себя требования Курчатова. Ну, один килограмм чистого металлического урана для Флерова еще можно было бы закупить на валюту, у нас в стране его нет. Но ведь тут же — дайте еще 300 кг этого высокочистого металлического урана! А для того, ни много ни мало, как срочно создать заводское производство урана! На чем его создавать? Где соответствующая рудная база? Или и руду закупать за границей? И дальше предупреждение — нужна также тяжелая вода, несколько тонн, не граммы! Да во всем мире нет и тонны тяжелой воды! Какой-то остряк скорбно пошутил: «У нас тяжелой воды добудут граммы, а после пишут о ней килограммы статей». Где взять эту тяжелую воду? Кто дал бы валюту на покупку, если бы вода была? Научно программа Курчатова обоснована, этого никто не смог бы отрицать, но она забегала за возможности сегодняшнего дня, это становилось для Хлопина все ясней.
— Фантастика! — сердито шептал он про себя.
Вернадскому и Светлову он высказал свои впечатления сдержанно, но определенно. Непременный секретарь спросил, не следует ли обсудить записку четырех физиков на Комиссии по проблемам урана.
— Нет, — сухо возразил Хлопин. — Она адресована Президиуму академии, значит, на Президиуме ее и обсуждать. Вряд ли решение урановой комиссии будет достаточно авторитетно для авторов записки.
Вскоре Курчатова вызвали в Москву. Физики поехали целой бригадой из Физтеха — каждый из сотрудников представлял собой особую тему исследований и аппаратур: вопросы будут задавать разные, надо на каждый отвечать компетентно и исчерпывающе.
Курчатов не скрыл удивления, когда увидел, что их собираются слушать почти исключительно химики и геологи. Он не дал разрастись чувству разочарования. Первый шаг в настоящем решении проблемы, несомненно, начинается с добычи и переработки урановых руд, без геологов и химиков не обойтись. А что не пригласили металлургов, механиков, строителей — что же, это уже следующий шаг, с ним, видимо, решили повременить. Его, Курчатова, задача — доказать, что медлить со следующим шагом недопустимо!
Молодые физики не отрывали глаз от знаменитых ученых, восседавших перед ними. Ферсман шумно дышал, он опирался на палку, казалось невероятным, что этот тучный человек обошел пешком все глухие уголки страны и еще продолжает принимать участие в экспедициях, тяжелых и для молодых. Землепроходец Обручев, статный старик, геолог и писатель, что-то усердно чертил на листе бумаги, это, видимо, помогало слушать. Рядом с ними поблескивал очками узколицый и — странно для узколицего — крутоскулый Хлопин.
Всех больше поражал старик в центре. Он был невысок, худощав, тонколиц, с каким-то благородством в чертах и движениях и в странной одежде: распахнутый сюртук — мода прошлого века — открывал на жилете массивную железную цепочку.
— Владимир Иванович Вернадский, — прошептал Курчатов соседям. — А цепочка выкована из кандальной цепи в память о погибшем друге, ноги которого она сковывала на царской каторге.
Физиков настраивало на радостный лад уже одно то, что в зале присутствует Вернадский, создатель урановой комиссии, глубже всех ученых старшего поколения понимавший революцию, какую несет изучение атома. Такой человек не мог не поддержать их, не посочувствовать их желаниям. И он к тому же слушал удивительно хорошо — кивал там, где нужно было подчеркнуть важность наблюдения, с лица не сходило выражение доброжелательности.
А Курчатов, докладывая о проекте работ по ядру, все сильней ощущал, что большинству слушателей не передается его томление по крупному масштабу исследований. Он ограничил себя в формулировках. Здесь, среди виднейших мастеров науки, каждое слово обретало свое первозданно сильное значение; надо спокойно излагать факты, не вкладывая в рот готовые оценки, — оценки сделают они сами.
И еще не закончив, он понял, что мало кого зажег своим горением. Молодой доктор увлекается, в физике, неоспоримо, произошли события большой важности, но нужно же отделять газетную шумиху, часто сопровождающую великие открытия, от реального значения открытий, — говорили ему замкнутые лица слушателей.
В перерыве Курчатова ласково взял под руку Владимир Леонтьевич Комаров.
— Не преувеличиваете? — спросил президент академии. — У вас получается, что надо все усилия сосредоточить на урановой проблеме, направить сюда и людей, и ассигнования! А как быть с другими науками и проблемами? Ужать их? Вместо развития предложить им деградацию? Вот Владимир Иванович... Он всей душой за вас. А сядем считать финансы — как и мы, разведет руками... Одной валюты сколько для вас потребуется! Бюджет академии уже определен — и на всю пятилетку, до сорок третьего года! У нас ведь плановое хозяйство, товарищ Курчатов. Да, да, и наука — плановая.
Курчатов почти с отчаянием смотрел на президента. Именно этого Курчатов и жаждал — чтобы основные силы и основные средства направили в урановые дела, слишком уж важными и срочными они были, тут уравниловка с другими отраслями науки не годилась. Он надеялся, что академики поймут реальную важность уранового проекта. А им, очевидно, показалось, что он, ныне работник академии, а не Наркомтяжпрома, вводит свой устав в чужой монастырь, стремится захватить власть, превратив свои исследования в главную тему академии. Ему хотелось запальчиво крикнуть: да нет же, нет, не хочу я власти, поставьте надо мной кого вам угодно, только давайте работать по-новому! Говорить так он не мог. Это прозвучало бы вызывающе грубо.
— Конечно, выделим дополнительные средства! — с суховатой любезностью пообещал Комаров. — Но не за счет ущемления других отраслей. Для того и создали Комиссию по проблемам урана, чтобы она определила реальный план работ. Мне кажется, почти все предложенные вами к выполнению исследования носят поисковый характер. Разве не так? У нас традиция — основные средства вкладывать в темы, результат которых близок и важен для страны. Никто не разрешит такие, идущие к завершению, работы свернуть. Впрочем, послушаем, как пойдет обсуждение.
Обсуждение шло без «фантазий», как высказался один из ораторов. Научные доклады приняли хорошо — Русинов был доволен, Флеров с Петржаком счастливы. Вернадский советовал создать государственный фонд урана и других радиоактивных и делящихся элементов. Он попросил ускорить замедлившееся строительство большого циклотрона в Физтехе, приступить к проектированию третьего в Москве, подумать, где и какие сконструировать установки для разделения легких и тяжелых ядер урана. Он говорил о том же, о чем недавно писал в двух записках, и радовался, что его начинание так полно совпадает с желаниями специалистов-ядерщиков. Курчатов поблагодарил величавого старца за поддержку. Благодаря от души, он почти с болью в душе ощущал, что это все-таки не та поддержка, какая нужна. В международном лихорадочном беге экспериментов начался новый этап. Его не афишировали, его угадывали. В Президиуме академии новой ситуации не угадали. Кто будет первым? Не синоним ли это совсем иной формулы — кто кого?
В поезде, лежа без сна на койке, он возобновлял в памяти картину обсуждений и думал об уже совершенных и еще предстоящих открытиях, о своей лаборатории и о самом себе. Нет, как странно к нему относятся, какое противоречие в оценках! Одни поеживаются от его напористости, от его энергии, считают, что он захватывает много власти, негодуют, что он всех под себя подминает, и всюду твердят — или про себя ворчат, — что науке чужда торопливость: спешка, шумиха, нажим — это же кампания, а не наука! Так ли уж они неправы? А другие с удивлением открывают, что он не ставит свою фамилию на работах, соавтором которых является, уступает собрату честь важного доклада, равнодушен к знакам внешнего признания. В прошлом году оба они — Алиханов и он — были выдвинуты в членкоры академии: Алиханова выбрали, Курчатова забаллотировали. Сам Алиханов был смущен, сотрудники расстроены. Курчатов спокойно пережил неудачу. Отсутствие честолюбия? Отношение к жизни мудреца, а не физика? Лейпунский видит в нем непроявившегося политика. А он знает: случилось так, что дорогая его сердцу наука становится важным элементом политики. Значит, если он хочет остаться настоящим ученым, он должен стать умным политиком. Сегодня не уйти от ответственности гражданина!
Курчатов пришел к Иоффе.
— Надо созвать очередную конференцию по атомному ядру, Абрам Федорович. Результатов, требующих обсуждения, накопилось множество. Лучшее место для конференции — Москва.
Иоффе спросил:
— А кому поручим основной доклад? Алиханову, Лейпунскому или кому из москвичей?
— Основной доклад хочу делать я. Это важно...
Иоффе молча наклонил голову. Он ждал, что Курчатов встанет и поблагодарит. Курчатов сидел. Иоффе с удивлением сказал:
— Что-нибудь еще, Игорь Васильевич?
— Да. Нужно уточнить взаимоотношения, Абрам Федорович. Я имею в виду вашу статью «Технические задачи советской физики и их разрешение». Там есть фраза...
— Я помню фразу, о которой вы говорите, — спокойно сказал Иоффе. — Вы хотите знать, придерживаюсь ли я прежнего мнения?
— Именно это я и хотел спросить!
В конце прошлого года Иоффе написал статью для «Вестника Академии наук» и начал раздел «Атомное ядро» утверждением: «Этот передовой участок современной физики наиболее удален еще от практики сегодняшнего дня». И завершил: «В феврале 1939 года в неожиданной форме возродилась проблема использования внутриядерной энергии, до сих пор не преступавшая рамок фантастических романов. Анализ этого явления, проведенный советскими физиками, установил условия, при которой эта задача могла бы стать осуществимой. Трудно сказать, возможны ли эти условия на практике — на решение этого вопроса направлено наше исследование. Скорее всего, что на этот раз технических выходов не будет».
— Объясню, почему я остерегался говорить о выходах в технику, Игорь Васильевич. Нас столько упрекали за оторванность от практики... Опять посыпалось бы: обещают, обещают, а где практические результаты? Лучше уж оградиться — немедленного технического переворота не ждите...
— С тех пор прошел почти год, Абрам Федорович!
— Да, еще год ушел, совершено много открытий, среди них и открытия советских физиков. Перспективы огромные, освобождение атомной энергии не за горами. Но где — не за горами? Рядом? На расстоянии в год? Или в десять лет? Я верю в революцию в технике, подготавливаемую вашими работами. Но что она разразится через год — не верю. Срок надо, видимо, указать более дальний. Вероятно, целое поколение ученых...
— А я буду доказывать в докладе, что переворота не произойдет и за два поколения, если сохранится нынешний темп исследований! Нужно революционное изменение стиля работы, чтобы стала возможной революция в технике.
— Поверьте, я буду рад, если окажетесь правы вы, а не я. Обо мне говорят, что я фантазер. Но мне скоро шестьдесят лет. Это все же возраст скепсиса...
Курчатов засмеялся. Иоффе был не просто фантазер — настоящий фантаст! И он обладал воистину государственным умом: Иоффе мог пожертвовать собственным успехом, с радостью отдавал самых способных сотрудников, если так было лучше для развития науки. И он безошибочно угадывал все перспективное в науке, когда оно еще было в зародыше. Курчатов крепко встряхнул руку учителя. А у Иоффе вдруг стало нехорошо на душе. Еще не было случая, чтобы он и Курчатов разошлись во мнениях. Он мог бы попенять Курчатову, что тот чрезмерно увлекается, так можно потерять и реальную почву под ногами. Но Иоффе спросил себя: а не стал ли сам он отставать? Возможно, он ошибается и «атомный век» ближе, чем ему кажется?
14
Новых открытий не произошло, новые настроения давали о себе знать. Сперва намеками, затем все определенней за рубежом заговаривали об атомной взрывчатке. Появился и зловещий термин «атомная бомба».
«Нью-Йорк таймс», влиятельнейшая газета Америки, напечатала 5 мая 1940 года статью своего научного обозревателя У. Лоуренса. Уже на первой полосе читателя оглушали крупные заголовки: «Источник атомной энергии огромной мощи открыт наукой», «Обнаружена разновидность урана, обладающая энергией в 5 миллионов раз больше угля», «Ученым приказано посвятить все время исследованиям», «Потрясающая взрывчатая сила». Журналист расписывал разрушительное действие гипотетической урановой бомбы. «Германия стремится к этому», — жирным шрифтом предупреждал автор. Атомное оружие поставлено в повестку дня, скоро оно появится на вооружении армий великих держав, — с воодушевлением предсказывал Лоуренс.
А через несколько месяцев, 7 сентября, тот же Лоуренс в газете «Сатерди Ивнинг пост» напечатал статью «Атом сдается», где еще настойчивее расписывал мощь урановой взрывчатки, еще убежденней доказывал, что близится поворот в методах войны.
Еще никто и предугадать не мог, что не дальше как через год военная цензура США изымет изо всех библиотек газеты со статьей У. Лоуренса и устроит слежку за теми, кто будет их спрашивать, и что саму статью засекретят, даже автор ее потеряет право хранить у себя свое творение. Но и не зная этого, можно было ясно увидеть, на что ориентируют американских физиков. Лоуренс не сообщал новых фактов по физике деления урана. Зато он не оставил сомнения в том, что американские ученые приступают к разработке уранового оружия. Даже название это — «атомная бомба» — звучало в его статье как нечто общеупотребительное среди физиков. Для характеристики энергии, скрытой в уране, бралась взрывчатка авиабомб и снарядов. «В одном фунте урана-235 содержится столько же энергии, сколько в 15 тысячах тонн тротила!» — с восторгом восклицал научный обозреватель «Нью-Йорк таймс». Военные по достоинству оценили его увлечение: ему, единственному из представителей прессы, разрешили через пять лет вылететь на остров Тиниан — полюбоваться, как американские летчики грузят на самолет бомбу, которая должна за несколько секунд уничтожить почти 200 тысяч человек в Хиросиме.
Зловещие откровения американского журналиста лишний раз показали Курчатову, что он прав в своем стремлении всех подталкивать, все работы ускорять. И он еще сильнее ощущал, насколько аппаратурное богатство американских институтов превосходит то, что он сегодня имеет в своем распоряжении.
«Довлеет дневи злоба его», — говорил он себе, отправляясь проталкивать очередной заказ для циклотрона — строительство возобновилось, но шло далеко не так быстро, как до военных действий с финнами. Отложенные было мирные заказы снова принимались, но не было прежней возможности выполнить их поскорее.
Горе было, однако, не в том, что на всякий день хватало забот, а в том, что каждодневная эта «злоба» была мелка сравнительно с величиной задач, какие он ставил себе. Неудовлетворенное желание порождало беспокойство, беспокойство превратилось в тревогу.
Курчатов готовился к новому всесоюзному совещанию по ядру. Сотрудники отметили в нем неожиданную черту — он стал рассеянным, отвечал невпопад. Но еще никогда он не был таким собранным. Он готовился не просто к докладу — к схватке. Доклад был строго научным. И должен был стать агитационным.
Внешне это проявилось очень странно. Кое-кому стало казаться, что Курчатов после доклада в Академии потерял значительную долю своего прежнего увлечения. В Москве созывались заседания Комиссии по проблемам урана, на них приглашались физики, туда ездили и Лейпунский, и Харитон, и Алхазов, и Гуревич — Курчатов упорно не покидал своей лаборатории. Урановая комиссия расширяла деятельность, один за другим возвращались командированные из геологических экспедиций, сам Ферсман докладывал о результатах изучения уранорудных районов, другие геологи дополняли, результаты были скромные, они не могли обеспечить большого размаха — Курчатов выслушивал информацию об этих заседаниях почти безучастно, его, казалось, мало интересовало, что там ищут геологи. На одном из заседаний обсудили составленный Хлопиным план работ, поручили ему и Лейпунскому внести кое-какие изменения. Иоффе настойчиво потребовал срочного изыскания одного килограмма урана для Физтеха, посоветовал связаться для этого с академиком Чижевским в Институте прикладной химии, а если и тот не сумеет, выписать из Германии. Он сам потом рассказал об этом заседании Курчатову — тот одобрительно покивал головой, ему, по всему, нравилось, что в составлении плана работ по урану участвует Лейпунский: это гарантировало высокое научное качество плана, а перспектива получения наконец металлического урана просто радовала.
Не поехал он и на заседание Президиума Академии наук 15 октября 1940 года, где утверждался подготовленный урановой комиссией план работ. План был не его, другой, другие планы его не захватывали. На заседании приняли важные решения — ходатайствовать перед правительством о создании уранового фонда, организовать специальную постоянно действующую сырьевую комиссию под председательством Ферсмана, закупить в текущем году 300 кг урановых солей, для чего выделить 225 тысяч рублей, а в будущем году довести их запас до 1,5 тонны, на что ассигновать 750 тысяч рублей, РИАНу дать дотацию на урановые работы — 74 тысячи и изыскать 970 тысяч этому же институту на достройку циклотронного помещения. Дело не стояло на месте, урановые исследования расширялись, для них создавалась прочная база. Курчатов равнодушно выслушивал сообщения из Москвы. Все это было не то, чего ему хотелось. Дело двигалось, конечно, но медленней, чем нужно. Именно это он и будет доказывать на пятом всесоюзном совещании по атомному ядру!
Всесоюзное совещание по атомному ядру собрало столько участников, сколько еще не было с первой конференции семь лет назад. На трибуну поднимались и уже известные, и молодые физики. Каждый говорил о своих работах, каждая работа была элементом всеобщего исследования — наступление на ядро шло сплошным фронтом. Сообщение о спонтанном распаде урана приняли так тепло, что Курчатов порадовался за своих молодых помощников. Конференция постановила выдвинуть их исследование на Сталинскую премию — проголосовали единогласно.
Когда Курчатов занял свое место на трибуне, зал был полон, в дверях и проходах стояли. Он начал с фактов. Новых теорий деления не появилось, новых экспериментальных данных накопилось множество. Установлено, что цепная реакция при делении ядер урана в принципе возможна. Центральная проблема сегодняшних исследований — как эту реакцию практически осуществить? Курчатов подробно описывал, что требуется и что имеется. Если взять уран, в два раза обогащенный легким изотопом, то цепная реакция в таком уране пойдет с обычной водой, но понадобилось бы с полтонны обогащенного урана, а во всех лабораториях мира вряд ли наберутся и микрограммы. Можно взять обычный уран, но тогда потребуется 15 тонн тяжелой воды. Во всем мире ее запасы вряд ли превышают полтонны. Можно воспользоваться не тяжелой водой, а другим замедлителем нейтронов — гелием, углеродом (в форме графита), кислородом, но точные характеристики их не выяснены. Таким образом, создание цепной реакции деления урана упирается в две трудности — разделение изотопов урана и накопление тяжелой воды. Трудности эти — технические, а не принципиальные. Для их преодоления понадобятся огромные средства, а не новые открытия в науке. И он уверен — средства эти можно и нужно изыскать!
Он чувствовал, что захватывает аудиторию. Даже неверующие поверили — так ему показалось с трибуны, так говорили ему и потом. В коридоре ходили радостно возбужденные люди. Вдруг наступил праздник — пахнуло ветром великих свершений. И строительство «атомных котлов» — реактора для получения атомной энергии — обрело сурово-четкие формы технической конструкции. Доказательства были точны, исчерпывающи — пришла пора превращать научные исследования в отрасль промышленности.
После перерыва слово попросил Хлопин. Он признал значительность доклада, но ему кажется, докладчик увлекся. О промышленном получении атомной энергии говорить рано. Некоторые молодые физики, в частности из учеников докладчика, так захвачены урановыми проектами, что ради них забывают о нуждах нынешнего дня. Докладчик доказывал, что если разделить изотопы урана — а дело это пока практически неосуществимое — или если накопить десятки тонн тяжелой воды вместо имеющихся десятка килограммов, то цепная реакция станет возможной. Но «возможна» и «реальна» — не равноценные понятия. Реальность цепной урановой реакции еще не установлена даже в лаборатории. К сожалению, надо признать: урановая энергетика — перспектива далекого будущего, это пока прекрасная мечта. Будем, конечно, исследовать и дальше деление урана, но не надо предаваться маниловщине, не надо отвлекать творческие умы и народные средства на нереальные прожекты. Время грозное, наша задача — помогать партии и народу осуществлять третью пятилетку, крепить реальную обороноспособность страны.
Он сошел с трибуны под мертвое молчание зала.
— Какой удар! — сказал Курчатову расстроенный Алиханов. — Вылил по ушату ледяной воды на каждое предложение, которое ты внес.
Курчатов старался сохранить на лице обычную свою улыбку, но теперь конференция потеряла для него интерес. Его спрашивали, он отвечал. С ним спорили, он соглашался или возражал. Все это уже не имело значения. Хлопин высказывал, конечно, не только свое мнение. Курчатов навязывал схватку на конференции, ему дали жестокий отпор. Ему строго указали, что он зарывается. Ровно месяц и одна неделя прошли с того дня, когда Президиум Академии наук утвердил план ядерных исследований, подготовленный Комиссией по проблемам урана. Вот этот план и будет осуществляться, а что сверх него, то фантастические мечтания! Так надо понимать отповедь Хлопина.
Вавилов подошел к Курчатову, дружески заглянул в глаза:
— Огорчены, Игорь Васильевич? Большие дела без сопротивления не делаются. И ведь, по существу, прав Хлопин — имеются более срочные сегодня для страны темы, их не отставить. В урановых исследованиях быстрого серьезного результата не достичь.
— Будет ли вообще серьезный результат? — с горечью поинтересовался Курчатов.
Вавилов ответил с убежденностью — будет! Только дорога не такая прямая, как рисует себе Курчатов. И не такая быстрая. Надо, прежде всего, создать мощную базу для исследований. Сколько лет в Ленинграде строится второй циклотрон? И каким будет, когда построят? Лучше европейских, но слабей американских! Вавилов получил разрешение правительства на строительство в Москве циклотрона с диаметром полюсов в три метра. Самая крупная в мире машина!
Курчатов молча выслушал рассказ о проекте крупнейшего в мире циклотрона. Вавилов продолжает настаивать на организации единого центра ядерных исследований. В сущности, он прав. И насколько проще было бы разворачивать крупнейшие работы с ураном, существуй уже такой специализированный институт. Он, Курчатов, совершил ошибку, когда протестовал против перемены места работы. Говорить об этом излишне. От Физтеха теперь не уйти.
— Бог вам в помощь, а я посочувствую, — сказал Курчатов.
Он постарался, чтобы и шутка звучала весело, и улыбка выглядела по-хорошему.
После конференции участники ее выступали с докладами о новостях в физике на разных заводах и в учреждениях. На одном таком собрании Курчатова спросили об атомной бомбе. В газетах о ней уже много пишут, а что за штука — неведомо. Возможна ли она вообще?
— Возможна, — сказал Курчатов. — И будет в десяток тысяч раз сильнее самой мощной сегодняшней бомбы.
— И что — недорого обойдется? — недоверчиво поинтересовался спрашивающий.
— Столько же, сколько нужно, чтобы построить еще один Волховстрой, если не больше.
— Лучше уж строить Волховстрой, а не бомбы! — откликнулся при общем одобрительном гуле спрашивающий.
Флеров выступил с докладом о спонтанном делении урана и цепной реакции в аудитории Московского университета, заполненной студентами и преподавателями. Его тоже спросили о статье Лоуренса и об атомной бомбе. Он ответил, что атомная бомба принципиально возможна, если разделить смесь двух изотопов урана — взрывчаткой может служить только легкий изотоп урана-235. На новый вопрос — есть ли достаточно урана-235 для создания атомной бомбы? — он ответил, что всего в мире извлечено из руды примерно тонн двести урана. Если пустить этот уран в переработку и принять степень извлечения легкого изотопа в 0,1 процента от его содержания в уране, то на атомную бомбу хватит с избытком.
В аудитории сидели двое мужчин средних лет, видимо, преподаватели университета.
— По облику — студент, а как рассуждает об атомной бомбе! — сказал один. — И автор крупного открытия. Интересно, Степан Афанасьевич?
— Интересно, — ответил второй. — И страшно! Он сказал, около двести тонн. А ведь руды урановые в мире есть — можно и тысячи тонн урана получить. И что это за извлечение — одна десятая процента? А если повысить извлечение легкого изотопа до одного процента? До десяти? Какой грозный арсенал станет возможен!
— Не повысите, — возразил первый. — Физики народ увлекающийся. Вы, химики, когда дело дойдет до производственной технологии, сумеете поставить фантазеров на реальную почву. К тому же пока не то что десяти процентов, а и одной миллионной процента не удается извлечь.
Флеров и подозревать не мог, что ответ на заданный ему вопрос и разговор двух слушателей по поводу его ответа в недалеком будущем сыграет важную роль в его жизни.
15
Только в кругу близких друзей Курчатов разрешал себе посетовать на неудачу. И все успокаивали его — неудачи, собственно, нет, скорее успех, ведь и ассигнований добавили, включая и валюту на закупку реактивов и приборов, и темы утвердили расширенные. Правда, замахивались на большее, но всегда хочешь побольше, а ножки протягиваешь по одежке. Так ему говорили, так и он сам порой говорил себе. Это было слабое утешение. Он часами сидел над иностранными журналами. Изучение урана за рубежом из журналов было видно как бы в тумане. Еще недавно исследования шли сплошным фронтом, теперь публиковались второстепенные работы. Что скрывалось за этим? Изжила себя научная сенсация? Потерян интерес к урану? Или ученые Запада вдруг стали равнодушны к приоритету, их перестали привлекать слава и почести?
Напрашивалось простое объяснение — работы засекречивались. Объяснение было неубедительно. Появление вызывающей статьи Лоуренса опровергало мысль о засекречивании. Но падение интереса к урану было явным. В «Физикл ревью» напечатали заметку Флерова и Петржака о спонтанном делении. Откликов на нее не появилось. Спонтанное деление не захватило американских ученых. Они публиковали пустяковые опыты. Они как бы потеряли вкус к большим открытиям. Крупнейшие ученые Америки, великие физики-эмигранты из Германии и Италии, еще недавно так деятельно исследовавшие уран, вдруг стали к нему равнодушны!
Курчатов не мог знать, что именно беглецы из фашистских стран Лео Силард, Виктор Вайскопф, Энрико Ферми, Эдвард Теллер, Юджин Вигнер добились того, что казалось немыслимым в Америке, — ввели самоцензуру на работы по урану и уговорили американских ученых ограничить свои публикации, чтобы важные открытия не стали достоянием фашистов в Европе. А что второстепенные работы продолжали публиковаться, даже помогало камуфляжу — исследования по урану идут, ничего важного нет. Вспыхнула сенсация — и сгорела!
Если кого и обманывало внешнее спокойствие Курчатова после ядерной конференции, то Иоффе к этим людям не принадлежал. Он понимал, что главный ядерщик его института расстроен и подавлен. Сам Иоффе нервничал и злился. У него с Хлопиным никогда не было близких отношений — слишком уж несхожие натуры! Но и ссор не было, а сейчас шло к открытой ссоре. Публичную отповедь Курчатову Иоффе воспринял как нападки на весь Физтех. И что Президиум академии основное значение в исследованиях ядра отводил Радиевому институту, и что туда направлялся самый значительный поток ассигнований, каждый мог расценить как умаление ядерщиков Физтеха — сам Иоффе, во всяком случае, именно так толковал события. Он не верил в скорое наступление атомного века, но по-прежнему отстаивал углубление ядерных исследований. Он готовился открыто высказать все это руководителю радиохимиков.
Удобный случай представился всего через неделю после окончания всесоюзной ядерной конференции. Хлопин созвал заседание урановой комиссии на 30 ноября 1940 года, послал приглашение и Иоффе, только что вернувшемуся в Ленинград, но приглашение опоздало — и Иоффе 2 декабря откликнулся резко и недружелюбно:
«Уважаемый Виталий Григорьевич! Сегодня я получил повестку с приглашением на 30-XI в Москву. Между тем задачи, поставленные в повестку, весьма ответственны, и нести ответственность за их решение я не могу.
Такое положение с урановой комиссией я считаю совершенно ненормальным и принужден буду заявить Президиуму об отказе от участия в ней.
Дело здесь не в формальных недочетах, а в существе дела.
Вопрос урана быстро развивается и видоизменяется, и совершенно необходимо, чтобы принимаемые комиссией решения учитывали все возможные факты. Между тем физики (Курчатов и др.) не участвуют в самых ответственных заседаниях, а остальные члены комиссии, и Вы в том числе, как показал опыт, недостаточно полно осведомлены о вновь возникающих возможностях и об устранении других, ставших мало надежными».
На ядерной конференции Иоффе не выступал, в полемику с Хлопиным не вступил, зато теперь показывал, как круто они разошлись во мнениях. Он знал, что слова о некомпетентности членов урановой комиссии глубоко обидят Хлопина, и хотел, чтобы тот обиделся. Радиохимик отверг требования физиков, как фантастические, руководитель физиков жаждал показать, что собственный план радиохимиков порочен. По тону письма начиналась крупная ссора, но то была не ссора, а попытка размежевать направления научных поисков. Иоффе показал это, сразу за сердитым вступлением перечислив свои конкретные требования — по металлическому урану и другим материалам.
Одного Иоффе достиг — Хлопин обиделся. Иоффе писал на своем директорском бланке, нервным, широким почерком, круто спадающими строчками — и отправил, не дав перепечатать на машинке, хотя и секретарь имелся, и машинка была. Хлопин отвечал на шести страницах ученической тетрадки, мелкими четкими строчками — только прыгающая вдруг по размеру буква да разная густота чернильного следа выдавали волнение и спешку. Письмо он отдал на машинку, оставил себе черновик. Он в первой же фразе холодно извещал: «Отвечаю по пунктам».
Что до заседания 30-XI, то оно все посвящено было разведке и переработке руд. Иоффе от таких заседаний, как неспециалист, всегда уклонялся — естественно, на него не возложат ответственности за принятые решения. Иоффе в своем письме снова требовал килограмма урана: изготовление металлического урана внесено в план на 1941 год, заказ послан. Хлопин может, если нужно, написать еще одну бумагу. А протактиния, которого в том же письме требует директор Физтеха, сам Хлопин просит дать ему с 1924 года — и пока безрезультатно. И только в конце, в пункте седьмом ответа, Хлопин разрешает себе коснуться главного предмета обиды: на всех ответственных заседаниях комиссии физики бывали. «...Вы сами, ак. С. И. Вавилов, ак. П. П. Лазарев, ак. А. И. Лейпунский, Ю. Б. Харитон и др. Что касается И. В. Курчатова, то он действительно по непонятной для меня причине ни на одном заседании комиссии не был, хотя приглашение на них, за исключением последнего, получал все время. В обсуждение формы вашего письма я не вхожу».
Иоффе показал Курчатову ответ Хлопина. Курчатов задумался, потом сказал:
— Все резонно, по-моему. Хлопин осуществляет разработанный им план. Что же, план солидный, очень полезный... Но ездить на заседания урановой комиссии по-прежнему не буду. У нас своя программа, будем работать над ней.
— Сможем ли мы осуществить ее без серьезной поддержки, Игорь Васильевич?
— Во всяком случае, сможем доказать, что серьезная поддержка срочно нужна.
Иоффе пожал плечами. Курчатов казался настроенным мирно. Вероятно, он прав — надо работать, а не препираться. Иоффе счел ответ Хлопина исчерпывающим и больше к предмету не возвращался.
В Физтехе продолжались эксперименты. Зельдович и Харитон вели свои теоретические изыскания. К ним присоединился Гуревич, оба автора сами пригласили работника Радиевого института «в свою фирму». В одном иностранном журнале появилась статья Рудольфа Пайерлса, показывающая, как рассчитывать критические массы делящегося материала. Решение давалось в общем виде в форме интегрального уравнения. Коллектив из трех теоретиков заинтересовался, как конкретизировать его в частном случае легкого изотопа урана, заведомо легко делящегося нейтронами материала. Такое вычисление логически бы завершало прежние расчеты двух физиков по кинетике цепной реакции взрывного типа. Общий ее характер был ими уже раскрыт — скорость ее, влияние побочных факторов на разветвление цепей. Но размер критической массы оценивался лишь качественно, а не количественно, интересно было определить и это. За рубежом столько кричали об атомной бомбе, что не мешало хоть для теоретического интереса узнать, сколько делящегося материала для нее потребуется.
Физики рассмотрели два случая: критическую массу чистого изотопа урана-235 с железным отражателем вырывающихся при реакции нейтронов и различные смеси легкого изотопа с водой. Как и ожидалось, «критмасса» в первом случае оказалась всего в несколько килограммов: гораздо важнее было не само количество урана, а то, что массу делящегося материала для ядерной взрывчатки можно сравнительно точно высчитать, исходя из уже известных экспериментальных констант. Во втором случае определялись критмассы для различных комбинаций урана и воды: впоследствии, когда стали практически работать над ядерным оружием, эти расчеты приобрели немалое практическое значение при определении и смеси урана и воды, и формы сосудов, в которых можно безопасно хранить уран. Работа, законченная перед самой войной, света не увидела, но Курчатов лишний раз убедился, что надо, надо всемерно форсировать исследования.
В это время центральные газеты опубликовали первый список лауреатов Сталинской премии — Флерова и Петржака среди награжденных не было. Иоффе сокрушенно разводил руками. Он публично заявил, что спонтанное деление — самое крупное открытие 1940 года, с его заявлением не посчитались. Не посчитались и с решением всесоюзного совещания по атомному ядру, выдвинувшего работу молодых физиков на премию. Курчатов по телефону соединился с Москвой. То, что он услышал в комитете по Сталинским премиям, заставило не так рассердиться, как задуматься.
— Вашу работу прорецензировали, ребята, — сказал он огорченным авторам. — Рецензент считает значение открытия преувеличенным нами. Основания: нет откликов в иностранных журналах, нет сообщения, что ваша работа в какой-то лаборатории воспроизведена. Это свидетельствует, полагает рецензент, что открытие спонтанного деления большого значения не имеет. — Курчатов помолчал. — Я спрашивал фамилию рецензента, мне отказались назвать. Вот все. Не падайте духом. Еще появятся отклики — и они будут благоприятными. Идите отдыхайте.
И Флеров, и Петржак и раньше с нетерпением перелистывали иностранные журналы в поисках новостей и откликов. Теперь, оскорбленные, они прочитывали каждую новую книжку от корки до корки и с огорчением убеждались, что о спонтанном делении западные физики стойко молчат.
— Надо что-то еще делать, — сказал как-то Курчатов брату. — За границей, по всему, к урану стали присматриваться военные. Столько шуму об атомной взрывчатке!
— Пиши в правительство, — посоветовал Борис Васильевич. — Если Академия наук поддерживает тебя, по нынешним временам, недостаточно, то в правительстве, уверен, по-иному воспримут шумиху на Западе.
О том, что надо писать новое письмо, Курчатов уже подумывал. Но отправлять его за прежними подписями он не решался. Что для Совета Народных Комиссаров имена мало известных докторов и кандидатов наук! Тут нужна фигура посолидней. Человек с именем, крупный научный авторитет.
На помощь физикам пришел Семенов. Академик, всемирно известный ученый, он был человеком, к мнению которого не могли не прислушаться. Последняя работа трех авторов — два были работниками его института — убедила его, что ядерщикам нужно срочно помочь: урановые исследования явно не получали размаха, какого сегодня заслуживали. Он написал письмо в правительство, оно ушло в Москву. Теперь оставалось набраться терпения и ждать. «Набраться терпения» означало «интенсивно работать». Только одно могло окончательно убедить сомневающихся опровергнуть неторопливых — реальная цепная реакция. Нет, не урановый «котел», вырабатывающий промышленную энергию, лишь лабораторная модель, показывающая, что «цепь» реальна.
К цели вели два пути: цепная реакция в натуральном уране с эффективным замедлителем нейтронов и обогащение натурального урана легким изотопом. Разрабатывать модель реактора с необогащенным ураном Курчатов поручил Флерову, конструирование обогатительной установки взял себе. Времена, когда он поощрял совмещение тем, сам с охотой «разветвлялся», прошли. Теперь каждый сосредоточивался на узкой теме.
В помощь Флерову Курчатов дал аспирантку Таню Никитинскую.
Лабораторная модель реактора, по мысли Курчатова, должна представлять собой сферу, сложенную из прессованной окиси урана. Никитинская так наловчилась прессовать тестообразную окись, что сборка и разборка сферы из высушенных кубиков много времени не занимала. Внутрь сферы вводилась стеклянная ампулка — источник нейтронов. Все та же ионизационная камера, сконструированная Флеровым и Петржаком, свидетельствовала о появившихся вторичных нейтронах. Цепная реакция в таком малом объеме не шла, но, меняя размер сферы, можно было прикинуть, какая нужна масса урана — «критический объем», чтобы появилась надежда на «цепь». Фильтры из алюминия, олова, железа, ртути, свинца давали возможность установить, как идет поглощение нейтронов в этих металлах. Работы из-за высокой чувствительности камеры снова перенесли на ночь. Флеров прибегал утром, не позавтракав, не причесавшись — Никитинская в дни острых опытов подозревала, что от спешки и не умывшись, — быстро знакомился с результатами ночной работы, быстро исправлял неполадки и на часок исчезал с восклицанием: «Приведу себя в порядок и перекушу!»
Если вначале аккуратную аспирантку и поражал дух нетерпения и увлеченности, то вскоре она сама заразилась им. Однажды, после такой же ночной работы, как у нее, Русинов, уверенный в успехе контрольных экспериментов, позвонил Курчатову, и тот примчался проверить сам. Оба шумно ликовали. А когда успокоились и Курчатов уселся за стол начинать дневную службу, вдруг обнаружилось то, чего ни он сам, ни Русинов, ни она, увлеченная их увлечением, вначале и не заметили: руководитель лаборатории пиджак и пальто надеть успел, но забыл облачиться в дневную рубашку! Сконфуженно посмеиваясь, высоко подняв воротник пиджака, Курчатов побежал домой «доодеваться».
Когда подошло время проверять, как ведет себя урановая сфера с замедлителем, Флеров предложил начать с углерода. Самая чистая форма углерода — алмаз. Алмазы недоступны. Но почему не попробовать сажу? Сажа — отличнейший вид углерода. Сажи он достанет сколько угодно!
Курчатов рассердился:
— Вы собираетесь превращать лабораторию в кочегарку, Георгий Николаевич? И думаете, что я разрешу? А не приходило вам в голову, что обычный электродный графит тоже модификация углерода?
Флерову приходило в голову много идей, среди них и мысль о графите. Графит — он его попробовал на скорую руку — от образца к образцу вел себя чудовищно по-разному. Жирноватую на ощупь сажу можно прессовать, Таня отлично изготовит сажевые кубики. Флеров подозревал, что руководитель лаборатории недооценивает углерод. В великолепном докладе на московском совещании он приписал углероду большое поглощение нейтронов. Правда, у немцев углерод вел себя много хуже тяжелой воды. Но кто сказал, что немцы не ошибаются? Еще как ошибаются!
Для разделения изотопов урана Курчатов решил использовать электромагнитную установку. Он пошел советоваться с Арцимовичем, а заодно и привлечь его к разделению изотопов урана электромагнитным способом — Арцимович крепко набил себе руку в конструировании различных электрических аппаратов. Арцимович начал, по обыкновению, с любимого словечка «нет!».
— Бред сивой кобылы! — объявил он презрительно. — Между прочим, я уже обдумывал это дело — ничего не выйдет! Ничтожная эффективность! Надо ионизировать уран — и выход ионов будет чрезмерно мал. К тому же массы изотопов так близки, что и большими электромагнитами их траектории в разделительной камере практически не раздвинуть.
Курчатов продолжал настаивать. Он пока не стремится к высокой эффективности разделения, это дело будущего. И больших количеств не надо, для экспериментов достаточно и микрограммов легкого изотопа, миллиграммов обогащенного уранового концентрата.
Арцимович заколебался. Задача была трудна, зато чертовски интересна. В конце концов он сдался:
— Ладно, Игорь, выделяй хорошего помощника — начну!
В помощники Курчатов выделил Игоря Панасюка. В январе 1941 года тот защитил диплом по спонтанному делению урана и тория — у тория спонтанности не обнаружили, — и Курчатов взял его к себе в аспиранты. Установку для электромагнитной сепарация смонтировали в кабинете Курчатова. В мае Курчатов передал Панасюку импортный металлический уран, 100 граммов черного порошка, вполне достаточное для первых опытов количество. А в июне уже наблюдали ионный пучок, образованный раскаленным ураном. Опыты по электромагнитному разделению изотопов урана начались.
...Ни Курчатов, ни Арцимович не знали, когда спорили о применимости электромагнитного метода для практического получения легкого изотопа урана, что точно такие же споры шли и в Соединенных Штатах. И что, как и Арцимович, авторитетные физики в Америке поначалу отвергли этот метод как неэффективный. И что только когда в Советском Союзе прекратились все ядерные исследования, а Ленинград уже находился в блокаде, американцы снова возвратились к этому вопросу. В официальном американском отчете «Атомная энергия для военных целей» написано: «На заседании Комитета по урану Смит (Принстон) поднял вопрос о возможном промышленном разделении изотопов электромагнитным способом, но ему возразили, что этот метод был исследован и признан неосуществимым». Несмотря на это, Смит и Лоуренс, случайно встретившись в октябре 1941 года, обсудили этот вопрос и пришли к выводу, что решение его все же возможно. А ровно через год начали строить гигантский завод в Ок-Ридже для разделения изотопов урана электромагнитным способом — именно этот завод и дал материал для бомбы, поразившей Хиросиму...
За стенами лаборатории интенсивно шло строительство циклотрона. Уже выросло двухэтажное здание, похожее на планетарий. В машинном зале установили генератор на 120 киловатт, монтировался второй генератор. В помещение свозилось оборудование, на «Электросиле» завершалось изготовление 75-тонного электромагнита — за этим следил Неменов, он же заканчивал конструирование камеры, которую рассчитал Яков Хургин. В помощь циклотронщикам Физтеха Курчатов привлек и Алхазова из Радиевого института. Алхазов накопил опыт на первом в Европе циклотроне — он готовился налаживать эксплуатацию.
Курчатов не сомневался: скоро его вызовут в Москву для доклада правительству. Он был спокоен — доклад выйдет убедительным.
16
Николай Николаевич Семенов 21 июня 1941 года праздновал награждение Сталинской премией. На торжественный вечер в Дом ученых в Лесном были приглашены сотрудники институтов Химфизики и Физтеха. Шумное застолье шло под речи и тосты, молодежь устроила танцы, сам виновник торжества лихо отплясывал гопака, одной рукой выводя в воздухе замысловатые фигуры, другой поправляя спадающую прядь волос — ее уже успели назвать «лысо-защитной». Курчатов, сидевший с Мариной Дмитриевной напротив Семенова, поздравил его не только с премией, но и с тем, что в наградном дипломе стоит № 1: все награжденные равны, но быть первым среди равных — особая честь!
...Ни сам он, ни другие присутствующие на банкете не могли, конечно, знать, что через шестнадцать лет правительство введет для ученых другую, самую высокую награду — Ленинскую премию — и что первым лауреатом Ленинской премии станет Курчатов и что его так же будут поздравлять друзья, в том числе и Семенов, и с самой премией, и с тем, что номер ее — первый! И еще меньше могли в тот вечер догадываться, что Семенов добавит к своим наградам и Нобелевскую премию, а его друзья и ученики, сегодня такие молодые и малоизвестные, станут потом знаменитостями, людьми, которыми гордится Родина.
Устав от яств, питья и танцев, гости разбились на оживленно беседующие группки. Зельдович рассказывал товарищам, что вчера долго гулял с Варей по пустынным улицам и в лесочке, была чудесная белая ночь. Вдруг они услышали грохот и скрежет, на дороге показалась колонна танков, танки двигались на запад. Какое тревожное время! Не к войне ли идут события? Рейнов услышал, что заговорили о войне, и громко запел: «Если завтра война», песню дружно подхватили. В зале загремело грозное предостережение агрессорам: «Если завтра война, если враг нападет, если черная сила нагрянет, — как один человек, весь советский народ за свободную Родину станет». Песня вселяла бодрость, тревога рассеивалась.
— Пора и честь знать, друзья, время к рассвету! — сказал кто-то под утро. Рассвета, впрочем, не было — белая ночь в воскресенье 22 июня была как-то по-особому проникновенно светла и тиха.
Кто жил подальше, тот шел к трамваю, он уже начал ходить. Над Ленинградом висело безоблачное сияющее небо. Курчатов достал из почтового ящика только что вложенные туда свежие газеты. Корреспондент «Правды» взял интервью у Неменова. Неменов описывал внушительный размер циклотрона, гарантировал пробные пуски во второй половине года, сдачу в эксплуатацию 1 января 1942 года.
...В полдень Курчатов услышал по радио, что Германия напала на Советский Союз.
Часть вторая ПРОБЛЕМА ВАЖНАЯ, НО ЛОКАЛЬНАЯ!
Глава первая ЧЕРЕЗ ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ИЛИ СЕГОДНЯ?
1
Ночи без сна выпадали часто, бессонница — впервые.
Радио сообщало о бомбардировках советских городов, о митингах на предприятиях, о гневе народа. Вечер Курчатов провел у родителей, надо было успокоить больного отца, узнать у матери, нужна ли помощь. Борис Васильевич, живший с родителями, поймал немецкую передачу на русском языке, диктор кричал о прорыве всей пограничной обороны — фашистская сводка вещала о скорой победе. Борис Васильевич с отвращением выключил приемник. Отец задремал в своей комнате, мать с Мариной Дмитриевной хлопотали на кухне. Курчатов спросил, что брат собирается делать. Борис Васильевич ждал приказа: теперь никто не может самостоятельно распоряжаться собой.
— Считаешь, что я неправ, Игорь?
— Не знаю. — Курчатов помолчал. — Приказ — приказом. Я сам должен подумать о себе. Я лучше всех знаю, чего от меня можно потребовать. Имеем ли мы право пассивно ждать приказов?
Борис оглянулся, прикрыта ли дверь к отцу, и понизил голос:
— Как тебя понимать? Считаешь, что война будет длиться долго?
Курчатов раздраженно тряхнул головой. Вздор! Война не продлится долго, слишком уж мощные силы брошены в пекло сражений. Жестокость схватки предъявляет особые требования. От каждого нужен немедленный эффект — срочная помощь стране! Можно ли заниматься прежними исследованиями, зная, что помощи от них в ближайшие критические дни наверняка не будет? Не означает ли это, что самоустраняемся от войны? И что такой самоустраненностью объективно помогаем врагу? Она ведь ему выгодна!
— Говорю тебе, понадобимся — призовут. Сверху видней, кто и где нужен. Чего ты хочешь конкретно?
Ответить конкретно Курчатов не мог. Чувство, охватившее его, еще не стало четким. Это было смутное томление, а не ясное желание. Они возвратились с Мариной домой поздно, еще поговорили, еще попили чай, еще послушали ночную сводку. Марина уснула не сразу, он совсем не уснул. Так началось то, чего он никогда не знал, — бессонница, отсутствие сна не от занятости, а от мучительного ощущения пустого времени, текущего сквозь тебя, — оно было пусто, потому что все, чем он мог заполнить его, не отвечало грозной сути момента.
Курчатов тихо встал, тихо ходил по комнате, стараясь не разбудить жену. Он приказал себе покончить со смутными ощущениями. Томление нужно заменить пониманием. Исследовать самого себя — чего хочу, что могу? Исследования были его профессией — самоанализ должен привести к ясности. Но в мозгу вспыхивали картины, а не рассуждения. Курчатов думал о битве, сотрясавшей землю, мысленно участвовал в сражении.
Под утро он задремал в кресле. В этот день он опоздал в институт. В коридорах было полно, никто не работал, шли слухи, что готовится реорганизация Физтеха. Курчатова остановил Алиханов. Как им быть с их лабораториями? Он понимает одно: в момент великих сражений не до исследований спектров быстрых электронов. Он еще не знает, где и кому понадобятся он сам и его сотрудники, но готов ко всему. В их разговор вмешался проходивший мимо Соминский, заместитель Иоффе. Он не уполномочен решать судьбы ядерных лабораторий, но может сказать, где сейчас нужны люди. Тот, кто пойдет к Александрову или Кобзареву, не раскается, штаты там увеличиваются, тематика для физика интереснейшая! Алиханов раздраженно махнул рукой и удалился к себе. Курчатов пошел к Иоффе.
Иоффе был мрачнее тучи. На его стол лились нескончаемым потоком предупреждения и предписания, напоминания и приказы. Требования характеристик на призываемых сотрудников он передавал в отдел кадров, часть бумаг рассылал по лабораториям, остальные оставлял под рукой.
— Где вы были, Игорь Васильевич? Столько вопросов решать! Главный — перераспределение средств и сотрудников.
И он объяснил, что лаборатории, работающие непосредственно на оборону, расширяются, в них будут направлены новые люди. Это относится, прежде всего, к группе Юрия Борисовича Кобзарева, разрабатывающей системы радиолокации. Опытные радиолокаторы Физтеха прошли испытания на Дальнем Востоке, получили высокую оценку, надо налаживать их серийное изготовление. Расширяется и лаборатория Анатолия Петровича Александрова, та тоже работает по заказам военведа, и лаборатория броневых материалов, возглавляемая Владимиром Лаврентьевичем Куприенко. Что до исследовательских групп, не связанных непосредственно с обороной, то ассигнования на них уменьшаются, штаты сокращаются, а освобожденные сотрудники вливаются в оборонные группы. В ядерных лабораториях программа исследований сильно сокращается.
Курчатов слушал, хмуро уставясь глазами в пол. В сообщении директора института не было ничего неожиданного. Вчера Курчатов говорил брату и о том, что ассигнования на ядерные работы сократят. Иоффе извещал, что надо теперь сконцентрироваться на «горячих темах», а Курчатов с горечью думал, что и старые масштабы ядерных работ, если бы они сохранились, были бы уже неэффективны. Только значительное расширение исследований, только набор новых сотрудников, пуск мощных строящихся установок мог бы дать ощутимый, хотя тоже не быстрый результат. Именно такого расширения работ он добивался еще недавно от Иоффе, от Академии наук, от правительства, настойчиво доказывал, что без этого освобождение атомной энергии не состоится. А ему объявляют сокращенные штаты, урезанные ассигнования... И не возразить — война!
Иоффе, подписывая бумаги, непрерывно вносимые секретарем, закончил:
— Игорь Васильевич, на вас есть броня. Наметьте, кого перебросить в другие лаборатории, и срочно прикиньте сокращенный план работ.
Курчатов негромко сказал:
— Я полностью прекращаю работы, Абрам Федорович.
До Иоффе не сразу дошел смысл, он даже одобрительно покивал, сортируя бумаги. Лишь когда Курчатов повторил, что закрывает свою лабораторию, Иоффе оторвался от стола. Умные, почти всегда холодноватые глаза впились в Курчатова. Закрываете лабораторию? Полностью? И всех сотрудников освобождаете? Даже тех, кто не получил повесток? Курчатов на все отвечал коротким: «Да». И тогда Иоффе рассердился:
— Да что с вами? Истерика какая-то! Никто не требует закрытия вашей лаборатории. — Он провел рукой над наваленными на столе бумажками. — Даже намека нет! Еще раз прошу — составьте сокращенный план работ на ближайшие два-три месяца.
— Нет! — твердо сказал Курчатов. — Я прекращаю исследования деления ядер. Сегодня от нас ждут других работ, Абрам Федорович.
Иоффе потребовал объяснений. Теперь говорил Курчатов.
В дни, когда требуется незамедленная отдача, нельзя заниматься наукой, практическая польза от которой будет лишь через несколько лет даже при прежнем масштабе работ, а при сокращенном — вообще неопределенна. Война долго не продлится, ничего с ядерными исследованиями не случится, если их и отложат. Как часто ядерщиков корили, что пренебрегают насущными нуждами! Они оправдывались, что и о будущем надо заботиться — нельзя в мирное, в нормальное время жить лишь сегодняшним днем. Они были правы, но пусть Абрам Федорович вспомнит, легко ли давались оправдания, не чувствовали ли они уныния от постоянных упреков. Забвение насущных нужд сегодня не просто упрек — тяжкое обвинение. Настал час все подчинить главной заботе. Если не выиграть сегодняшний день, не будет и того будущего, ради которого мы работаем. О чем спорить?
— В правительство ушло письмо Семенова, — напомнил Иоффе. — Неужели бросите на полпути свое начинание?
Правительство на письмо не ответило, оно, видимо, считает урановую энергию журавлем в небе. Журавль в небе — отличная перспектива, но сейчас нужна синица в руке. Мы возвратимся к ядерным исследованиям после войны. Сегодня надо с винтовкой идти в окопы. Он записывается в ополчение.
— Говорю вам, это истерика! Какую пользу вы принесете с винтовкой? Ваши знания, ваш талант...
Курчатов страстно прервал:
— Я нужен сегодня как человек, способный с оружием в руках противостоять врагу, а не как ученый!
— Вы нужны стране как ученый, — сухо ответил Иоффе. — Война не отменяет науку, а усиливает ее значение. Вас не примут в ополчение, Игорь Васильевич. — Иоффе помолчал. — Впрочем, я вас понимаю. Мне тоже хочется взять в руки оружие, но на моем седьмом десятке это неосуществимо. Что ж, совместите науку и помощь фронту.
— Соминский советует идти к Александрову.
— Правильно, его тематика сегодня — самая горячая. В ней наша непосредственная и очень важная помощь фронту.
Курчатов знал, что у Александрова уже несколько лет изыскивались способы защиты от магнитных мин. Эти мины настраивались на магнитное поле земли, а когда поблизости двигался корабль, изменявший своей громадой земное поле, мина взрывалась. Первые месяцы войны англичане несли большие потери от немецких магнитных мин, невидимых, плохо доступных тралению. Лишь когда все суда стали проходить размагничивание, потери пошли вниз. В Физтехе изучались методы защиты кораблей, аналогичные разработанным в Англии.
Александров, кстати, был другом Курчатова. Дружба завязалась необычная. Молодой физик из Киева появился в Физтехе в 1930 году и начал с того, что обнаружил серьезную ошибку в опытах Курчатова с тонкими слюдяными пластинками. Перспектива создать сверхпрочную электрическую изоляцию — с ней много связывали надежд — сразу рухнула. Такого драматического события было бы достаточно, чтобы оба молодых ученых стали врагами. Вместо этого они быстро — и на всю жизнь — подружились.
В эти первые дни войны Александров на Балтике обеспечивал противоминную защиту на кораблях. Еще около недели Курчатов провел в своей лаборатории. Просто бросить ее он не мог. Надо было позаботиться о том, чтобы все в ней сохранилось. Приборы упаковывали, механизмы сносили в подвалы, дорогие материалы прятали в сейфы. На дворе Физтеха вырыли яму, куда, хорошо упакованные, сложили детали циклотрона.
Марина Дмитриевна как-то с удивлением сказала:
— Боже мой, Игорек, ты как будто начинаешь иную жизнь.
Борис Васильевич покачивал головой, ему, как и Иоффе, казалось, что брат слишком взвинтил себя. Конечно, на фронте пока дела шли плохо, но в сражения скоро введут главные силы Красной Армии, перелом непременно будет. Борис Васильевич припоминал, что жажда к крутым переменам жизненного пути проявлялась у брата и раньше. Разве не так вот внезапно он бросил исследования диэлектриков и углубился в изучение атомного ядра, от которого в тот момент был дальше, чем Луна от Земли? Но сейчас он отрекается не от одной темы ради другой — полностью прекращает научную работу. Курчатов пожимал плечами. Пусть брат думает что хочет. Его решение — плод размышлений, а не взрыв эмоций. Будь уверенность, что урановые исследования реально помогут фронту, он не снял бы ни одного прибора со щита. Но уверенность есть в обратном — война сто раз закончится, прежде чем они в своей небольшой лаборатории, при сокращенном штате сотрудников, при резко ужатых материальных ресурсах получат какой-то выход в практику. Надо принести пользу сегодня, а не через пятнадцать лет! Тема ядерных исследований не относится к «горячим». Спорить не о чем.
Все это было нужно растолковать и сотрудникам. Лучше всего было бы созвать общее собрание и со всем коллективом обсудить, почему закрывается ядерная лаборатория и как быть дальше. У Курчатова, такого всегда смелого и открытого, не хватило на это решимости, он чувствовал, что не найдет силы пойти против всех помощников, если они, как и брат, дружно восстанут против. Он только в первый, самый трудный день молча постоял в комнате, где Русинов с Юзефовичем и Гринбергом продолжали изучать ядерную изомерию, только сказал Флерову, что выкладывание урановой сферы надо прекратить, только посоветовал Неменову позаботиться о защите недостроенной циклотронной лаборатории от бомбежек. К нему обращались поодиночке растерянные сотрудники, на их прямые вопросы он отвечал прямо: да, закрываемся, да, сегодня не до ядерных исследований. Нет, нет, он никого ни к чему не принуждает: кто имеет броню, волен сам выбирать, куда идти. Он выглядел спокойным, удивлял своей выдержкой — все рушится, так трудно налаженные работы вдруг прерываются, можно ли в такой обстановке улыбаться! К Алиханову боялись и подступиться — он тоже распускал свою лабораторию и не скрывал, что это приводит его почти в отчаяние. Кто-то мрачно пошутил: «Раньше ядерные лаборатории изучали распад ядра. Впоследствии будут изучать распад ядерных лабораторий». Курчатов, услышав эту унылую остроту, постарался не показать, как больно она ранит.
Александров вернулся в Ленинград и делился впечатлениями от поездки. Высокий, узколицый, лет сорока, но уже лысый, всегда насмешливый, он возбужденно ходил по комнате, размахивая длинными руками, и язвительно живописал, как перехитрили врага. Магнитные мины, густо посеянные с самолетов по всей акватории Финского залива каждую минуту грозили гибелью — нет, не удалась вражеская затея, размагниченные корабли прошли без потерь!
— Как твои дела, Игорь? — спросил Александров, выговорившись. — Трудно, трудно будет в такой обстановке вести урановые исследования.
— Трудностей не будет, ибо не будет урановых исследований. Я попросился в твое распоряжение, Анатоль. Могу выполнять любую работу — слесаря, монтера, подсобника. С Иоффе все согласовано. Когда выходить?
— Считай, что уже вышел. Теперь я тебе объясню, что мы делаем и какой эффект.
Он подробно рассказал о работе своей группы. Проблему размагничивания в Физтехе начали изучать еще в 1936 году. Новый способ защиты кораблей давался трудно. Большинство моряков в него не верило. Узнавая, что абсолютно полного размагничивания не достичь, они объявляли его пустым занятием. Реальную защиту от мин они видели только в вытраливании их: «Что выловили и выбросили вон, только того и нет!» Без энтузиазма, они все же выделяли корабли для экспериментов. В 1939 году размагничивали корабли на Онежском озере, потом и на Балтике. Александров начал с катеров и последовательно дошел до крейсеров и линкоров. Последним размагничивался линкор «Марат» — и к этому времени недоверие было сломлено: моряки убедились, что способ этот — вполне эффективная защита от коварного оружия. И сейчас делу придается широкий размах, в конструкторском бюро разработаны типовые проекты размагничивания, в Наркомате Военно-Морского флота организованы специальные группы по размагничиванию судов в научно-техническом отделе, выделены толковые офицеры. Но без помощи физиков им еще нелегко.
Способов размагничивания два, рассказывал далее Александров: безобмоточный — тянут кабели вдоль борта, поднимают и опускают их, как бы натирая стальную оболочку судов. Текущий по кабелям в это время ток своим магнитным полем воздействует на металлическую массу корабля. Способ этот хорошо разработан у англичан. Для подводных лодок он незаменим. Второй способ — обмоточный: на палубе в определенных местах намертво закрепляются обмотки кабелей, и по ним непрерывно пропускается ток, создающий нейтрализующее магнитное поле. Англичане тоже применяют этот способ, для надводных кораблей он гораздо удобней, но здесь мы, пожалуй, обогнали их, так как все эти годы занимались преимущественно им. С началом войны размагничивание стало основным делом лаборатории. На все действующие флоты выехали физики — бригадно и поодиночке: на Черноморском работают Петр Степанов, Анатолий Регель, Юрий Лазуркин, Константин Щербо; на Северном — Вадим Регель и Дмитрий Филиппов; на Балтийском — Владимир Тучкевич, Борис Гаев и сам Александров. Возможно, понадобится кого-то послать и на Каспийскую военную флотилию.
— Вот такие наши дела, — закончил Александров. — Ну, о физике метода я тебе не рассказываю, это тебе понятно и без меня. А теперь первое практическое задание: поможешь мне составить краткую инструкцию по размагничиванию, нужно срочно разослать ее на все действующие флоты.
2
Со стороны казалось, что он доволен собой. «Если можно быть довольным в такое время!» — уныло говорил себе Борис Васильевич, наблюдая, как брат во дворе возится с кабелем, то сворачивает его в плотную катушку, то подключает к источникам тока, определяя прибором возникающее магнитное поле. Игорь трудился, словно бы всю жизнь мечтал именно о такой работе и наконец дорвался до нее. Борис раза два заговаривал о лаборатории, запакованной в ящики. Нельзя ли в Казани, куда эвакуируют Физтех, возобновить ядерные исследования? Может быть, назначить временного руководителя, который вместо него продолжит урановую тему? В Казань направлены Арцимович и Алиханов, они могли бы там создать объединенную ядерную группу...
Курчатов сердито обрывал брата, даже напоминание об уране было ему неприятно. Война диктовала поведение. Вдруг стал распадаться с таким многолетним тщанием выпестованный им коллектив специалистов по ядру. Флеров записался в ополчение, Петржак уже воевал на Карельском фронте, Панасюка и Русинова тоже взяли в армию. Курчатов всегда зажигал сотрудников собственной страстью — куда бы он ни направился в науке, они спешили за ним. Сейчас он одобрял желание взять в руки оружие, сейчас он всем говорил, что война продлится недолго, что каждый обязан посильно помочь фронту. Один Борис Васильевич видел, что Игорь, с бодростью объявляя о «кратковременном прекращении» ядерных исследований, держится так, словно навсегда прощается с созданной им лабораторией: брат, такой внешне открытый, был похож на айсберг — наружу высовывалась одна десятая часть. Борис Васильевич опасался, что увлеченность Курчатова новым занятием маскирует затаенное отчаяние. Он не удержался от упрека:
— Я работал на тебя, Игорь! Для тебя осилил радиохимию. В армию меня не берут по здоровью. На кого мне сейчас работать?
Курчатов спокойно ответил:
— Ты химик. Ты начальник лаборатории новых выпрямителей. Твоя лаборатория эвакуируется, но не закрывается. Вас загрузят военными темами, не менее конкретными, чем та, какой я занимаюсь сегодня. С тобой в Казань поедет Марина, позаботишься о ней. Я останусь с родителями, отец, как ты понимаешь, не вынесет эвакуации.
В институте еще недавно звучали шумы работ — гудели трансформаторы, пели моторы, щелкали реле... Теперь все забивал стук молотков. Физтех готовился к отъезду. Многие, кого не призвали, уходили на фронт добровольно. Иоффе подсказывал военным властям, как использовать ополченцев с пользой для армии. Среди подписанных им бумаг был и такой документ:
«Начальнику штаба Ополчения города Ленинграда.
Копия: Заместителю по политической части командира Выборгской Добровольческой дивизии.
Направляем к вам научных сотрудников — физиков Смушкевича, Анитова, Панасюка, Рывкина, Певзнера, Берестецкого, Писаренко, Русинова, Джелепова Б. С., изъявивших добровольное желание быть использованными для управления сложными видами вооружения (электроника, радиотехника, рентгенотехника, зенитная техника).
Институт удостоверяет, что перечисленные товарищи являются высококвалифицированными специалистами или командирами специальных родов войск и все владеют иностранными языками (немецкий, английский). Поэтому их необходимо перед направлением в часть пропустить через аттестационную комиссию для более целесообразного использования.
Директор ЛФТИ, академик А. Ф. Иоффе Секретарь партбюро ЛФТИ Н. В. Федоренко5 июля 1941 года»
Все добровольцы получили направление в армию в соответствии со своей квалификацией.
В конце июля в Казань уехали Борис с Мариной. Тяжело болевший отец остался в Ленинграде, за ним ухаживала мать. Курчатов сам еле ходил — вдруг начались рези в животе, поднималась температура. С усилием помогая брату и жене собраться, он не сумел проводить их на вокзал и хмуро смотрел с балкона, как Марина и Борис уселись в грузовик — в нем было полно сотрудников института с семьями, женщины держали детей на руках.
Вечером Курчатов пошел к Александрову — тоже в пустую квартиру, и у него семья эвакуировалась, — заканчивать составленную сообща инструкцию по размагничиванию судов. Александров сказал:
— Видимо, скоро полетим на юг. Из Севастополя группа наших что-то не шлет бодрых телеграмм! В Казань послано Неменову и Щепкину предписание срочно лететь на Северный флот — вероятно, уже прибыли и помогают Вадиму Регелю.
Вызов на юг пришел из Москвы с отметкой «срочно». В Севастополе подорвалось несколько кораблей. Немецкие самолеты часто налетали на город, все выходы из гавани были усеяны донными минами. Флот требовал усиления работ по размагничиванию судов. Александрову и Курчатову для поездки предоставили бомбардировщик. На сборы дали так мало времени, что физики не успели захватить чемоданов с вещами. Александров махнул рукой — летим на юг, обойдемся без багажа! Выехали на аэродром налегке, в чем пришли на работу. Курчатов радовался, что в Москве встретится с Мариной и Борисом, — жена сообщила, что их эшелон задержали на Казанском вокзале.
Фронт был рядом, его отмечала извилистая линия взрывов — по темно-зеленой, местами желтеющей земле змеилась широкая огненная полоса. Неподалеку пронесся немецкий истребитель, от него ушли, перейдя на бреющий полет. Курчатов подошел к пулеметчику — может, помочь? Помощи не потребовалось, вражеский истребитель повернул обратно. Но только оторвались от врага, с открывшегося неподалеку аэродрома застучала зенитка — приняли свой самолет за вражеский. Летчик выбросил опознавательную ракету, в ответ зенитка забила еще яростней. Пилот пошел на снижение. К приземлившемуся бомбардировщику ринулась аэродромная охрана со штыками. «Ложись! Ложись!» — кричали красноармейцы, подкрепляя приказы выстрелами в воздух. Выскакивающие из самолета валились наземь.
— Бдительность! — проворчал Курчатов улегшемуся рядом Александрову. — Хорошо, хоть сухо. Такой прием в ливень — не возрадуешься!
Командир явился через несколько минут. Летчики зло матерились. Командир, смущенно улыбаясь, просил прощения за чрезмерно горячую встречу.
— Фронт рядом, сами понимаете. Уже налетали фашисты. А у нас из военных объектов один госпиталь. Да вы не серчайте, отдохнете, накормим.
— Лететь надо, срочно лететь! — Александров показал предписание.
Предписание на командира не подействовало: подписано не его начальством. Вот чин чином доложим командованию о происшествии, получим разрешение выпустить — и, пожалуйста, летите. Посадить можно любой подозрительный самолет, а выпускать на свой страх и риск не разрешено.
— Ладно, связывайся с начальством, — сдался пилот. — А мы в столовой такой налет сделаем на твои припасы — год будешь помнить!
В госпитале еды не пожалели, после ужина устроили вечерок — встречу выздоравливающих с физиками. На рассвете вылетели в Москву.
На подмосковном аэродроме везде были следы недавнего налета — на взлетной полосе наспех засыпанные выбоины, рядом воронки от бомб. Машина уже поджидала физиков. «Едем к заместителю наркома адмиралу Галлеру», — информировал встречающий офицер.
Курчатов помнил шумную довоенную Москву, воспоминание не вязалось с обликом хмурого, настороженного города с обезлюдевшими улицами.
— Пока мы господствуем на Черном море, — невесело сказал адмирал. — Но положение осложняется. И если не внедрить эффективного способа борьбы с магнитными минами, боевая мощь флота будет серьезно ослаблена. Черноморцам дано указание во всем помогать вам.
Адмирал добавил, что сначала хотели присвоить каждому физику воинское звание, но потом отказались. Военная форма имеет свои преимущества, но не лишена и недостатков. Работая в штатском, физики свободны от субординации, это дает возможность сразу обращаться к командующему флотом, минуя инстанции. Инженер — контр-адмирал Исаченков, принявший физиков после Галлера, — выдал официальное задание и предупредил, что полетят в Севастополь они завтра на транспортном самолете: остающееся время можно использовать на прогулку по Москве. Номер забронирован в «Метрополе».
Курчатов помчался на Казанский вокзал. Эшелон Физтеха, задержанный было в Москве, вчера отправился в Казань — Марину с братом не удалось повидать. Курчатов послал вдогонку письмо.
Сегодня 7 августа, у них с Анатолием все в порядке, к обоим, правда, недавно прицепился грипп, они энергично подавили хворь стрептоцидом и кальцексом, желудок тоже перестал болеть, настроение хорошее, работа — он добавил: и жизнь — интереснейшая, вполне по вкусу. Перед отъездом заходил к родителям, мать здорова, к отцу вернулось сознание, но оба скучают. Он приободрил стариков, желает своему дорогому и любимому Мурику такого же хорошего расположения духа, как у него. Целую. Привет друзьям!
Когда самолет поднялся, Курчатов припал к окошку. Первые часы полета земля казалась мирной — по шоссе мчались автомашины, змейками красноватых вагонов тянулись поезда. Над Украиной стала чувствоваться война: вспыхивали зарницы артиллерийский дуэли, на шоссе виднелись колонны спешащих на запад воинских частей. На подходе к Крыму самолет прижимался низко к земле. У Курчатова сжималось сердце — чудовищно глубоко проник враг, несколько месяцев назад никто бы не поверил, что возможно такое отступление. Вдруг появилось ощущение собственной вины. Сейчас, когда тяжелая машина чуть не падала на землю, стремясь остаться незамеченной, прожитая жизнь становилась беспощадно ясной — он увлеченно трудился, но все, что делал, пока ни на йоту не помогло Родине отразить врага. Курчатов молча прикрикнул на себя — истерика, возьми себя в руки! Он вспомнил передовицу в газете: «Сегодня один выпущенный танк дороже, чем десять завтра!» Что же, хоть с опозданием, но он спохватился! «Довлеет дневи злоба его!» Он будет жить заботами дня. Битва только начинается, он не стоит в стороне.
— Плохо действует высота? — пересиливая рев мотора, прокричал Александров. Он знал, что Курчатов летел впервые в жизни.
Курчатов с усилием улыбнулся: улыбка казалась вымученной.
В Севастополе, в гостинице «Южная», собралась бригада сотрудников Александрова. Степанов доложил, как идет работа. По первому впечатлению, на Черноморском флоте сделали не меньше, чем на Балтийском: к 9 августа уже размагничено два десятка кораблей. Группа моряков под командованием И. В. Климова внедряет для подлодок безобмоточный способ размагничивания, принятый у англичан. Но способ этот менее освоен, чем разработанный в Физтехе обмоточный, для надводных кораблей, — надо еще поработать над ним. Физикам помогает Б. А. Ткаченко, моряк, офицер, он живет тут же в гостинице. Но командиры кораблей не очень-то пока доверяют «профессорским штучкам». А главное — не хватает кабелей, из-за этого задерживается вся работа.
Курчатов порывисто встал.
— Мое мнение — немедленно к командующему флотом. По принципу — чем выше, тем скорей!
Принцип не подвел. Командующий принял сразу. Флотские снабженцы кинулись выполнять требования «научников». Матросы укладывали на палубах судов обмотки кабелей — это был обмоточный способ, другие тянули кабели вдоль борта кораблей, опуская и поднимая их по команде: «Взяли! Вверх! Вниз!» — по английскому способу. Курчатов с рассветом появлялся на «площадке» и задавал темп, покрикивая на «копух». Иногда он пропадал — это означало, что по какому-то поводу надо «хватать за горло» морское начальство. Дни в августе еще длинные, Курчатов вставал в шесть утра, возвращался в гостиницу в одиннадцать вечера, помощники подравнивались под руководителя.
— Кустарщина! — сказал он Александрову. — Одной контрольной станции для размагничивания мало. Нужна вторая. Думаю заняться этим. Помощь командования обеспечу.
Помощь командования обеспечили легко, но недовольство моряков «профессорскими штучками» еще не было преодолено. Командиры окрестили размагничивание «принудительной косметикой». Боцмана зычными голосами подгоняли матросов, тянущих кабели, команды физиков заглушались солеными словечками. Курчатов огрызался, в голосе его появилась та же морская зычность, помощники с удивлением обнаружили, что профессору не только ведома брань, но и «пускать» он ее может с такой же лихой закруткой. А затем произошло то, что называется «не было бы счастья, да несчастье помогло». У стенки выстроилась очередь кораблей, впереди лидер «Ташкент», за ним три тральщика. И лидер, и два тральщика были уже размагничены, когда прибыло распоряжение отряду срочно выходить на задание. Командир отряда заколебался — не оставить ли в порту еще не размагниченный корабль? Капитан тральщика, покрыв небо, и землю, и физиков ошеломляющей бранью, занял свое место в кильватере. А на выходе в море раздался взрыв: три размагниченных корабля минную засаду прошли, подорвался неразмагниченный.
Командующий вызвал физиков:
— Строжайше подтверждаю приказ: ни один корабль, не побывав у вас, в море не выйдет. Штаб флота, по согласованию с вами, будет давать список кораблей, которым разрешен выход в море. Срочно стройте вторую станцию!
Вторую испытательную станцию выстроили в Стрелецкой бухте. На дно погрузили немецкую магнитную мину с работающим взрывателем, но без взрывчатки, от мины на берег протянули провода к прибору, сигнализирующему, как она ведет себя. Над миной теперь проходил каждый корабль, получивший приказ на выход. Если в магнитном взрывателе возникал импульс, судно не выпускалось. На «площадке» все энергичней шло размагничивание. Судам, прошедшим испытательный полигон, магнитные мины уже были не страшны в течение нескольких месяцев. Достаточность размагничивания выходящих в море кораблей определяла специальная флотская комиссия во главе с флагманским механиком флота Б. Я. Красиковым.
Александров получил вызов на Северный флот — консультировать там противоминную защиту, в частности наладить безобмоточное размагничивание подводных лодок по опыту Черноморского флота. «Поедем вместе, Игорь!», — сказал он. Курчатов заколебался. Перспектива побывать в Заполярье, где он никогда не был, соблазняла. Но командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский отказался отпустить одновременно обоих физиков.
— Поезжай один, Анатоль! — сказал Курчатов.
Александров уехал. Курчатов с прежней энергией — помощники поеживались, получая задания, — продолжал размагничивание, увеличивая число изготавливаемых во флотских мастерских приборов, доставал все новые бухты кабелей и — предмет особого увлечения — подробно отмечал в блокноте, когда и какие корабли прошли обработку. Названия кораблей записывать запрещалось. Он усердно упражнялся в самостоятельно изобретенном коде. Специалисты-шифровальщики только головами покачали бы, попадись им в руки запись, казавшаяся ему очень хитрой: лодка — ландо, эсминец — экипаж, крейсер — корыто, тральщик — трактор, линкор — лохань. В увлечении он иногда кричал помощникам: «Поторапливайтесь с ландо, трактора подходят». Они посмеивались: за подводной лодкой у стены выстраивалась очередь тральщиков, одного взгляда на причал было достаточно, чтобы разобраться в обстановке.
Помощники скоро увидели: их руководитель не просто выполняет важное военное задание, но вникает в новую область техники на глубину, казалось бы, уже чрезмерную. Опытный минер капитан-лейтенант М. И. Иванов первый вскрыл вытраленную водолазом М. М. Хорец магнитную мину немцев. Курчатов познакомился с ним и другими минерами, стал изучать конструкцию мин, помогал разбирать и собирать их и так наловчился в этом, что скоро стал знатоком опасных устройств. «Нелишне и эту специальность приобрести», — говорил он, посмеиваясь.
В Севастополе появились гости из Англии — группа морских офицеров. Два из них — Лестер и Джонс — приехали делиться опытом Британского флота по обезвреживанию коварных мин, а заодно познакомиться с конструкциями мин, обезвреженных советскими минерами. Оба были уверены, что русским надо объяснять законы Ома и Фарадея и растолковывать марки кабелей. Они не скрыли удивления, когда увидели, как хорошо размагничены корабли. Оба офицера учили русских «натиранию» и сами усердно записывали схемы укладки кабеля, силу тока, изменения магнитного поля в обмоточной схеме, им самим значительно менее известной.
Вначале объяснение гостям давал Лазуркин, но его отличный английский язык насторожил Лестера: офицеру из Лондона не верилось, что русский физик может так владеть его родным языком. Даже квалифицированное, вполне «по науке», описание операций не успокоило Лестера. Он явно сторонился Лазуркина.
— Юра, он считает тебя разведчиком, — с восторгом объявил Степанов. — И разведчиком высшей квалификации, специально натасканном на морских офицеров. Он опасается, что любое неосторожное слово выдаст какую-либо английскую государственную тайну. А то, что ты его ни о чем не расспрашивал, только отвечал на вопросы, пугает его еще больше. Именно такое поведение характеризует шпионов экстра-класса. Они говорят сами, а тайны выуживают из молчания слушателей.
Языковый барьер преодолел приехавший в Севастополь А. А. Луначарский, сын первого наркома просвещения А. В. Луначарского. Молодой журналист буквально ошеломил англичан глубоким знанием Шекспира, Диккенса, Байрона, гости охотно беседовали с ним на общие темы — в специальных военно-морских он разбирался хуже, чем в литературе, это мешало общению, зато в ином смысле и успокаивало. К сожалению, молодой Луначарский в следующем году погиб при штурме Новороссийска.
Из физиков только с Курчатовым Лестер разговаривал свободно. Курчатов и объяснял, и расспрашивал. Его интересовали английские приемы размагничивания. Лестер удовлетворял его любопытство с охотой. Английский выговор Курчатова явно выдавал иностранца, а всего больше подкупало его обхождение — ослепительная улыбка, громкий голос, приветливость...
О простоте его говорили и севастопольские моряки, но несколько по-иному:
— Профессор, а высказывается, как наш боцман! Парень в дымину свой!
Старшой бригады Степанов имел свое мнение о простоте руководителя:
— Это только вид такой — рубаха-парень. Без логарифмов и интегралов к таким простакам и не подступайся.
Так прошел август, потянулся сентябрь. Гитлеровские армии прорвались к Крыму. Воздушные бои на подступах к Севастополю становились все ожесточенней. В сентябре фашистские самолеты впервые показались непосредственно над Стрелецкой бухтой. А в часы, когда не звучали сирены воздушной тревоги и не грохотали зенитки, землю охватывала дремота уходящего лета. Солнце палило, теплые волны с шипением накатывались на берега, можно было кинуться в воду. Вечерами на западе, в грозной дали, откуда ежеминутно ждали нападения, разгорались яркие закаты — так хорошо было полюбоваться солнцем, скользящим в море...
И когда выпадало свободное время, Курчатов шел на пляж, бросался в воду, начинал долгое купание. Уставая энергично плыть, он поворачивался на спину, покойно раскидывал руки на воде, лежал, мягко покачиваясь на волне, — из воды высовывались только пальцы ног да обращенное к небу лицо. Наступало особое время: одиночество, пора раздумий, пора трудных споров с собой. Здесь, метрах в ста от берега, можно было не заботиться о том, чтобы выглядеть бодрым. «Наслаждается наш генерал!» — говорили физики, увидев недвижно покоящегося в воде Курчатова. Это было терзание, а не наслаждение. Над головой раскидывалось синее небо юга, Курчатов глядел на север. Там, далеко отсюда, он начинал свою научную жизнь, там и закончил ее. Сколько лет он отдал ядру! А каков результат? Да никакого, если по большому счету, а мелкий в таком большом деле не гож! Ядерной энергией не овладел, «ядерного котла» не сложил, даже в модели не установил, каков он! Что же, вся прошлая жизнь — ошибка? Жизнь, не давшая результатов? Продолжать ее? Или, может, честно признать свое поражение и совершить новый крутой поворот — уйти, уйти, навеки уйти от атомного ядра!
Уставая от жестоких мыслей, он плыл к берегу и снова был прежним — бодрым, энергичным, быстрым. И каждый, поглядев на его довольное лицо, видел — на пользу идет длительное плавание этому крупному, красивому, ладно скроенному, крепко сшитому, ослепительно улыбающемуся мужчине — всем бы такое здоровое удовольствие!
А в гостинице, перед сном, он придвигал бумагу и разговаривал с женой. Она была далеко, она тосковала, у нее болела нога, не ладилось с квартирой, не хватало денег. Он старался ее ободрить и утешить, лучшее ободрение — рассказ, как ему хорошо. Он расписывал свои удовольствия, их было немного, но важные — погода стоит хорошая, он много купается, на базаре масса фруктов, овощей тоже хватает, товарищи — чудные... О работе он писал лишь, что интересная, и проницательный разведчик не дознался бы из писем, чем он занимается. И о том, чем товарищи заняты, не спрашивал, и о войне не упоминал; это была тема не так запретная, как печальная, дела на фронте шли все хуже, у них в Севастополе тоже — она знала это по сводкам. Зато налегал на красоты юга. «Здесь чудесные ночи с прекрасным черным небом. Без тебя тоскливо. Как тебе там живется?» «Последние дни несколько меньше занят, купаюсь. Появились мировецкие груши, к которым мы относимся с энтузиазмом. Начинается виноград. Стоят чудесные ночи, все время тебя вспоминаю. Вчера была гроза — думал о тебе». «С едой очень хорошо: южная кухня мне нравится очень. Вообще, вполне здоров, и даже насморк почти пропал. Здесь стоит чудесная, ясная и жаркая погода. Любуюсь яркими красками Крыма, замечательным вечерним небом, лунным морем, амфитеатром домиков с черепицей». «Я чувствую себя хорошо, вполне здоров, отношение ко мне хорошее. Очень доволен тем, что вижу, что моя работа полезна. Передай Монусу (Соминскому), что он — голова, что нашел мне применение. Без тебя скучаю очень».
И снова, и снова: «Здесь бывает иногда изумительно. Вчера, например, я просто глаз не мог оторвать от моря. Заходило солнце, и на зеленой воде переливались яркие, блестящие, красные пятна, а вдали громоздились красные и желтые облака. Пиши почаще». «Моя жизнь здесь идет по-старому. После нескольких дней ненастья здесь опять солнечно и тихо. Сейчас иду купаться. Скучаю без тебя очень».
Только на краткое время в этих улыбчиво-бодрых письмах прорвалось уныние. В Ленинграде скончался отец, мать осталась в блокированном городе. Курчатов вспоминает, как перед отъездом побывал у родителей: «Наше прощание было очень грустным — именно в ту ночь я почувствовал, как я их люблю и какие они слабые и беспомощные». И в следующем письме: «Последи за Борькой, постарайся успокоить его и облегчить ему жизнь. Очень грустно за маму, но сделать сейчас все равно ничего нельзя, остается только ждать и рассчитывать на судьбу».
И в который раз — в новых письмах — настойчиво: «Здесь опять установилась хорошая погода, тихо, солнечно, хотя и прохладно. Обо мне не беспокойся, у меня все есть...» И, чтобы усилить впечатление о своем хорошем бытие и добром настроении, он разнообразит обращения: «Дорогая, любимая, родная, женка, девочка, Мурик, Мурсулинка», а себя весело именует «Гарун, Гарунишка, Цыганок», и обнимает ее, и горячо прижимает к груди, и целует, целует, целует!
И лишь одной темы он не касается в письмах, лишь о прошлой работе не разрешает себе говорить. Прошлого больше не было, он жил настоящим. Здесь была глухая рана, ее нельзя коснуться даже осторожно, упомянуть о ней даже случайным словом — она болела от любого слова, как от грубого прикосновения. Он не мог обсуждать то, что продолжало жечь душу. Он разрешал себе быть только бодрым, энергичным, веселым. Это было больше, чем «флаг корабля». Это был способ существования.
В октябре немцы прорвались в Крым, блокировали Севастополь с суши. В городе появились войска, эвакуированные из оставленной Одессы. Командование флотом объявило физикам, что будет вывозить их из осажденного города — пора сдавать морякам все работы по размагничиванию судов. Смена была готова. В Севастополе образовалась целая группа квалифицированных морских офицеров, досконально изучивших технику размагничивания, отлично разбиравшихся в физической природе этого явления, — вскоре все они стали крупными специалистами в области магнитной защиты флота. И Б. А. Ткаченко, и И. В. Климов, и прилетевший уже после Курчатова из Москвы Л. С. Гуменюк, и М. А. Оболенский — работники Научно-технического комитета Наркомата Военно-Морского флота и штаба Черноморского флота могли уже без помощи физиков самостоятельно организовать станции размагничивания и обучать персонал техническим приемам. К тому же была готова и рукопись Курчатова по защите от магнитных мин, ее передали в типографию для издания. Курчатов разбил бригаду на три группы. Эвакуируются по очереди в южные порты Черного моря — налаживать и там противоминную защиту. В первой группе, вместе с Курчатовым, уезжают Юра Лазуркин и Толя Регель.
Вечером 4 ноября катер доставил троих физиков с их приборами на плавучую базу подводных лодок «Волга» в Северной бухте. Еще два транспортных судна готовились в море. Выход назначили в полночь. Но едва катер подошел к плавбазе, как зазвучала воздушная тревога. Перегрузка оборудования с катера на плавбазу шла под аккомпанемент бомбежки и стрельбы зениток, в сиянии сброшенных с самолетов осветительных ракет. Налет был отражен лишь заполночь, и три размагниченных транспорта воспользовались кратковременным спокойствием, чтобы выскользнуть в море. Суда должны были пробраться ночью вдоль южного берега Крыма к Новороссийску — дорогой самой короткой, но и самой опасной: в Крыму уже всюду, кроме Керчи и Севастополя, хозяйничали немцы. Командир «Волги», не доверяя обманчивой темноте, отказался от прорыва к Кавказу напрямик и сразу повернул на юг, приказав радистам для маскировки вести лишь прием и не откликаться на вызовы. Севастополь вызывал плавбазу, она молчала.
Регель и Лазуркин разместились на палубе, рядом с упакованными приборами. Курчатову капитан предложил каюту, он от каюты отказался. Но и на палубе не сиделось. Он вскакивал, поднимался к капитану на мостик, всматривался вместе с ним в угрюмую темноту, вблизи от судна призрачно освещаемую барашками волн...
Так шла ночь. К рассвету из услышанных радиопередач стало известно, что два других транспортных судна при переходе потоплены немецкой авиацией. Немцы впоследствии объявили потопленной и «Волгу», так как ее радиостанция молчала, а в Новороссийске плавбазу не обнаружили. На юге показались горы северного побережья Турции. На траверзе Синопа командир приказал повернуть на восток. «Волга» подошла к кавказскому побережью под защиту сухопутных батарей и направилась в новую базу флота, в Поти.
В Поти физики возобновили работу, так успешно развернутую в Севастополе. Дело здесь шло гораздо медленней. Курчатов нервничал, его раздражала почти мирная обстановка — о войне напоминало лишь ночное затемнение. Свободное время он использовал для писем Марине Дмитриевне. Он живописал переход по Черному морю в обычном своем стиле. О бомбежке по выходе из Севастополя, о бегстве на юг только фраза: дорога «сопровождалась несколькими острыми моментами и была в общем тяжелой». И сразу увлеченное: «Зато можно было полюбоваться прекрасным морем с богатейшим разнообразием красок, блестящих временами, а временами мрачных и величественных». И в каждом письме он с той же многозначительной настойчивостью описывает природу и погоду, цвета земли и моря, краски неба. Он как бы перестал быть физиком, он чувствует себя лириком. Он исподволь готовит жену к новому повороту жизни. Он обиняком предупреждает, что к прошлому возврата не будет. Все дано лишь в глухом подтексте, на большее он не осмеливается. Марину надо заранее примирить с переменами. Она знает, как он любит море, когда-то мечтал стать моряком, физика пересилила море, но сегодня он обнаружил, что только морские стихии ему по душе, без волн и качки отныне нет радости.
Из Поти он отправляется в Туапсе консультировать налаживаемое и там размагничивание кораблей, осенняя погода скверна, льет дождь, дует пронизывающий ветер, море бушует. Он старается внушить жене, что и плохие условия на море — хороши. Он радостно пишет в кубрике небольшой шхуны о переходе в Туапсе: «...Качало, но я, оказывается, так и остался к этому невосприимчивым и, наоборот, прихожу всегда в хорошее расположение духа. Вообще все больше и больше тянет к морю. Вряд ли после вернусь к жизни большого города и кабинетной обстановке. «Бродяжничество» всегда мне было мило — думаю работать на флоте».
И отлично понимая, как ее поразит — может быть, и потрясет — высказанное скороговоркой решение, тут же торопливо приписывает: «Но это в будущем, сейчас же хочется домой, к тебе и институту». Она должна понять недоговоренное — «к институту» отнюдь не означает «в институт». Речь о встрече с друзьями, а не о работе с ними. Да и с кем работать? Коллектив ядерной лаборатории распался, на передовой Флеров, Панасюк, а Неменов и Щепкин размагничивают суда на Северном флоте. К прошлому не возвратиться, так он решил, так написал жене.
Про себя он сознает, что в первые дни войны действовал слишком поспешно, даже опрометчиво. Война затянулась, можно было и не распускать лабораторию. И, чувствуя, что совершена ошибка, он старается оправдать ее перед собой и перед Мариной Дмитриевной. Он поддается унылости, унылость тоже одна из форм оправдания. Не его дело создавать фундамент новой техники человечества. Он попытался — не вышло. Вот жизнь, о какой он теперь мечтает, — кораблик, каботажничающий вдоль небольших портов, каюта в три квадратных метра, яркие краски моря и берегов, многоцветные закаты, изредка штормы — для улучшения настроения — и высокое небо над головой. И все! Больше ничего не хочу. Точка. Курчатов.
Одна за другой эвакуируемые из Севастополя группы физиков соединяются в Поти. Во всех портах Черноморского побережья налажена защита судов от магнитных мин. Командование требует, чтобы такие же работы были проведены и на Каспии. Курчатов с нежностью провожает в Баку Лазуркина и Регеля, «наших милых чудаков», к которым так привязался. Ничего не поделаешь — мы предполагаем, командование располагает.
Контр-адмирал Исаченков вызвал Курчатова в Казань. По дороге понадобилось проконсультировать в Ульяновске начатое там размагничивание судов Волжской военной флотилии. Новый год Курчатов встретил в поезде. Поезд больше стоял на забитых эшелонами станциях, чем двигался. На станциях лежали вповалку люди, кто храпел, кто стонал. Бодрствующие скоплялись у репродукторов — радио передавало о развернувшемся контрнаступлении наших войск под Москвой. Санитары ходили между людьми, проверяя, нет ли заболевших тифом. Курчатов — от греха подальше — предпочел опасному залу перрон и всю ночь шагал там на двадцатиградусном морозе в легком матросском бушлате. Лишь в середине января он добрался до Казани.
Встреча с женой и братом была и радостна и печальна — Марина и Борис исхудали, он испугался, когда увидел их. Они испугались еще больше — Курчатов еле стоял на ногах. Он хотел немедленно отправиться в институт — верней, по институтам, их в Казани было много, и ленинградских, и московских. Марина Дмитриевна запротестовала. Она никуда его не пустит, он должен лежать, он, наверно, простудился в дороге, друзья наведаются сами.
Он покорно разделся и лег. Температура повышалась. Возможно, сыпной тиф, думал он с опаской. Как бы не заразить Марину! Она хотела присесть на кровать, он не разрешил приближаться к себе, показал на стул. Она подала письмо.
— От Флерова, Игорек. Он приезжал в Казань, выступил с докладом. Прочесть тебе, или сам прочтешь?
Курчатов пробежал глазами письмо, положил его рядом, думал, уставясь взглядом в потолок. Марина ушла на кухню готовить ужин. Комната ей в Казани досталась проходная, в коммунальной квартире. Борис Васильевич жил в отдельной комнатушке, но сырой и темной и до того крохотной, что там мог поместиться только один человек.
Флеров умолял Курчатова возобновить работы по ядру. Он писал, что решение закрыть ядерную лабораторию — ошибка. Ведь другие лаборатории функционируют, почему же так расправились с ними? Он настойчиво тянул своего руководителя к прежней жизни, к прежним темам.
Вернувшаяся Марина Дмитриевна с тревогой сказала:
— Игорек, на тебе лица нет!
— Температура, — ответил он, дотрагиваясь до лба. — Придется поваляться в постели.
Она присела на стул рядом с кроватью.
— Что ответишь Георгию Николаевичу? На конверте адрес полевой почты.
— Ничего не отвечу, Марина. Что ему отвечать?
Он замолчал, опустил веки.
Вечером врач долго выслушивал больного, велел с постели не подниматься и принимать все лекарства, которые удастся достать, — он оставил на столе список. Марине, провожавшей его к выходу, врач сказал, что у мужа воспаление легких, состояние грозное. Надо бы госпитализировать больного, но больницы переполнены ранеными.
Ночь прошла беспокойно, Курчатов метался, стал бредить. Утром Марина поспешила к Иоффе — среди указанных лекарств были такие, каких в аптеке не достать. Иоффе пообещал обратиться в Академию наук и в обком партии за помощью. Вечером он сам принес лекарства. Курчатов слабым голосом поздоровался, но говорить связно не мог.
— Болезнь по нынешнему времени — недопустимая роскошь, — печально сказал Иоффе Марине Дмитриевне. — Но все, что можно сделать в Казани, сделаем.
Неделя шла за неделей, выздоровления не было. А когда месяца через два он стал подниматься, ноги так плохо слушались, что приходилось хвататься за что-нибудь руками, чтобы не упасть. Однажды он дотащился до настенного зеркала — из стекла смотрело незнакомое, густобородое лицо. Марина ласково сказала:
— Не узнаешь себя? Надо побриться, Игорек, будешь прежним.
Прежним он быть не хотел. Он объявил, что не расстанется с бородой — во всяком случае, на все время войны. Он с удовольствием смотрел в зеркало. У прежнего Курчатова бросался в глаза скошенный назад подбородок, он вносил в лицо что-то женственное. О нынешнем волевом, суровом лице никто не сказал бы, что в нем сохранилась хоть капля мягкости. Мужественное, почти грозное, оно соответствовало строгому времени, он был доволен своим обликом.
Марина Дмитриевна не торопилась знакомить его со всем, что случилось за время болезни. О матери сказала, лишь когда он стал сердиться, что от него утаивают судьбу близких. Мать вывезли по Ладоге в Вологду, но, ослабевшая от голода, она уже не поправилась — в феврале Марью Васильевну похоронили. Еще Курчатов узнал, что в Свердловске заболел сыпным тифом заведующий лабораторией брони Куприенко. Болезнь быстро свела его в могилу. Александров был на Баренцевом море, сотрудники по Севастополю — на Черном и Каспийском, в волжских портах. От них приходили письма — дела везде шли успешно.
Выздоровев, Курчатов пришел в Физтех. Обрадованный Иоффе усадил его на диван, сам сел рядом.
— Борода вам идет, Игорь Васильевич. — Иоффе поблескивал умными глазами. — Но боюсь, пристанет какое-нибудь прозвище, с ней связанное. Бороды в наше время редкость.
Курчатов с удовольствием поглаживал еще недлинную, но уже пышную черную бороду. Он ничего не имел против новых прозвищ. Иоффе сказал, что пора Курчатову приниматься за дело в родном Физтехе, хватит по году пропадать в командировках. Как он относится к тому, чтобы снова возглавить лабораторию?
— Очень хорошо отношусь! — весело объявил Курчатов. И, помолчав, добавил: — Только не ядерную.
— Не ядерную? Какую же вы имеете в виду?
— Лаборатория конструктивных броневых материалов осталась без руководителя. Как вы знаете, я много лет работал в физике твердого тела. Усовершенствование броневой защиты самолетов интересно и важно. Разберусь и в полимерах повышенной прочности... Думаю, это дело по мне.
Иоффе молчал, размышляя. Курчатов не вынес его проницательного взгляда и добавил, грустно усмехнувшись:
— В общем, что говорить... Война в разгаре, перелома еще не видно... Сокращенная программа, урезанные штаты — это не то, что требуют исследования ядра. Я намерен стоять на реальной почве.
— Я понимаю вас, — ровным голосом сказал Иоффе. — Что ж, будь по-вашему!
3
Очередь записывающихся в ополчение была не очень длинна, но двигалась медленно. Краснощекий лейтенант, составлявший список, принадлежал к породе неторопливых — расспрашивал не только о годе рождения, здоровье и военной подготовке, но и о родственниках, и о работе, и даже о том, нет ли особой склонности к какой-нибудь военной специальности? На Флерова он посмотрел с сомнением:
— У вас высшее образование.
— Разве высшее образование — помеха для фронта? — чуть не вспылил Флеров.
— Не помеха, нет. Но почему бы вам не поучиться на техника авиации? Тоже могут убить, но перед этим хоть больше пользы принесете.
И, отложив лежащий перед ним большой список, лейтенант внес ополченца в другой лист. Так получилось, что из уже ставшего фронтовым городом Ленинграда Флеров попал в глубокий тыл, в город Йошкар-Ола, о котором раньше и не слыхал. Туда эвакуировали Военно-воздушную академию — на курсы при ней направили молодого физика.
В Йошкар-Оле — многие жители называли свой город старым, почти пародийным названием Царевококшайск — кипела жизнь, мало отвечающая полусонному облику городка, раскинувшегося на берегах узенькой Малой Кокшаги. Ежедневно приходили эшелоны с эвакуированными предприятиями и институтами, теоретические занятия перемежались нарядами на разгрузку вагонов. Городок наполнялся, уплотнялся, оживал. На наспех оборудованный аэродром садились новенькие Пе-2, их только что начала выпускать промышленность. Курсанты чувствовали себя мастерами на все руки — усердно записывали лекции, усердно разбирали и собирали учебный двухмоторный бомбардировщик, с неменьшим усердием трудились на железнодорожной станции, ходили строем в кино и баню, а если выпадал вольный часок, то бултыхались в прохладной Кокшаге, либо доставали билетик в эвакуированный драматический театр, либо ходили в краеведческий музей — Йошкар-Ола, Красный город, гордился своей четырехсотлетней историей.
В Йошкар-Олу эвакуировался из Ленинграда и ГОИ — Государственный оптический институт. Сам Сергей Иванович Вавилов распоряжался размещением лабораторий. Оптикам предоставили лучшее здание в городе, но оно казалось мрачным и тесным по сравнению с прежним дворцом на Васильевском острове. Не посетить родных физиков Флеров не мог. Комендант казармы и староста группы курсантов понимали чувства молодого ученого в красноармейской гимнастерке и смотрели сквозь пальцы на его отлучки.
Среди работников ГОИ многие были знакомы Флерову, с другими он познакомился, таская ящики, выслушивая научные споры — обсуждения шли без президиумов и председателей, на ступеньках лестниц, на станинах машин. Дискуссии оттого были не менее содержательными, а горячность даже увеличивалась. Каждый ломал голову, чем помочь фронту. И Флеров выслушивал удивительные предложения, обсуждавшиеся на ходу, — сотрудники были готовы пожертвовать делом всей своей научной жизни, лишь бы срочно посодействовать армии.
Одна из дискуссий надолго запомнилась. Вавилов с женой Ольгой Михайловной совсем переехал в Йошкар-Олу; другой его институт, московский ФИАН, эвакуировался в Казань, в Казани Вавилов появлялся наездами. В ГОИ спорили о темновидении. Проблема была ясна: ночные бои — повсеместное явление, было бы очень важно сконструировать приборы, различающие предметы во тьме. В Физтехе разрабатывали радиолокацию, а кого-то из оптиков захватила идея приспособить для темновидения слепых людей. Замечено, что многие слепые хорошо чувствуют ультрафиолетовое излучение, у зрячих оно поглощается хрусталиком глаза. Людей, лишившихся хрусталика в результате ранения или ожога, сейчас, к несчастью, много. Может быть, снабдить их большими линзами, собирающими ультрафиолет? Темнозоркие наблюдатели могли бы сигнализировать о приближающихся в ночи машинах.
Вавилов, всегда спокойный, разволновался. Что за антигуманная идея! Инвалида — на передний край? Слепого — подвергать обстрелу? Нужно потерять сердце, чтобы говорить об этом!
— Да и с точки зрения физики проект неэффективен, — сказал он. — Ультрафиолетовое излучение в темноте ничтожно. Будем ориентироваться на инфракрасное, оно интенсивней. И не людей превращать в приемники сигналов, а конструировать физические приборы для темновидения!
Флеров подошел к Вавилову. Директор ГОИ обрадовался, что молодой физик жив и здоров. Жаль, брошено исследование спонтанного деления тяжелых элементов, открытие было сделано важное. Ничего не поделаешь — война!
— Мой сын Витя тоже надел военную форму. Воюет под Ленинградом. Тяжело там... У вас кто-нибудь остался в Ленинграде?
В Ленинграде у Флерова осталась мать, Елизавета Павловна. Вавилов печально покачал головой, услышав, что ядерную лабораторию закрыли в первые же дни войны и оборудование не эвакуировали. Что строительство циклотрона в Физтехе прекращено и изготовленные детали упрятаны в землю, он знал.
— Мы тоже прекратили строительство циклотрона в ФИАНе. Столько надежд с ним связывали! Самая крупная в мире машина...
— Правительство приказало?
Вавилов ответил со вздохом:
— Приказа не было. Вопрос совести... В такой тяжелый момент отвлекать огромные средства... Посовещались, помучились — нет, надо откладывать до конца войны!
И в этот день, и во все следующие, и на занятиях, и на аэродроме, и на койке Флеров неустанно допрашивал себя: делает ли он именно то, что для обороны является самым полезным. Это был маленький, личный, но очень жгучий вопрос: то, что делаю я, может делать любой, но я мог бы делать еще и то, чему я долго обучался, к чему имею особые способности, — что же для страны важней? А за маленьким личным вопросом вставал общий, огромный: кто докажет, что война закончится быстро? Молниеносной войны жаждет враг! А если война затянется, то имеем ли право прекращать исследования цепного распада урана, зная, что даст успешный результат? И Флеров твердил себе, что нет ни одного факта, ни одной физической константы, доказывающей, что урановая взрывчатка невозможна, наоборот, все известные сегодня факты таковы, что не может определенное — и не такое уж большое — количество легкого изотопа урана не стать бомбой невероятной силы. Речь не о личном благополучии, не о славе, нет, о военной мощи Родины, о своей ответственности за судьбу страны! Внезапное прекращение экспериментов с ураном — ошибка! Ошибку нужно исправить. Этого требуют интересы страны!
Флеров сел за письмо в ГКО. Он перечитывал, поправлял, снова перечитывал, снова исправлял. Письмо вышло убедительное, оно не могло не подействовать. Он бросил его в ящик с таким сияющим лицом, что случившийся рядом товарищ поинтересовался, не передало ли радио хорошие новости. Радио в эти первые дни ноября передавало новости только плохие — немцы рвались к Москве, Ленинград и Севастополь были в блокаде, на юге наши отступали к Ростову. И чем хуже были сводки Информбюро, тем нетерпеливее жгло курсанта желание возобновить опрометчиво прерванные работы по созданию нового оружия. Он повторил письмо, направленное в Москву, добавил просьбу вызвать его для личного доклада комиссии специалистов и надписал новый адрес: Казань, Академия наук СССР, академику А. Ф. Иоффе.
Из Москвы ответа не было, Казань отозвалась быстро. Отделение физико-математических наук Академии наук соглашалось выслушать доклад Г. Н. Флерова на тему о цепных ядерных реакциях в уране в любое время, когда он сможет явиться. Флеров бросился к начальнику курсов. Начальник с недоумением посмотрел на взволнованного курсанта. Вид у Флерова был удивительно несолиден.
— В Академию наук вызывают, Флеров? Перед академиками выступать? Ладно, пишите рапорт на мое имя. Между прочим, вы, собственно, кто? Я имею в виду — по гражданской специальности?
— Младший научный сотрудник ленинградского Физико-технического института, — отчеканил Флеров как мог значительно.
Начальник с сомнением рассматривал бумагу из Казани. Младшие научные сотрудники с докладами перед светилами науки не выступают. Ответ курсанта маскировал какую-то тайну. Начальник подписал командировку на десять дней и дал несколько советов. В Казани, хоть она от Йошкар-Олы всего в трехстах километрах, с продовольствием плохо. Пусть Флеров денег на провизию не жалеет. Со своей стороны, курсы обеспечат его сухим пайком по полной норме — он надеется, что кое-что перепадет и сверх нормы. Вот командировочные бумаги. Желаю успеха, курсант Флеров!
С полным мешком еды Флеров появился в Казани. Не снимая с плеч мешка, Флеров направился в университет, куда втиснули всю Академию наук, московский ФИАН, Радиевый и отделы других институтов. В коридорах встречались знакомые — похудевшие, побледневшие, ослабевшие. После каждой встречи мешок немного терял в весе. Неважный облик странно не совпадал с горячими речами, все делали какое-то свое, очень важное и очень нужное дело. Все торопились рассказать о работе, если не мешали запреты секретности. Флеров узнал, что Курчатов на юге, что его скоро ждут сюда, что Неменов и Щепкин на Северном флоте, что Арцимович конструирует темновидящие аппараты и помогают ему курчатовцы Юзефович и Гринберг, Гуревич и Алхазов из Радиевого института, что Хлопин с сотрудниками обеспечивают радиоактивными препаратами заводы, изготавливающие светосоставы для армии, что химико-физики, так рьяно вторгшиеся перед войной в механизм цепных урановых реакций, снова с головой погружены в свои традиционные горения и взрывы — у Зельдовича экспериментальная лаборатория по взрыву, конструкторы «катюш» частенько туда наведываются — и что в Казани объявился Давиденко с женой.
Вечер гость из Йошкар-Олы провел у Давиденко. Приятель, посмеиваясь, излагал свою одиссею. Сплошные мытарства! Еще перед войной он связался с одним заводом, заводские полставки удваивали институтскую зарплату. Как и Флеров, Давиденко записался в ополчение. Ополченцев перевели на казарменное положение — завод запротестовал и вытребовал своего работника обратно. Потом эвакуация по Ладоге, плыли на баржах и в лодках, механизмы вперемешку с людьми, тут и станки, и пеленки, и дети между мешками и ящиками...
— Тебя не узнать, Витя. Раньше ты ведь чем поражал? Щеки — кровь с молоком!
— От прежнего литража крови — половина. — Он помолчал и осторожно поинтересовался: — Как Елизавета Павловна, Юра?
Флеров с минуту молча смотрел в пол.
— Пишет. Очень ослабела. А я не могу помочь...
Узнав, что Флеров ратует за возобновление ядерных исследований — написал в правительство, выступит с докладом на теоретическом семинаре в академии, Давиденко удивился:
— Ну и чудак же ты? Немцы под Москвой, осадили Ленинград, мы потеряли Донбасс и Харьков? До ядра ли?
Флеров раздраженно ответил:
— Таскать хвосты самолетов может каждый. И я убежден, что немцы и американцы продолжают работать с ураном.
Давиденко скептически заметил:
— Разве тебя послушают! Кто ты для академиков? Поблагодарят — ах, очень интересно! И будьте здоровы — уматывайте, откуда прибыли. Вот и вся реакция — обрыв цепи на первом звене!
— Я и Курчатову напишу! Он возвратится к урану!
— Ну дай бог нашему теленку волка сожрать! — великодушно отозвался Давиденко.
Это число, 11 декабря 1941 года, Флеров в записной книжке обвел кружком. Что бы ни твердил Давиденко, именно с этого дня должен начаться переворот! Он выступает перед крупнейшими учеными страны, они не могут не понять важности дела. Он обвел взглядом сидевших впереди академиков — Иоффе, Капицу, Хлопина, Светлова, Семенова. Позади разместились свои — Арцимович, Гуревич, Померанчук. Флеров с огорчением подумал, как все за полгода постарели, какие у всех исхудавшие, посеревшие лица!
Доклад был сжат и полон — сводка экспериментов лаборатории Курчатова и зарубежных, системы плавнотекущих реакций на замедлителях нейтронов — тяжелой воде и гелии — и взрывосоздающие системы на быстрых нейтронах. Все выстраивалось логично — и создание новых источников энергии, и мощное атомное оружие. Прекращение ядерных исследований было неразумным актом. Их надо возобновить.
— Приступаем к обсуждению, — предложил Иоффе. — Кто хочет слова?
Обсуждение было непродолжительным, речи короткими. Данные убедительные, но где взять средства на работы такого большого масштаба? Докладчик предлагает в качестве замедлителя гелий. Но гелия у нас очень мало и работа с гелием трудна. Да и физические константы далеко не так точно определенны, как выписаны докладчиком на доске.
Иоффе объявил теоретический семинар оконченным.
Флеров с отчаянием спросил:
— Абрам Федорович, неужто не возобновим работ по ядру?
Иоффе покачал седой головой:
— Вы видели реакцию слушателей? Прекратить работы просто, возобновить — сложно. Штаты урезаны, снабжение материалами — мизер. Курчатов отошел от ядра. Алиханов просится в экспедицию на Алагез — на космические лучи. С кем работать, Георгий Николаевич?
На улице Флерову повстречался Зельдович, он спросил, как прошел семинар. Флеров хмуро ответил: безрезультатно, не понимают академики важности работ с ураном. Как, кстати, физико-химики развернулись в Казани? Работа интересна? А бытовые условия?
Во время обхода казанского «комбината институтов» Флеров успел узнать, как шла эвакуация Физтеха и Химфизики. Еще до нее семьи многих ученых заблаговременно вывезли из Ленинграда в глубинные сельские районы. Варвара Павловна, жена Зельдовича, с трехлетней Олей, двухлетней Мариной и няней попали в колхоз за Москвой. Когда объявили отъезд, Зельдович и Харитон с участием Рейнова разрабатывали новый тип противотанковой гранаты — применили понимание природы взрыва для создания эффективного заряда. Гранату испытали на полигоне, худенький Харитон сам метал ее в трофейный танк. А затем началась эвакуация. Фронт наползал на железную дорогу, станцию Мга бомбили. Зельдович отправил семье две телеграммы — одну, чтобы выезжали к эшелону Физтеха, другую, чтобы сидели на месте, ибо неизвестно, по каким дорогам поезд пойдет в Казань. Но эшелон благополучно прошел по маршруту, а Зельдович, помчавшись в село за семьей, узнал от встречного колхозника, что семья неизвестно куда выбыла. В предрассветный час на речном вокзале в Горьком снедавшая его тревога кончилась — он увидел всех своих: они выехали немедленно, как пришла первая телеграмма, и второй уже не получили. В Казани устроились неплохо: получили большую комнату, перегородили ее проволоками на отсеки, прикрытые простынями — для родителей, для няни, для детей, для него с Варварой Павловной. В общем, живем, а когда дети спят, то и над расчетами можно посидеть.
О работах своей казанской лаборатории Зельдович говорил с воодушевлением. Сама по себе она небольшая, но коллектив отличный — все экспериментаторы серьезные. Масса хозяйственных забот — доставать приборы, рабочих, помещение, самому конструировать аппараты... Зато темы — захватывающие: горение порохов. И результаты — неожиданные и важные: классическая баллистика часто неверно — с точки зрения физики и химии — трактовала пороховые взрывы. В этой, казалось бы, хорошо изученной области удалось найти массу неизвестных закономерностей. Для пушек новые открытия разных стадий горения взрывчатки не так уж существенны, а для реактивной артиллерии — значение первостепенное. Производственникам даны важные рекомендации, указаны надежные способы усовершенствования. Уже сегодня наши реактивные снаряды, нет сомнения, много эффективней аналогичного оружия гитлеровцев. Но не только реактивные и кумулятивные снаряды, а и вообще цепные процессы горения и взрыва — такова основная тема их института. Юлий Борисович Харитон еще в мирные годы настойчиво привлекал внимание к взрывчатым веществам, он всем тогда говорил, что войны с фашизмом не избежать и что взрывчатка — основной элемент войны, нужно, нужно глубоко разобраться в физике взрыва! Сейчас его настойчивость дает хорошие практические результаты. Зельдович берет на себя смелость пророчествовать: еще вернутся они к урановым проблемам, и тогда очень пригодятся созданные сегодня методы расчета реакций!
— А я бы возвратился в ядро, — закончил Зельдович. — Столько интересных идей, особенно в связи с реакциями на быстрых нейтронах... Урановая бомба — мы это с Юлием Борисовичем теоретически доказали — вполне реальна!
Флеров, слушая, думал, что ему раньше не виделись отчетливо все препятствия, мешающие возобновлению ядерных работ. Да, конечно, есть и косность, и равнодушие, и непонимание важности проблемы. Но имеется и другая причина — и она, возможно, всего важней сегодня, ее всего труднее преодолеть. С каким увлечением этот молодой доктор наук описывает, сколько нового удалось обнаружить в старом-престаром, еще со времен алхимиков изучаемом процессе горения пороха. И как нужны, как важны эти открытия для обороны! Любого другого можно обвинить в непонимании значения ядра, только не этого человека, с таким блеском перед войной проложившего свой путь в исследовании урана. Вот она, главная помеха для возобновления ядерных работ! Она в увлечении бывших ядерщиков своими сегодняшними делами, она в сознании того, что сегодняшние эти дела необходимы фронту. Все переменилось бы, если бы он, Флеров, доказал, что возобновление урановых исследований еще нужней, еще важней. Доказать это он не может даже самому себе — он только чувствует, что это так.
— Да, я бы еще поработал в теории цепных ядерных реакций! — повторил Зельдович, прощаясь.
Возвратившись в Йошкар-Олу, Флеров написал Курчатову. Он знал, что это скорее акт отчаяния, чем практическое действие. Ученик уговаривал учителя возобновить прерванные работы. Он упрашивал «блудного сына» вернуться в отчий дом. Он повторял в уме выражение «блудный сын», в нем звучало не оскорбление, а уверенность, что не может не вернуться учитель в область, которую сам создавал, в которой стал самой крупной в стране фигурой. Выражение это все-таки чуть не сорвалось с пера, Флеров вовремя одернул себя. Зато в письме в осажденный Ленинград к Панасюку он не постеснялся: «Недавно писал Игорю Васильевичу, звал его в Физико-технический институт. Он должен вернуться туда... Может быть, мое письмо поможет этому процессу возвращения «блудного сына».» Вернее было бы написать «блудного отца», но то прозвучало бы уже не ходячей фразой, а слишком остро...
В декабре школа летных техников была закончена, в петлицах Флерова появились два «кубаря». Он не преминул похвастаться новообретенным воинским званием все тому же Панасюку, сообщил попутно, что выступал перед академиками с проектом возобновления ядерных работ — неповоротливы, неповоротливы старики! Окончание школы ознаменовалось отправкой в часть, воевавшую на юге. Технику по спецоборудованию самолетов работы хватало — на расчеты урановых реакций в боевых условиях нельзя было выделить и минуты. Флеров ожидал ответа Курчатова, но учитель не отозвался на страстный призыв ученика. Можно забросить мечты об «урановом динамите» — идея бредовая, ее отстаивают только люди, «отделенные от действительности толстым слоем ваты», — так с горечью охарактеризовал себя сам Флеров в одном из писем. Но он все не мог отделаться от «бредовых идей».
«Петляковы» долго не задерживались на одном аэродроме, каждые две недели перебазировались. Сперва это были аэродромы под Новым Осколом, потом Касторная, а в начале февраля — Воронеж. Техник получил увольнительную для посещения библиотеки университета: командование знало, что странный лейтенант выступает с докладами перед академиками, он, несомненно, разрабатывал какие-то секретные военно-научные вопросы. В библиотеке Флеров накинулся на иностранные журналы. Немецкие были только довоенные, но английские и американские свежие. Наконец-то он узнает, как продвинулись англо-американцы за последние восемь-девять месяцев! Ему и Петржаку не дали Сталинской премии, потому что на их открытие не было откликов за рубежом — они просто запоздали, эти отклики, теперь он их увидит!
Библиотека не отапливалась. Флеров продрог в легкой шинели, дул на коченеющие пальцы и листал один журнал за другим. Ни в одном не было статей об уране. Даже словечко «уран» не упоминалось, не было ссылок и на довоенные исследования. Урана больше не существовало в физике, в ней не было проблемы цепных ядерных реакций. Это могло означать лишь одно — все относящееся к урану засекречено. Засекречивание работ рассекречивало их значение. Уран стал насущной военной проблемой. Все иные толкования отпадали.
«Спокойно! — мысленно прикрикнул на себя летный техник. — Без проверки это еще не доказательство!»
Он пододвинул лист бумаги, выписал фамилии крупных физиков, занимавшихся ядерными исследованиями в странах антигитлеровского лагеря. Фамилии выстраивались в колонки: Ферми, Силард, Цинн, Теллер, Андерсен, Уиллер, Вигнер, Вайскопф, Бор, Жолио, Хальбан, Коварски, Перрен, Чадвик, Фриш, Кокрофт... Если исследования по урану засекречены, то и эти фамилии стали секретными, новых работ, подписанных ими, он не найдет.
Он снова лихорадочно перелистывал журналы. Все сходилось! Не было в научных журналах Америки и Англии физиков-ядерщиков. Они замолчали, они прекратили публикации, они как бы выпали из истории физики. Физика больше не интересовалась урановыми реакциями и их исследователями.
— Вот почему они не опубликовали откликов на нашу с Костей работу! — почти с удовлетворением пробормотал Флеров. — Не игнорировали, как уверяли анонимные рецензенты, а засекретили интерес к нашему открытию еще раньше, чем засекретили свои исследования.
Вывод был очевиден и неотвергаем. Зельдович с Харитоном выяснили, что контролируемую реакцию распада урана осуществить легче, чем взрывную. Но только эта последняя — чудовищная ядерная бомба — может интересовать военных. Вот чем заняты ядерщики Америки и Англии — они разрабатывают урановую бомбу!
В часть Флеров возвратился взбудораженный. Дежурный недоверчиво покосился на лейтенанта. Вот уж загадочная личность: отпросился в библиотеку, вернулся вроде бы навеселе — и где достал спиртное?
Ночь шла без сна. Решение явилось сразу. Если бы можно было в казарме ночью зажечь огонь, он сразу бы схватился за бумагу — писать по самому высокому адресу: Председателю Государственного Комитета Обороны. Однажды Курчатов весело объявил: «Чем выше, тем скорее». Надо метить максимально высоко, чтобы получилось скоро. На другой день он самым лучшим почерком вывел: «Дорогой товарищ Сталин!» Начало было сделано, дальше — суть проблемы в военном и мирном аспекте, засекречивание урановых исследований в Америке, просьба срочно восстановить ядерную лабораторию... И это письмо ушло. Надо было набраться терпения и ждать. На такое письмо адресат не мог не откликнуться! Терпение было единственным, чего он никогда не мог набраться. Просто ждать означало терять попусту время. Он снова углубился в расчет «уранового динамита» — реакции на быстрых нейтронах, — снова написал Панасюку, что продолжает хлопоты о возобновлении ядерных работ, деловито осведомился, согласен ли тот вернуться к исследованию цепных ядерных реакций, и уверенно пообещал: «Вскоре смогу отозвать из армии 3–4 человека и получу разрешение на вывоз из Ленинграда оставленного там оборудования».
В конце мая Флерова вызвал начальник эскадрильи. Флеров молча вытянулся перед начальником. Тот с удивлением смотрел на худенького лейтенанта, старательного, дисциплинированного, но в их летном деле звезд с неба отнюдь не хватавшего.
— У вас, кажется, большая рука в Москве? — поинтересовался начальник и, не получив ответа от смущенного лейтенанта, продолжал: — В общем, собирайтесь. Проездные бумаги готовы.
— Куда? — почти беззвучно — перехватило горло — спросил Флеров.
— Разве вы сами не знаете? Вас вызывает правительство... От нашей боевой части передайте приветы...
4
Полковник Илья Григорьевич Старинов благополучно завершил свои дела в секторе минных работ Красной Армии: перед войной, после возвращения из Испании, он несколько месяцев возглавлял этот сектор, половина сотрудников — знакомы и охотно шли навстречу бывшему начальнику. Можно было возвращаться на Южный фронт, где полковник командовал оперативной инженерной группой. Уехать из Москвы, не повидав «научников» из ГКО, он не захотел. Прямого задания в ведомство Кафтанова на этот раз не было, но поговорить с друзьями-приятелями об экспериментальных минах, присланных на Южный фронт, не мешало — пусть люди порадуются, что работа удалась. Было еще одно дело, возможно, пустячное, но уже с месяц беспокоящее Старинова, только кафтановские профессора могли установить, стоит ли оно выеденного яйца. И, выйдя из Наркомата обороны на улице Фрунзе, полковник зашагал мимо Кремля на улицу Жданова, 11, где разместился уполномоченный ГКО по науке Сергей Васильевич Кафтанов со своим аппаратом.
Кафтанов, председатель Комитета по делам высшей школы, с начала войны, как и многие другие высшие руководители, сидел в двух креслах. Одно кресло, комитетское, сейчас находилось в Томске, Кафтанов нет-нет и летал туда, командуя размещением почти двухсот эвакуированных вузов. А в бывшем здании комитета помещался теперь аппарат уполномоченного ГКО — дюжина специалистов высшей квалификации плюс курьеры, сторожа и технические секретари. Полковник шел к профессору Балезину, химику, направлявшему в инженерную группу Старинова новинки минной техники.
Балезин, невысокий, широкоплечий мужчина лет тридцати пяти, радостно встретил полковника. Сколько лет, сколько зим — в смысле недель с прошлой встречи! Садитесь, рассказывайте, крепки ли минные барьеры у ворот Кавказа? Большие ли потери у врага на наших инженерных заграждениях?
— За последнюю конструкцию — спасибо! — сказал Старинов. — Побольше бы этих «игрушек», армии — серьезная подмога.
И Старинов стал рассказывать, какие достоинства у новой мины и что сделать, чтобы достоинства усилить, а еще имеющиеся недостатки ослабить. Полковник, автор печатного руководства по минному делу, считался авторитетом в использовании мин. Балезин записал его пожелания. Вошла секретарша с бумагами. Балезин, не прерывая разговора, пробежал их глазами, подписал, вынул из кармана печать и прихлопнул подпись — в этом аппарате вопросы решались без проволочек.
— Замечания учтем, пожелания постараемся выполнить. У вас все, Илья Григорьевич?
— Еще один вопросик, Степан Афанасьевич. — Старинов достал из командирской сумки немецкий блокнот в твердом переплете, размером почти с тетрадь — алфавит сбоку, линованные страницы тонкой бумаги, на каждой — формулы, вычисления, комментарии к вычислениям. Четкий, ясный почерк. — Трофей. По впечатлению — что-то научное
— Если научное, значит, по нашей части. Посмотрим! — Балезин полистал записную книжку, захлопнул блокнот и весело посмотрел на полковника. — Занятный документик. Автор, по-видимому, физик. И его очень интересует урановая взрывчатка. Подсчитывает, что может дать высвобождение урановой энергии, какие нужны материалы и оборудование. Рассказывайте теперь, как этот трофей достался вам?
Записная книжка попала к полковнику после диверсионного налета на гарнизон поселка Кривая Коса на северном берегу Таганрогского залива. С осени прошлого года Старинов возглавил инженерную группу, минировавшую подступы к отвоеванному у немцев Ростову. В распоряжении полковника было пять специальных батальонов, в одном из них — двадцать два испанца-интернационалиста, товарищи Старинова по боям с фашистами на Иберийском полуострове. Завершив минирование своей территории, полковник перенес минную войну на землю, захваченную врагом. В январе, когда морозы сковали залив, Старинов почти ежедневно отправлял на северный берег летучие диверсионные группы. В маскхалатах, с автоматами и минами, группы выходили на лед часа в четыре, к вражескому берегу добирались в темноте, минировали шоссе и нападали на транспорт. Немцы перестали ночью ездить по приморской дороге Таганрог — Мариуполь, а для охраны ее выделили целую дивизию, расквартировав гарнизоны во всех населенных пунктах. Один отряд разместился в Кривой Косе. В ознаменование дня Красной Армии 23 февраля минеры-диверсанты задумали уничтожить этот гарнизон. Уже не маленькая диверсионная группа, а отряд в четыреста человек должен был нагрянуть ночью к немцам в гости.
«Добро» на удар по Кривой Косе дал командующий 5-й армией Цыганов, контр-адмирал Горшков прислал в помощь краснофлотцев, в рейде приняли участие и пограничники, мастера ночного поиска. Среди минеров были и двенадцать испанцев. Из ста шестидесяти человек гарнизона десять взяли в плен, остальные нашли себе вечное упокоение на берегу скованного льдом залива. В числе трофеев оказалась легковая машина. Пленные сказали, что в ней сидел какой-то майор инженерных частей со своим шофером. Три дня назад машина проследовала из Мариуполя в Таганрог, сегодня вечером возвращалась. Ночная езда запрещена, майору пришлось заночевать в Кривой Косе. Когда открылась стрельба, он кинулся к машине, но и его и шофера убили. В портфеле у него и нашли этот блокнот.
— Ну и что же вы сделали с трофеем, Илья Григорьевич?
Старинов хотел сдать блокнот в штаб армии, но переводчик сказал, что штабу не до физики. Вскоре Старинова вызвали в Москву. А в Москве к кому же идти, как не к «научникам» аппарата ГКО?
После ухода полковника Балезин еще раз перелистал блокнот. Это, конечно, не были записи учебных лекций. Гитлеровский майор высчитывал эффекты ядерных реакций. Балезин задумался. Что содержит блокнот погибшего физика? Воспоминание о гражданской специальности, покинутой в связи с военной службой? Или пункты военного задания? Балезин прикинул, что было известно о майоре. Офицер инженерных войск, своя машина со своим шофером, пропуск на передовую, маршрут: Мариуполь — Таганрог — Мариуполь... И Таганрог, и Мариуполь — металлургические центры: стальной прокат, трубы, фасонное литье... Не осматривал ли майор захваченные немцами предприятия в поисках материалов и оборудования, которые могли бы пригодиться для работ по урану?
— Нужна экспертиза! — вслух сказал Балезин.
Он мысленно перебрал известных физиков. Он знал, над чем они работают, где находятся, прикинул, как быстро могут дать заключение. Один показался ему самым подходящим. Специалист-ядерщик, сейчас эвакуирован на Урал, много делает для нужд обороны.
Балезин вынул свой бланк, отстучал на машинке просьбу дать отзыв о трофейном научном документе, подписался, поставил печать.
— Отправить срочно, — сказал он, передавая секретарше блокнот и свое письмо.
Она молча удалилась.
В опустевшем здании двенадцать специалистов выполняли работу, с какой до войны едва справлялось триста. Здесь не признавали страховочных согласований, утомительных совещаний, словопрений, осторожничанья. Война требовала быстроты, умелости, смелости. Специалисты научного аппарата ГКО — после войны некоторые стали академиками, другие, каждый в своей области, приобрели заметное имя — действовали быстро, умело и смело. Никто не пытался переложить ответственность на соседа или начальника — уклонение от ответственности воспринималось в доме № 11 по улице Жданова, как на фронте воспринимается трусость в бою. Балезин, старший помощник Кафтанова, знал, что пакет в этот же день уйдет по адресу, а эксперт не станет медлить с ответом.
5
— Заходите, — сказал Кафтанов. Старший помощник попросил по внутреннему телефону срочно принять его.
Кафтанов с надеждой смотрел на вошедшего Балезина. У помощника, несомненно, были важные новости. Кафтанову показалось, что он догадывается, какие. Жена Балезина, Тамара Иосифовна, помощница Зинаиды Виссарионовны Ермольевой, испытывала на мышах выделенный ими из плесени пенницилиум-крустозум — препарат, убивающий гноетворные бактерии. Кафтанов знал, что выращенная в бомбоубежище — в военное время это было самое спокойное, хотя и не самое удобное место для лабораторных исследований — плесень показала при первом же опробовании высокие лечебные свойства.
— Новое от Тамары Иосифовны? — спросил Кафтанов. — Госпитали заждались эффективного лекарства. Столько раненых, такая смертность...
Балезин держал папку с бумагами.
— Не имею права выдавать семейные тайны, Сергей Васильевич. По секрету если — полный успех. Сегодня Ермольева сама явится к нам и лично проинформирует, что делать, чтобы препарат пошел в госпитали. Опять же, выдавая семейные секреты, — глюкоза нужна, тонны сахара. Грибок — такой сладкоежка!
— Трудно, трудно — тонны сахара! — Кафтанов вздохнул. — Добудем! Что у вас, Степан Афанасьевич?
Балезин положил перед уполномоченным записную книжку немецкого офицера, присланную экспертизу и письмо Флерова из Воронежа. Кафтанов перелистал записную книжку, прочел небольшое — на полутора страницах — экспертное заключение. Эксперт писал, что в записях немецкого физика нет ни одного факта, о котором бы не знали советские ученые. Несомненен интерес немецкого майора к военной стороне урановой проблемы, но чего-либо нового и здесь не видно. Очевидно, немецкие ученые, несмотря на войну, продолжают трудиться в области военного применения энергии распада урана. Реального успеха в этом направлении вряд ли можно ожидать раньше, чем через 15–20 лет. В военное время, когда так дороги ресурсы и люди, нет острой потребности возвращаться к исследованиям распада урана.
— Все же реальность самой проблемы он подтверждает. — Кафтанов, покачав головой, добавил: — Немцы с ураном работают, а мы прекратили... Не сделали ли мы ошибку?
— Прочтите теперь письмо лейтенанта Флерова, присланное на имя товарища Сталина и пересланное нам для решения.
Письмо Флерова заставило Кафтанова задуматься.
— Те же закономерности, что описывает немец. Но, в отличие от эксперта, настаивает на немедленном возобновлении урановых разработок! Серьезно ли это?
— Очень важный аргумент — засекречивание работ по урану в Америке. Это надо будет проверить. К тому же должен вам сказать, Сергей Васильевич, я Флерова знаю — серьезный ученый!
И Балезин рассказал, как еще перед войной слушал в Московском университете лекцию этого самого Флерова об атомной проблеме. Худенький паренек, до того моложавый, что казался студентом, говорил о совершенном им с Петржаком открытии самопроизвольного распада урана и об урановой бомбе. И так подробно описывал взрывную мощь бомбы, словно бомба была уже изготовлена и он держал ее в руках. Одно несомненно — урановая взрывчатка не плод скороспелых попыток помочь фронту сногсшибательной идеей, а серьезная научная проблема, возникшая еще до войны.
Кафтанову тоже припомнились два обстоятельства, связанные с именем Флерова. Заместитель председателя Комитета по Сталинским премиям, он проверял документы по премированию научных работ. Исследование Флерова и Петржака по спонтанному делению урана бросилось в глаза противоречивостью оценок. Авторы — ленинградские комсомольцы, хорошая научная молодежь, рекомендации солиднейшие — постановление всесоюзного совещания физиков-атомщиков, особенно ратовал Иоффе, назвавший спонтанное деление крупнейшим открытием года. А штатный рецензент отозвался отрицательно, и тоже аргументы солиднейшие — все наши крупные исследования немедленно проверяются на Западе, работу же Флерова и Петржака ни одна иностранная лаборатория не воспроизвела, ни в одном из журналов не появилось отзывов. Пришлось отложить премирование молодых физиков до момента, когда на их исследование обратят внимание за границей.
Второе воспоминание заставило Кафтанова нахмуриться. Полгода назад Флеров прислал такое же письмо — и тоже аргументы убедительные. Кафтанов для проверки письма попросил у помощника справки по урановой проблеме и узнал, что до войны при Академии наук функционировала специальная урановая комиссия, что в ее делах сохранились подробно разработанные планы исследования деления ядер урана и что в архиве Совнаркома имеются письма академиков Вернадского, Ферсмана и Хлопина и академика Семенова — и все на ту же тему: изучение реакций распада урана — важнейшая научная проблема, нужно заниматься ею широко и интенсивно. И еще узнал Кафтанов, что исследования урана шли в крупнейших институтах страны: в Ленинграде — в Физтехе, РИАН, Химфизики; в Москве — в ФИАНе; в Харькове — в УФТИ. Уже одно перечисление научных центров, изучавших деление урана, показывало, что проблема эта, точно, важная, Флеров не ошибался, требуя возобновления экспериментов, прерванных войной и эвакуацией институтов.
И Кафтанов, составляя список важных научных тем, которые следовало бы разрешить, внес туда и урановые исследования, но решения по ней не было принято.
— Мое мнение: обратиться к товарищу Сталину с просьбой возобновить урановые работы, — продолжал Балезин. — Чем мы рискуем? Ну отвлечем человек сто на эти исследования, затратим миллионов двадцать — пустяк в общем масштабе военных расходов. А если откажемся от работ по урану, не обгонят ли нас так, что и догнать потом не сумеем? Все данные за то, что тема сама по себе — важнейшая.
— Я подумаю, — сказал Кафтанов. — Оставьте мне папку.
Кафтанов подошел к окну, долго смотрел на улицу. За стеклом торжествовала весна, солнце живило землю — распахнуть окно, ворвется птичий гомон, поплывут из садика запахи рано распустившейся сирени. Морозная, ветреная, грохочущая орудиями, сотрясаемая взрывами авиабомб зима кончилась, больше она не возвратится. И немцев нет под Москвой, отогнали врага. Может, все-таки настало время? Может, прав Балезин — дело важное, а риск невелик! Да и нет, по сути, риска!
Кафтанову вспомнились дни прошлогодней осени, когда он готовился к докладу о срочных научных работах для нужд войны. Скажи кому-нибудь лет через десять, не поверят! Всех ученых, от молодых до знаменитостей, и знаменитостей особо, охватило одно желание — немедленно помогать фронту! Все свои мирные темы забросить, все знания отдать пусть маленькой, но практической, срочной работе для победы. Бах, Вольфкович, Зелинский, Наметкин, Фрумкин требуют в специальном письме, чтобы правительство разрешило сконцентрировать все усилия ученых на нуждах обороны. Академики готовы забыть о науке, которую десятилетиями создавали, только бы чувствовать себя солдатами фронта. Потоки, потоки военно-научных предложений — масса ценных, множество дельных, еще больше фантастически-нереальных, а всего больше — пустячных. Чтобы отделить важное от ненужного, и был создан аппарат помощников Уполномоченного ГКО по науке — К. Ф. Жигач, В. В. Коршак, Н. М. Жаворонков, 3. С. Роговин, М. Н. Волков, И. Л. Кнуньянц, М. М. Дубинин, А. А. Жуховицкий и другие, а над ними старшой — Балезин. Отличный фильтр: только реально-ценное — к выполнению, только важное — в правительство.
Еще раз придирчиво спросил себя: пришло ли время вновь заговорить об уране? В Германии — есть данные — разрешено вести только такие исследования, которые дадут эффект не дальше, чем через полгода. Мы же и сейчас многие научные темы планируем на десятилетия. Урановая проблема не будет каким-то единственным исключением.
Кафтанов снял трубку телефона:
— Зайдите ко мне, Степан Афанасьевич.
Балезин появился с новой папкой.
— Будем писать товарищу Сталину. Подготовьте докладную.
Балезин вынул из папки лист.
— Уже сделано. Если подпишите, сегодня отправим в ГКО.
Кафтанов, прочитав, с удивлением посмотрел на помощника:
— Ни слова о заключении эксперта. Почему?
— Разве мы обязаны указывать все экспертизы, которые требуем для себя? У меня еще есть заключение нашего крупнейшего специалиста по взрывчатке. Он с ураном дела не имел и ничего о нем сказать не может. О его отзыве я тоже не говорю. ГКО просит нашего конкретного заключения по письму Флерова. Вот мы и высказываемся — письмо дельное, нужно возобновить урановые исследования. И попутно сообщаем о трофейном документе, из которого явствует, что немцы продолжают заниматься ураном.
Кафтанов усмехнулся, подписал докладную и протянул ее Балезину.
— Повесит вас когда-нибудь хозяин, Степан Афанасьевич. И меня за одно с вами за такие умолчания.
Глава вторая ВОЗВРАЩЕНИЕ «БЛУДНОГО СЫНА»
1
Балезин пожал руку Флерова, пригласил садиться. Техник-лейтенант присел так осторожно, словно боялся резким движением поломать стул. Он скромно сложил руки на коленях, ждал, не задавая вопросов, только краска на щеках и прерывистое дыхание выдавали волнение.
— Мы вас демобилизуем из армии, — сказал Балезин. — Будете продолжать работы, прерванные войной.
— Восстанавливается вся лаборатория? — быстро спросил Флеров.
Балезин уклонился от прямого ответа. Решение ГКО на письмо Кафтанова пришло через два дня после того, как его отправили. Уполномоченному по науке предписывалось организовать работы по использованию атомной энергии, а заодно проверить, как идут аналогичные исследования за рубежом. Сведений об урановых работах в Германии и других странах сразу не получить, ясного представления, какой объем исследований запланировать у себя, тоже не было. Балезин сказал:
— Будет видно... Подготавливаем специальное решение правительства. К вам просьба: набросайте план первоочередных мероприятий, назовите фамилии и адреса людей, которых надо срочно привлечь.
Флеров ходил по столице как в чаду. Он взволнованно писал Панасюку: «Пишу из Москвы. Составляется план работ... В плане и твоя фамилия. Легче будет, если тебе самому удастся приехать в Казань, где, по-видимому, на первое время будет наша база». Друг отозвался немедленно. Он сомневался, нужно ли ехать в Казань. Ведь площадка урановых работ — Ленинград, здесь все оборудование ядерной лаборатории. Не лучше ли начать восстановление исследований в Ленинграде, несмотря на ужасные условия блокады? Какого мнения Игорь Васильевич? Флеров ответил: «Твое письмо переслал целиком И. В. Курчатову в Казань. Я лично согласен, чтобы ты подготавливал базу в Ленинграде... Если тебя не затруднит, разберись в оставленных мною ящиках в ЛФТИ. Там должен быть уран». Все дни, пока шла переписка, Флеров нетерпеливо ожидал обещанного решения. Первая радость от встречи со столицей скоро превратилась в нервное томление. Ничегонеделание было единственным делом, к какому он не был способен. Балезин посоветовался с Кафтановым. Уполномоченный ГКО, уже говоривший с Флеровым, вызвал его на вторичную беседу, потом посоветовал отпустить беспокойного физика налаживать собственную работу. При любой организации урановых исследований она пригодится.
Объявленное Балезиным решение сгоряча показалось Флерову окончательным и мало отвечающим его обширному проекту. Демобилизованный Флеров направлялся в Казань на прежнюю должность в Физико-технический институт. Из представленного им списка физиков-ядерщиков демобилизуется пока один Петржак, он тоже направлен в Казань на старое место, в Радиевый институт.
— А Курчатов? Он же наш руководитель! А Панасюк? И все остальные? Я же столько фамилий вам назвал! — с огорчением говорил Флеров.
Балезин разъяснил:
— ГКО перегружен более важными делами, чем научные исследования. Дойдет наша очередь докладывать в ГКО, решим и этот вопрос.
— Но что я буду делать в Казани? Все оборудование в Ленинграде. Я смогу получить командировку в Ленинград?
— Полет в осажденный город — дело сложное. Но, конечно, поможем. Пока же оформляйте демобилизацию и отправляйтесь в Казань.
Летом Балезин выехал в Уфу. Сюда эвакуировали Украинскую Академию наук, надо было согласовать с ее президентом А. А. Богомольцем некоторые первоочередные работы. У Балезина не выходили из головы урановые исследования. С Богомольцем он не захотел говорить об этом, тот мог придать идее размах, какого она, возможно, и не заслуживала. Лейпунского в эти дни в Уфе не было. Балезин посетил Латышева. Лаборатории харьковского Физтеха не удалось сосредоточить в одном городе. Основную часть вывезли в Алма-Ату, часть осела в Уфе. Напористый Латышев сразу пошел в атаку на представителя ГКО. Жалобы его были как бы специально подобраны в тон мыслям Балезина. Латышев возмущался, что в институте запрещены все работы по атомному ядру, как далекие от нужд обороны.
— Пустяками заставляют заниматься, сущими пустяками! Меня, ядерщика! Неэффективная трата научных сил, вот что это такое!
Латышев и не подозревал, что его возмущение вызовет радостный отклик у представителя ГКО.
— Насколько я понимаю, вы считаете, что возобновление ядерных исследований отвечает требованиям момента?
— Ядерные исследования отвечают любому моменту! — сердито ответил физик. — Ибо в нашей науке нет ничего более важного, чем ядро. Даже во время войны нельзя жить сегодняшним днем. Можете меня расстреливать, если я сказал ересь!
Балезин написал на своем официальном бланке: «Профессору Латышеву разрешается вести исследования по атомному ядру. Отвлекать на другие работы не рекомендую». Ошеломленный физик принял бумагу в обе руки и так растерянно смотрел на нее, словно боялся поверить в удачу.
Возвращаясь в Москву, Балезин с удовлетворением сводил баланс. Три физика могут сосредоточиться на ядерных исследованиях: Георгий Флеров, Константин Петржак и Георгий Латышев. Немного, но ведь и Волга начинается с ручейка.
Кафтанов порадовал помощника: надо готовить постановление ГКО по ядерным разработкам. Запрошенные сведения получены. Дело серьезное, возобновление прерванных войной работ назрело. Их нужно централизовать, а не распылять по институтам, как до войны. И срочно назвать руководителя новой лаборатории.
— Я вызвал из Казани Иоффе и других академиков. Посоветуемся. Светлая голова — Абрам Федорович! Глядит далеко вперед. Я ему верю. Что он скажет, то и сделаем.
Балезин знал, что его начальник испытывает симпатию к старому физику. Когда на Иоффе перед войной пошли нарекания, Кафтанов, в то время руководивший перестройкой высшей школы, горячей всех выступал в защиту ленинградского Физтеха и не останавливался перед ссорой с теми, кто пытался как-нибудь ущемить Иоффе.
В Москву из Казани приехали Иоффе, Хлопин и Капица. В кабинете у Кафтанова академиков познакомили с тем, как идут урановые исследования за рубежом. Кафтанов чувствовал удовлетворение — все трое были поражены размахом, какой придали на Западе урановой проблеме.
Кафтанов сказал:
— Не будем выискивать, кто виноват, что ядерные работы прекратились во всех институтах. Оставим этот вопрос для историков. Надо решить: восстанавливать урановые исследования или нет? Мнение правительства — восстанавливать. А ваше?
Первым нарушил молчание Хлопин:
— Мнение правительства для нас — приказ! Что до Радиевого института, то мы с охотой возобновим исследование распада урана. Перед войной это была практически основная тема наших работ.
Кафтанов поинтересовался, считает ли академик Хлопин правильным то направление и достаточным тот объем работ по урану, которые представлены в Радиевом институте? Хлопин ответил, что деление ядер урана изучали и в институте Иоффе, возвращение к урановой проблеме невозможно без восстановления ядерной лаборатории этого института. Капица подтвердил, что новую лабораторию надо создавать на базе Физтеха и Радиевого института. В его Институте физических проблем тематика далека от урана — менять ее нет резона. Хлопин добавил, что богатые месторождения урановых руд в стране пока неизвестны, основная причина — не искали, внимание отдавали разведке других оруденений. Запасов импортного сырья мало. Надо создать специальные поисковые партии для разведки урановых месторождений. Перед войной кое-что в этом смысле начали делать, но мало.
Кафтанов записывал все предложения. После совещания он попросил Иоффе остаться.
— Итак, новая ядерная лаборатория на базе вашего института, Абрам Федорович. Нужен руководитель. Может быть, вы? Такое у вас имя, такой авторитет!
Иоффе догадывался, что к нему обратятся с этой просьбой. Покойный Киров некогда высказывал похожее пожелание. Возражения, какие Иоффе выдвинул тогда, сегодня были еще весомей. Руководитель нужен не так именитый, как энергичный, молодой, решительный. И непременно специалист по атомному ядру. Сильные ядерщики в стране есть — член-корреспондент Академии наук Алиханов, профессора Курчатов и Синельников, украинский академик Лейпунский. Любой может возглавить проектируемую лабораторию.
— Нет, а кого бы выбрали вы? — настаивал Кафтанов. — Вот дается вам такое право... Выбирать, чтобы без всякого спора... На ком вы остановитесь, Абрам Федорович?
— Я бы остановился на Курчатове, — без уверенности сказал Иоффе.
Балезин, задержавшийся в кабинете Кафтанова, заметил колебания Иоффе.
— Абрам Федорович, мы не слышим твердости в вашем голосе!
Иоффе повернулся к Балезину:
— Нет твердости? Пожалуй, верно. Дело в том, что сам Курчатов отказался от своей прежней тематики. И ядерную лабораторию закрыли по его желанию. Я недавно предлагал ему возобновить ядерные работы. И слушать не захотел.
— Захочет слушать! Объясним положение, — сказал Кафтанов. — Не может быть, чтобы не понял. Такой серьезный ученый! Его книгу по атомному ядру мы со Степаном Афанасьевичем знаем. Хороший труд. И вы рекомендуете! Сталинскую премию недавно получил за противоминную защиту! Степан Афанасьевич, вызовите профессора Курчатова в Москву. И члена-корреспондента Алиханова нужно вызвать. Пошлите срочный вызов в Армению. Он, кажется, там. В экспедиции на Алагезе. Верно, Абрам Федорович?
2
Он еще не начал твердо ходить по земле после болезни, а уже надо было бегать. «Прочнисты» — лаборатория брони — работали неторопливо — пришлось внедрять свой дух. Тем, кто не принял нового стиля, Курчатов посоветовал перевестись в другие группы. Основная база лаборатории прочности была на Урале, надо было делить время между Казанью и Свердловском. Лев Русинов попросился в помощники, он никогда не занимался броней, но согласился изучить новое дело.
На Севере трудились сотрудники прежней ядерной — Неменов и Щепкин, работами руководил брат севастопольского Анатолия Регеля — Вадим Регель, один из старейших — еще довоенных — помощников Александрова по размагничиванию судов. В Полярном флот готовился к летней кампании 1942 года. Лето предстояло тяжкое — планировались большие проводки судов из Англии. Самолеты гитлеровцев засеивали магнитными минами все выходы из советских баз в океан. У площадок, где шло размагничивание, выстраивались очереди надводных и подводных кораблей: на первых устанавливались на палубах обмотки, питаемые током батарей; подлодки размагничивали «методом натирания» — краснофлотцы, по указанию физиков, поднимали и опускали вокруг лодки кабель. Методы были те же, что и в Севастополе, темпы другие. Малочисленная группа физиков не справлялась. Александров прочел офицерам лекции о размагничивании и, передав размагничивание морякам, улетел в блокированный Ленинград. Неменов уехал в Архангельск организовывать там станцию размагничивания. Щепкин вернулся в Казань. Курчатов и его определил в «прочнисты». В Казани объявился и Лазуркин, Курчатов подумывал, не привлечь ли и его к броневым спецработам. Военно-морское командование потребовало инструкции по размагничиванию речных кораблей. Лазуркин, после Баку защищавший суда от мин в Сталинграде и Саратове, сел писать ее.
В институте снова зазвучал громкий голос Курчатова, в коридорах снова видели его высокую фигуру — уже через месяц после выздоровления он шагал с былой стремительностью, — и вокруг него опять собирались старые сотрудники. «Меняю прежнюю специальность на прежнего начальника», — меланхолично высказался Русинов. И снова руководитель броневой лаборатории сидел на двух стульях, как не раз в прошлом, — сотрудничал с Александровым в противоминной защите и исследовал способы усовершенствования брони. Он был доволен, это все видели. И работа доставляла ему не только внутреннее удовлетворение, но получила официальную высокую оценку: весной Сталинской премией первой степени отметили Александрова и самых видных его помощников по размагничиванию на разных флотах: Бориса Гаева, Петра Степанова, Вадима Регеля, Владимира Тушкевича, Игоря Курчатова.
И когда в августе в Казань примчался Флеров, он со смятением убедился, что Курчатов и не помышляет о возвращении. И если бы он рассердился на ученика, если бы с гневом выговорил, что во время войны имеются более важные проблемы, чем исследования, сулящие успех лишь в отдаленной перспективе, технику-лейтенанту Флерову, еще не сбросившему военный мундир, стало бы ясней душевное состояние учителя. Но Курчатов добродушно расспрашивал, как прошла беседа с Кафтановым, соглашался, что засекречивание работ по урану за границей свидетельствует, что им придают военное значение, одобрил идею Флерова возобновить самостоятельно ядерные исследования, обещал свою помощь — приходите, если что не получится, посодействую. Флеров жаждал не помощи — руководства. Курчатов улыбался, размеренно поглаживал отрастающую черную бороду — странно было видеть так резко изменившееся лицо. В его словах было желание посочувствовать, а не стремление вмешаться — именно о таком стремлении, о властной руке Курчатова мечтал ученик...
Флеров переходил от радости к отчаянию — радовался, что наконец вернулся к любимому делу, отчаивался, что любимое дело не налаживается. Для опытов отвели помещение в этнографическом музее. Под чучелами — иные были так тяжелы, что не отодвинуть, — он установил скудную аппаратуру. Каждый прибор, каждый метр провода, каждый реостат и выпрямитель выпрашивался — оборудование не давали, а одалживали, даже стол со стулом дали до востребования. В унынии физик-одиночка твердил себе, что все переменится, как только выйдет правительственное решение. Стараясь сохранить бодрый тон, Флеров засел за письмо Панасюку: «Наконец-то пишу тебе из Казани. Приехал сюда несколько дней назад. Начинаю работу, правда, не в том масштабе, как я тебе писал из Москвы... Постановления... достаточно авторитетных организаций о начале работ еще нет... Виделся с Игорем Васильевичем. Работа в основном будет разворачиваться в том же направлении, что и до войны. Поэтому очень нужны будут все радиотехнические детали: лампы, лабораторные мелочи... Упаковывать придется отдельно — вещи очень важные — уран, ионизационную камеру».
В музей пришел Петржак. Приехав в Казань до Флерова, он получил срочное задание — просвечивать швы подводных лодок. Он со смехом рассказывал, как ошеломила его начальство бумага из Москвы за подписью замнаркома обороны.
Уже вечером 22 июня 1941 года на столе Петржака — он вернулся с загородной прогулки — лежало четыре повестки в военкомат. 28 июня он участвовал в сражении на Карельском перешейке, потом его перебросили на Волховский фронт — почти год провоевал начальником разведки артиллерийско-зенитной части. Командир части, получив вызов, накинулся: «Говори прямо — кто ты?» — «Лейтенант Петржак, товарищ майор». — «Врешь, не так отвечаешь! Сам знаю, что лейтенант. В штатском ты кто?» — «Научный работник». Командир, подписывая отпускную, ворчал: «Разберешь тебя! Ученый, и видать, не малый — замнаркома твоей особой интересуется. А материшься ядреней матроса!»
— Что делать? — с тоской спросил Флеров.
— Ждать, — мудро посоветовал друг.
Флеров вскочил и нервно зашагал между чучел:
— Не буду ждать! В Москве обещали командировку в Ленинград. Я поеду доставать оборудование и материалы. Без них стоящего эксперимента не поставить!
Нетерпеливо ожидавший перемен Флеров не знал, что именно в эти дни все, чего он так горячо добивался, уже свершилось. Возвратившийся из Москвы Иоффе вызвал к себе Курчатова и передал, какой шел разговор у Кафтанова. Курчатов хмуро ответил:
— Я не уполномочивал вас, Абрам Федорович, рекомендовать меня в руководители новой ядерной лаборатории.
— Спрашивали моего мнения. Мое мнение именно такое — вы всех лучше поведете дело. На днях вас вызовут в Москву. Если несогласны, сможете сами объявить об этом.
Остаток дня Курчатов сидел за столом, хмурый, погруженный в какие-то невеселые размышления. Сотрудники редко видели его таким и старались не отвлекать от дум. Вечером появился Александров. Этот человек, живой и непоседливый, единственный среди физиков практически не имел постоянного места — его вызывали то в Ленинград, то в Москву, то в Мурманск, то еще куда-нибудь — и он, не медля и не загружая себя большим багажом, летел, мчался в поезде, трясся в автомашинах, качался на палубах судов. Он был одним из тех немногих друзей, с которыми Курчатов душевно делился всем, что радовало или тревожило.
— Анатоль, надо поговорить, — сказал Курчатов.
Они остались одни в комнате, сотрудники давно удалились, а друзья разговаривали. Курчатов твердил о своих многочисленных сомнениях, друг методично опровергал их.
Час шел за часом, день превратился в вечер, вечер стал ночью, приближался рассвет, а два человека все спорили, в споре рождалась истина. Ни один не мог бы сказать, что заранее знает, какая она, истина, зато можно было найти явные заблуждения, ошибки, пристрастия — и отмести их. Один с горечью вспоминал, как в Академии наук отвергли составленную им программу использования урановой энергии; второй отвечал: мало ли что было когда-то, надо смотреть вперед, а не назад! Но ведь сейчас материальных возможностей куда меньше, чем до войны, говорил один. Ну и что, отвечал другой, материальных возможностей меньше, понимания больше — это важней! Опять начнутся придирки, что отвлекают силы от насущных оборонных дел на какие-то абстрактные исследования, сетовал один. Нет, возражал другой, придирок больше не будет, овладение цепным распадом урана стало важной военной проблемой — это теперь вовсе не абстрактное исследование. Но ведь есть физики и покрупней меня, доказывал один, скажем, Иоффе или Капица, тот же Алиханов, — почему бы им не возглавить ядерную лабораторию? Вот уж абстрактное рассуждение, сердился другой, Ньютон, наверно, всех вас крупней как физик, а мог бы он заняться распадом урана? В этой специальной области нет сегодня в стране крупней специалиста, чем Игорь Курчатов! А я так хотел после войны покончить с наукой, жаловался один, стать моряком, сменить лабораторию на тесную каюту, по утрам, вместо ускорителей, видеть перед собой неспокойное море, зарю, рождающуюся в далеких волнах. Бред! — восклицал другой. Такие фантазии рождаются только от отчаяния, от сознания провала своей научной работы, а где он, провал, где? Пришло признание, обеспечена поддержка правительства, имеется прямой призыв возвратиться к ядру — чего еще желать? Твой жизненный путь один — наука, глубинные тайны ядра!..
Забрезживший в окне рассвет прекратил дискуссию друзей. Днем ничто не показывало, какой жестокий спор был в эту ночь у руководителя лаборатории броневых материалов, так и не успевшего ни минуты соснуть.
Вскоре пришел вызов из Москвы. Марина Дмитриевна встревожилась: зачем вызов, не новая ли разлука? Курчатов пожал плечами — не знаю, в Москве все разъяснится...
В Москве, от Кафтанова, Курчатов услышал, что в западных странах не только не прекратили исследований урановой проблемы, но и ведут ее во все убыстряющемся темпе, и что правительство намерено развернуть такие же работы у нас. Как он относится к тому, чтобы возглавить «урановую проблему»?
— Разрешите мне дать ответ завтра, — сказал Курчатов.
И опять всю ночь он не спал, уставясь открытыми глазами в темноту. Он все возвращался мыслью к тому, о чем недавно так долго спорил с другом. Но теперь он рассматривал тот ночной спор как бы с иной стороны. Ключ к будущему ищи в прошлом! Правильно ли он поступил, когда отказался от продолжения старых работ? Да, правильно! Он страшился в те первые, самые страшные дни войны, что кто-то сурово укажет пальцем: «Дезертируешь в абстрактные темы, чтобы стать подальше от фронта!»
Помощники недоумевали, ученики растерялись, а все было так просто! И когда кто-нибудь упрашивал возвратиться, он отворачивался — просьбы шли от своих, от заинтересованных, от пристрастных. Сейчас зовет обратно правительство. Правительству виднее, как распределить народные силы, чтобы каждый принес максимальную пользу, и оно говорит: вернитесь к прежним работам, они нужны стране! Если сегодня мы не позаботимся о том, что будет завтра, мы проиграем завтрашний день. Так надо понимать решение правительства.
Правильно, правильно — сегодня отпадают все причины, мешавшие продолжать урановые исследования: сокращение средств, урезанные штаты, неизбежная переброска лучших сотрудников в оборонные лаборатории... Вот она, вот та минута, какой он так нетерпеливо, так жадно, так долго ждал! Значение урана оценено, грядущая великая роль ядерных цепных реакций осознана! Разве не оттого, что не было объективной оценки, впадал он в уныние в первые месяцы войны? Разве не это заставило его с горечью уговаривать себя больше не возвращаться в науку, что лучше ему после войны отдаться старой страсти — бродяжничать по морю? Каботажный пароходик вместо института, крохотная каюта вместо физического кабинета, узенький командный мостик вместо гигантского циклотрона... С этими фантазиями покончено бесповоротно! Он возвращается в науку, возвращается на старое свое место, но не одиноким энтузиастом с группкой друзей, таких же энтузиастов, нет — руководителем важных исследований, уполномоченным самим правительством! Материальные возможности у страны теперь, правда, меньше, чем были до войны, но его, Курчатова, новая роль куда ответственней, она качественно иная!
Курчатов мысленно видел Кафтанова. Высокий, почти на два метра, массивный, вероятно, за сто килограммов, уполномоченный ГКО развалисто прохаживался по ковровой дорожке — надо было поворачивать голову вслед за ним. Он доказывал, убеждал, обещал — Курчатов восстанавливал в памяти его речь, удивлялся ей. Сын малограмотного лисичанского рабочего, сам в молодости рабочий, этот грузный человек, ныне нарком высшего образования и организатор науки, упрашивал Курчатова, известного ученого, не забывать своего научного призвания, предлагал отойти от близких интересов трудного сегодняшнего дня ради дальних интересов науки. Немцы штурмуют Сталинград, их альпинисты водрузили свастику на Эльбрусе, Ленинград задыхается в блокаде — член правительства обещает найти ресурсы, чтобы начать работы для далекого, еще не видного, отнюдь не завтрашнего завтра!
— Я согласен! — сказал он на другой день Кафтанову.
— Отлично. Прошу познакомиться с некоторыми материалами. Потом пойдем представляться заместителям председателя Совнаркома.
Теперь Курчатов сидел рядом с уполномоченным ГКО — кресло против кресла. На коленях собеседника покоилась папка с бумагами, он отвечал на вопросы Курчатова, заглядывал в нее. Все немецкие физики, прославившиеся до войны работами по атомному ядру, сведены в несколько групп — в Берлине, Гамбурге, Лейпциге, Гейдельберге. Каждая группа получает уран и тяжелую воду. Уран поставляют рудники Иоахимсталя; кроме того, немцами в Бельгии захвачено около тысячи тонн первоклассной африканской руды из Катанги, которую союзники почему-то не вывезли перед наступлением немцев. Трофейная руда перерабатывается на немецких заводах.
— Какой просчет союзников! — Курчатов покачал головой. — Ценнейший подарок тем, кто в Германии готовит урановую бомбу! Кстати, немцы тоже прекратили публикации, связанные с ураном?
Немцы об атомной бомбе не говорят, об «урановой машине» тоже помалкивают, но статьи о радиохимических экспериментах, относящихся к делению урана, в печати появляются — можно судить об этом по журналам, поступающим через нейтральные страны. Тяжелая вода привозится из Норвегии, там изготовляется свыше 95% мирового количества этого материала. Немцы строят и свой завод тяжелой воды, но он будет меньше. В процессе строительства шесть циклотронов, изготовление их идет секретно, но отнюдь не сверхбыстрыми темпами: раньше чем через год ни один не войдет в строй. Хотели демонтировать циклотрон в Париже, в лаборатории Жолио, но почему-то оставили. В других оккупированных странах выискивают в институтах все, что может пригодиться физикам, и переправляют добычу в Германию. Среди ограбленных и Харьковский физико-технический. Туда явился специальный отряд под командованием двух ученых, одетых в генеральские мундиры, — Эриха Шумана и Курта Дибнера.
— Известные фамилии! С Шуманом до войны многие поддерживали связь, его хорошо знает академик Иоффе.
Собеседник продолжал:
— Генералов-физиков консультировал третий физик, тоже в военной форме, но чином ниже — Фриц Хоутерманс. Вам знакома эта фамилия?
Курчатов еле удержался от гневного восклицания. Ему не только фамилия знакома, ему хорошо знаком носитель этой фамилии! Три года этот человек работал в харьковском институте, сделал несколько интересных исследований, одно с ним, с Курчатовым, всех удивлял полетом фантазии, многие считали его чуть не гением... И все сочувствовали — эмигрант, страдалец, столько вытерпел от фашизма! А он в военной форме явился грабить харьковский Физтех! Знали, кого послать! В Харькове от Хоутерманса не было секретов! И сильно пострадал институт?
— Точных данных нет. Отвоюем Харьков, узнаем. Нам сообщили, что большой ускоритель стоит. Грабители, кажется, больше нацеливались на вспомогательное оборудование, чем на крупные установки.
— Лабораторное оборудование наши успели вывезти сами.
Собеседник поинтересовался, как оценивает Курчатов факты, которые ему сообщены. Можно ли считать, что немцы форсируют изготовление атомной бомбы? У Курчатова не создалось впечатления, что немцы близки к решению проблемы бомбы. Зато они могут накопить огромные массы радиоактивных материалов. Если будут и впредь беспрепятственно получать тонны тяжелой воды, то при их богатстве ураном они создадут запас, равноценный тоннам радия. Осыпать такой радиоактивной пылью территории противника — и целые страны превратятся в пустыни!
— И этот вариант не исключен. Теперь я сообщу, что известно о работах по урану в Америке. Сведения самого общего характера, но, может быть, они прояснят вам, куда направлены усилия американских физиков.
Догадка Флерова полностью подтвердилась. Исследования по урану опубликовывать в открытой печати запрещено. Все крупные ядерщики работают в закрытых лабораториях под охраной. Им доставляют уран и графит. Любопытен тот факт, что уран на рынке полностью пропал. Замнаркома внешней торговли Сергеев поехал в Америку договариваться о поставках по ленд-лизу. Среди прочих был и заказ от зампредсовнаркома Первухина закупить для физиков килограммов сто урана. В уране наотрез отказали. Никель дают, медь, алмазы, качественную сталь, оружие — все первостепенные военные материалы! А урана ни одного фунта! А ведь известно, что в Нью-Йорк привезли из Катанги тысячи тонн урановой руды — все, что там имелось, — и руда направлена на переработку. Сверхсекретный, особо закрытый материал — вот каков сегодня уран в Америке! Что до тяжелой воды, то заводы по ее производству строятся, но без спешки. Зато огромны заказы на графит — и требования к его чистоте такие, каких заводы-изготовители еще не знали. Вам что-нибудь говорит эта информация, товарищ Курчатов?
— И очень многое! Немцы в качестве замедлителя нейтронов выбрали тяжелую воду, американцы — графит. Тяжелая вода эффективней, но графит получить проще. Разрешите вопрос, не так научный, как личный. Не знаете ли, что делает в Америке Гамов? Это сильный физик, тоже из специалистов по атомному ядру. Мы когда-то ждали от него великих работ.
Собеседник не удивился вопросу.
— О Георгии Антоновиче Гамове немного знаем. Все-таки бывший соотечественник, интересно, как держится за рубежом. Нет, крупными успехами пока не блеснул. Судя по отзывам, главное его достижение — исследование, проделанное еще в Ленинграде. Пишет популярные книги, печатает работы по эволюции звезд... Сейчас усиленно просится в круг физиков, занятых урановой проблемой. А его не пускают. Похоже, что у американцев нет к нему большого доверия. Вас это удивляет или огорчает?
Курчатов не испытывал ни удивления, ни огорчения. Он выслушал новости о Гамове равнодушно: вроде бы попросил деловой информации, получил такую информацию и, как говорится, принял ее к сведению. Гамов теперь был в далеком прошлом, его поступки лишь вызывали некоторый холодный интерес. Еще через несколько лет профессор В. С. Емельянов, приехавший из Америки, рассказал Курчатову о том, как жил и что делал в те годы Гамов, и был удивлен, что и интереса у Курчатова уже никакого не было к судьбе бывшего соотечественника и товарища по науке.
Кафтанов поднялся:
— Игорь Васильевич, нас ждут в Кремле.
3
По улице мела свирепая поземка, снег шипел, переметываясь по тротуару. Панасюк пошатнулся на перекрестке, но устоял на ногах. Перед глазами забегали тусклые искорки, дыхания не хватало. Он переждал минутку и снова пошел. Не торопиться! Медленно можно идти километры, быстро не пройти и сотни шагов. Дорога становилась все тяжелей. Злая поземка превращалась в штормовой ветер. На перекрестке надо было стоять, набираясь духу, прежде чем рисковать пересекать улицу. Панасюк упрямо тащился вперед. Сегодня выдался свободный день. Если он не использует его для посещения Физтеха, скоро выбраться туда не удастся.
На одном из перекрестков Панасюк нагнал мужчину, отдыхавшего перед переходом через улицу. Мужчина слабым голосом позвал:
— Игорь, ты? Пойдем вместе.
Панасюк узнал Сергея Баранова, тоже физтеховца из лаборатории Алиханова. Все изменились в дни голода, многих, сильно опухших, было не узнать при встрече, но этот человек, здоровяк, альпинист, лишь похудел и посерел. Он же так смотрел, словно не верил — Панасюк ли это? Панасюк не видел Баранова с первых дней войны, но знал, что тот отказался эвакуироваться в Казань и остался с родителями в Ленинграде. Панасюк спросил, как зимуется, как бедуется?
— Как видишь, стою на своих ногах. На Эльбрус по-старому не взберусь. Отец пятнадцатого декабря скончался... Мама тоже плоха, сама говорит, что до весны не дотянет. Ты не к нам ли?
— К вам.
И, шагая с Барановым под руку, Панасюк рассказал, что получил от Юры Флерова важное письмо. Флеров начинает кампанию за возврат к урановым исследованиям — написал докладную Кафтанову, выступал в Казани перед академиками, теперь просит проверить, в целости ли оставленные материалы и приборы.
Баранов с удивлением слушал Панасюка.
— И ради этого потащился в такую даль? А как будешь возвращаться? И что за спешка? Куда ваши ядерные богатства денутся?
— Надо бы посмотреть собственными глазами...
— Все на месте. Незачем идти. Постоим на уголке, и возвращайся восвояси. Я сам все проверю. И скажу Павлу Павловичу, что ядерное оборудование может скоро понадобиться.
Дальше Баранов пошел один. В Физтехе он зашел в бывшую лабораторию Алиханова, опустевшую, промерзшую — в углах поблескивал лед. Баранов взял бумагу и карандаш и направился в жилой флигель. Жилым он назывался, потому что, единственный в институте, отапливался. Кобеко, заменивший Иоффе, получил разрешение разобрать на дрова оставленный жильцами деревянный дом неподалеку. Сперва старались добыть топливо собственными руками, но на разборку бревен не хватило сил. Кобеко попросил подмоги, из 12-го танкового полка пришла машина и быстро развалила строение, танкисты помогли перенести бревна и доски — в печах запылал огонь. Сотрудница Физтеха Наталья Шишмарева, одна перетащившая на санках библиотеку Института химической физики в Физтех, радовалась больше всех: на спасенные книги химфизиков и на библиотечные шкафы Физтеха уже поглядывали тоскливыми глазами замерзающие люди.
В бывшей квартире Александрова жарко пылала плита, на плите стояли чаши и реторты со змеевиками и охладителями. Кухня напоминала лабораторию алхимика. Здесь добывали пишу из технического материала. На складе обнаружили бочки с олифой. Кобеко придумал извлекать из олифы льняное масло, вполне пригодное в пищу. В Физтехе оставалось 17 научных работников и 50 других сотрудников, почти всех переселили из квартир в жилой флигель, многие поселились тут с родителями и детьми, — дополнительное масло помогало сохранить силы. Сам Кобеко командовал на кухне помощниками — женой Софьей Владимировной, главным алхимиком, и ее подсобниками.
— Граммов по двадцать выдадим сегодня, — радостно сказал он Баранову. — Главная задача — отмывка олифы от солей свинца — решена простым выщелачиванием водой. После возгонки и конденсации такой получается продукт — прелесть просто! Так что у вас с заданием, Сергей Александрович?
Баранов показал, как решает порученную ему задачу. Кобеко одобрил замысел. Баранов ушел в комнатку, где можно было работать в тепле. Кобеко удалился к себе. К нему сегодня часто входили сотрудники. По институту ползли разные слухи, надо было удостовериться, что в них верно. Кобеко радовал каждого. Да, правильно, на другой берег Ладоги Борис Джелепов доставил из Казани вагон посылок и продовольствия для физтеховцев, скоро начнут перебрасывать в Ленинград. Из Мурманска вылетает Александров, и это верно — начинаем главную нашу весеннюю работу, размагничивание кораблей Балтфлота: бывшая группа Владимира Тучкевича — он до декабря руководил в Ленинграде и Кронштадте размагничиванием — теперь основательно пополнится и укрепится. В Смольном получены новые оборонные задания, подберем толковых исполнителей, начнем выполнять. Важных дел хватит на всех, позаботимся, чтобы сил хватило!
...Невозможно писать о ленинградских физиках в годы войны без того, чтобы не сказать о профессоре Павле Павловиче Кобеко, оставленном в осажденном городе в качестве заместителя Иоффе. Люди бывают разные. Одни и в спокойное время и в трудные дни мало меняются. Другие, энергичные, деловые, говорливые, «фигуры переднего плана» обычного времени, в страшных испытаниях теряются, стушевываются в незаметность, уклоняются от роли руководителя. А есть и третья порода — обычные, нормальные, часто и малоприметные в своей обычности, они вдруг преображаются, когда жизнь потребует великого напряжения, они как бы вырастают, а не умаляются в часы испытаний. В этих людях как бы дремлет внутренний — и до времени невидный — заряд подвига, и они совершают подвиги, когда того потребуют обстоятельства. Именно об этих людях сказал свое знаменитое Федор Тютчев: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Таким человеком был и Кобеко. Какими бы придирчивыми мерками ни мерить его деятельность в годы войны, иначе как подвигом ее не назовешь.
Для роли, которую он сыграл в институте, командуя группой оставшихся физиков и технических сотрудников, решительно не подходят обычные административные термины — распорядительность, расторопность, благожелательность, понимание, содействие, обеспечение условий... Собственно, все они годятся, но если к ним добавить слов из совсем другого обихода: нежность, участие, заботливость, сострадание, готовность все отдать ради того, чтобы облегчить участь страдающего человека. Он был администратором, это являлось главным, но еще больше другом, душевным товарищем, что-то отцовское порой чувствовалось в его отношении к каждому, над кем он начальствовал.
Это он сам потащил алихановца Сергея Яковлевича Никитина на санках в госпиталь, когда тот, вернувшись в марте 1942 года в родной институт после двухмесячной болезни, свалился там — больные ноги не держали — и не мог самостоятельно сделать и шага. И потом, когда Никитина вторично поставили на ноги, заботливо способствовал его эвакуации на Большую землю.
Это он вскакивал на старенький велосипед — единственное средство транспорта — и неторопливо накручивал на колеса километры заснеженных, нечищенных, в колдобинах и выбоинах мостовых — на «другой конец света», на Васильевский остров или Обводный канал, чтобы доведаться, почему третий день не является на работу живущий дома сотрудник или чтобы раздобыть этому сотруднику в райвоенкомате отсрочку от нового призыва, ибо тот человек «занят выполнением наисрочнейшего, буквально ни на час не отлагаемого военно-технического задания».
Это он, как уже говорилось, разведав на складе несколько бочек олифы, наладил ее очистку от солей свинца и других вредных примесей и в самые трудные дни голода снабжал своих работников регенерированным льняным маслом, а когда своя олифа кончилась, вступил в соглашение с заводами, где олифа имелась, — чистил и ее, оговаривая для своих определенный процент «продукции».
Это он — тоже из оговоренной доли — получал из деревообделочных мастерских сохранившийся там столярный клей и очищал его, освобождая от привкуса дохлятины, — и бывший клей становился пищевым продуктом.
Это он, деятельнейший член комиссии по реализации оборонных изобретений, заседавшей в Смольном, два-три раза в неделю крутил на велосипеде — десять километров туда, десять обратно — на заседания, на которых рапортовал о выполнении полученных ранее заданий, принимал задания новые, консультировал, подсказывал решения, был вдумчивым, строгим, доброжелательным экспертом.
Это он организовывал для каждого задания особые группы и обеспечивал их работу — материалами, советами, дружеским нажимом, строгим контролем, а временами и неизвестно как добываемыми в Смольном добавками к скудному пайку. И когда летом 1942 года «самой горячей точкой» стало размагничивание и в парке, за оградой института, бригада Валентины Иоффе, дочери академика, до ночи на свежем воздухе, вдали от металлического оборудования, искажавшего показания, градуировала приборы, он, бессонный и громогласный, в три часа утра будил своих «размагнитчиков», весело напевая: «Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало...»
И это он, худой, жилистый — в чем лишь душа держалась, — широколобый, широкогубый, никогда сам не теряющий бодрости, ревниво следил, чтобы и товарищи не падали духом и не только аккуратно и в срок выполняли все умножающиеся военные задания, но и не забывали, что они ученые-физики, что у них имеются и свои исследовательские темы и что даже в нынешние тяжелые времена нельзя забрасывать научное творчество. И хоть в институте осталась лишь малая толика прежнего коллектива, он периодически созывал ученые совещания, и на них заслушивались отчеты по темам, обсуждались подготовленные диссертации — и не было случая, чтобы потом — уже на нормальном Ученом совете — не присуждалась научная степень за работы, проделанные и получившие одобрение в эти блокадные годы...
...Когда Баранов ушел, Кобеко склонился над «прогибографом», новым физическим прибором, срочно конструируемым в институте. На полу лежала груда металлических прутьев, выломанных из институтской ограды, — это и был материал для создаваемого прибора. На столе стояли метеорологические самописцы, тоже элементы «прогибографа». К весне на «Дороге жизни» по Ладоге стали проваливаться под лед автомашины. Аварии были загадочны — под лед уходили чаще других не тяжело груженные машины, шедшие с востока, а машины из Ленинграда, вывозившие людей. Измерения показали, что авариям предшествуют колебания ледовой поверхности. Движение машин вызывало раскачку льда, на какую-то пока неизвестную скорость лед резонировал особенно сильно. Нужно было определить эту опасную скорость, чтобы запретить ехать с ней. Кобеко дал идею самописца, регистрирующего колебания, Рейнов, мастер по приборам, придумал конструкцию. Рейнов жил в Смольном, постоянно работал при комиссии по реализации оборонных изобретений — он, как и Кобеко, был ее членом, — но часто приходил в Физтех, в свою прежнюю лабораторию.
Вскоре появился и Рейнов. Ему сегодня повезло — из Смольного шла машина на фронт к Белоострову, его довезли до института. Обратно машина, если уцелеет, вернется под вечер, можно будет, кому надо, поехать в центр. Рейнов положил на стол два куска хлеба: один граммов на сто двадцать, другой граммов в сто. Рейнов числился в «шишках», ему, как «тыловому военному», даже в самом голодном месяце, в декабре, давали в Смольном не только по 250 граммов хлеба, но и немного горячей пищи. Сам вечно голодный, он, приходя в Физтех, приносил часть своего пайка.
— Замечательно! — воскликнул Кобеко. Он завернул кусок побольше в бумагу и отложил в сторону. — Это Жене Степановой, если не возражаешь. — Степанова недавно принесла в Физтех истощенную трехлетнюю девочку, родители которой погибли от голода, — весь институт, отдавая крохи от своих пайков, старался спасти девочку. — А это мне. — Разрезав кусок пополам, он кинул половину своей порции в рот, другую спрятал в карман. Рейнов молча следил за его движениями. Кобеко весело сказал: — Не гляди так жадно, все равно не дам — это жене.
Рейнов, смутившись, пробормотал, что принес хлеб не для того, чтобы выпрашивать его обратно. Рейнов стал увязывать проволокой прутья. Прибор превращался в прочную конструкцию, она должна была работать в ветер и мороз, в снегопад и обрастая льдом. На дворе темнело. Физики зажгли масляную коптилку. «Прогибограф» водрузили на фанерный лист, проверили, как стрелка записывает на барабане колебания фанеры. В кабинет вошел красноармеец и сказал, что машина ожидает физика. Рейнов с сомнением смотрел на прибор. Может, не возвращаться? За ночь он выправит недочеты, а в горком воротится утром. Кобеко знал, что в Смольном вечерами давали черпак каши, жидкой, как суп, или супа, напоминающего разведенную кашу. Потерю горячей еды ничем нельзя было компенсировать.
— Иди, иди! Я сам поработаю ночью. Завтра повезем демонстрировать.
Было уже темно, когда Баранов, прошагав через всю Выборгскую сторону, подходил к Московскому вокзалу. До дома было еще не близко, но ему захотелось зайти к профессору Вериго — у него он проходил аспирантский стаж. Может быть, надо ему помочь?
Вериго жил на улице Восстания, неподалеку от Знаменской церкви. Баранов часто бывал в его квартире и с опаской вспоминал огромную, похожую на зал комнату профессора. И в хорошие годы здесь было холодновато, в эту же зиму вряд ли много теплей, чем на улице. Не замерз ли старик? Баранов успокаивал себя — Вериго не из тех, кто погибает от холода. Крепче дуба, несокрушимей скалы! Сколько раз вместе поднимались на Эльбрус, и этот человек, старше своих студентов на добрых четверть века, карабкался по кручам, как горный козел. Крупный ученый, видный специалист по космическим лучам — всему можно учиться у него: и физике, и спорту, и человеческому благородству, и тонкой воспитанности, и дружелюбной вежливости... Все же Баранов постучал в дверь с беспокойством.
Послышались шаркающие шаги, знакомый, только очень усталый голос спросил, кто пришел. Баранов крикнул:
— Это я, Александр Брониславович, Баранов!
— Ты, Сережа? — Вериго впустил ученика. — Вот уж не ожидал.
Он шел впереди, показывая дорогу. Баранов, пораженный, остановился на пороге. В большой — метров на пятьдесят — комнате на стенах нарос лед, углы затянуло инеем. И она казалась скорей складом или мастерской, чем кабинетом ученого: у стены стоял токарный станок, в углу возвышались горкой части разобранной автомашины, на полу лежал развинченный мотоцикл, неподалеку остатки двух других, используемых, по виду, на запчасти. В свисавший с потолка деревянный пропеллер была вмонтирована лампочка — запыленная, потемневшая, она сейчас не горела. А у голландской кафельной печи, огромного красивого сооружения, профессор устроил горный бивак: поставил небольшой шатер, крышу покрыл — для утепления — матрацем, портьерами, шубами, коврами, даже лыжным костюмом, к боковым стенкам придвинул шкаф и буфет, как бы защищаясь ими от ураганных ветров.
Вериго пригласил гостя в шатер. Внутри стояла койка, стол, у стола табуретка. В маленькой печурке тлел огонек, железная труба, аккуратно вделанная в кафель печи, шла на уровне головы. Светила крохотная лампочка: питавший ее аккумулятор был упрятан под стол. На столе возвышалась стопочка книг. Было уютно, светло, теплей, чем в комнате. Вериго сел на койку, Баранов — на табуретку. Старый профессор был в двух свитерах, голову обмотал шалью, прилаженной так аккуратно, что она казалась пушистым чепцом. Он похудел, но больным не выглядел — железное здоровье не отказало даже в эти страшные дни.
— Вот так и живу, — сказал он с удовлетворением. — Утеплился, осветился. Прости, что на стук сразу не открыл. Поговаривают, одиноких грабят. Ну, с одним я справлюсь, даже от двух отобьюсь, а если их трое? — Он покачал головой: — Не радуешь, Сережа. Очень подался! Как ходишь?
— Не бегаю, но и не падаю!
— Работаешь? Понимаю, не космические лучи, не твои прежние мезотроны и не алихановские быстрые электроны... А все же?
— Темы интересные. Естественно, уклон военный. Трудно — голова теперь варит не очень... Слышал, вы заменили Хлопина? И научная работа продолжается? Тематика, конечно, оборонная?
— Ну где там — заменил Хлопина! Виталия Григорьевича не заменить. Руковожу оставшимся коллективом, это верно.
И Вериго рассказал, что в институте не пожелали эвакуироваться в Казань тридцать пять человек, а к январю из них осталось всего двенадцать — кто улетел на Большую землю, кто умер. Собственно, из старых работников сейчас только пять: он да четыре женщины-химика и бухгалтер, да еще семь в охране, дворник, пожарник. Вот этими людьми он и командует. Первые месяцы блокады о научной работе и не думали — дежурили на крышах, ремонтировали разрушения, шли по соседству разбирать завалы или тушить пожары. А потом потихоньку начали свое специальное дело, теперь оно в разгаре. Запасы светящихся красок в Ленинграде подошли к концу, а как без них артиллеристам, летчикам, водителям машин? Заводы, обеспечивающие армию приборами, просили светосоставы постоянного действия. Но для этих составов требуются радиоактивные препараты, а в Ленинграде свободного радия — ни миллиграмма! Вот была главная трудность — где достать радий? «Голь на выдумку хитра», — взяли эту древнюю поговорку себе в руководство. В «старой химичке» десятки лет работали с радием, там все им пропитано, в других лабораториях тоже рассеивалось какое-то его микроколичество. Сметали пыль со стен, с мебели, а в «старой химичке» сдирали штукатурку, сжигали столы и стулья, доски пола — потом из пыли, извести, золы извлекали радиоактивные концентраты. И их оказалось достаточно, чтобы обеспечить приборостроительный завод и текущие потребности фронта в светосоставах. В общем, оборонное задание выполнили!
— Жаль, простудился немного, вторую неделю не выхожу, ничего, думаю, и без меня справляются. Так в чем у тебя затруднения? Может, вместе подумаем?
Он положил на стол лист бумаги, Баранов чертил схему заказанного приспособления. Вериго другим карандашом отмечал то, что ему казалось недостаточно надежным.
— Теперь вроде лучше. — Он посмотрел на часы. — Два часа проработали с тобой. Такой гость — лучше любого лекарства.
Баранов поднялся.
— Постой минутку, Сережа. — Вериго сунул руку под подушку. — Есть у меня одно сокровище, хочу поделиться.
Он вытащил из-под подушки три большие плитки столярного клея, одну положил обратно, две протянул Баранову.
— Мне и одной хватит до лучших времен. А ты молодой, трата сил у тебя больше. — У Баранова показались слезы, он растерялся — то ли сразу спрятать подарок, то ли вытереть глаза. Вериго погрозил пальцем. — Ну, ну у меня! Всегда знал тебя за мужчину. Бери, бери! Неплохая похлебка из клея, проверял сам. После войны нам еще на Эльбрус подниматься, должен же я позаботиться о твоих силах!
Вериго проводил ученика до двери, снова тщательно заперся. Баранов шел по Невскому, пошатываясь от волнения. У всех теперь была походка нетвердая, никто не обращал на это внимания.
Немецкая артиллерия вслепую обстреливала город. По ночному небу шарили прожектора.
— Сереженька, тебя так долго не было, я очень тревожилась! — сказала дома мать.
Он положил на стол две плитки клея. Она схватила их и радостно смотрела на сына.
— Откуда? Как ты достал?
— Был у Александра Брониславовича. Он прислал плитки в подарок. Говорят, из животного клея получается хороший навар. Неплохо бы поужинать сегодня супом, мама.
Вместо того чтобы идти на кухню варить суп, она опустилась в кресло и молча заплакала.
В конце февраля прилетел из Мурманска Александров. Появившись в Физтехе с рюкзаком, полным еды, он щедро оделял припасами знакомых. Один перевязанный веревкой пакетик с концентратами от отложил для старого друга.
Кобеко информировал Александрова, как идет подготовка в весеннему размагничиванию судов. Физикам предстояло пробраться в Кронштадт и учить моряков усовершенствованиям, какие внесли в противоминную защиту на Черном и Баренцевом морях.
Перед выездом в Кронштадт Александров навестил друга. Он долго стучался в запертую дверь. На стук из соседней квартиры вышла молодая женщина с отекшим от голода лицом.
— Чего барабаните? Такой шум подняли! Ведь не горим же!
— Хозяина надо. Где он, не знаете?
— Знаю. — Женщина заплакала. — Там же, где все скоро будем. Отвезли три дня назад на санках. Похоронили без гроба. Где сейчас гроб достанешь?
Александров ошеломленно смотрел на нее, потом, сглотнув комок в горле, спросил:
— А жена? Она ведь оставалась с ним.
— Там же. На две недели раньше мужа...
В открытой двери показалась девочка. Она со страхом посмотрела на посетителя, перевела взгляд на руки, державшие пакет, и больше не отрывалась от него — глядела, как зачарованная, испуганно и с надеждой.
Женщина сказала неуверенно:
— Может, вы родственник? В квартире у них все в целости, не сомневайтесь. Ключ у меня. Хотите посмотреть?
— Не надо. Держите! — Александров сунул ей пакет и быстро сбежал вниз.
Она что-то говорила сверху, он не слушал.
4
Флеров прилетел в Ленинград осенью.
Он ходил по пустой квартире, садился, вскакивал. Мама умерла в прошлую голодную зиму — все в комнате напоминало о ней. Он слышал ее голос, диван сохранил вмятину в углу, она любила сидеть на этом месте. В шкафу лежало стопочками чистое белье. Находиться в этой комнате было тяжко.
Все, что оставили в ядерной лаборатории, когда эвакуировали Физтех, сохранилось. Флеров с нежностью погладил ионизационную камеру, которую изготовил с Петржаком, полюбовался аппаратом Вин-Вильямса, творением Костиных мастерских рук! И кубики из черной окиси урана, вылепленные Никитинской, сохранились. И банки с одесским уранил-нитратом были целехоньки. В кабинете Курчатова где-то запрятали металлический уран в порошке, последнее импортное приобретение института, — Флеров его не обнаружил. В ящиках в подвале хранились приборы и механизмы, даже электромагнитная установка, на которой Панасюк пробовал разделить изотопы урана, была в целости. А уран отсутствовал, Флеров пожаловался Кобеко на неудачу. Тот высоко поднял брови:
— Пропажа исключается, Георгий Николаевич. Может быть, Панасюк отнес препарат домой?
— Я был у Панасюка. Он редко бывает дома, Павел Павлович. Он писал, что разъезжает с рентгеновской установкой по участкам Ленинградского фронта. Очевидно, и сейчас на передовой.
— Появится. Вы ведь не завтра улетаете. Он к нам приходит, когда возвращается в Ленинград. Тянет человека в родные места.
Флерова тоже тянуло в родные места. Его одолевало желание выпросить у Кобеко подключения электроэнергии, раздобыть железную печурку, надеть халат, водрузить на подставку чан, погрузить в него сферу из урановых кубиков и снова определять, как при разных замедляющих материалах идет размножение нейтронов в урановом слое. А когда он узнал, что делают оставшиеся физики, ему хотелось помочь каждому, у всех интересные работы и все важны — ведь помощь фронту! Он сердился на себя. Он прилетел в Ленинград не для того, чтобы участвовать в чужих интересных исследованиях. У него своя важнейшая задача, всеобщая, государственного значения, он должен выполнить ее. Он все же нет-нет и пристраивался то к одному, то к другому, то помогал налаживать схему, то регулировал капризный прибор, а попутно совал товарищам пакетики с сухарями и концентратами — туго набитый припасами мешок быстро съеживался. Голода прошлой зимы уже не было, но паек, хоть и увеличенный, еще не восполнял траты сил, смерти от истощения были еще часты, — помощь принималась с радостью.
И, расхаживая из комнаты в комнату, узнавая, что делает тот или другой, он выслушивал и о том, как жилось, как бедовалось прошлую зиму, как физики, пошатываясь, прибредали в свои лаборатории, как, преодолевая головокружения, вглядывались в приборы, нетвердой рукой заносили в журнал наблюдения, негнущимися пальцами собирали схемы экспериментов, конструкции заново создаваемых аппаратов...
Среди других захватывающих историй была и повесть о том, как в Ленинград пришел в адрес Физтеха и Радиевого института специальный вагон с продовольствием и каких трудов стоило содержимое этого вагона перебросить с того берега Ладоги, с Большой земли, на берег этот.
В дни, когда физтеховцы записывались в ополчение, трех физиков, знакомых с рентгеновской аппаратурой, — Игоря Панасюка, Михаила Певзнера, Бориса Джелепова — направили обслуживать передвижные рентгеновские установки. Но нужды в них не появилось, фронт так быстро двигался к Ленинграду, что раненых проще стало направлять на обследование в стационары. Панасюк с Певзнером все же закрепились в военной рентгенослужбе, а Джелепову объявили приказ: собрать изо всех ленинградских больниц радий и эвакуировать его в Свердловск. С радием рентгенологического института было просто: им командовал «хозяин эманационной машины» Артем Алиханьян. Они вдвоем выпарили радиевые растворы в садике института, аккуратно закупорили и увязали порошок радиевых солей — всего около грамма радия. Но радий, поступавший из больниц в таких же растворах, времени выпаривать уже не было, а всего драгоценного препарата оказалось около тридцати граммов в пересчете на чистый металл. Уложив в ящички и чемодан имущество, стоимостью в добрый десяток миллионов рублей, Джелепов с двумя милиционерами, молодым могучим здоровяком и худеньким хромым старичком, 27 июня — первая неделя войны — отправился в Свердловск, следя по дороге, чтобы никто не прорвался в купе, где они везли свой бесценный и очень опасный груз. От посторонних, совавшихся в купе, где имелось незанятое спальное место, отбиться удалось, но двухдневное пребывание по соседству с грозным препаратом не осталось без последствий: на сухонького старичка радий не подействовал, а здоровяк полностью «скис» еще в дороге, его положили подальше от груза, который он охранял, а в Свердловске с вокзала повезли сразу в больницу. Сам Джелепов «скис наполовину» — тошнило, кружилась голова, пропал аппетит, но сил хватило, чтобы сдать под расписку радий и после того десяток дней «вволю поболеть». К счастью, альфа-излучение радия полностью поглощалось упаковкой, на пассажиров действовали лишь гамма-лучи, а их вредное влияние было не столь сильно и продолжительно.
Джелепов, выздоровев, умчался обратно в Ленинград. Из Ленинграда шли эшелоны на восток, среди них и поезд с физтеховцами. Едва состав из Свердловска проскочил Мгу, как ее захватили немцы, — больше выходов из Ленинграда не стало, город попал в осаду. Генерал Неменов, отец физтеховца Леонида Неменова, главный рентгенолог Красной Армии, только изумленно развел руками, когда появившийся перед ним физик бодро рапортовал о благополучной доставке радия по назначению, — в эти дни старались эвакуировать людей из города, а не принимать их извне. С месяц Джелепов не находил себе дела, затем его и Петра Спивака, одного из оставшихся алихановцев, вызвали в Смольный, дали предписание лететь в Москву. Из столицы оба физика попали в Казань. Спивак устраивается в одной из работающих групп. Джелепов снова не находит себе ни места, ни дела. Беспокойного физика одолевают странные идеи — возвращаться назад, в Ленинград, в блокадный голод, там остались отец и жена, там, по слухам, продолжают работать физтеховцы. Он делится своей идеей с Иоффе, с Хлопиным, с Орбели; академики вначале только руками машут, потом начинают прислушиваться, потом и сами загораются. А что? Очень привлекательная мысль — возвратиться в родной город, только не с пустыми руками, а с продовольственными посылками для сотрудников, друзей, родных! Академики отыскивают уполномоченного ГКО по продовольствию — он как раз появился в Казани. Уполномоченный ГКО придает скромной идее размах, о какой и не мечтали.
— Мысль неплохая. Предлагаю такое решение. Я обеспечиваю вам пустой вагон. Академия наук своими средствами заполняет его продовольствием для ленинградцев. Назначим начальником вагона того вашего сотрудника, который рвется назад.
И вскоре в трудный путь к осажденному городу направляется вагон, набитый продуктовыми посылками — на каждой несколько адресов: если один адресат погиб, пусть получает другой или третий. Джелепов снабжен диктаторскими полномочиями — продуктами, не имеющими индивидуального адреса, распоряжается единолично, никто без его согласия не может потребовать их. Вагон подходит к Ладоге в конце апреля, озеро растаяло, ледовая «Дорога жизни» уже не работает. Первое мая начальник вагона все же встречает в родных физтеховских стенах. За дело теперь принимается неутомимый Кобеко: самолетами и судами продовольствие постепенно перебрасывается в город. «Операция переброски» затягивается до лета — и еще долгое время после распределения всего доставленного в Физтехе и РИАНе с благодарностью вспоминают о помощи из Казани.
Флеров отправился на розыски своей бывшей помощницы Татьяны Никитинской.
На квартире Никитинской соседка рассказала, что мать Тани умерла от голода, а Таня ушла жить на завод, где работала с начала войны, и уже не вернулась в опустевшую квартиру. «Там и найдете, если не померла!» Флеров заторопился на завод.
Он не сразу узнал свою изящную, стройную лаборантку в той закутанной — хоть стояла еще мягкая осенняя погода — женщине, что вместе с подругами медленно шла из цеха в соседнее, приспособленное под жилье здание. А она вдруг замерла, несколько секунд стояла недвижно, потом бросилась к нему и громко заплакала. Он смущенно жал ее руки и все твердил:
— Ну здравствуйте, Танечка, ну успокойтесь. Ну я очень рад, что вы здоровы. Рассказывайте, рассказывайте, как живете.
Она не могла рассказывать, волнение сдавливало горло. Она повела его в общежитие. В комнате, чистенькой, теплой, жило несколько работниц. Они входили закутанные, сбрасывали верхнюю одежду — он с удивлением обнаруживал, что вместе с пальто и шалями каждая сбрасывала 10–15 лет. По-ленинградски худенькие и бледные, Танины соседки были миловидны, одна даже красивая. С интересом посмотрев на гостя, она понимающе сказала:
— Танечка, у нас с девчатами дело, мы на часок уйдем. Можешь свободно поговорить с другом.
— Георгий Николаевич мой научный руководитель! — с гордостью сказала Таня. — Он помогал мне писать диссертацию, когда началась война.
— Я думала — жених! — с разочарованием сказала красивая девушка и уже не торопилась удалиться.
Он спросил, как Тане сейчас живется. Она опять заплакала. Он хотел отвлечь ее от горьких воспоминаний, но она сквозь слезы все рассказывала, какие это были страшные месяцы, с ноября по январь, когда мать медленно умирала. До мая завод стоял, и цеха, и общежитие заносил снег, окна и двери, лестницы и дороги зарастали льдом, но все же здесь было и теплей, и дружней, и даже не так голодно, как дома. Сейчас тоже не роскошно, дистрофики на заводе еще попадаются, но паек увеличен. Говорят, скоро снимут блокаду, — верно? Немцы все силы бросили на Сталинград, у них на севере стало меньше войск. Ах, если бы скорей прорвали блокаду!
— Вы не поверите, Георгий Николаевич, как я опухла зимой! И ходила так — сделаю шаг, постою, снова шаг... Ужас! А как вы попали в Ленинград? В командировке или совсем вернулись?
Она выслушала рассказ о его письмах, о вызове в Москву, о возвращении к довоенным исследованиям, о поездке в блокированный город за материалами и приборами. Пораженная и растроганная, она узнавала в этом внешне очень изменившемся, посерьезневшем, повзрослевшем человеке прежнего юношу, самого непоседливого из «гениальных мальчиков», торопливого, нетерпеливого, фанатично преданного науке. Он возвратился таким же одержимым, даже более одержимым. Он по-прежнему был не просто способным научным работником, а рьяным служителем науки. И ей захотелось показать, что и она в самые трудные дни не забывала об их совместном труде. Она раскрыла шкафчик у кровати, на верхней полочке лежала стопка книг; под ними самое большое ее сокровище, его она взяла с собой в первый же приход в общежитие, даже хозяйственные принадлежности приносились из дома позже. Это была толстая, на хорошей бумаге, в хорошей папке рукопись — черновик так и не завершенной диссертации «Неупругое рассеяние быстрых нейтронов».
— Сохранили, Таня! Молодец, молодец! Уверен, что это нам еще пригодится!
Он перелистывал рукопись, узнавал свои и Курчатова пометки на полях и в тексте. Замечаний Флерова было больше — он читал первый и отмечал все неточности, слишком поспешные, недостаточно обоснованные заключения. Таня, прекрасный экспериментатор, логикой не брала, строгая последовательность ей не была свойственна. Флеров читал свои сердитые восклицания на полях: «Опять скачете мыслью, как блоха!», «Вы пишете: отсюда следует... не отсюда, а из целой цепочки опущенных рассуждений». После такой придирчивой критики Курчатову оставалось мало поводов для замечаний, зато он придирался к стилистике. Против часто повторяющихся фраз Курчатов писал: «Любимое выражение». Любимых выражений встречалось так много, что Курчатов стал только подчеркивать их и писать на полях «ЛВ».
Флеров с улыбкой возвратил рукопись. Таня радостно покраснела — он горячо похвалил ее за преданность науке.
— Хочу просить о помощи, Таня. Нужны радиодетали. У вас на заводе монтируют разные радиосхемы, наверно, можно многое раздобыть.
Он вручил ей список того, что ему было нужно. Она покачала головой — очень уж многого он просил.
— Постараюсь достать. У ребят, конечно, есть. Но согласятся ли расстаться с добром?
На другой день она сказала, что радиомастера, изготавливающие самые дефицитные детали, отдают их только за плату — хлеб, сахар, консервы. Она так покраснела, сообщая о неудаче, что Флеров поспешил утешить ее:
— У меня осталось продовольствие из Казани. Завтра принесу. Мастерам скажите, чтобы делали тщательно. Не на радиоприемники!
Товарообмен шел недели две. Флеров приносил сухари, сахар, консервы, она выменивала припасы на электронные лампы, сопротивления, емкости. Затем, в очередной раз залезая в заветный мешок, Флеров обнаружил, что мешок пуст. Он посмотрел на список. Наиболее трудоемкие запчасти еще находились в работе. Он пошел в магазин, упросил добрую продавщицу вырезать талоны вперед и положил в портфель полторы буханки хлеба. Полбуханки спрятал в стол, буханку вручил Тане. Она встревожилась — почему свежий хлеб? Разве припасы кончились?
— Казанским добром питаюсь сам, а мастерам — продукты по своей ленинградской карточке. Спокойно вручайте ребятам буханку, Таня.
Он так улыбался, так рад был принесенным ею запчастям, что она и впрямь поверила, что он может обойтись без пайка. В следующий раз он принес немного сахару, потом опять хлеб, затем кусок маргарина, снова хлеб. На списке густели галочки. Запчасти делались на «экспорт», как выразился один из мастеров, два вечера прокорпевший у верстака, чтобы довести заказанную деталь до высшей кондиции.
Кобеко первый обнаружил, что с Флеровым неладно. Он перестал нервно бегать из помещения в помещение, в его походке появилась солидность, солидность стала понемногу превращаться в медлительность — типичную черту ленинградца в блокаде. А затем Флеров начал полнеть. Худые щеки заплывали, утолщались пальцы.
— Да вы опухаете! — ужаснулся Кобеко. — Прошу к врачу!
Флеров беззаботно махнул рукой. Нормальное состояние! Ни в какую поликлинику не пойду. Голос Кобеко звучал непреклонно:
— Я сам провожу вас! — Он взял Флерова под руку, ласково заглянул в глаза: — Должен же младший подчиняться старшему! Вы командированы в мое распоряжение, я отвечаю за вас перед Иоффе.
Флеров с огорчением смотрел на справку, выданную в больнице: «Дистрофия первой степени, нуждается в эвакуации из Ленинграда». Он вынул список заказанных деталей. Почти все было выполнено. В Казани ни за деньги, ни за еду он не смог бы получить того, что изготовили мастера в осажденном Ленинграде.
— Командировка закончена, Георгий Николаевич, — сказал Кобеко. — Я помогу вам доставить на самолет все, что вы берете с собой.
В декабре имущество, взятое в Физтехе, и добытые за провизию материалы были привезены в Казань. Кобеко послал Иоффе отчет о деятельности Флерова в Ленинграде. Внешний вид молодого физика показывал, что командировка стоила ему здоровья. Флерову достали путевку в дом отдыха под Москву, в Болшево. Обильное — по военным временам — питание делало свое дело. Помогали и сводки Информбюро — немецкую армию под Сталинградом окружили, гитлеровцы отступали с Северного Кавказа. В войне начинался долгожданный перелом.
В Казань Флеров возвратился выздоровевший, полный энергии и жажды дела. В институте его ждало предписание — срочно прибыть в Москву со всем оборудованием, вывезенным из Ленинграда.
Вызов был подписан Курчатовым.
5
Обоим заместителям председателя Совнаркома — и Молотову, и Первухину — Курчатов понравился. Он получил заверения, что помощь ядерщикам окажут — с учетом возможностей военного времени...
Кафтанов радовался, что предложенная им кандидатура главы атомной проблемы встретила хороший прием у начальства. Он весело повторял: «Теперь дело пойдет, Игорь Васильевич! Теперь дело пойдет!» А Балезин — ему поручили курировать «хозяйство Курчатова» — порадовал сообщением, что правительство разрешило новому учреждению сто московских прописок: можно приглашать специалистов со всего Советского Союза, отзывать их из армии — демобилизацию обеспечат.
— Я так понимаю, что каждая прописка это также и жилплощадь, Степан Афанасьевич?
Балезин развел руками. Речь пока идет о разрешении жить в Москве. К сожалению, жилых домов в Москве не строят с первого дня войны. Особо нуждающимся дадим номера в гостиницах, поселим в квартиры эвакуированных москвичей, а дальше — по возможностям. В конечном итоге все получат квартиры. Урановая проблема важна, но есть десятки других проблем, более срочных в условиях войны, — будем исходить из реальности.
— Проблема важная, но локальная, — с усмешкой повторил Курчатов услышанное не то от Кафтанова, не то в Совнаркоме выражение.
— Вы несогласны? — с удивлением спросил Балезин.
Курчатов соглашался. Все правильно. Он будет протягивать ножки по одежке.
— Итак, составляйте список на сто человек и приносите мне.
Через несколько дней Балезин с удивлением читал список, принесенный Курчатовым. Вместо разрешенных ста фамилий в нем стояло около десяти: Кикоин, Алиханов, Арцимович, Неменов, Зельдович, Харитон, Лейпунский, Флеров... Балезин знал всех — кого лично, кого по научным работам: многие не имели отношения к атомному ядру.
Курчатов хладнокровно пояснил:
— Напрасно удивляетесь. Мне пока нужны головы, умелые руки я найду потом. А что не все ядерщики — закономерно. Овладение ядерной энергией потребует привлечения специалистов разных областей. Поверьте, я все продумал.
Курчатов медлил с неделю, прежде чем положил список на стол, — Балезин не сомневался, что за коротким перечнем фамилий стоит серьезная оценка всех обстоятельств и возможностей.
Но и догадываясь о серьезности плана, нашедшего свое выражение в этом первом списке, Балезин в тот день и представить себе не мог, насколько глубоко продуман и эффективен этот план. Даже ближайшие сотрудники, даже друзья и помощники Курчатова не сразу оценили дальновидность его программы. Только когда весь мир облетело сообщение о том, что в Советском Союзе создано свое ядерное оружие, и восхищенные друзья, и ошеломленные враги поражались быстроте, с какой советские физики овладели атомной энергией, — только тогда стало ясно, что успех обеспечила блестяще разработанная, энергично осуществленная программа ядерных работ.
Уже после первых радостных рассказов Флерова о том, что ожидается возобновление ядерных исследований, после сообщения Иоффе о совещании у Кафтанова Курчатов, еще никому, даже жене, не признаваясь, что готов согласиться на «возвращение к ядру», стал размышлять, как заново организовать ядерную лабораторию. Одно он знал — вести дело по-старому, по-довоенному нельзя. Цель оставалась прежней — овладение атомной энергией. Методы надо было менять.
На несколько дней он обложился иностранными журналами, среди них были и свежие немецкие — почта из нейтральных стран. Иногда он выходил на улицу — размять ноги, вдохнуть свежего воздуха. Лишь встреч со знакомыми он побаивался. Те не поняли бы, почему всегда улыбающийся, всегда живой и громогласный Игорь Васильевич выглядит таким хмурым. А он не сумел бы объяснить, что не смеется и не шутит лишь потому, что весь погружен в гигантскую работу мысли и, пока эта работа не закончится, нет ему интереса ни во встречах, ни в шутках, ни в обмене житейскими новостями.
Курчатов разрабатывал стратегию ядерных работ.
Еще в мирные годы военные термины стали широко вторгаться в науку. То писали, что «исследования идут сплошным фронтом», то говорили, что «ведется наступление на загадки природы», то требовали «мобилизации научных сил» для решения ударных проблем, «атаки в лоб» трудных вопросов. А такие словосочетания, как «бомбардировка нейтронами», «обстрел атомов», «взрыв ядра», «разрушение элементов», уже давно утратили чисто военное значение, это были теперь точные научные понятия. С началом войны военная терминология стала еще употребительней. Но то, что Курчатов про себя назвал свой план стратегией, не было данью времени. Это была единственно точная формула для программы, над которой он размышлял. Он непрерывно возобновлял в уме темы исследований, прикидывал, что форсировать, что отложить, что углубить, в какую сторону направиться, чего требовать от себя, от помощников, от правительства. И план научных исследований сам собою постепенно превращался в стратегию действий.
Самое простое из того, о чем надо было думать, — темы возобновляемых научных исследований. Темы определялись довоенными трудами: цепные урановые реакции на быстрых и медленных нейтронах. Программа исследований дана еще в 1940 году, в письме в Академию наук, но ее теперь надо расширять и дополнять. Быстрые нейтроны требуют разделения изотопов урана, реакция пойдет на легком изотопе, это будет урановая бомба. Второе направление, реакция на медленных нейтронах — урановый котел, тепловой генератор еще невиданного типа — требует эффективного замедлителя нейтронов: тяжелой воды, бериллия, гелия, углерода, еще какого-нибудь пока еще не изученного материала. Замедлителями нейтронов занимались до войны — возобновим и расширим старые работы.
Научное содержание программы ясно.
Второй вопрос — темпы исследований. Довоенные темпы не годятся. Тогда, перед самой войной, они, советские ядерщики, вышли на передний край науки, кое в чем даже обогнали западных физиков: изомерия ядер, спонтанное деление урана открыты в Советском Союзе; первая точная теория распада урана под действием медленных и быстрых нейтронов — эта важнейшая для овладения атомной энергией работа — тоже сделана у нас! Не было бы войны, первые урановые реакторы соорудили бы во Франции и у нас! К тому шло тогда дело. Война спутала всю картину. Во Франции ядерные исследования прерваны с мая 1940 года, у нас — с июня 1941. Но в Германии они не прерваны, в Америке широко развернуты. Стало быть, два года отставания от Германии. А от Соединенных Штатов? В Америке создан блестящий коллектив физиков, люди, имена которых вошли в историю науки. И материальные возможности там гигантские: Америка ведь не подвергается разрушениям, вся ее исполинская промышленность к услугам физиков. Итак, задача — превзойти фашистскую Германию, догонять Америку. Как превзойти? Как догонять? Страна воюет, страна разрушена, не хватает самого необходимого, все заводы работают на армию... Понимание важности наших работ теперь будет полное, материальных же средств — наверняка меньше, чем имеют сегодня немецкие физики. И несравненно меньше того, чем располагают американцы... А первых надо перегонять, вторых — догонять!
И если довоенные темпы для решения этой задачи не годятся, то не годятся и довоенные методы исследований. Точнейшее выяснение констант, десятки перепроверок — все это требует времени, людей, средств. Не будет достаточно ни времени, ни людей, ни средств, все пока поглощает война. Изменится к лучшему обстановка, займемся и этим, крайне, конечно, нужным делом — точнейшим количественным изучением всех закономерностей. А пока — качественная картина! Ставить четкие вопросы природе — получать четкие ответы. Точнейшее количественное изучение лишь там, где без него абсолютно не обойтись. Итак, модельные опыты! Модельная картина процесса. Упрощенная схема «урановой цепи», пусть грубая, но верная прикидка! Успех решит не дотошная скрупулезность, а интуиция: нужны свободно мыслящие умы, умеющие «считать на пальцах», умеющие охватить любую проблему со всех сторон. Просто старательные не подойдут. Нет, подлинные творцы, только такие — в помощники и главные сотрудники.
Где эти люди, откуда их получить?
До войны он работал с ядерщиками, со специалистами по микрочастицам. Все «микрофизики» по-прежнему в его распоряжении, он может любого вытребовать к себе. Но ими одними не обойтись, роль их в возобновляемых работах огромна, но отнюдь не решающа. Нужны и «макрофизики» — специалисты по теплопередачам, по взрывам, по материалам. Разве не «макрофизики» Зельдович с Харитоном разработали теорию цепных урановых реакций? И химики нужны, и металловеды, и инженеры. Итак, гармоничный коллектив, одновременно изучающий различные проблемы, а в целом — исследующий одну задачу. И привлечь всех этих людей, сегодня еще далеких от уранового ядра, — куда сложней, чем собрать в единый коллектив рассеянных по стране ядерщиков. Не торопиться с расходованием лимита прописок! Выискивать талантливых людей, а не просто заполнять свободные должности.
Ему даны большие права. Но так ли они велики, чтобы он мог истребовать к себе самых известных физиков в стране — Вавилова, Капицу, Иоффе, Мандельштама, Семенова? Или теоретиков — Френкеля, Фока, Тамма? Смешно и думать! Все они создатели собственных школ, любой из них сильней его как физик — кто согласится идти к нему под начало? Академик в подчинении у профессора? Утопия! И каждый руководит институтом или коллективом исследователей, у каждого — оборонные темы. Знаменитостей не привлекаем, думал он с некоторым даже облегчением. Точка. Курчатов. Итак — молодые. В крайнем случае — сверстники. Собственные ученики, потом ученики Вавилова, Мандельштама, Семенова, Ландау. Вон какую блестящую школу химико-физиков создал Семенов — черпать и черпать из нее. А школа Ландау? Коллектив превосходных теоретиков, любому поручай расчеты! Осуществить наконец на практике давнюю идею: соединить в одно целое экспериментаторов с теоретиками, чтобы они постоянно, каждодневно работали вместе. Кого с кем? А вот это — не сразу! Ибо каждая фамилия — крупная личность, яркая научная фигура, в общем, творец! Только такие! Творцов по объявлению не найти, их надо испрашивать, выпрашивать и упрашивать. Не торопиться с набором!
И лишь установив для себя такую программу, Курчатов явился к Балезину с первым списком имен.
— Ваше дело, Игорь Васильевич, кого вы собираетесь привлекать, — сказал Балезин. — Теперь остается решить вопрос о стационарном помещении. Кафтанов просил меня срочно что-нибудь поискать для вашей лаборатории. У вас у самого нет ничего на примете?
Курчатов возразил, что дело не к спеху, можно начать и во временных помещениях, в зданиях эвакуированных институтов. Балезина все больше удивляла осторожность руководителя урановой проблемы, она как-то не вязалась с напористостью этого человека, о которой твердили все. Зато когда Балезин предложил совместно съездить в Уфу, Бугульму, Свердловск — во все эти города эвакуировали научные учреждения, можно кое-что присмотреть и для урановых дел, — Курчатов согласился с охотой. На подъем он был легок.
В Уфе Курчатов с удовольствием наблюдал, как Латышев восстанавливает довоенные исследования по гамма-лучам, он похвалил коллегу, сообщил, что и сам собирается налаживать ядерную лабораторию — встретится Латышеву дельный работник, пусть порекомендует.
Распростившись с Балезиным, Курчатов поехал в Свердловск, в Уральский филиал Академии наук к старому знакомому, бывшему ленинградцу Кикоину — эта фамилия стояла в списке первой.
— Исаак Константинович, хочу пригласить тебя в Москву для работы по разделению изотопов урана, — начал беседу Курчатов.
Кикоин не торопился с ответом. Высокий, худой, большеголовый, скульптурно-четкое лицо с крупными чертами — он молча курил трубку, молча слушал. Казалось, не было ничего столь же далекого от научных интересов Кикоина, как то, что предлагал Курчатов. Специалист по магнетизму, написавший в 23 года вместе с Дорфманом солидный труд «Физика металлов», автор фотомагнитного эффекта, названного «эффектом Кикоина», он числился в Физтехе вундеркиндом, его выделял сам Иоффе. Опека Иоффе шла так далеко, что он не только выхлопотал для молодого ученого в 1932 году длительную командировку за границу — Кикоин работал в Мюнхене у Вальтера Герлаха в магнитной лаборатории, гостил у Де-Хааза в Лейдене, — но и когда выданная на две недели валюта кончилась, добавил еще на два с половиной месяца из своего личного гонорара за научные консультации для фирмы Сименс. Атомным ядром Кикоин не занимался.
— Отпустил бороду, Игорь, — вдруг констатировал Кикоин, когда Курчатов закончил. — В общем, идет. Но странно. Непривычно как-то.
— Я жду твоего решения.
Кикоин выдохнул большой клуб дыма и с интересом смотрел, как густо-синий шар, расширяясь, бледнеет.
— А что? Интересно! Разделение атомных ядер на фракции... Даже очень интересно. Вызывай, Игорь. Буду с тобой работать.
В Свердловске размещалась основная база лаборатории полимерных броневых материалов. В нее недавно возвратился Федор Витман, тоже из физтеховцев, специалист по прочности — он демобилизовался после госпиталя. Курчатов с облегчением видел, что теперь его уход урона «прочнистам» не нанесет. Но огорчился Русинов, старый помощник. Он и перевелся в эту лабораторию, чтобы трудиться с прежним начальником, а непоседливый начальник снова куда-то сбегает, оставив его одного. Невысокий, с мягкими движениями, свежим цветом лица, с пышной копной темно-русых волос, Русинов десять лет проработал с Курчатовым, он имел основания обижаться. Курчатов спросил прямо:
— Лев Ильич, можете ли вы оставить нынешнюю работу, чтобы вместе со мной перейти на новое место?
Русинов ответил с той же прямотой:
— Игорь Васильевич, вопросы прочности материалов в военное время — такая проблема!..
— Тогда отложим на время разговор о совместной работе.
В Казани — Курчатов возвратился туда в декабре — ждали неотложные дела. Курчатов мысленно был уже в новой лаборатории, приказ об отъезде в Москву Иоффе подписал, но командование флота и слышать не хотело о расставании. Александров с огорчением констатировал, что прекращается совместный труд — столько хорошего сделано, Сталинской премией оба награждены...
— И не думаю прекращать совместную деятельность, — весело блестя глазами, возразил Курчатов и погладил черную бороду — вырабатывалась новая привычка. — В этой связи имею предложение. Я у тебя поработал. Почему бы и тебе теперь не присоединиться ко мне?
Александров колебался. Он не ядерщик, дело новое. Отпустит ли командование? Курчатов отводил каждое возражение. Любое дело вначале новое. Но зато какие перспективы! Переворот в технике! Что до моряков, то у них выросли свои кадры мастеров размагничивания. А если срочно понадобимся, дверь наглухо не закрыта, поможем.
Александров начал сдаваться:
— Ладно, в принципе не возражаю. Но как-нибудь потом.
Курчатов лукаво посмеивался:
— В списки сотрудников я тебя мысленно уже внес. Деловой разговор пока отложим. Сейчас заберу прежних своих помощников — Щепкина и Неменова.
Прошло года два, прежде чем возобновился «отложенный разговор».
С Александровым он говорил открыто. С Арцимовичем тоже не было нужды таиться. Арцимовичу все не удавалось создать удобные аппараты для темновидения. Он разуверился и в их военной полезности, когда стали появляться радиолокаторы, значительно более эффективные. Курчатов побаивался, что насмешливый друг начнет с издевки над его проектами, назовет их нереальными. Строптивый Арцимович неожиданно объявил, что охотно займется электромагнитным разделением изотопов — тем, что еще перед войной ему навязывал Курчатов. Надо только предварительно довести начатые работы до отчетов и производственных рекомендаций. Он выговорил себе в помощники Германа Щепкина. В свое время они вместе трудились над оборонной темой, дело шло дружно. Курчатов Щепкина пообещал — «попозже, когда развернемся».
С другими физиками Курчатов не старался завязать немедленную связь, не все нужны были сразу — развертывание пойдет поэтапно. По Казани поползли слухи, что Борода — прозвище пристало, даже друзья перестали звать Гариком — что-то предпринимает, хорошо бы попасть к нему в сотрудники. Но он на вопросы отвечал уклончиво. Даже брату сказал коротко: «Боря, не торопись. Еще поработаем вместе. А что, да как, да где — оставим на будущее».
С Харитоном и Зельдовичем — они были в первом десятке затребованных — нужно было говорить обстоятельно. И Юлий Харитон, старый друг, и молодой Яков Зельдович вели в институте Семенова важные исследования по взрывным реакциям. Взрыв — душа войны, захотят ли они сами отказаться от своих тем? Отпустит ли их Семенов?
Харитон согласился включиться попозже, надо срочно завершать уже ведущиеся работы. У Зельдовича еще продолжались исследования по горению и взрывам порохов, но он мог совместить их с изучением «урановых цепей». Он только что получил Сталинскую премию за свои военные исследования и считал, что тема в основном сделана, можно браться за новые. Он загорелся сразу — душа изболела по большим проблемам, карандаш сам просится в руки. «Итак, Юлий придет попозже, а вас, Яша, берем пока на полставки, с Семеновым я это совместительство улажу», — подвел итог переговорам Курчатов. Дело упрощалось тем, что Институт химической физики в это время готовился переезжать в Москву, правительство решило в Ленинград, на старое место, его больше не возвращать.
Курчатов попросил каждого подумать, кого еще из знакомых можно привлечь.
— Мы пока сами себе отдел кадров! Берем только по знакомству. Только тех, о ком твердо знаем, что сильные работники. По знакомству отнюдь не значит — по приятельству. Кто мил душе, но мышей ловит вяло — того не надо!
Теперь в Казани у него был маленький кабинетик. Туда часто ходили люди, все бывшие ленинградцы, разговоры шли долгие — и о содержании их посетители помалкивали. Курчатов последовательно гнул свою линию — раньше всего собрать бывших физтеховцев, тех, кого знал, в ком был твердо уверен. Так, в конце декабря состоялся разговор с Козодаевым.
— Миша, давай потрудимся вместе, — предложил Курчатов Козодаеву, работавшему сейчас по радиолокаторам у Кобзарева. — Ты старый алихановец, но и Абуша сейчас в нашем коллективе. Никто лучше тебя не владеет электронными методами для ядерных исследований. Надо повторить работы со вторичными нейтронами, какие мы делали до войны, но улучшить методику, набрать достаточную статистику. Письменное задание выдам позже.
Иногда в этой вербовке нужных людей принимал участие и Алиханов, приехавший в Казань из Армении. Физтеховца Марка Корнфельда пригласили они оба, это было первого января 1943 года — первый день нового года для Корнфельда стал днем поворота в научной работе, он быстро поддался уговорам двух видных физиков. Алиханов с жаром агитировал прежних сотрудников и знакомых. И то, что новое, пока еще малоизвестное дело возглавляют они оба, Курчатов и Алиханов, само по себе уже было внушительным доказательством, что дело важное. И, выезжая в начале января в Москву, Курчатов с удовольствием перебирал в уме список завербованных дельных работников; кроме старых «курчатовцев», приход тех был естественен, еще и такие крупные научные фигуры, как Алиханов, Кикоин, Зельдович с Харитоном, Козодаев, Спивак, Корнфельд — коллектив пока небольшой, но, вне сомнения, незаурядный. А помощь свою обещали еще и Арцимович, и Александров. В общем, ядро крепкое!
В Москве несколько дней пришлось ютиться в комнате жены Алиханова, затем в гостинице «Москва» освободился номер на 12-м этаже. Номер был на семью, а в войну кровати в комнатах стояли почти вплотную. Администрация намеревалась подселить к веселому бородачу, занявшему в одиночку обширный № 1211, соседей, Курчатов объявил, что соседи будут, но только по его выбору. Звонок из Совнаркома заставил администраторов отстать от строптивого жильца. Соседи и впрямь скоро появились, все из Казани, все свои — Зельдович, Флеров, Неменов. Оставалась еще одна свободная койка, ее предоставили хоть не своему, но хорошему человеку, профессору Перфильеву, специалисту по микрофильтрам для очистки от бактерий. Курчатов слушал его рассказы с интересом, фильтры могли пригодиться и для разделения изотопов. Было еще одно в энергичном профессоре, что не мешало бы взять на вооружение, — прямо-таки потрясающее умение, если уж пустили в приемную, проникать в кабинет к любому начальнику.
Перфильев носил с собой портативную пишущую машинку.
— Она у меня — орудие проникновения, — говорил он, любовно похлопывая по футляру. — Вообразите картину — величественная, как римская матрона, секретарша цедит сквозь зубы: «Ждите!» Я прошу прощения, что займусь делом, примащиваю машинку на подоконнике и отстукиваю что-нибудь — стихи Гёте, Пушкина или Тютчева. Никакая секретарша больше чем пять минут не выдерживает. Обязательно постарается поскорей пропустить.
Дел в Москве навалилось сразу множество. Пришли новые материалы об исследованиях урана, надо было с ними познакомиться. И подошла наконец пора подготовить проект правительственного постановления о новой лаборатории. Кабинета своего не было, а писать такие бумаги — об этом сразу предупредили — в общих помещениях не разрешалось. Курчатов примостился в кабинете Балезина и там набросал проект организации работ. Кафтанов понес документ на утверждение Молотова, тот передал его Первухину — новая организация отдавалась под руководство заместителя предсовнаркома, ведавшего промышленными министерствами. Первухину проект Курчатова понравился. Для того чтобы существо работ не раскрывалось, новое учреждение назвали туманно: Лаборатория № 2 (хотя в тот момент никакой Лаборатории № 1 и в перспективе не намечалось). Проект ушел в правительство. В феврале 1943 года вышло постановление о создании Лаборатории № 2. Целью исследований определено — раскрытие путей к овладению энергией деления ядер урана. О военной стороне проблемы говорила лишь фраза: «Исследовать возможности военного применения энергии урана». Понадобились чрезвычайные внешние обстоятельства, тревожные данные о том, что в западных странах все научные силы и все творческие умы лихорадочно форсируют именно военную разработку, чтобы и в программах Курчатова военная тема постепенно становилась — и опять-таки на известный срок — главной целью.
Урановая лаборатория была создана, получила руководителя. Теперь подошла пора собирать воедино «завербованных» специалистов и начинать реальную работу. Первой ласточкой примчался из Армении Неменов. Курчатов определил его своим заместителем по организационным делам — принимать приезжающих физиков, поселять их, где удастся, превращать выделенные пустующие помещения в нормальные лаборатории. За несколько дней до правительственного решения, уверенный заранее, что Лаборатория № 2 реально существует, Курчатов набросал на трех страницах большого формата программу опытов для Козодаева, приписал в конце: «Все сказанное выше можно было бы изложить более логично и изящно, но нет времени», — поставил дату «8.02.43» и отправил записку в Казань.
Вскоре началось переселение физиков из Казани в Москву — пока только бывших ленинградцев-физтеховцев. Из Казани прикатили вагоны с лабораторным оборудованием, вагоны сопровождал Щепкин, Спивак, Козодаев, Корнфельд. Для бывших ленинградцев нужно было подыскивать квартиры. Курчатов подключил к поискам жилья старого сотрудника Ивана Петровича Селинова. Балезин, еще курировавший новую лабораторию, помогал, сколько мог. Сам Курчатов тоже менял местожительство, постоянного помещения все не подбиралось. К счастью, удалось получить разрешение снимать замки с квартир эвакуированных из Москвы жителей и временно поселять там прибывающих сотрудников. Один физик за другим въезжали в чужое жилье. Флеров, Щепкин и Корнфельд поселились в доме по проезду Серова, где прежде жил Маяковский, Козодаев — на Покровке, другие — в таких же, распечатанных на время — чужих обиталищах. Мебель и добро старых хозяев сохраняли бережно, но об условиях для длительной спокойной работы лишь мечтали — война была на переломе, возвращение хозяев виднелось не за горами.
Февральское постановление правительства о новой лаборатории точно указывало направление работ и не предусматривало организации параллельных центров. Это было существенно новое по сравнению с довоенным положением. Тогда исследования ядра концентрировались в нескольких институтах, и в каждом достигали каких-то успехов, и в каждом имелись свои специалисты по ядру — Александр Лейпунский и Кирилл Синельников в научных кругах и известность имели вряд ли меньшую, чем была у Курчатова. А теперь, хоть урановая лаборатория называлась второй, она все же была единственной. Это создавало свои проблемы — Курчатов еще не знал, как их решать. Вавилова информировали о новой лаборатории, он одобрил начинание, обещал всемерную поддержку, но о том, чтобы передать своих фиановцев, взращенных им и Таммом, в подчинение Курчатова и речи не завел — и Курчатов не настаивал, для такого всеподчинения себе пока еще не было ни данных, ни санкций. Зато Вавилов, приехав в Казань, доверительно поделился с одним из своих сотрудников: «А знаете, имеются сведения, что реакция распада урана — важное дело». Он намекал на то, что ядерщиков на Западе «запрягли тащить урановую повозку», но сообщение прозвучало многозначительно.
Некоторая организационная неопределенность — все ее замечали, — связанная со странным номером лаборатории, действовала сковывающе, когда приходилось приглашать физиков из других институтов. В начале года освободили Харьков — вскоре его опять потеряли на полгода, — у харьковских физиков ожили надежды на возвращение в родной дом. УФТИ, в отличие от ленинградского Физтеха, перемещенного почти полностью в Казань, при эвакуации был разбросан по разным городам — Лейпунский с Латышевым осели в Уфе, Синельников с Вальтером попали в Алма-Ату. И Кирилл Синельников, шурин, сердечный друг, и непоседливый, энергичный острослов Вальтер, видные ядерщики, конструкторы мощных ускорителей, авторы замечательных работ, для новоорганизуемой ядерной лаборатории явились бы ценнейшими сотрудниками, каждый мог возглавить самостоятельный сектор. Но они мечтали возвратиться в родной город, ни один не пожелал терять самостоятельности. Курчатов убедился в этом сразу же, как увидел шурина.
Синельников пробыл в Алма-Ате недолго. Вскоре после разгрома немцев под Москвой академик Берг вызвал харьковчанина с группой сотрудников разрабатывать радиолокаторы, отличные по типу от физтеховских. Экспериментальную базу разместили под Москвой. Синельников, прослышав, что Курчатов в столице, выбрался к нему на Дорогомиловскую — в очередную его временную квартирку. Он пришел с Игорем Головиным — знакомить своего нового ученика с Курчатовым.
Головин, бывший аспирант Тамма, доцент МАИ, сто дней провоевавший в ополчении, успевший за этот короткий срок военной службы попасть в окружение и выйти из него, эвакуировался в Алма-Ату вместе со своим институтом. Еще у Тамма, с блеском разрабатывавшего проблемы внутриядерных сил, Головина захватило ядро — диплом его был по энергии связи дейтерия и трития. В Алма-Ате недавний аспирант Тамма познакомился со знаменитыми харьковчанами-ядерщиками — Вальтером и Синельниковым. Знакомство оказалось таким прочным и длительным, что потом долгие годы молодой доцент к учителям своим, кроме первого — Тамма, благоговейно причислял всегда и Синельникова. Третьим и последним учителем стал Курчатов, но в день их знакомства Головин об этом еще не подозревал.
Синельников лишь покачал головой, когда Курчатов предложил идти к нему.
— Нет, Игорь, Харькову не изменю. Не знаю, что там осталось, но я и Вальтер создавали УФТИ, мы будем его восстанавливать. А это, сам понимаешь, дело не одного месяца и даже не одного года.
— А вы, Игорь Николаевич? — спросил Курчатов Головина.
У молодого физика горели глаза. В науке для него не было ничего заманчивей ядра. Но и покинуть Синельникова он не решался. Курчатов, улыбаясь, оборвал его колебания:
— Подождем окончательного освобождения Харькова.
В эти дни Флеров узнал, что в Москву перевели завод, на котором работал Давиденко, и помчался разыскивать приятеля. Сперва нигде не давали адрес завода, а когда удалось до него добраться, никто не знал, где кто живет, приезжие устраивались как могли, чуть ли не еженедельно меняли адреса, только на смену являлись аккуратно, с этим было строго. Флеров встретил Давиденко у проходной и, узнав адрес, вечером явился.
— Давай вместе работать, — предложил он.
— Добился, значит? Вот уж не верил я...
— Хватит тебе токарничать, так и забудешь, что научный работник.
— А я уже давно забыл. Руки усовершенствовал зверски, любую деталь выточу. Голова атрофируется. — Давиденко захохотал. Испытания двух военных зим не вытравили из него веселья.
На другой день Давиденко появился на двенадцатом этаже «Москвы». Курчатов сидел у окна, вытянув длинные ноги в белых фетровых валенках. Давиденко восхищенно покосился на ослепительную обувь — такие валенки, тонкие, теплые, с кожаным рантом, выдавались только начальству. Курчатов весело сказал:
— Что-то здорово изменился...
— Война внесла коррективы, — проворчал Давиденко. — А у вас вроде камуфляж. Борода! И до конца войны?
Курчатов поглаживал бороду.
— И после войны! Ну, представляться не надо, кто ты есть, что можешь, — сам знаю. Будешь работать с Флеровым.
Теперь на очереди стояло самое важное — то, чего он так трудно и так безуспешно добивался до войны, о чем запретил себе и мечтать первые два года схватки с фашизмом, — реальное распределение среди исполнителей всех тем, какие нужно исследовать, — практическое начало работ. И помещение для групп, хоть и временное, но достаточное для приступа к делу, было — пустующие комнаты эвакуированных институтов — сперва Сейсмологического института в Пыжевском переулке, а затем в ИОНХе (Института общей и неорганической химии) на Большой Калужской. Правда, в ИОНХе разместилась воинская часть, но солдатам приказали потесниться. Они дисциплинированно пожертвовали своими удобствами: «Надо, наука возвращается!» И для них это было радостное, в сущности, событие — война на переломе, самое страшное — позади, раз эвакуированные ученые возвращаются в столицу.
Курчатов созвал главных помощников — твердо расписать, кто чем займется, какие направления поисков принимаются, какие отвергаются, какие резервируются. Совещание — с соблюдением строгой секретности, она еще казалась странной физикам, привыкшим обсуждать научные проблемы открыто, — происходило в пустующем здании Института физической химии. Две главные темы — разделение изотопов урана и создание уранового котла на медленных нейтронах — приняли без спора. Электромагнитное разделение согласился взять Арцимович; разделение путем просачивания газообразного соединения урана через пористые фильтры поручили Кикоину; термодиффузию — использование разного поведения легкого и тяжелого изотопа урана при повышенной температуре — Курчатов наметил для Александрова.
А по второму направлению — урановому реактору на медленных нейтронах — главное оставалось тем же, что и до войны: установить, как ведут себя нейтроны в разных замедлителях, а также как делят ядро урана нейтроны разных энергий. Новое здесь, сообщил Курчатов, — реальное конструирование уранового котла, поставляющего тепловую энергию.
Было еще одно новшество, о нем тоже поговорили, — в случае удачи оно обещало изменить все направление поисков. Еще в 1940 году американцы Абельсон и Макмиллан синтезировали наконец элемент 93 и назвали этот первый трансуран нептунием. О нептунии было известно, что он неустойчив и, выбрасывая электрон, превращается в элемент 94 с атомным весом 239. Засекречивание не позволяет узнать, получен ли уже этот трансуран, но что американцы работают в этом направлении — несомненно. И еще одно известно об элементе с атомным весом 239 — по теоретическим соображениям, он должен делиться и быстрыми, и медленными нейтронами, как и легкий уран-235, то есть представлять собой идеальную атомную взрывчатку. И его можно от других элементов отделить химическими методами, а это значительно все же проще, чем разделение изотопов урана!
— Очевидно, и нам нужно синтезировать и выделить элемент 94, — сказал Курчатов.
Распределение замедлителей спора не вызвало. Котел на тяжелой воде взял Алиханов, с котлом на графите хотел поработать, оставляя за собой общее руководство всеми исследованиями, сам Курчатов. Размножение нейтронов в смеси урана с обычной водой поручили Флерову — заодно и определение разных ядерных констант.
Когда участники заседания расходились, в коридоре им встретился брат Лейпунского, Овсей, сотрудник лаборатории Зельдовича — он был временно прикомандирован к одному из московских институтов. Овсей изумился при виде созвездия светил советской ядерной физики и отвел брата в сторону.
— Я думал, ты на Урале, Саша. По какому поводу слет пионеров?
Брат отшутился:
— Разве ты не знаешь, что пионеры засекречивают свои слеты? И о повестке дня не распространяются.
— Тогда не скопляйтесь на виду все вместе, — посоветовал Овсей. — Один взгляд на такую группу говорит ясно, чем она должна заниматься!
Курчатов, покидая совещание, радовался — и план был хорош, и помощники одобрили его с энтузиазмом: душевное увлечение — важная гарантия успешной работы! Но в плане имелся внутренний изъян, Курчатов ощущал его острей, чем хотел показать. Выполнение программы требовало привлечения Хлопина с его коллективом радиохимиков. Курчатов внутренне поеживался, когда думал об этом.
Был момент, когда, ознакомившись со скудными данными о недавно открытом девяносто четвертом элементе, он решил было, что собственная радиохимическая группа, возглавляемая братом Борисом Васильевичем, отлично справится с загадочным элементом. Чем больше он размышлял, тем иллюзорней становилась такая мысль. Борис Васильевич стал отличным радиохимиком, ему можно поручать сложнейшие задачи, но под силу ли ему распутать все загадки, какие таит неведомый трансуран? Нет, такая работа требует не группы, а института — и того именно, каким руководит академик Хлопин.
В здании Казанского университета, превращенного на несколько военных лет в комбинат научных учреждений, разместился и Радиевый институт. В широких коридорах, превращенных в канцелярии и помещения для теоретиков — вдоль стен выстроились столы и шкафы, — Курчатов не раз встречал и Хлопина — холодно раскланивались и расходились. Неприязни не было, не было и позыва к дружбе. Курчатов с удивлением открывал в своем бывшем начальнике незнакомые прежде черты. Директор института, академик-секретарь химического отделения Академии наук, всегда вежливый, всегда холодновато-корректный, всегда замкнутый в своей науке, Хлопин в Казани повел себя общественником-активистом, участником всех компаний, инициатором всех общественных мероприятий. Анна Дмитриевна Гельман, доктор химических наук, секретарь партбюро Института неорганической химии, сохранявшая при всей своей учености рабфаковскую живость и непосредственность, на всех собраниях отмечала радиохимиков: председатель Центральной шефской комиссии в помощь Красной Армии — сам председатель ГКО прислал ей личную благодарность за ударную работу для армии, — она нашла в академике деятельного помощника. И на воскресниках, и при сборе вещей и денег он был среди первых.
А когда Курчатов как-то в присутствии своих бывших сотрудников по физическому отделу РИАНА вслух удивился такой многосторонности их директора, все они дружно возразили, что необычного тут нет. Виталий Григорьевич и до войны всем своим работникам подавал пример общественной деятельности. Просто за стенами их института мало кто знал об этом, радиохимики не афишировали, как живут, чем занимаются, чем увлекаются. Курчатов припомнил, что в некотором роде он сам, трудясь в стенах РИАНа, оставался за его стенами — приходил в циклотронную, проводил там ночи и дни, а что делалось на трех остальных этажах, его не интересовало. Он не был даже ни на одном самодеятельном спектакле радиохимиков, хотя приглашали часто.
Но если общественное усердие Хлопина казалось неожиданным, то все остальное в его характере было хорошо известно и не могло не порождать опасений. До войны Хлопин составил свой обширный план работ с ураном, председательствовал в урановой комиссии. Убежденный, что главной базой исследований урана должен быть РИАН, где имеются и физики, и радиохимики, и действующий циклотрон, он настаивал на этом и в Академии наук, и в письмах в правительство. Недавно в рапорте Кафтанову он повторил свои старые мысли и планы. Вряд ли воодушевит такого человека известие, что основные урановые темы от него отходят и что возглавит урановые исследования Курчатов — последнее их столкновение ни у того, ни у другого не вытравилось из памяти...
Но чем дольше и всесторонней рассматривал Курчатов создавшуюся ситуацию, тем определенней становилось, что без помощи Хлопина не обойтись. Первоначальное глухое опасение, что совместной работы не избежать, понемногу превращалось в искреннее стремление наладить такую совместную работу — дружную, плодотворную, без оглядки на прошлые недоразумения...
Курчатов пошел к Кафтанову. Уполномоченный ГКО по науке в принципе передал новоорганизованную лабораторию в ведение зампреда Совнаркома, но не отказывался еще помогать своему детищу. Курчатов объяснил, что успешное развитие урановых исследований немыслимо без привлечения радиохимиков Хлопина. Конечно, не на правах сотрудников Лаборатории № 2, об этом и речи нет, но все же...
— Постараюсь, — сказал Кафтанов. — Вызову Хлопина, побеседую... Виталий Григорьевич, вы понимаете, это же мировая величина, с ним надо по-особому... В общем, буду уговаривать, товарищ Курчатов.
6
Радиевый институт прибыл из Ленинграда в Казань 8 августа 1941 года. В эти тревожные дни — на Украине шло большое наступление немцев, гитлеровские войска рвались к Киеву — Казань превратилась в своеобразную научную столицу страны. В этот сравнительно небольшой город прибывали, эшелон за эшелоном, эвакуируемые из Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Одессы и других городов, оказавшихся в районах боевых действий, научно-исследовательские и учебные учреждения, экспериментальные лаборатории. Казанский университет в считанные дни превратился в обширный комбинат институтов: руководившие размещением научных учреждений академики О. Ю. Шмидт и Е. А. Чудаков втеснили в университет — правда, здание было просторное — и Академию наук, и с десяток ее институтов. И коридоры, и вестибюли, и музеи, и актовый и спортивный залы, и подвалы и раздевалки, и кабинеты и аудитории — все было плотно заставлено столами, шкафами, стульями, моторами, насосами, щитами с приборами...
Радиевому институту выделили три комнаты. Если раньше в четырехэтажном здании на улице Рентгена каждая лаборатория имела по 3–4 комнаты, то теперь в каждой комнате размещалось по 3–4 лаборатории, отгороженных одна от другой шкафами — это была самая надежная граница владений, — или столами, или, еще проще, проволокой с навешанными на ней газетами. Для жилья приспособили спортивный зал: поставили в нем полсотни новых железных кроватей без перегородок — это и были семейные квартиры: близость отношений выражалась лишь в соседстве кроватей. Так жили кто месяц, кто два — постепенно отыскивали углы, даже отдельные комнаты: в них тоже переезжали по две семьи, если семьи были небольшие.
В такой обстановке в сентябре радиохимики, закончив расстановку мебели и монтаж аппаратов и механизмов, возобновили работу. О прежней тематике не приходилось и говорить, все усилия были поглощены оборонными заданиями. Геохимики разъезжали по Заволжью, разыскивая подземные воды с повышенной радиоактивностью — они служили косвенным свидетельством, что неподалеку залежи нефти: нужно было всемерно форсировать Второе Баку, обширный нефтяной район, открытый перед войной. Физики и радиохимики помогали местным заводам совершенствовать производство, промеряли и маркировали радиоактивные препараты, рассылаемые затем по стране, а в госпиталях и больницах налаживали радоновые ванны для раненых. Хлопин с группой сотрудников углубился в разработку высокоактивных препаратов для светосоставов постоянного действия. Военная промышленность остро нуждалась в светящихся красках, на них требовался радий или иные радиоактивные вещества. В Ленинграде Вериго с помощниками добывали радиоактивные концентраты из пыли, известки и золы сожженной мебели радиолабораторий, в Казани, чтоб не тратить драгоценный радий, извлекали содержавшийся в нем мезоторий — он-то и шел на светосоставы. Практически в течении года был переработан весь запас радия Советского Союза, его привозил и отвозил заместитель Хлопина Борис Никитин, он же вместе с Хлопиным и Александром Полесицким совершал отгонку и улавливание мезотория: всех троих за эту работу через год отметили Сталинской премией. В извлечении мезотория, операции опасной и тонкой, кроме трех ее авторов участвовало еще семь человек — одни мужчины, женщин Хлопин не разрешил привлекать.
Все это было важно — практическая помощь оборонной промышленности, но далеко от фундаментальных исследований, какие шли перед войной. И когда Хлопин узнал от Кафтанова, что намечено возобновление работ с ураном, лишь природная выдержка позволила не показать, как он взволнован. Он возвратился в Казань, ждал новых известий, нервничал и тревожился — скоро ли развернется дело, в какой степени оно затронет Радиевый институт? В конце года в Казань вернулся из очередной поездки в Москву Иоффе, Хлопин пошел к нему, путешествие было недальним — оба работали в одном здании. Иоффе сказал, что принципиальное решение правительства есть, разрабатываются организационные формы, о результатах их известят. Хлопин снова ждал, снова нервничал. Что-то важное делалось в стороне, за его спиною, он это чувствовал — ощущение было тягостное. Неужели с ним не считаются? Неужели отстранят его институт от возобновления ядерных работ? Разве в правительстве не знают, как интенсивно они изучали распад урана, как много в этой области сделали? Разве не в его институте, совместно с работниками Физтеха, обнаружили изомерию ядер, спонтанное деление урана — открытия, прогремевшие во всем мире! Разве не в РИАНе работал единственный в стране циклотрон?
Неделя шла за неделей, новых известий не было. Ожидание стало непереносимым. 15 января 1943 года Хлопин написал докладную сразу в два адреса — вице-президенту Академии наук (им недавно стал Иоффе) и Кафтанову. Уже первая, длинная фраза выдавала внутреннее нетерпение, почти раздражение автора докладной:
«Зная с Ваших слов о состоявшемся около месяца назад постановлении, по которому на Академию наук возложено проведение работ, имеющих своей задачей в весьма сжатые сроки дать ответ на вопрос о возможности или невозможности использования проявляющейся при делении атомов урана внутриядерной энергии для практических целей, с одной стороны, а также ясно осознавая, что решение поставленной перед Академией наук задачи не может быть дано без основного участия в этой работе вверенного мне Радиевого института и меня лично, с другой, я считаю необходимым обратить ваше внимание на нижеследующее.
Решение такой сложной задачи в сжатые сроки, учитывая условия работы институтов АН СССР, и Радиевого института в частности, в г. Казани, возможно лишь при условии:
а) составления ясной и реальной программы работ с четким разделением ее между отдельными институтами;
б) принятия ряда экстренных организационных и хозяйственных мероприятий.
Между тем ни того, ни другого до настоящего времени не имеется, время идет, а экспериментальная работа еще не начиналась...
Поэтому я считаю своим долгом, как лицо, хорошо знакомое с интересующим ГКО вопросом, изложить Вам свою точку зрения на то, в каком направлении должны быть проведены работы для того, чтобы решить поставленную перед Академией наук задачу, какую часть необходимой работы конкретно может взять на себя под моим общим руководством Радиевый институт, каких лиц я для этого выделяю и какие меры необходимо принять, чтобы я мог ее развернуть и вести надлежащими темпами».
И, чтобы требования выглядели достаточно обоснованными, Хлопин на двух страницах дает сжатый обзор того, что знали по делению урана к началу войны, и того, что требует еще срочного выяснения. Как и в первой урановой программе, составленной ровно два с половиной года назад, он перечисляет основные темы для исследований. Но война с ее практическими потребностями, с ее ускоренными методами изучения загадок наложила свой отпечаток на эту вторую программу. В ней уже не 32, а только 13 тем. И она потеряла безукоризненный академизм, не столь всесторонне широка, не столь скрупулезно детальна, стремится не так всеохватно выяснить неизвестное, как скорее получить желаемое. Она кажется даже более реальной, чем та, но — неизвестно, увидел ли это сам Хлопин — по всему духу своему сближается с довоенной программой Курчатова, показавшейся в те дни чуть ли не фантастической.
Основные задачи, выдвинутые Хлопиным, сводились к изучению разделения урана методами центрифугирования, электромагнитной сепарации и термодиффузии в газах и жидкостях; получению металлического урана в количестве до трех килограммов; установления констант деления в натуральном уране и легком его изотопе и «разработке удобного способа получения шестифтористого урана в больших количествах».
И, настаивая, как и прежде, что основная доля работ падет на Радиевый институт, Хлопин соглашается решить все перечисленные задачи, кроме центрифугирования, выделяет для этого пятнадцать основных своих работников — членкоров, докторов, кандидатов «под моим общим руководством». Он лишь просит вернуть из армии Александра Ратнера, уже начавшего перед войной опыты по термодиффузии, передать РИАНу какое-либо помещение в подвале Казанского университета, снабдить дефицитными материалами по списку, отпустить сверх лимита 90 тысяч рублей и добавить одну штатную единицу механика с месячным окладом в 700 рублей.
Сегодня, когда знакомишься с этим документом, поражает сложность поставленных себе для быстрого исполнения научных задач и почти фантастическая скромность в средствах, какие запрашивались. В тот переломный месяц войны — завершалась сталинградская операция — Хлопин не разрешил себе требовать хоть рубля и грамма сверх того, что представлялось ему абсолютно необходимым.
Докладная ушла в Москву. Хлопин снова ждал. Теперь он был спокойнее. Он сказал свое слово, с его мнением не могут не посчитаться. Хлопин не знал для него в те дни самого важного: проект развертывания ядерных работ уже был составлен независимо от его докладной от 15 января 1943 года, но предстояло пройти еще месяцу, пока он превратится в правительственное постановление.
Выезжая в Москву по вызову Кафтанова, Хлопин не сомневался, что все пойдет, как он наметил: базой урановых исследований станет РИАН, в подмогу подключатся институты, какие он сам назвал в докладной: ленинградский Физтех и ИОНХ. Первые же слова Кафтанова показали, что дело пойдет иначе. Создана специальная Лаборатория № 2 при Академии наук, ее возглавил Курчатов, ей даны права переводить к себе всех ядерщиков, где бы они сейчас ни работали — в том числе, очевидно, и из Радиевого института... И всю ту программу исследований, которую он, Хлопин, составил для РИАНа, полностью от него забирают, ему оставлено лишь одно задание, скорее, просто химическое, чем радиохимическое, самое неприятное в исполнении, — получение газообразного шестифтористого урана, тринадцатая, последняя тема его программы, все остальные изъяты... А еще Кафтанов объявляет новое задание, так спокойно говорит о нем, словно бы называет неплохую темку для средней докторской диссертации — ни много ни мало, как срочно создать девяносто четвертый элемент: открыть его, выделить, изучить, описать... И это Хлопину, столько лет, столько мук отдавшему трансуранам, знающему, как неслыханно сложна, как невероятно трудна эта задача: столько великих радиохимиков — Энрико Ферми, Ирен Жолио-Кюри, Отто Ган, Лиза Мейтнер, Эдвин Макмиллан, Глен Сиборг, да и сам он, Хлопин, — пытались решить ее и до войны не решили. Да решена ли она и сейчас?
Хлопин не показал, как его обидел неожиданный разговор. Он сидел в кресле хмурый, от него тянуло холодком. Он казался больным — веки покраснели, под глазами лежали черные полукружья, скулы, и прежде острые, выделились резче.
Кафтанов поеживался. До прихода Хлопина он про себя надеялся, что возражения исключены и предложение будет принято сразу. Разве с радиохимиков не снимают огромный список труднейших тем? Да хоть бы изготовление трех килограммов металлического урана, по плечу ли оно им? Такое облегчение! Любой руководитель радовался бы, никто ведь не пожелает себе жизни потрудней. А Хлопин, странный человек, сердится, это слишком видно.
— Давайте подведем итоги, Сергей Васильевич, — сказал Хлопин. — Думаю, вам незачем просвещать меня в специфике распада урана. Кое-что и я в этой области сделал, как вам, конечно, ведомо. Так что не уговаривайте меня заниматься тем, чем я занимаюсь уже давно. Или я вас неверно понял?
С обычными химиками Кафтанову, химику, разговаривать было проще. Радиохимия — очень уж специальная область! Он осторожно сказал:
— Девяносто четвертый элемент, Виталий Григорьевич. Столько ему значения придают физики...
Хлопин сухо отозвался:
— И правильно делают, что придают огромное значение. Но его нет, уважаемый Сергей Васильевич, ни в одном природном материале. Он пока существует лишь на бумаге, не имеет даже названия, если только американцы, которые, вероятно, его уже создали, не дали ему на правах первотворцев наименования.
— Наши физики говорят...
— Что они создадут девяносто четвертый элемент в своих атомных котлах, которых тоже пока нет? Так? И нам, радиохимикам, остается только выделить его из смеси других элементов, очистить, подсушить и вручить в пакетиках физикам для изучения? Задачка на уровне учебника качественного анализа Тредвелла для студентов первого курса химфаков. Вам так рисовали картинку физики?
Кафтанов захохотал. Смех вырывался как бы из всего его огромного тела, он смеялся громко, мощно, тряся плечами, пристукивая руками по столу, и так заразительно, что Хлопин тоже заулыбался.
— Нет, — сказал уполномоченный ГКО, отсмеявшись. — Физики говорили по-другому. Точное определение девяносто четвертого, который пока еще на кончике карандаша, — труднейшая задача. С нею лишь академик Хлопин может справиться. Если бы не война, считают они, в его лаборатории давно бы уже получали девяносто четвертый, дело к тому явно шло. Вот так они говорили.
Хлопин, подняв голову, что-то рассматривал на потолке. Кафтанов с недоумением посмотрел вверх. Потолок был как потолок — белый и гладкий. Хлопин вяло проговорил:
— Болен я, Сергей Васильевич! Столько лет вожусь с радием, с полонием, с ураном... Элементы, отнюдь не оздоровляющие организм... А эти, еще неизвестные, еще несозданные? Кто знает, как они подействуют? Хорошего не ждать... Дело ведь не ограничится микрограммовыми навесками, те сравнительно безопасны. Нет, счет пойдет на граммы, на килограммы... Один французский король сказал — после меня хоть потоп. У нас будет обратная ситуация: потоп у нас, потоп при нас, потоп на нас! А после нас — ясная погода. На нашем горьком опыте научатся остерегаться. Мы собой, своим телом проверим нормы безопасности... Вас удивляет моя откровенность?
Такой откровенности Кафтанов и вправду не ждал. Сдержанный академик обычно не позволял себе сильных эмоций. И что в последнее время нездоровье посещало его все чаще, Кафтанов знал. Кафтанов растерянно забарабанил пальцами по столу. Разговор пошел иначе, чем намечался.
— Я понимаю — нездоровье... Тут уж ничего не скажешь... Как по-вашему, Виталий Григорьевич, кто другой сможет сделать эту работу лучше вас? — Он заметил, как вспыхнуло бледное лицо Хлопина, и поспешно добавил: — Я имею в виду — сделать, как вы, заменить вас.
Хлопин явно не принял поправки.
— Лучше меня никто не сделает. А как я могу сделать — только я. Сомневаюсь, чтобы меня можно было заменить. — Он хмуро поглядел на смущенного собеседника и тихо засмеялся: — А поскольку я сам обьявляю себя незаменимым, то вывод один — надо браться.
— Буду докладывать в правительстве о вашем согласии, Виталий Григорьевич, — сказал обрадованный Кафтанов.
— Можете докладывать. Кто из физиков, вы сказали, возглавляет урановые исследования? Курчатов?
— Курчатов. Вам надо с ним встретиться.
Хлопин снова нахмурился:
— Вы хотите сказать, что Курчатову надо встретиться со мной? Сообщите ему, где я остановился и что я жду его у себя...
Курчатов в Москве ждал результата переговоров с Хлопиным, вызванным из Казани.
Марина Дмитриевна тосковала в Казани: она писала, что не хочет провести в одиночестве свой день рождения в апреле. До сих пор, всю их почти двадцатилетнюю супружескую жизнь, они в этот день были вместе. И он, кажется, позабыл, что надо укладываться для окончательного переезда в Москву!
Курчатов утешал ее и оправдывался: «Главное, что меня держит, — это приезд Хлопина... Хлопин будет здесь или в самом конце марта, или в первых числах апреля, и, следовательно, я приеду к самому твоему дню рождения, о чем очень мечтаю».
Но хоть встреча с Хлопиным должна была произойти по собственному его настоянию и сам он, десятки раз придирчиво проверяя себя, точно знал, что Хлопин не может отказать, на свидание он шел со стесненным сердцем. Слишком уж сложными были их взаимоотношения в прошлом. И слишком уж часто, когда он и Хлопин начинали взаимодействовать, в логику дела, ясную, точную, врывалось нечто нелогичное, нечто из психологии, а не из физики, — любая предварительная наметка поведения становилась зыбкой...
Курчатов шел и мысленно разговаривал с Хлопиным. В загодя отрепетированной беседе он убеждал, оспаривал возражения. Серьезных контрдоводов он, однако, не ожидал. Что мог возразить ему этот человек, один из сильнейших радиохимиков мира, создатель отечественной радиевой промышленности, ученый, больше всех знавший о том, как, на какие осколки распадается ядро урана? Кому же, как не Хлопину, возглавить поиски нового элемента, столь важного для промышленности и обороны?
«Виталий Григорьевич, — скажу я ему, — кто же, как не вы?»
В мыслях разговор вращался вокруг сути дела, не уходя в сторону от нее. В реальности он сразу пошел иначе. Хлопин приветливо показал на кресло, сам сел рядом — начал беседу первый:
— Итак, разворачиваем второй тур урановых исследований? Сколько вы добивались такого широкого разворота, Игорь Васильевич! Грешен, не сочувствовал, считал, что зарываетесь. Уверен был, что перепрыгиваете через промежуточные стадии. Многие теперь, наверно, обвинят: недооценил-де практическое значение урана, недопонял, как говорит нынче молодежь. Заметьте, префикс «недо» — из модных для нашего времени: недостача, недоделка, недовыполнение, вероятно, скоро появится и недоперевыполнение... Так что мои просчеты — недопрозрения или, проще, недоучеты — вполне в стиле времени! Итак, какое вы мне дадите задание? Какие установите сроки выполнения?
Он говорил, дружелюбно улыбаясь, с доброй иронией, на бледных щеках постепенно проступала краска. Он заранее показывал согласие, почти радость. Курчатов старался не дать обмануть себя внешней приветливостью. Хлопин не мог перемениться. Люди с таким характером не меняются. Он, Курчатов, будет с ним говорить, как заранее наметил. Никаких выяснений отношений, никаких обсуждений прошлого. Сухая деловая беседа — и только!
Но внезапно Курчатов почувствовал, что и не может, и не хочет вести с Хлопиным такой разговор. Он смотрел на Хлопина почти растерянно. Хлопин, конечно, остался прежним, но Курчатов вдруг увидел в нем иного, почти незнакомого человека. И то, что он говорил, Курчатов тоже воспринимал по-иному, чем воспринял бы еще недавно. Хлопин вроде бы извинялся, признавал, что был неправ в старых спорах, а Курчатов с неожиданной для себя убедительностью вдруг осознал, что не было у Хлопина ошибок, как не было их у Курчатова, — оба были правы: и он, Курчатов, настаивавший, чтобы в урановые исследования бросили мощные средства, и Хлопин, возражавший против такой мобилизации народных ресурсов в одной отрасли за счет ужимания всех других. Простое толкование их прежних схваток: с одной стороны — энтузиаст науки, ратующий за передовое, с другой — холодный консерватор, гасящий высокий порыв, — нет, это слишком примитивно! Все было по-другому. Была страшно трудная загадка природы — и острая нехватка сил для ее быстрого решения. И были тяжелейшие международные условия, близилась схватка между могучими державами — обстановка предъявляла свои требования к ученым. Каждый из них двоих — и Курчатов, и Хлопин — видел одну сторону проблемы, а сторон имелось больше. «Кто из нас энтузиаст?» — вдруг со смущением спросил себя Курчатов. Он с почти болезненной остротой чувствовал, что Хлопин может не только извиняться, но и сам бросить упрек. «Я ведь никогда не оставлял своих урановых тем, вот такое у меня к ним отношение. И программа, мной составленная еще до войны, — разве она не показывает, как сам я увлекался изучением распада урана, какие надежды на него возлагал? Цель у нас была одна, хоть методы и разные, — неужели вы этого не поняли?»
Курчатов как бы поднялся над собой прежним, рассматривал прошлое как бы с высоты. Это была высота более глубокого понимания. Оно явилось непредвиденно, к нему еще надо было привыкнуть. Если Хлопин переменился мало, то он, Курчатов, стал иным.
И, отбрасывая все побочное и несущественное, Курчатов заговорил об единственно важном — об общем их деле, о дьявольски трудной проблеме, которую им отныне совместно решать.
— Все непонятно в девяносто четвертом, — говорил Курчатов. — Даже девяносто третий — загадка, ведь никто у нас его не знает. А девяносто четвертый — сплошная темь! Как получить? Как выделить? Какие константы распада, если он и впрямь распадается под действием нейтронов?
Он нанизывал один вопрос на другой, это была цепочка загадок, физики не могли разрешить их собственными силами — Курчатов не скрывал некомпетентности. Хлопин смотрел на Курчатова и тоже удивлялся — молчаливо, не показывая этого ни единым словом, ни одним недоуменным жестом. Удивлялся Курчатову, удивлялся и себе. Хлопину казалось прежде, что он хорошо знает этого человека. Он плохо знал его. Он помнил физика, во всем похожего на этого, но иного — шумного, веселого, властного, такого энергичного, что от его энергии порою некуда было деться. Тот, прежний, всех подчинял себе, во все вмешивался, даже когда не просили, — особенно охотно, когда не просили, — свое дело в его глазах было если не единственно важным, то во всяком случае самым важным. И он делал массу полезного, наладил циклотрон, открыл изомерию ядер, но практичность чудовищно совмещалась с заоблачностью. Все в нем было противоречиво. Исследование абстрактнейших проблем и общественная деятельность — председатель месткома, агитатор, даже член Ленсовета. Тонкие опыты — и физический труд, молоток и отвертка вперемешку с карандашом: днем комбинезон в масле, ночи — над иностранными журналами. Даже внешность противоречива — энергии и напора на десяток людей, а в лице, очень красивом, что-то женственное, почти безвольное. Хлопин всю жизнь прожил среди ученых, встречался с великими людьми науки — все они были какие-то иные! Вероятно, его раздражало в Курчатове именно то, что тот мало соответствовал привычному облику ученого.
И еще одно вдруг понял Хлопин — настолько важное, что оно как бы бросило иной свет на все свершившееся. Он недавно счел за обиду, что новую его программу от него забрали. Он хотел сделать РИАН центром исследований урана, с ним не согласились, грубо указали на его скромное место, нанесли оскорбление как ученому — так он воспринял известие о новосозданной лаборатории. Не было обиды. Не было оскорбления. Было нечто совершенно иное — высокое уважение к нему как ученому, понимание его исключительности. Уважение слышится в каждом слове Курчатова, он открыто подчеркивает уникальность того, что просит радиохимиков совершить. Все правильно, все правильно! Программу Хлопина могут осуществить и радиохимики, и новый коллектив Курчатова. Но исследовать девяносто четвертый способны лишь радиохимики, физикам это сегодня не под силу. И вот Курчатов предлагает: «Не занимайтесь тем, что я могу сделать без вас. Возьмите на себя то, что только вам по плечу. Мы этого сделать не можем».
Мысли и чувства, захватившие Хлопина, были так новы, что нужно было время, чтобы полностью дошла их важность. Хлопин слушал, не подавая реплик, лицо его оставалось суховато-замкнутым.
— И как подступиться к загадкам — понятия не имеем, — закончил Курчатов с досадой. — Если вы не возьмете химию трансуранов, ничего не получится.
— Получится! — заговорил Хлопин. — Ваш брат Борис Васильевич в радиохимии разбирается отлично. Организуете у себя специальный радиохимический отдел. Но есть одна задача, которую, мне кажется, вы недооцениваете. Вот ее-то и придется взять полностью моему институту.
Он наслаждался удивлением Курчатова. Нет, как все-таки противоречив этот человек и как противоречивы их взаимоотношения! Курчатов, такой деловой, практичный и энергичный, в сущности, тот, кого называют «чистым ученым», за пределами «чистой науки» ориентируется плохо. А Хлопин, академик, которого все считают образцом ученого, далекого от «прозы жизни», сейчас введет Курчатова в практику промышленного производства.
— Предположим, что успех достигнут, — продолжал Хлопин. — Вы получили девяносто четвертый элемент, изучили в микрограммовых навесках его физические свойства. И окажется, что он именно то, что искали, — сам испускает нейтроны, делится нейтронами любых скоростей. Дальше что?
— Дальше — промышленное производство этого элемента.
— Правильно. Нужны заводы, реакторы, в которых в массе урана накапливается этот элемент. Построили заводы. Дальше что?
— Дальше — извлечение элемента из общей массы. Вы это хотите услышать?
— Именно это! Нужна технология извлечения и очистки вашего гипотетического девяносто четвертого. Предупреждаю, она будет очень сложной. Я участвовал в создании радиевой промышленности. Сырье, какое получим на ваших будущих атомных заводах, перерабатывать будет еще сложней, чем радиоактивные руды. Одних осколков деления урана почти половина таблицы Менделеева. Многие надо попутно извлекать, материал ведь ценный, а они радиоактивны страшно — какая опасность для персонала! Понадобится создавать технологию производственной переработки сырья.
Курчатов осторожно сказал:
— Я так вас понял, Виталий Григорьевич...
— Да. Вы правильно поняли. Технология новых элементов — вот тот особый участок, какой мы полностью возьмем себе.
Курчатов встал. Хлопин пожал его руку, заглянул сквозь большие очки в глаза собеседника. Он улыбался лицом, улыбался голосом, даже рука, сжимавшая пальцы Курчатова, как-то по-доброму улыбалась:
— Интересно будет поработать с вами, Игорь Васильевич, в этой новой области. Очень интересно!
7
Сперва было с десяток комнат в здании Сейсмологического института в Пыжевском переулке. Сюда доставили прибывшее из Казани оборудование, в том числе и все, что Флеров вывез из Ленинграда. Курчатов взял себе одну из комнат, Неменов оккупировал другую, Флеров с Давиденко трудились в третьей.
Давиденко сразу стал мастерить жестяной бак для опытов с водой в качестве замедлителя нейтронов. Он теперь усердно доказывал, что он не только научный работник и по совместительству токарь 7-го разряда, но и жестянщик 5-го, — грохот разносился по всему зданию. Раздраженный Курчатов примчался в лабораторию, гремевшую, как котельный цех.
— Кто мешает говорить по телефону? Давиденко? Переименовываю. Отныне ты — Коваль! Хоть иногда давай покой начальству, Коваль!
С этого дня, перед тем как Курчатов брался за телефонную трубку, кто-нибудь спешил к Давиденко и ехидно объявлял:
— Борода приказывает: Ковалю не свирепствовать!
Доканчивал свой жестяной бак Давиденко уже в Институте общей и неорганической химии — ИОНХе — на Большой Калужской. Лаборатория в Пыжевском быстро разрасталась, выделенных комнат не хватало. Флеров и Давиденко удобно устроились в подвале ИОНХа. Бак с водой водрузили посередине комнаты. Задача была проста, она естественно продолжала исследования, прерванные войной: изучить резонансный захват нейтронов в уране при разных комбинациях урана и воды. Именно этот захват, бесцельно выводя из процесса вырывающиеся при развале ядра нейтроны, делал невозможной цепную реакцию.
В бак погружали источник нейтронов — все ту же довоенного образца ампулку со смесью бериллия и радона или радия, — ставили кюветы с ураном, свинцом, другими металлами и смесями.
Первым неожиданным выводом был тот, что интенсивней всех поглощаются нейтроны в уране, когда их энергия около 5 электрон-вольт, а не около 25, как думали раньше. Вторым — важность его стала ясна впоследствии — что уран в виде корольков — маленьких шариков — хуже захватывает резонансные нейтроны, чем распределенный равномерно в толще воды. И третий вывод был таков: все элементы поглощают нейтроны, кроме олова и свинца, эти два металла нейтроно-прозрачны.
— Загадка, Витя! — объявил Флеров, когда прозрачность свинца и олова стала бесспорна.
— Без загадок скучно, — порадовался Давиденко. — Как-то интереснее работается, когда во что-то упрешься лбом.
Разговор шел ночью. Ночью было спокойней работать.
Из Казани прибывали «второсписочники». Неменов, принимавший их в Пыжевском, обеспечивал каждого справкой о санобработке — без них в Москве не прописывали — и направлял в ИОНХ, там было просторнее. Козодаев со Спиваком разместились по соседству с Флеровым и Давиденко и, пока им выискивали квартиры эвакуированных, тут же и спали, где работали. Спивак иногда уходил на отдых в «Капичник»: в Институте физических проблем сохранились диваны — постель, по военному времени, роскошная. Хоть и реже, чем в первый год войны, но иногда раздавались воздушные тревоги, работа тогда прекращалась. Флеров с Давиденко оставались в своем подвале, не затрудняя себя беготней в бомбоубежище, а Козодаев, если было светло, присаживался у окна с томиком «Петра Первого» — только эти свободные минуты и можно было отдать художественной литературе: знаменитый роман читался без спешки.
В середине лета появился Игорь Панасюк. Он привез из Ленинграда чемодан важнейших вещей — порошок металлического урана, детали схем. Все то, что Панасюк, покидая институт, упрятал так хитро, что и Флеров с Кобеко не нашли, возвратилось теперь к законному владельцу.
Кобеко повстречал Панасюка на льду Ладоги, когда проверял свои «прогибометры». Панасюк переезжал с рентгеновской установкой из одного госпиталя в другой. Кобеко записал его полевую почту и пообещал напомнить о себе. Напоминание пришло в форме предписания генерал-полковника Щаденко срочно откомандировать в его распоряжение старшего лейтенанта Панасюка.
Так с набитым разным добром чемоданом и полными карманами Панасюк прибыл в Москву. Из Наркомата обороны его направили в Президиум Академии наук, там соединили по телефону с Курчатовым.
— Приходи немедленно, Игорь! — велел Курчатов.
Он с сокрушением смотрел на ставшего во фрунт бывшего аспиранта. Все приезжавшие из Ленинграда были бледны, худы, одутловаты — Панасюк выглядел хуже всех. Одежда болталась на нем, черная кожа лица обрисовывала кости с жуткой отчетливостью.
— Дошел ты, Игорь! — невольно сказал Курчатов.
— Прибыл в распоряжение, Игорь Васильевич! — восторженно путая гражданский тон с военным, доложился Панасюк и радостно добавил: — Теперь отойду, Игорь Васильевич!
Как ни ужасен был вид бывшего ученика, Курчатов дал ему только сутки отдыха. На другой день он познакомил Панасюка с кругом заданий. Он помнил, каким истово старательным, фантастически работоспособным, безоговорочно исполнительным был молодой физик — тяготы войны не могли лишить его этих прирожденных качеств.
— Будешь работать непосредственно со мной, — определил его функции Курчатов. — Мы с тобой строим атомный котел из урана с графитом. Сколько нужно того и другого, чтобы реакция пошла, никто не знает. Начинаем модельные опыты — будем складывать кучу-малу из урана и графита. Измерения покажут, чего ждать, куда направиться.
— Где графит? Где уран? — Панасюк недоуменно обводил глазами кабинет. Другие комнаты он уже обегал, ничего и в помине не было похожего на графит и уран. Жалкое количество уранового порошка, привезенного им из Ленинграда, в счет не шло.
— Будут, — пообещал Курчатов. — У нас появился добрый гений в Совнаркоме, Александр Иванович Васин. Сегодня иду к нему. Теперь скажи — где твоя жена? Анна, кажется? Физик?
— Анна Федоровна. Химик. Сейчас в Свердловске. Военпред на заводе.
— Отлично. И химики нам нужны. Напишешь для меня ее точные координаты — вызовем в Москву.
От Пыжевского переулка до Кремля дорога была короткая, Курчатов не стал вызывать машины. В Спасских воротах он предъявил паспорт. Дежурный сперва с недоумением переводил взгляд с паспорта на посетителя, потом позвал начальника. Курчатов слышал, как они вполголоса разговаривали.
— Вызов от товарища Васина. Фамилия на паспорте сходится — Курчатов Игорь Васильевич.
— Так в чем дело? Пропускай.
— Личность на себя непохожая. Какой-то не свой. На паспорте безбородый, а в натуре — бородища.
Курчатов вмешался, — любовно поглаживая бороду:
— Я отпустил ее недавно, товарищи. Не сбривать же оттого, что надо разок пройти в Кремль.
— Нет, не могу пустить, — сказал начальник вахты. — Паспорт с натурой не сходится.
— Да ведь меня вызвали по важному делу, товарищи!
— У всех дела важные. По неважным в Кремль не ходят. Отойдите в сторонку, я созвонюсь с товарищем Васиным.
Из Кремля скоро вышел улыбающийся Васин и помахал Курчатову рукой.
— Тот самый, кто мне нужен! — объявил он вахтеру.
Дежурный с сомнением посмотрел на начальника. Начальник, пожав плечами, распорядился:
— Пропустить бородача под личную ответственность товарища Васина.
Васин, пока шли к нему, смеясь, посоветовал Курчатову сбрить бороду или поменять фотографию на паспорте. Курчатов все поглаживал уже длинные, густые, черные волосы — поглаживание становилось привычкой. И хотя борода вскоре стала редеть и уже лет через пять никто не назвал бы ее пышной, жест этот — сверху, от щек, вниз — признак хорошего настроения, а снизу, от шеи, вверх — признак недовольства — стал для сотрудников Курчатова показателем настроения их руководителя.
Появление Васина явилось следствием того, что Лаборатория № 2 получила твердый организационный статут. Подчиненная непосредственно зампреду Совнаркома Первухину, она теперь сносилась с наркоматами и другими научными учреждениями через ответственного работника Совнаркома — им и явился Александр Иванович Васин. И прозвище «добрый гений из Совнаркома», как его назвал Курчатов, — вскоре это стало ясным всем ядерщикам, — было не шуткой, а уважительным признанием забот и помощи.
Курчатов ушел из Кремля и обрадованный, что есть теперь у физиков хозяин, отвечающий за успех их дела, и обеспокоенный, что он не может предъявить этому новому хозяину твердых требований. Сколько нужно урана для реакции, оставалось загадкой. Прикидочные измерения показали, что имеющиеся уран и графит слишком загрязнены примесями. Негодность материала можно увидеть сразу — сообщим заводам, что поставляют брак, работайте, пожалуйста, аккуратней. А как определить, что нужные кондиции уже достигнуты? Когда выложат весь урано-графитовый котел? Сколько лет ждать при таком дефиците урана? А если воздвигнут — и котел не пойдет? Годы работы впустую, весь материал на свалку — так?
Выход был один — вести исследования по-иному, чем он вел их до войны. Пришла пора осуществить давнюю мечту — соединить экспериментаторов и теоретиков в единый творческий коллектив. Раньше это было сверх его сил, теоретики не были ему подвластны. Теперь он имел власть, он просто обязан воспользоваться этой властью. Экспериментаторы должны работать за соседними столами с теоретиками: опытные данные тут же ложатся в фундамент расчетов, расчеты тут же показывают, как идти следующему эксперименту.
Приглашенные теоретики один за другим появлялись в лаборатории в Пыжевском. Кто обосновался «на постоянно», кто выговаривал право приходить периодически, так как не мог прервать другие работы. Яков Зельдович, выпрошенный у Семенова «на полставки», засел за исследование общих принципов уранового котла — продолжал все ту же довоенную работу, составившую этап в изучении ядерных цепных реакций. Но выяснения общих принципов теперь было мало, требовалось давать теоретическое освещение каждодневных экспериментов. Зельдович попросил привлечь своего друга Померанчука. Курчатов слышал о Померанчуке только хорошее — тот был одним из видных теоретиков школы Ландау. Внесенный в список затребованных в Москву, Померанчук вскоре появился в Пыжевском. В список попал и Исай Гуревич из Радиевого института. Гуревич отличался умением совмещать эксперименты с теорией и теоретик был своеобразный: брал интуицией, математика у него скромно подчинялась физике — для поисковых опытов качество незаменимое. Курчатов вызвал его из Казани весной 1943 года. Хлопин согласился «откомандировать» своего сотрудника, но Гуревич заболел бронхиальной астмой и в Москве появился лишь в сентябре. Он сразу же энергично принялся за дело.
Курчатов попросил и у Вавилова помощи. Вавилов посоветовал отозвать из армии своего бывшего аспиранта Василия Фурсова, перед войной уже доцента МГУ. Фурсов, правда, специализировался в оптике, но хороший теоретик, в отличие от экспериментатора, легче переключается с одной отрасли физики на другую. Курчатов спросил, не выделит ли еще кого Вавилов из ФИАНа, как выделил Семенов Зельдовича и Харитона, Хлопин — Гуревича. Вавилов дал понять, что откомандировывать к Курчатову физиков — значит потерять их. ФИАН возвращался в столицу — стоит ли у становящегося на ноги института забирать лучших его работников? Может быть, давать московским физикам конкретные задания, а уж они у себя поищут решения?
— Вы сами говорите, Игорь Васильевич, что ставите опыты грубые, для приближенных оценок. Мы поставим такие же опыты, но точные, без неизбежной у вас спешки.
Курчатов согласился «озадачивать» ФИАН, как только самому станет ясно, какие задания ставить. Группа теоретиков в целом получилась сильная, от нее можно было много требовать. Курчатов потребовал самого неотложного — теории эксперимента.
— Именно теории эксперимента, а не теории явления, выясняемого в результате эксперимента, — объявил он, собрав теоретиков в Пыжевском. Он весело оглядывал свою «армию» — быстрого, нервного Зельдовича, медлительного, с красивым лицом улыбающегося будды Гуревича, сосредоточенно дымящего Померанчука, невозмутимого Фурсова в выцветшей, сто раз стиранной армейской гимнастерке и потерявших черноту кирзовых сапогах. В этой одежде Фурсов снова ходил читать лекции в вернувшийся в Москву университет. Курчатов продолжал: — Понимаете мою мысль? Если вести опыты без предварительной теории опытов, то дело просто — выкладывай гору из урана и графита и наблюдай, что получается. По некоторым данным, так работают немцы, правда, не с графитом, а с тяжелой водой. У них масса урана, они могут позволить себе такую роскошь. Нам нужно найти путь эффективней. Вот это я и называю теорией эксперимента — определить заранее, какие вопросы разумно ставить перед экспериментатором, какие ответы следует ожидать и что будет удовлетворительным и что плохим ответом.
Он с удовольствием убедился, что кинул зажженную спичку в горючий материал. Запылали мозги, сказал он себе. Он уверенно направлял обсуждение в нужное ему русло, хотя больше слушал, чем говорил. Предложение строить маленькую сферу из комбинации урана и графита, наподобие будущей большой, отверг он сам, с этого и началась дискуссия. А кончилось тем, что вместо маленькой сферы согласились строить высокие узкие призмы, на которые хватит поступающего с заводов материала. Потерь нейтронов через боковые стенки не избежать, но вдоль оси такой призмы удастся определить полное поглощение.
Мысль о таких призмах появилась у Курчатова еще до того, как стал поступать графит и уран. Общую теорию поглощения нейтронов в графите тогда же набросал Зельдович, но многие вопросы еще оставались неясными. Когда в Москву приехал Гуревич, соавтор по довоенному расчету критмассы делящегося урана, Зельдович посоветовал ему теоретически рассмотреть рассеяние нейтронов через боковые стенки призмы. Гуревич дал «геометрию процесса», а подключившийся к ним Померанчук довершил теорию призмы. Расчет показывал, что интуитивно выбранный Курчатовым путь эффективен. Панасюк знал теперь, что делать.
Курчатов понимал, что пошел по пути иному, чем шли немецкие физики, и предугадывал, что выбранный им путь более эффективен. Но он еще не мог знать, что в стране, где война еще шла на своей территории и где всего не хватало, а пуще прочего — урана, он, благодаря удачно разработанной методике, двигался к цели со скоростью, не уступающей американской. Три года отставания от Америки в ядерных исследованиях оставались, но в темпах исследований отставаний не было. Он знал, конечно, что там, в Штатах, собрались величайшие физики мира, люди, одно имя которых знаменовало повороты в науке, — Эйнштейн, Бор, Ферми; люди, знакомые всем специалистам, крупные мастера науки — Чадвик, Юри, Кокрофт, Вигнер, Силард, Геллер, Вайскопф, Лоуренс, Сиборг, Макмиллан, Комптон, Оппенгеймер и десятки других. Такой армии он не имел, его окружала мало кому известная молодежь: Зельдовичу не было и тридцати, Харитону не исполнилось сорока, его самого называли стариком, он и вправду был среди них стариком — уже стукнуло тридцать девять! И эта компактная группа молодых, не именитых, не титулованных академически, никак еще не прославленных, шла вперед столь же быстро, столь же уверенно, как и величайший научный коллектив мира там, за океаном!
8
Все, казалось, двигается по плану, то есть в соответствии с желаниями и надеждами. Но в самом плане имелись важные изъяны — и один из них состоял в том, что не было своего циклотрона. И хоть в комнате Неменова в Пыжевском переулке умножались рулоны расчерченных листов ватмана и калек и ориентироваться в этом завале бумаг могли лишь усердный, но болезненный — мучила цинга — помощник Неменова Лев Кондратов да Валентина Калашникова — все кальки были ее руки, но от добротно вычерченного чертежа до реально собранного аппарата дорога была нескорая. И Курчатов с досадой и грустью вспоминал, что в Ленинграде оставлен у радиохимиков нормально работающий циклотрон, а где-то в Физтехе припрятаны детали и материалы ко второму, так и не построенному, — и все это вещи, которые сегодня позарез нужны, а достать или изготовить их в Москве — горы хлопот, месяцы времени.
До поры до времени он вслух не говорил о своих сожалениях по поводу того, что где-то лежат втуне необходимые для дела богатства. Сожаления и сетования — отнюдь не стимулятор творчества. Каждый помощник должен верить, что именно его работа — самая важная. Времени на вздохи и разглагольствования на тему «ежели да кабы» не представлялось принципиально.
Через тридцать с лишком лет Неменов так вспоминал о том времени:
«Игорь Васильевич работал как одержимый. Спал мало, но всегда был веселым и приветливым. О его настроении никто ничего не знал. Посмотрев на него, можно было подумать, что никаких трудностей у него нет.
Ночью в качестве постели я использовал письменный стол Курчатова. Игорь Васильевич на работе задерживался очень долго, а мне надо было вставать в шесть утра... С часа ночи я начинал интересоваться уходом Курчатова. Как-то он не выдержал и спросил: «Ты что, в няньки ко мне нанялся?» Но когда узнал, что занимает мою «кровать», он немного смутился и с тех пор стал раньше уходить домой».
Можно легко представить себе, как «удобно» вытягивался на канцелярском письменном столе отнюдь не «среднего роста» тридцативосьмилетний физик!
Однажды, когда Неменов явился в третьем часу ночи в свою «спальню», еще не удалившийся Курчатов сказал:
— Долго не задержу, а поговорить надо. Буба, пора ехать в Ленинград. Чертежи чертежами, но ведь в Питере перед войной столько всего наготовили! Один высокочастотный генератор чего стоит. Здесь и заказа на его изготовление пока не принимают. Когда сможешь выехать?
— Да хоть сейчас, — хладнокровно отозвался Неменов. — Командировка готова?
— Пока буду хлопотать о командировке, ты сбегай в Казань проведать семью — и немедля назад.
— Это я быстро.
Командировочное удостоверение было внушительное — на правительственном бланке, подпись зампредсовнаркома Первухина: ленинградский обком партии просили о содействии, советским органам предлагали оказывать любую поддержку, железнодорожникам предписывали продвигать без задержки грузы особого назначения. Неменов, пряча драгоценный документ, восторженно объявил, что с таким предписанием пол-института вывезет — если гитлеровцы не помешают, конечно...
О поездке Неменова и выделенного ему в помощники инженера П. Я. Глазунова вскоре узнали бывшие ленинградцы, связанные с Лабораторией № 2, и в Пыжевский началось паломничество: все упрашивали прихватить продовольственную посылочку для родных и знакомых. Неменов от посылок не отказывался, но ставил условие — не свыше одного килограмма. Но и таких килограммовых передач составилось два полных мешка. Диспетчер в аэропорту, свесив мешки, ужаснулся — больше ста килограммов — и отказался принять багаж. Неменов отыскал пилота. Командир корабля развязал один из мешков, посмотрел на посыпки и категорически объявил диспетчеру:
— Не видишь, что это? Для ленинградцев же! Грузи. Без этих посылок не полечу.
Первый этап полета — до станции Хвойной — прошел спокойно. Здесь дождались темноты, а ночью на бреющем полете промчались над Ладогой — короткую эту трассу непрерывно обстреливали — и приземлились на Охтенском аэродроме. Через несколько дней в Смольном Неменов узнал, что летчик, разрешивший опасно перегружать свой самолет посылками для голодающих, погиб во время очередного вылета.
Городской аэровокзал находился на Литейном, сюда доставили в пять часов утра пассажиров ночного самолета. Неменов вышел на проспект. Затемненный город казался незнакомым, нигде не виднелось ни луча, даже редкие машины двигались без огней — только по черному небу шарили прожектора. Неменов знал, что общественный транспорт не работает с первых месяцев блокады, и с тревогой прикидывал, как добраться до Лесного, — и груз немал, и километров с десяток, даже для них двоих, отнюдь не истощенных, как ленинградцы, путь тяжел. В это время к аэровокзалу черной тенью — без сигнальных огней — подкатила эмка, из нее вышел хорошо знакомый директор «Светланы» Измозин, он должен был до рассвета вылететь на Большую землю. Он радостно расцеловался с Неменовым и велел шоферу доставить двух москвичей в институт.
Небо стало сереть, когда Неменов разбудил Андрея Матвеича, сторожа Физтеха, и, весело откликаясь на его восторженные ахи, стал истово обряжаться для встречи с Кобеко — навесил на шею роскошным ожерельем гирлянду крупного лука, взял в руку узел с завязанными подарками, привезенными еще с Алагеза и выдержанно сохраненными для поездки в Ленинград, — бутылкой армянского старого коньяка «Юбилейный» и двумя килограммами сухумского табака. Кроме того, в узле покоились две бутылки водки, добытые уже в Москве.
На вежливый стук никто не отозвался. Сторож предупредил, что Павел Павлович заполночь ушел на отдых. Неменов грохнул по двери кулаком, а когда и это не пробудило хозяев, повернулся к двери спиной и забарабанил каблуками. Неодетый Кобеко выскочил наружу и радостно закричал:
— Бубка, ты? Зося, выходи, Бубка приехал!
Гость расцеловался с Кобеко и Софьей Владимировной, торжественно вручил ей свое пахучее ожерелье и, священнодействуя, расставил на столе подарки. Кобеко мигом схватил табак и, окутываясь облаком ароматного дыма, при каждом выдохе ликующе повторял:
— Ну и выпьем мы с тобой потрясающе, Бубка, ну и выпьем!
Софья Владимировна постаралась доказать, что и у ленинградцев теперь ослабели блокадные лишения — на столе появились тонко нарезанные ломтики хлеба и на блюдце кузнецовского фарфора лакомство — половина селедки. Уже всходило солнце, когда роскошный завтрак завершился. Гость с негодованием отказался от предложения выспаться после трудного полета. Ему не терпелось посмотреть на знакомых, узнать, как живется, доведаться, что сохранилось из циклотронных богатств.
И весь день он бродил из комнаты в комнату, трогал аппараты и механизмы, покрытые морозным инеем, беседовал со знакомыми, раздавал посылки. В яме во дворе, разрытой общими усилиями, он нашел все, что прятал туда в первую неделю войны, — кабели, латунные листы, медный прокат. Смазанные пушечным салом, аккуратно запакованные, материалы выглядели как только что изготовленные. Высокочастотный генератор стоял на своем месте, ни одна доска не была вырвана из его обшивки. Неменов растроганно похлопал по ящику высотой с человека.
Оставалось узнать последнее — что сохранилось на «Электросиле» из оборудования, изготовленного перед войной? Завод находился практически в боевой зоне, в трех километрах от переднего края, немцы систематически совершали на него артналеты, стараясь — но все безуспешно — остановить работающие цеха. Неменов узнал, что разрушения на «Электросиле» большие и что туда — через весь город — придется топать пешком. По дороге патрули раз пять задерживали странника и проверяли полученный в Смольном пропуск на передовую. Ефремов, главный инженер завода, чуть не расплакался, увидев нежданного гостя. Он все твердил:
— Живой! Как с неба свалился! Щеки — кровь с молоком! Довоенный стандарт румянца! А к нам зачем? На науку пока не работаем. Только на нужды фронта.
— Надо бы навести справки по старым заказам, Дмитрий Васильевич.
Они ходили по цехам. Немцы в этот день устроили очередной артналет. Всего на огромный завод в эти сутки упало тридцать пять снарядов. Ефремов с огорчением рассказывал гостю, что после Сталинграда немцы, ошеломленные нашим южным наступлением, на севере притихли. И, обманутый этим затишьем, он приказал застеклить цеха: дули пурги, надо было если не от холода, так хоть от снега защититься. А враг, на тебе, устроил артналет — и половины стекол как не бывало!
— Но работы не прекращались ни на сутки! — с гордостью говорил Ефремов. — В одной стороне цеха ликвидируем разрушения, на другой — выдаем продукцию. Привыкли — будто норма...
К великой радости физика, электромагнит весом в семьдесят пять тонн был совершенно цел, только части его разбросали по всему цеху. В этот день и несколько следующих Неменов с помощником, командуя выделенными им рабочими, собрали все детали в одно место, навесили на каждую бирочки, чтобы потом легко разобрались, что куда, и накрыли хранилище металлическим колпаком — от осколков. Громоздкий электромагнит нечего и думать было до полного снятия блокады вывозить из Ленинграда по узенькой, отвоеванной у врага полоске земли у Ладоги. Зато остального добра стало на два вагона.
Неменов из Смольного позвонил Курчатову.
— Теперь бы довезти в целости, — сказал он, ликуя. — Говорят, поезда, идущие на Большую землю, охраняются с воздуха истребителями и прикрываются артиллерией — такие здесь порядки. Железнодорожное начальство обещает не подкачать. Игорь Васильевич, где мы разместим мои богатства? В Пыжевском?
— Ты привези, а где разместить — найдем. Был у моего дома? В каком состоянии квартира?
Неменов, как и просил его Курчатов, в первые же дни по приезде пошел посмотреть дом, где тот жил. В дом угодила бомба, ни одной целой квартиры не осталось. Неменов прибег к иносказанию:
— У дома твоего я был, но на третий этаж не поднимался. Незачем было. Я с улицы хорошо видел обои в твоей квартире.
Многокилометровые пешие прогулки были так утомительны, что, возвращаясь, Неменов мгновенно засыпал и часов шесть-восемь уже не слышал того, что делалось вокруг. Однажды лишь яростный толчок в плечо заставил его пробудиться раньше. Он в испуге вскочил. Шел налет. На территорию института упали два снаряда, в комнате выбило все стекла, распахнуло двери, опрокинуло мебель. Кобеко, побежавший не в укрытие, а к спящему другу, рвал его за руку и гневно кричал:
— Хвастун! Дура! Жизни не жалко! Марш в убежище!
Пока они бежали в укрытие, налет кончился.
Физик вскоре увидел, что частые кроссы на «Электросилу» имели очень неприятное последствие: ботинки, и до Ленинграда видавшие виды, здесь стали окончательно разваливаться — на подметках зияли дыры в пятак. Счастливая случайность выручила физика. На Кирочной Неменов повстречал женщину, менявшую на хлеб новенькие, довоенного шитья ботинки. Он мигом ухватился за них — хлебные талоны с собой были. Когда примерял первый ботинок, завыли сирены, кругом побежали люди. Женщина, чуть не плача, умоляла поспешить в убежище. Но физик хладнокровно уселся на землю, примерил второй ботинок — и лишь после помчался в укрытие.
В результате семидесятидневного пребывания в Ленинграде в Москву отправили даже больше того, что вначале надеялись раздобыть. За это время Неменов неоднократно информировал Курчатова, как выполняется задание. Из кабинета председателя Ленсовета Попкова, по прямой связи, Неменов соединялся и с работниками Совнаркома: Васин деятельно вмешивался, когда требовалась помощь. Летом 1943 года два опечатанных вагона с оборудованием для циклотрона отправили по жмущейся к озеру железнодорожной ветке. В погрузке вагонов помогали партизаны, вызванные командованием Ленинградского фронта, в пути состав обстреляли из пулеметов, но опасную зону поезд проскочил удачно — ни одна из деталей не пострадала, хотя вагонные доски на уровне человеческого роста были все в пулевых дырах.
В Москве Неменов узнал, что у него теперь новое, постоянное помещение в Покровском-Стрешневе, куда перебазируется Лаборатория № 2, что заказы, размещенные на московских заводах, понемногу выполняются и что, стало быть, подошла пора начинать монтаж циклотрона.
9
Новой лаборатории помещений в Пыжевском и на Калужской уже через полгода стало не хватать. В Москву возвратился ИОНХ, солдаты без спору освободили временное жилье, химики стали требовать, чтобы и физики поступили по примеру дисциплинированных военных. Кафтанов — это была его последняя помощь ядерщикам, перед тем как они окончательно перешли в ведение Совнаркома, — предложил переселиться в любой пустующий учебный институт, которому не предстояло в ближайшие месяцы реэвакуироваться в Москву. Балезин с Курчатовым и Алихановым объехали ряд институтов. Алиханов хотел здания небольшого, но близко к центру Москвы, по типу Института физических проблем, — научное учреждение средних размеров. У Курчатова были иные планы, он отвергал одно за другим предлагаемые здания. Он настойчиво уводил осмотр из центра на окраины. «Надо подумать и о будущем расширении, Степан Афанасьевич!» — сказал он Балезину. И его сразу очаровало показанное последним недостроенное здание ВИЭМ — Всесоюзного института экспериментальной медицины. Алиханова место не восхитило, а Курчатов не мог оторвать глаз от трехэтажного красного здания, такого просторного, что его флигели можно вполне отдать сотрудникам под квартиры, от огромного, до самой Москвы-реки картофельного поля — какие возможности расширяться! В этот день, приехав в ИОНХ, он вызвал к себе Козодаева.
— Миша, нам предлагают здание в Покровском-Стрешневе. Мне, по первому взгляду, понравилось. Съезди туда и обстоятельно разведай, можно ли развернуться и чего просить для устройства.
Впечатления Козодаева были не столь радужны. Трехэтажное здание, верно, просторное, но оно недостроено — и для строителей дела много. В законченной части поселили рабочих. На подходах к площадке ноги вязнут в песке, везде глубокие ямы, одна у самого здания. Около трехэтажного красного дома — по проекту он должен был стать челюстным корпусом травматологического института — крохотные одноэтажные соседи: «собачник», кормовая кухня, медсклад, разные деревянные домики. Простор, конечно, есть, воздух хороший, лесной — от всех дорог далеко.
— Отлично! — воскликнул сияющий Курчатов. — Самое то, что нужно — простор, хороший воздух, разные подсобные домики, посторонние машины под окнами не сигналят. С соседями будем жить мирно, здание достроим, а временным жителям скажем по Маяковскому: «Слазь, кончилось ваше время!» — И, приехав к Балезину, он радостно объявил: — Берем ВИЭМ! Готовьте правительственное постановление.
А своему новому заместителю Гончарову, инженеру-технологу, еще недавно директору многоотраслевого химического завода — в его цехах производились и маскировочные дымы, и огнеметы, и сульфидин, — Курчатов так обрисовал его обязанности и права:
— О технике пока не вспоминайте. Реакторы, ядерные реакции — это потом. Ваша задача — достройка красного дома. Вы меня поняли, Владимир Владимирович? Окна, полы, замки, деревянные перегородки... В общем, действуйте. Физкультпривет!
Гончарова в Лабораторию № 2 направил хорошо его знавший Первухин. Вызванный с месяц назад неожиданно в Совнарком, Гончаров поселился в «Савое» в отдельном номере — о такой роскоши до войны не приходилось и мечтать. В самом радужном настроении он ждал крупного повышения — иначе зачем его затребовал бы сам Первухин, предложив к тому же срочно сдать завод. Получив через две недели — зампред Совнаркома раньше не смог принять — назначение в замначи какой-то Лаборатории № 2, Гончаров со стесненным сердцем явился в Пыжевский. И скромное название учреждения не сулило ничего выдающегося, и тесные комнаты — человек на человеке, прибор на приборе — не радовали, и дело, каким занимались сотрудники лаборатории, было незнакомо — удастся ли быстро освоить? А тут еще Курчатов огорошил заданием, которое больше подошло бы рядовому прорабу-строителю, чем специалисту-химику.
Гончаров вскоре убедился, что положением на стройке, казавшейся столь незначительной, интересуется правительство: из Кремля звонил Васин, вникал в детали, организовывал помощь. Обширное поле обнесли оградой, временные жильцы выехали, огородники, убрав картошку, получили новые земельные участки в другом месте. Появилась и вахта с охраной, и телефон в сторожке — в самом здании телефонов не было, для разговоров приходилось бежать к вахтерам. И огромный сырой корпус, куда уже въехало несколько лабораторий, стал приобретать жилой вид.
Что он готов для жилья, первым испытал сам строитель. Под зиму Гончаров привез в Москву беременную жену и поселился с ней в том же «Савое», оттуда же на трамвае — такси не достали — повез ее в родильный дом за Курским вокзалом. А когда семья увеличилась, Гончарова огорошили строгим извещением, что сам он и жена могут проживать в гостинице, а вот новорожденную Иру администрация не принимает. Строитель кинулся на свою стройку, поспешно отделал одну из комнат на третьем этаже и перевез туда жену с дочерью. В комнате от дыхания вздымался пар, ни газа, ни отопления не было, свет часто отключался. Нонна Александровна лежала в постели с дочкой, пеленая ее под одеялом, чтобы не застудить. День шел кое-как, а к ночи начинались тревоги. Вечером строители уходили, на площадке становилось пусто и темно — она одна оставалась в огромном холодном доме. Муж возвращался поздно. Он оставлял ей на всякий случай свой пистолет, она с опаской глядела в темное окно, напряженно ловила каждый звук: ее все беспокоило — и темнота, и тишина, и случайный шум, нарушающий тишину...
Переселение замдиректора в красный дом — физики только так называли его между собой — было первым актом, породившим цепную реакцию. Один за другим сотрудники бросались к Курчатову с просьбой дозволить и им вселение. Вот же роскошествует Гончаров — всей семьей, как граф, в собственной комнате, а они чем хуже? В Москву возвращались эвакуированные, все требовали своих квартир: кто с угрозами, кто со слезами, а кто, не тратясь на уговоры, сразу передавал спор в суд. Прецедент уже состоялся: Корнфельда, возглавлявшего один из секторов Лаборатории № 2, суд обязал освободить незаконно занимаемую квартиру. Что ему теперь делать? Приходить на ночевку то к одному, то к другому знакомому? Снова слоняться по комнатам «Капичника», отыскивая свободный диван для сна? Семейным всех хуже. У Козодаева — он сам, да жена Анна Николаевна, да дочь Наташа, да дочь Спивака Соня живет с ними... Как им без постоянного жилья? Три раза переселяли из квартиры в квартиру! Сколько мучиться?
Курчатов поначалу пытался качать отрицательно головой, потом, смирясь, разрешил переселение в недостроенный дом. Так вслед за Гончаровым в красном доме появились Козодаевы и Спивак, за ними Флеров — его временную квартиру в проезде Серова, 3/6 передали Корнфельду, тот выезжать оттуда уже не торопился и прожил там ровно двенадцать лет, — за Флеровым Щепкин, Панасюк, Давиденко, а за ними и все остальные ленинградцы, ставшие москвичами. В апреле 1944 года сюда переселился и сам Курчатов, заняв квартирку в правом крыле на втором этаже. Его с Алихановым недавно выбрали в академики. Академикам вроде бы приличествовало жилье побольше и поблагоустроенней, но какое это имело значение? Окна глядели на солнце, а все работы под боком, в этом же доме. Чего еще желать?
10
Работы только еще развертывались, а уже было ясно, что надо создавать специализированные лаборатории или секторы со своими руководителями и особыми темами для исследований. И во многих секторах темы были так обширны и так несхожи с тем, что делали у соседей, что требовали своих экспериментов, своих теоретиков, своих инженеров, даже своих химиков: каждый сектор был как бы маленьким особым институтом в том институте побольше, который официально назывался Лабораторией № 2 и вскоре приобрел еще одно наименование: ЛИПАН, что означало Лаборатория измерительных приборов Академии наук, но что, естественно, не имело никакого отношения к реальной тематике работ.
Первый сектор, реакторный, Курчатов оставил под своим непосредственным руководством, взяв в помощники Панасюка.
Сектор радиохимии возглавил Борис Васильевич, опыты с обычной водой вели Флеров и Давиденко, с тяжелой водой экспериментировал Корнфельд, циклотронной командовал Неменов. И хоть заветные сто московских прописок далеко еще не были вычерпаны, и людей прибавлялось, и количество секторов умножалось, и работы в секторах становились все сложней. Людей по-прежнему выискивали и выпрашивали, но все больше становилось приходящих без приглашения — «самостоятельными дикарями».
Первым из таких «дикарей» приплелся — еще в Пыжевский — мальчишка, и не слышавший о физике. Для «котловой» отвели бывшее помещение комендатуры, и Панасюк превращал пустую комнату в лабораторию, втаскивал и укладывал доставленные первые образцы графита — тяжеленные кирпичи и электроды. Кладовщица посочувствовала физику — и пол подметает, и приборы устанавливает, и тяжести таскает, и такой к концу дня черный от графита, как и трубочист не бывает. Не нужно ли подсобника? У ее соседки сынишка — чудный парень, работящий — не нахвалиться! На другой день она вызвала Панасюка на улицу, там дожидался сын соседки — худенький, лет двенадцати (приврав, похвастался, что уже четырнадцать). Мальчик работал на заводе, точил детали для мин, зарабатывал 2000 рублей в месяц, случалось и 2500! Панасюк покачал головой.
— Заработок не чета нашему. Больше 600 не дадим. — Он добавил честно: — Правда, каждый день — белая булочка и пол-литра молока.
У мальчика загорелись глаза, когда услышал о молоке и белой булочке. Ломая голос с дисканта на бас, он стал упрашивать взять его. Работать будет — не подкопаться. Панасюк заколебался. Он бы взял, да паренек уж больно маленький. Да и работников у них нанимает один дедушка, без него нельзя.
Курчатов в эту минуту вышел на улицу.
— Давай знакомиться, — сказал он. — Я — Курчатов, кличут еще Бородой, вот теперь и дедушка... А ты? Образования уже набрал?
— Алексей Кузьмич Кондратьев, — солидно представился мальчик. — Образование есть. Три класса. Отметки хорошие.
— Кузьмич, значит? Отлично. Берем. А что маленький, у нас и подрастешь. Но условие: неподалеку на Ордынке школа рабочей молодежи, будешь ее посещать, Кузьмич.
— Давно собираюсь в шеремы, — заверил его сияющий мальчик.
Он с увлечением принялся за работу. В «котловой» собирали уран-графитовую призму, первый кирпич положил сам Курчатов. Шел август 1943 года. Привезенного графита на полную призму не хватило, укладка призмы шла рывками, по мере поступления материала. В «окнах» Кузьмич мотался по всем помещениям, старался всем помочь. Несколько дней заняла варка мыла из парафина: работа с графитом была грязная, казенного мыла не хватало. В циклотронной Неменову помогал Владимир Бернашевский, классный механик, не только старый физтеховец, но и один из первых, с тридцатых годов, курчатовец. Бернашевский учил Кузьмича своему делу, вместе пилили и точили детальки, ходили на соседнюю заброшенную трамвайную колею, где выламывали скреплявшие, ненужные больше рельсам, шестигранные прутья — из них вытачивали отличные гайки, по 1943 году — дефицитный материал. Через год, когда переезжали в Покровское-Стрешнево, снабжение улучшилось и «ходить на добычу» уже не требовалось.
«Самодеятельно» — уже на новой территории лаборатории — появился и Сергей Баранов. Две плитки столярного клея, дарованные профессором Вериго, поддержали силы в самые тяжкие дни блокады, но в 1943 году ослабевшего Баранова вывезли в Свердловск. Оттуда он перебрался к Алиханову на Алагез, в любимые горы. Алиханова вскоре вызвали в Москву. Горы Армении помогли восстановить силы, но исследование космических лучей во время войны не захватывало — надо было подыскать занятие, более полезное для страны. Он приехал в Москву и в комендатуре повстречался со Спиваком.
— Петр Ефимыч, ты? — обрадовался Баранов. — Как живешь? Где работаешь?
— По военному времени — живу хорошо. Работаю у Бороды.
— У Бороды? Это кто же?
— Курчатов. Иди к нам. Курчатов тебя охотно возьмет.
Курчатов не только сразу принял Баранова, но и поселил в красном доме. Спивак, поджидавший результата их беседы, выпросил Баранова к себе — помогать в измерении нейтронных констант. Долго этим заниматься не удалось — Борису Курчатову понадобились физики-экспериментаторы. Курчатов отозвал Баранова: «Будешь обеспечивать радиохимиков измерительными системами, они подбирают ключи к еще не созданному девяносто четвертому элементу — великой загадке ядерной физики».
Почти одновременно в Лаборатории № 2 появился еще один физик. Этот приплелся без приглашения, в потрепанной военной шинели, опираясь на костыль. Курчатов с сомнением смотрел на незнакомца, назвавшегося Борисом Григорьевичем Дубовским. Он кончил Харьковский университет, работал в харьковском Физтехе. Курчатов вспоминал Дубовского и не мог вспомнить — или тот очень переменился за войну, или так терялся среди работников института, что и взгляд на него не падал. Это было всего вероятнее — хромой физик краснел при любом ответе, боялся смотреть в лицо, было видно — человек стеснительный, выделяться не умеет. Но он подал записку от Латышева, тот писал, что Дубовский у него за год изготовил три прибора. Передавая записку, Дубовский покраснел мучительно, растерянно уставился в сторону. Курчатов не догадывался, что посетитель страшится вопроса — а как приборы работали? Ни один не работал! Латышев это обстоятельство благоразумно скрыл и посоветовал Дубовскому о качестве приборов не распространяться. Курчатов сказал без энтузиазма:
— Очень уж хвалит вас Латышев. При такой рекомендации отказать не могу. Демобилизуйтесь и приходите через месяц.
Через месяц Дубовский пришел без костыля. Курчатов бросил быстрый взгляд на ноги сотрудника — тот еще хромал и опирался на палку — и весело объявил:
— Вид получше. Скоро бегать будешь. Раз специалист по приборам, значит, приборы. Трех конструкций в год не требую, но одну изготовь.
Дубовский с ужасом услышал, что ему предстоит сконструировать прибор, регистрирующий радиоактивное излучение в атмосфере. Эксперименты создают вокруг физиков опасный фон, надо точно определить этот фон. Дубовский хотел взмолиться, чтобы дали другое задание, у него руки плохие, сам ничего путного не изготовит, но злополучная записка Латышева о трех приборах вставала непреодолимым барьером. Новому сотруднику определили зарплату в 900 рублей (он подумал невесело: «Плюс мои инвалидные триста — прожить можно»), выделили с женой комнату в красном доме, рядом с комнатой Баранова, и выдали талоны на ежедневный обед в столовой Московского Дома ученых.
— Переезжать на квартиру сегодня. На работу выходить завтра. Все. Иди отдыхай.
— Зарплата — только на паек хватает, — объяснил Дубовскому новый сосед Баранов. — Не вздумайте с этими деньгами соваться на рынок: буханка хлеба — сто рублей, пол-литра водки — дай все пятьсот. А талон в столовую — роскошь. Обед в полную сытость. Туда ведь и академики прикреплены!
Николая Федотовича Правдюка, товарища детских лет, Курчатов привлек по «собственной своей рекомендации». Правдюк, один из трудовых героев первой пятилетки, изобретатель твердого сплава с обязывающий названием «догнать и перегнать», жил в Москве, но до войны часто появлялся в Ленинграде, заходил к Курчатовым. Ученик академика Байкова, он использовал знание металлургии сплавов для ремонта танков, за что и был награжден орденом. О награде передали по радио, радио почти нигде в квартирах не выключалось, чтобы не пропустить важное сообщение с фронта, — Курчатов, услышав фамилию друга, прислал из Казани телеграфное поздравление, а приехав в Москву, и сам нагрянул к нему в Спиридоньевский переулок.
Правдюка дома не было. Анна Михайловна, его жена, затыкала длинную щель в оконной раме, окно с участком стены пострадало при взрыве бомбы. Ремонт давно уже сводился к тому, чтобы периодически менять прохудившиеся затычки. Незнакомый бородач поинтересовался, как увидеть Правдюка. Она ответила, что муж придет очень поздно и вообще раньше ночи не является, увидеть его трудно. Гость заверил, что ночь — это отнюдь не поздно и что, когда бы Правдюк сегодня ни пришел, пусть не торопится в кровать.
— Иди ко мне, Николай, — предложил Курчатов в тот же вечер.
— Чудак, кто же меня отпустит с завода? — удивился Правдюк. — Или у тебя такая сильная рука?
— Силы в руках хватит.
— А что делать?
— Оформишься — обрисую.
Явившегося на новую работу друга Курчатов ввел в суть проблемы. Для цепной реакции в натуральном уране нужен замедлитель нейтронов. Идеальный замедлитель — тяжелая вода. Она сегодня дороже золота, так что ориентируемся на графит. По теории углерод вполне подходит, практически ни одного годного куска нет. Поставляемый с заводов графит не так замедляет, как сам поглощает нейтроны, и поглощает их в сто раз больше, чем допустимо, чтобы цепная реакция пошла. Очевидно, мешают какие-то примеси. Но какие? Завод клянется, что производит чистейшую продукцию.
— Ты спец по сплавам. Примеси, добавки, присадки — твой хлеб, Николай. Разберись. Действуй.
Вскоре еще один физтеховец из группы «гениальных мальчиков» вернулся в коллектив старых друзей. Миша Певзнер, с начала войны работавший на передвижных рентгеновских установках, в первую блокадную зиму даже по ленинградским нормам «основательно похудел» — дошел до сорока пяти килограммов при росте в 177 сантиметров. Попавшего в госпиталь Певзнера направили в батальон выздоравливающих на Ладогу, здесь подкормили. Вскоре нашлось и новое занятие — во главе небольшого отряда девчат наблюдать за сохранностью ледовой трассы: отмечали большие провалы во льду вехами, чтобы в них не сверзились автомашины; ночью около каждого провала кто-то дежурил с потайным фонариком; малые ямы закрывали досками, поливали водой — доски быстро примораживало ко льду.
Неугомонный Кобеко, проверяя свои «прогибометры», обнаружил в белом, утепленном тряпьем шатре на льду своего физтеховца, командовавшего, по его словам, «всеми окнами в бездну». На радости распили бутылку водки, подаренную каким-то шофером с Большой земли, которого в последнюю минуту Певзнер с девчатами уберегли от прыжка четырьмя колесами в одно из окон в бездну. Кобеко записал полевую почту Миши, сказал многозначительно: «Пригодится. Кое-что с нашим братом-физиком меняется. Сообщу». Ожидать сообщений не пришлось, подкрепившегося на «Дороге жизни» физика направили в Калинин, в школу лейтенантов.
В феврале 1944 года новый младший техник-лейтенант получил назначение в Ярославль, в формирующуюся часть. Дорога лежала через Москву. В Москве выдалось три свободных денька. В только что вернувшемся из Казани Институте физических проблем в эти дни объявили первый творческий семинар — доклад академика Шмидта о его теории происхождения планет. На лестнице Певзнер встретил красивого бородатого мужчину, быстро поднимавшегося на второй этаж.
— Здравствуй, Миша, — сказал бородач и, не останавливаясь, прошел дальше.
— Кто это? — спросил Миша у одного из посетителей.
— Академик Курчатов. Разве вы его не знаете?
Случайная встреча определила поворот в жизни. В Ярославль пришло предписание направить младшего техника-лейтенанта Певзнера для прохождения дальнейшей службы в Академию наук. В Президиуме академии, после долгих попыток узнать, кому он нужен, Мишу соединили с кем-то по телефону — голос был незнаком, человек на другом конце провода, не называя себя, спросил, в чем дело.
— Явился для прохождения дальнейшей службы, — уставно рапортовал физик.
— Через два часа за вами придет «виллис». Водитель — женщина. Ваши особые приметы?
Особые приметы у физика были скудные — шинель, цигейковая шапка, кирзовые сапоги. Что еще? Темные волосы, темные глаза...
Водительница «виллиса», Нюра Балабанова, краснощекая, полная, решительная девица, и по неприметным приметам сразу узнала своего пассажира.
Миша немного помнил Москву, но после метро «Сокол» «виллис» свернул на незнакомую улицу и стал не так катиться, как перепрыгивать с островка на островок, временами проваливаясь в грязь выше осей. Машина остановилась у большого красного здания, перед ним простиралась огромная яма, присыпанная на дне строительным мусором, с другой стороны здания на три стороны света раскинулся пустырь, обнесенный забором. Гостя ввели в кабинет Курчатова.
— Явился для прохождения дальнейшей службы, — произнес прибывший сакраментальную фразу.
В кабинете Курчатова сидел Гончаров. Оба с улыбкой переглянулись. Курчатов спросил:
— А как собираешься служить, Миша? В качестве военного? Или демобилизуешься, чтобы приняться снова за физику?
Ответ был дан с отнюдь не служебным ликованием в голосе:
— К физике бы вернуться, Игорь Васильевич!
Борис Васильевич немедленно забрал Певзнера в свой сектор. В химической лаборатории, выложенной белым кафелем, — она по проекту здания предназначалась для операционной, — с вытяжными шкафами по стенам Борис Васильевич обрисовал задания Миши одновременно и ясно, и туманно:
— Лаборатория, как видишь, маленькая. Заниматься будем не тем, что делали в Ленинграде, другим, а чем — узнаешь после допуска. Пока, Миша, поработай на общее благо. У тебя ведь есть знакомые в Москве? Достань, что сможешь, из дефицитных приборов и материалов?
И хоть Миша еще до войны делал свою дипломную работу у Бориса Васильевича и у него же после защиты диплома работал в лаборатории «новых выпрямителей», все те два месяца, что были потрачены на демобилизацию, а попутно и на снабженческие операции, Борис Васильевич, соблюдая секретность, упорно называл сернокислым железом отлично известный Мише азотнокислый уранил, а словечка «уран» вообще не существовало в его лексиконе.
Певзнер тоже получил комнату в красном доме. В Москву приехала его жена Наташа. Она поселилась на Тверской-Ямской, он ходил к ней в гости. Миша познакомил жену с братьями Курчатовыми. Наташа служила в морском ведомстве, темная морская форма шла к ее фигуре и пепельно-золотым волосам. Курчатов объявил ее «морячкой дальних плаваний» и только так отныне называл.
Приехала жена и к Панасюку. Трижды ее вызывали из Свердловска, трижды завод отказывался отпустить незаменимого военпреда. Рассерженный Курчатов вставил ее фамилию — Кузина Анна Федоровна — в правительственный список, в заветные, еще и наполовину не исчерпанные сто московских прописок. Анна Федоровна появилась в военной форме. Встреча с мужем и обрадовала ее и ужаснула. Он пугал не только внешним видом — разорванная гимнастерка, на брюках заплата на заплате, телогрейка с кавернами вырванной ваты, — но еще больше тем, что ходил перекосившись: полузабытый голод в Ленинграде еще мстил усыпавшими все тело фурункулами, вынуждал хромать то на одну, то на другую ногу, не прижимать плотно к телу то одну, то другую руку — смотря по тому, где сегодня болело.
— Демобилизуйся, Аня! — сказал Курчатов. — Химику найдем работу.
Она взмолилась: не надо ей демобилизоваться! В армии она получает в два раза больше мужа, снабжение лучше, хоть полгода еще послужит, пока не избавит Игоря от болезней. Курчатов согласился без охоты. Лишь когда энергичная Анна Федоровна обеспечила мужа валенками и меховой курткой, а на худых его ногах появились приличные брюки, Курчатов перестал досадовать, что одна прописка истрачена, а штат лаборатории не вырос.
— У тебя подруга — начальство! — посмеиваясь, сказал он Панасюку. — Когда пошлю в Ленинград, попрошу ее выдать тебе командировочные и достать билеты. А что? Она сумеет!
Приехавшие из Уфы в Москву на постоянное жительство Лейпунский и Тимошук, тоже внесенные в правительственный список, окончательно примирили Курчатова с тем, что одна из прописок использована без запланированной эффективности. С Лейпунским Курчатов согласовал, над какими темами тому работать, а Тимошука определил к Панасюку.
— Ты, Митя, до войны такие доклады делал по поглощению быстрых нейтронов! Теперь поработай по их замедлению. Действуй.
Физиков было много. Инженеров широкого профиля не хватало. Зельдович порекомендовал Владимира Меркина. Человек этот, выпускник Московского института химмашиностроения, до войны руководил экспериментально-конструкторской группой, с начала войны — на флоте, за разработку новых конструкций оружия награжден Сталинской премией. В дело войдет быстро — энергичен и деловит. Гончаров горячо добавил свою рекомендацию — Меркин работал на его бакинском заводе, инженер высокой квалификации!
— Подходит! — сказал Курчатов. — Координаты Меркина мне на стол — вытребую.
Приехавшего вскоре по своим делам в Москву Меркина ошеломили новостью — немедленная, в два дня, демобилизация, потом — в распоряжение запреда Совнаркома. В кабинете Первухина Меркину объявили, что он направляется к академику Курчатову, улица Бодрая, Лаборатория № 2. Меркин явился по адресу, когда в красный дом переезжали из Пыжевского и из ИОНХа. Он смешался с толпой, кто-то закричал: «Чего стоишь? Подсоби!» Меркин подставил плечи под громоздкий ящик, внес его в здание и разделавшись с работой грузчика, направился к Курчатову. Курчатов попросил показать наградные грамоты, их было немало — кроме Сталинской премии еще призы на закрытых конкурсах. Во время разговора Курчатов поднимался и прохаживался по кабинету. Немедленно вставал и Меркин. Курчатов сказал:
— Чего вы? Сидите, пожалуйста!
— Прошу прощения, военная привычка, — извинился Меркин.
Курчатов направил нового сотрудника в сектор Харитона.
К середине 1944 года в красном доме трудилось больше пятидесяти человек. Научные сотрудники — кто один, кто семейно — заселили два флигеля, центральную часть здания отвели под лаборатории. Новый, 1945 год Курчатов встретил в окружении сотрудников. Банкетный стол накрыли в полуподвальном помещении столовой; мужьям разрешили привезти жен, женщины пришли в нарядных платьях — таких всю войну не надевали, — надушились довоенными духами, у кого сохранились. Один тост возглашался за другим. Арцимович пошучивал: «Ищем ларец на дне морском, как за это не выпить!» Курчатов ходил вдоль стола, приглашал дам на танцы, танцевал хоть и без блеска, но с жаром, шутил, смеялся, чокался поочередно со всеми:
— За победу! За победу! За победу нашей великой армии! За нашу с вами победу на нашем поле!
11
Весь 1944 год из Германии поступали тревожные сведения.
Фриц Хоутерманс, объявившийся в 1940 году в Берлине и трудившийся теперь в частной лаборатории крупного инженера-изобретателя Манфреда фон Арденне, еще в конце 1942 года разослал видным немецким физикам важную статью — доказывал, что из гипотетического 94-го элемента можно изготовить ядерную бомбу. Призыв его тогда остался без ответа. Но уже через год стало известно, что немецкие ядерщики налаживают разделение изотопов урана и форсируют строительство атомного реактора. Легкий изотоп урана — идеальный материал для ядерной взрывчатки, а реактор мог дать и элемент № 94, столь же идеальный материал для ядерной бомбы, а кроме того, и огромное количество радиоактивных веществ: рассеять их над неприятельской территорией — и целые города превратятся в кладбища. Фашистские заправилы непрерывно грозили каким-то ужасным «секретным оружием» — было неясно, что в этих угрозах блеф и что реально и имеют ли они отношение к лихорадочно форсируемым ядерным исследованиям.
Игнорировать эти сведения было бы непростительно. Правительство запросило, каковы реальные возможности военного применения урана. Ответную записку в середине 1944 года составили Курчатов и Первухин. В принципе ядерная бомба возможна. Немцы вполне способны создать ее, если мобилизуют ресурсы своей гигантской химической и металлургической промышленности, если сконцентрируют своих многочисленных физиков для работы с ураном, если дадут им все нужные материалы, обеспечат приборами, машинами, мощностями, электроэнергией. Для бомбы нужно точное знание критической массы, при которой развивается мгновенная цепная ядерная реакция, и разработка конструкции, позволяющей отдельные докритические объемы быстро и надежно соединить в надкритический. В Лаборатории № 2 функционируют несколько секторов, каждый со своей тематикой. Одному из секторов можно поручить исследования, связанные с созданием «надкритмассы».
Лаборатория № 2 функционировала уже больше года, и ее руководитель мог с гордостью констатировать, что не только организационный период завершен, но и получены важные результаты: уже в прошлом, сорок третьем, году многое неясное высветилось, в сорок четвертом картина стала еще ясней, теперь можно было вести исследования, точно зная, где искать, чего ожидать от поиска и как добиться ожидаемого. Именно в этом, сорок четвертом году была создана точная теория атомного реактора и совершился первый переход от теоретических вычислений к инженерным решениям.
И первым важным событием было то, что неожиданные результаты опытов Флерова и Давиденко в ИОНХе по поглощению нейтронов в разных средах нашли правильное теоретическое истолкование. Правда, тот факт, что олово и свинец, в отличие от всех других металлов, почти не поглощают нейтронов, большого интереса у теоретиков не вызвал. «Должны же быть у природы свои тайны», — рассудительно заметил один, показывая пожатием плеч, что именно эта тайна его сегодня не интересует, надо ее разгадку оставить «на потом», когда не так будет прижимать с «пекучими проблемами». И верно, тайна нейтронопрозрачности разъяснилась лишь через два десятилетия, когда открыли, что некоторые ядра имеют «магическую» структуру. Практическим же следствием было то, что ни олово, ни свинец не годятся ни как поглотители, ни как отражатели нейтронов.
Зато сообщение о том, что резонансный порог поглощения нейтронов в уране надо сдвинуть с 25 до 5 электрон-вольт, привело к существенным практическим выводам. Если новые данные правильны, то замедление нейтронов требовалось более глубокое, это меняло соотношение масс урана и замедлителя. Теоретики внесли поправки в свои расчеты, а физики, экспериментирующие с реактором, проверили на практике, верны ли новые константы, найденные Флеровым и Давиденко, и соответствуют ли поправки теоретиков практическим наблюдениям над урано-графитовыми призмами. Новые константы резонансного поглощения нейтронов в уране подтвердились, теперь ориентировались на них.
Но главным открытием в серии опытов Флерова и Давиденко было то, что уран, распределенный в замедлителе кусками, поглощает резонансных нейтронов меньше, чем составляющий с замедлителем равномерную смесь. Правда, наблюдение это относилось к смеси урана с водой, а не для комбинации урана с графитом. Но закономерность имела общее значение, она, по всем данным, должна была оправдаться и для углерода в качестве замедлителя. И из нее вытекали важные следствия, они вызывали и споры, и волнения.
Эксперимент этот, прежде всего, заставил по-иному подойти к значению обычной воды в роли замедлителя. Перед войной Зельдович с Харитоном доказали, что в смеси натурального урана и обычной воды цепная реакция не идет. Вода была неэффективным замедлителем, она сама слишком активно поглощала нейтроны, а не только их замедляла. Но теория была развита для урана, равномерно распределенного в воде. А как скажется «эффект комковатости»? Не изменится ли положение, если уран распределить в воде блоками? Может быть, константы поглощения и замедления нейтронов окажутся настолько благоприятными, что и обычная дистиллированная вода станет удовлетворительным замедлителем? Для создания атомного котла создадутся тогда такие благоприятные предпосылки, что все сроки овладения ядерной энергией будут радикально пересмотрены — дистиллированную воду ведь несравненно проще получить, чем графит высокой очистки.
Перспектива была настолько заманчива, что Курчатов велел немедленно провести контрольные эксперименты. Пока ставили новые опыты, теоретики изрядно поволновались. Конечно, было бы великолепно, если бы «эффект комковатости» помог заменить графит или тяжелую воду обычной водой. Но вместе с тем было бы обидно, что три года назад не заметили такой блестящей возможности и начисто забраковали простую воду. Но вспыхнувшие было надежды на простое решение не осуществились. «Эффект комковатости» не был столь велик, чтобы и дистиллированная вода могла явиться эффективным замедлителем: по-прежнему надо было ориентироваться на графит или тяжелую воду.
Зато стала ясно, что гомогенная — всюду однородная — смесь урана с графитом менее эффективна, чем гетерогенная, то есть такая, где уран расположен в графите кусками и где, стало быть, полностью используется «эффект комковатости». Перед теоретиками встала задача создать теорию гетерогенного атомного котла. И они немедля приступили к делу. Теоретики составляли дружную творческую группу. Ей можно было поручить и ей под силу было решать все задачи, выдвигаемые экспериментаторами. Курчатов наконец осуществлял то, что задумывал еще до войны, — теоретики составляли с экспериментаторами единый творческий коллектив.
У них пока не было официального руководителя по должности. Еще не появился обширный теоретический сектор, возглавляемый начальником, назначаемым по приказу. Это было содружество равных. Но и среди равных есть первые. Таким первым в группе теоретиков стал, как и предполагал заранее Курчатов, Яков Борисович Зельдович. Своеобразие его положения состояло в том, что он пока отнюдь не отдавал себя полностью Лаборатории № 2, не возглавлял ни один из ее секторов — их число уже доходило до десяти. Он был консультант, выпрошенный из Института химической физики на полставки, он по-прежнему официально числился у химфизиков, приходил к ядерщикам лишь на семинары, на вызовы, на доклады, на совещания, на беседы. Он не был главой группы теоретиков — он был душой этой группы.
В начале 1944 года с Ленинграда сняли блокаду. Эвакуированные из него научные учреждения стали возвращаться обратно. Если бы и химфизики возвратились в Ленинград, это составило бы для Курчатова сложности и неудобства — многие из химфизиков, не один Зельдович, уже сотрудничали с ним. Но правительство согласилось с директором Института химфизики, что институт должен разместиться в Москве. Переезд в Москву совершился торжественно. Химфизики шутили, что поселяются в «Ноевом ковчеге» — им предоставили бывший особняк купца Ноева. Великолепные условия — высокий берег Москвы-реки, прекрасная зелень находившегося тут же цветоводства, роскошное здание антропологического музея, переехавшего в другое место, — здесь вполне можно было создать то, что выспренно называлось еще недавно «храмом науки», но что в середине двадцатого века с неменьшим основанием можно было наименовать «производственным цехом науки». И хоть пешком от нового обиталища химфизиков до Лаборатории № 2 добраться было непросто, автобусы и метро делали разделявшее их расстояние несущественным — совмещать работу в этих двух учреждениях было возможно.
И, естественно продолжая начатые еще до войны работы, Зельдович разрабатывал общую теорию атомного котла. Как он и предугадывал, надеясь на возвращение к урановым исследованиям, опыт, накопленный при экспериментировании с порохами, очень теперь пригодился. В отличие от чистого теоретика Померанчука, деятельно трудившегося в их группе, Зельдович, как и третий участник группы, Исай Гуревич, соединял дарование теоретика с незаурядным экспериментальным умением. Оба они, Зельдович и Гуревич, в этом отношении лично сочетали в себе те свойства, какие Курчатов считал необходимыми иметь в единстве в коллективе — непрерывное теоретическое осмысление постоянно проводившихся экспериментов. А четвертый участник группы, тоже из «чистых теоретиков», Василий Фурсов, продолжал и завершал работы, начинавшиеся его коллегами. Между теоретиками вскоре само собой установилось своеобразное разделение труда. Общие принципы работы ядерного реактора исследовал Зельдович. Померанчук с Гуревичем конкретизировали эти общие принципы применительно к уран-графитовому котлу, Фурсов вел теоретический обсчет реально создаваемого котла, устанавливая соответствия и расхождения теоретических данных и эксперимента.
И то, что вначале было названо в опытах Флерова и Давиденко «эффектом комковатости», Померанчук с Гуревичем быстро превратили в теорию «блок-эффекта». Эксперимент показывал, что уран в реакторе надо размещать компактными кусками и разделять блоками из сплошного графита. Померанчук с Гуревичем высчитали и оптимальный размер урановых и графитовых блоков: графит в форме обычных кирпичей, но раза в два побольше, уран в виде цилиндриков по 3–4 сантиметра диаметром, 15–20 сантиметров в длину. В такой конструкции быстрые нейтроны, вырывающиеся из урановых блочков при делении ядер, замедлялись в графитовых кирпичах ниже вредных резонансных скоростей и снова врывались в урановые цилиндрики, чтобы делить легкий изотоп, а не напрасно поглощаться в тяжелом.
Эксперименты Флерова и Давиденко, теория «блок-эффекта» Померанчука и Гуревича дали Курчатову возможность сразу избежать тех трудностей, с которыми долго боролись немцы, промедлившие с разработкой конструкции «гетерогенного реактора». Но авторы «блок-эффекта» тогда еще не знали об этом. Не знали они того, что такой же «гетерогенный» способ укладки урана и графита применили в своем первом котле американцы. И еще меньше молодые теоретики могли знать, что через десять лет, когда работы по ядерной энергии частично рассекретят, об их теоретическом исследовании будут докладывать на международной конференции в Женеве — и доклад вызовет немалый интерес: все ядерщики мира будут поражены, что в двух разных странах, при совершенно непохожих условиях работы, две совершенно разные по уже завоеванному научному авторитету группы ядерщиков, решая одну и ту же задачу, самостоятельно придут к одному и тому же решению.
Панасюк, начавший еще в Пыжевском выкладывать уран-графитовую призму, мог работать с открытыми глазами, а не вслепую. И уже было вчерне ясно, каким будет первый опытный реактор — его мощность, величина, примерное количество графита и урана, размеры здания, в котором его разместят, — здание начали строить немедленно по переезде в Покровское-Стрешнево. А пока постоянное здание воздвигали, напротив красного дома — впрочем, на достаточном отдалении — поставили обширную, как барак, армейскую палатку — в ней развернули эксперименты с уран-графитовыми призмами. У входа в брезентовую лабораторию стоял часовой. Часовые скоро перестали вглядываться в фотографии, люди приходили все те же — сам Борода, Панасюк, Правдюк, Гончаров, Дубовский... Прибегали теоретики — Померанчук, Гуревич, Фурсов — проверить, идет ли эксперимент согласно разработанной ими теории. Новые данные позволяли уточнять расчеты, новые расчеты указывали, чего ждать от следующих экспериментов. Сюда доставлялись прибывавшие с заводов — пока без особой спешки — партии заказанного графита, уран в форме прессованной окиси. Здесь, на массивном столе, Панасюк воздвиг массивную призму высотой в несколько метров из графита, а в призме были сделаны отверстия для вмещения в нее урановых стерженьков и бериллиевой «нейтронной пушки». На вершине призмы определялось полное поглощение нейтронов — и это показывало, годится ли доставленный графит для реактора.
В брезентовой лаборатории продемонстрировал свои деловые качества Дубовский. Каждый сотрудник, кроме служебных обязанностей, имел и «общественное поручение» — доставать, что удастся достать. У жены Дубовского имелся родственник — полковник. Дубовский использовал родственные связи. Он привез со склада авиатрофеев массу добра на двух доверху нагруженных машинах — бухты проводов, генераторы, моторы, амперметры, вольтметры, аккумуляторы, радиоприборы... Курчатов, радостно поглаживая бороду, распорядился:
— Ты сам все это добыл, сам и распределяй по лабораториям.
На неделю Дубовский стал самым обхаживаемым человеком в красном доме.
Неожиданно свалившаяся популярность не рассеяла внутренних терзаний Дубовского. Заказанный Курчатовым прибор все не давался. «Плохие у меня руки, очень плохие!» — горестно шептал Дубовский. В столовой он уныло признавался соседям: «Снова неудача!» Роскошь сытых обедов казалась ему незаслуженной. День, когда Дубовский решился показать собранную конструкцию, представлялся ему самому днем оглашения приговора. Курчатов схватил прибор, облазил все закоулки в палатке, а затем все лаборатории главного корпуса, стрелка то вяло шевелилась, то замирала, но шевелилась там, где требовалась живость, замирала в местах, где от нее и не ждали бодрости.
— А что? Неплохо! — воскликнул Курчатов. — Фон виден. Выглядит твой прибор неказисто, но конструкция работоспособная. Проверим попридирчивей и пустим в эксплуатацию как дозиметр.
Придирчивая проверка произошла неожиданно скоро. Панасюк пользовался ампулкой с радием для возбуждения нейтронного потока в бериллии. Уходя, он прятал ампулку в глубокую щель между бревнами. Ночью скучающий в одиночестве охранник достал гамма-источник, повертел в руках, положил на столик, а потом, забыв из какой щели извлек, засунул в другую. Утром поднялся переполох. Охранник сменился, новый ничего не знал о пропаже. Курчатов прибежал в палатку, вызвал Дубовского с дозиметром. Стрелка сразу ожила, чуть Дубовский повернулся лицом к стене, где охранник спрятал радий. Как в детской игре «холодно, тепло, горячо»: Дубовский делал шаг вправо, шаг влево, стрелка то отклонялась больше, то меньше. Около двери, у щели, заткнутой мхом, она ударилась в упор шкалы. Дубовский сорвал мох и с торжеством извлек злополучную ампулку.
— Прекрасно! Имеем дозиметр, — объявил Курчатов. — И прибор, и его конструктор испытание выдержали. Что это ты, я слышал, жаловался, что у тебя руки плохие? Хорошие руки! Теперь организуем контроль безопасности.
В очередную получку Дубовский узнал в кассе, что именуется уже не младшим, а старшим научным сотрудником и что зарплата ему значительно увеличена.
В сентябре 1944 года на первом этаже красного дома, в специально отведенном для него помещении, заработал циклотрон.
Успеху предшествовал год титанической работы. Неменов, «главный циклотронщик», мотался с завода на завод, из цеха в цех, ночи корпел у создаваемого аппарата, тут же — на полу, а когда появились диваны, то на диване — засыпал на часок-другой, когда становилось невмоготу. Ночь — хорошее время для работы. Ночью к тому же легче было увидеть Курчатова, посоветоваться, обсудить, что срочно делать, — днем руководитель Лаборатории № 2 разъезжал по институтам, по наркоматам, по заводам.
В красном доме уже не нужно было спать на письменном столе своего начальника, имелись свободные комнаты, там неплохо отдыхалось. Но вряд ли все это могло продлить часы сна. Монтаж и наладка циклотрона ревновали к любому часу, отданному не им. Работа была увлекательна и беспощадна. «Леня, — сказал Курчатов, когда Неменов привез из Ленинграда два вагона с циклотронным оборудованием, — урановый котел даст нам загадочный девяносто четвертый элемент, и даст его много. Но когда котел заработает? А элемент нужен сейчас, хоть в микро-микрограммовых навесках. Получить его можно при помощи циклотрона. Нет у нас ничего более срочного, чем монтаж циклотрона, понял?» Неменов все понял — и себя не щадил, и другим не давал пощады, в первую очередь Курчатову.
Через много лет он будет с увлечением вспоминать: «Ах, как же мы работали! Начинали в восемь часов утра, в четыре утра кончали. Спали где придется. Десять лет, начиная с сорокового года, ни разу не был в отпуске. Лучшие дни моей жизни!»
Циклотрон Лаборатории № 2 был много меньше того, который не достроили в Ленинграде, меньше и того, что стоял в Радиевом институте. Но на этом сравнительно небольшом аппарате впервые в Европе был выведен наружу поток дейтонов — ионов тяжелого водорода.
Курчатов в момент пуска циклотрона находился на совещании в наркомате. Неменов по телефону сообщил ему об удаче. Курчатов примчался в циклотронную только в три часа ночи. Пучок дейтонов был виден и при свете, а в темноте из окошка ускорительной камеры ярко вырывался голубовато-фиолетовый язычок. На пути потока поставили мишень, содержащую препараты лития: литий, поглощая дейтоны, превращался в бериллий и выбрасывал при этом нейтроны. Как только мишень поместили у окошка, счетчик Гейгера, отнесенный на несколько метров в сторону, энергично заработал, фиксируя поток нейтронов.
— Есть! — воскликнул сияющий Курчатов. — Получили свой циклотрон! Завтра начнем облучать мишени с уранил-нитратом. Увидим, наконец, что за элемент этот таинственный девяносто четвертый! А сейчас отметим радостное событие!
Неменов в два часа ночи, еще до приезда Курчатова, внес в рабочий журнал запись: «25 сентября 1944 года впервые в Советском Союзе на циклотроне выведен наружу поток дейтонов». А в четыре часа все присутствующие на пуске отправились на квартиру к своему руководителю. Курчатов разбудил Марину Дмитриевну, достал бутылку шампанского — ликующие физики выпили стоя.
На время наладки циклотрона и отработки методики исследований установили круглосуточные дежурства. Курчатов попросился в вахтенные — аккуратно расписывался: «Принял у такого-то, во столько-то часов. Результаты такие-то. Сдал тому-то. Курчатов».
Уже через несколько дней можно было бомбардировать нейтронами урановые мишени. «Таинственный девяносто четвертый» перестал быть призраком, он реально образовывался в слое уранил-нитрата — пока еще, правда, в количествах, не поддающихся химическому взвешиванию, но вполне доступных для измерения радиометрическими приборами.
— За машину, ребята, спасибо, — сказал Курчатов, собрав у себя основных «циклотронщиков» и теоретиков, помогавших им расчетами. — Но теперь это хозяйство экспериментаторов, а для вас — пройденный этап. Надо строить новую машину, с полюсами не на 700 миллиметров, как эта, а метра на полтора. Война идет к концу, возможности увеличиваются.
И, помедлив, он назвал такие сроки исполнения, что легко возбуждающийся Неменов подскочил. Все, кроме Фурсова, казались озадаченными уже не в Курчатовском, а в прямом смысле слова. Фурсов молча ухмылялся. Он делал расчет пучка дейтонов в циклотроне, Курчатов после пуска радостно похлопал его по плечу: «Вася, начало есть, пойдем дальше!» Спорить с Бородой о сроках не имело смысла, тот не только настоит на своем, но и каждого непременно убедит. Фурсов не любил спорить. Спокойный и немногословный, он старался не возражать, а соглашаться, так было проще. Зато уж если приходилось говорить «нет», то это было «нет» категорическое. И когда, переубедив постепенно сдавшегося Неменова, Курчатов посоветовал Фурсову не откладывать расчета большого циклотрона — на очереди теория графитовых призм, Померанчуку нужен помощник, — Фурсов только кивнул головой.
Померанчуку был нужен помощник не только потому, что становились трудны расчеты, а больше оттого, что расчеты из общей теории превращались в уточнения — к цифири Померанчук не имел склонности. Еще меньше любил такую работу Зельдович, тот мыслил лишь «крупноблочно», а Гуревича, кроме расчетов, нагрузили экспериментами, он тоже не мог поспеть. Фурсов давно предчувствовал, что весь каждодневный обсчет уран-графитового сооружения ляжет на его плечи: лучше было с циклотроном разделаться поскорей.
Он мог бы, правда, напомнить, что на его плечи непредвиденно легла еще одна обязанность. В Лаборатории № 2 числилось уже сто работников, из них десять членов и два кандидата партии. И на собрании партийной организации секретарем выбрали его, Фурсова, и в решении записали, что главной задачей «является обеспечение выполнения планов и графиков научных и производственных заданий». Но он предпочел улыбаться и кивать головой. Спорь не спорь, все нужно — и срочный расчет циклотрона, и обсчеты графитовых призм и урановых блоков, и «обеспечение выполнения...»
Существенный успех обнаружился и у Бориса Васильевича. Еще в Пыжевском, в небольшой комнатке, с Варварой Павловной Константиновой, женой Зельдовича, тоже физиком, он начал поиск нептуния. В красном доме он возглавлял отдельный сектор, помещения были обширней и лучше оборудованы, добавились такие высококвалифицированные сотрудники, как Михаил Певзнер, Сергей Баранов, Людмила Мухина. И здесь все усилия сосредоточились на создании элемента № 94. Термин «создание» в данном случае единственно точный. «Таинственного незнакомца» раньше всего нужно было сотворить, ибо ни в одном естественном продукте он практически не присутствует, а потом, сотворенного, уже «открыть».
Делалось это так. В большую колбу вливали 2,5 килограмма закиси-окиси урана, разбавленного водой до 7,5 литра. Колба со смесью помещалась в бочку с водой, бочку ставили посередине комнаты. В центре колбы помещался радий-бериллиевый источник нейтронов, содержащий 1,8 грамма радия в стекле, запаянном в медь. Облучение велось 83 дня и закончилось 17 октября 1944 года. Элемент № 94 выделялся из раствора методом, разработанным Борисом Васильевичем. Количества его были мизерны, индикаторные, но все же около трех тысяч миллиардов атомов нового элемента — потом узнали, что американцы назвали его плутонием, — давали о нем первое представление. В осадке плутония измерялось около 20 импульсов в минуту. Баранов, обеспечивавший радиохимиков измерительными системами, изготовил надежные приборы для счета импульсов. Плутоний оказался радиоактивным с периодом полураспада в 31 тысячу лет (более точные измерения дали впоследствии 24,3 тысячи лет).
Ядерные измерения набирали хороший темп.
К лету 1945 года стало ясно, что близится время, когда от лабораторных исследований и теоретических расчетов можно будет перейти к производственным решениям. Если и не все проблемы инженерного освоения ядерной энергии были решены, то путь к овладению энергией ядра был практически ясен.
12
Потсдамская конференция завершала работу. После одного из заседаний Трумэн, вместо того, чтобы распрощаться до следующего дня, отвел Сталина в сторону и, прохаживаясь с ним по залу, заговорил об оружии необычайной разрушительной силы, созданном и испытанном американскими учеными. Стоя поодаль от двух собеседников, побледневший Черчилль молча следил за ними. Он знал, о чем идет разговор. Трумэн получил сообщение, что 16 июля 1945 года в Америке, на полигоне в пустыне, успешно взорвана бомба из плутония, разрушительная мощь ее равна 25000 тонн тротила. Черчилль страшился, что русские станут допытываться, какова конструкция бомбы, из каких материалов ее создали, будут настаивать, чтобы их ученых ознакомили с американскими секретами. Черчилль не сомневался, что атомная бомба для русских величайший секрет, они, конечно, и не догадываются, как далеко шагнула физика в англосаксонских странах. И по лицу собеседников он старался угадать, как идет разговор. Он вскоре скажет, это эти минуты ожидания конца их беседы были самыми тяжелыми минутами его жизни. А Трумэн, возвратившись потом к Черчиллю, с удивлением сказал: «Он почти не расспрашивал меня. Он, кажется, и не догадывается, какой силы оружие мы создали, хотя я не скрывал его мощи».
Как написал маршал Жуков в своих мемуарах, Сталин в это время говорил Молотову и Жукову:
— Американские физики завершили работу над атомной бомбой. Трумэн красноречиво расписывал, насколько повысилась боевая мощь американской армии.
— Цену себе набивают, — заметил Молотов.
Сталин рассмеялся:
— Пусть набивают. Надо будет переговорить с Курчатовым об ускорении нашей работы.
Еще и двух недель не прошло после этого разговора, как мир был оглушен грохотом атомных взрывов, ослеплен зловещим заревом ядерного огня, взметнувшегося 6 августа над Хиросимой, 9 августа над Нагасаки. Бомба из легкого изотопа урана унесла в считанные секунды почти двести тысяч жизней в Хиросиме, не меньше в Нагасаки уничтожила людей и бомба из искусственно созданного 94-го элемента — плутония.
Мир вступил в атомный век при грохоте чудовищных взрывов, в пламени испепеленных городов...
Примечания
1
Где хорошо, там — родина!
(обратно)2
Но ведь это не физика, господа!
(обратно)



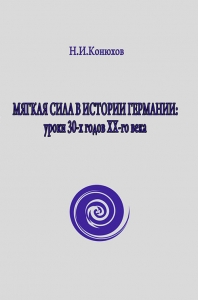



Комментарии к книге «Творцы», Сергей Александрович Снегов
Всего 0 комментариев