ВВЕДЕНИЕ
Древние греки оставили в истории культуры след столь значительный, что их цивилизацию стоит рассматривать особо, а не единственно как предтечу нашей цивилизации. В то же время, сколь бы далеки от наших ни были те исторические условия, в которых она существовала, — греки действительно были нашими предшественниками, прародителями и творцами нашей собственной западной цивилизации.
Многочисленные утверждения, звучавшие столетие назад и позже и отстаивавшие правомерность такого взгляда, выдержали испытание временем. Разумеется, сегодня мы располагаем более обширными познаниями касательно других — еще более отдаленных — предшественников, от Шумера (Двуречье) и Эблы (Сирия) до других народов. Однако и то, что нам известно о них, ничуть не умаляет жизнетворной роли греков (по сути, напротив, лишь подчеркивает ее). В любом случае греки гораздо ближе к нам по времени, и, следовательно, это преемство ощущается напрямую. Наши сегодняшние познания о цивилизациях, удаленных от западной во времени и пространстве, чрезвычайно важны (Приложение 1), но дело не только в них: ибо мы рассматриваем именно западную цивилизацию.
Греческое наследие перешло через Рим в Византию, а затем было востребовано итальянским Возрождением. Но здесь нас интересует другое. Подобные вопросы уместны скорее в исследовании, посвященном более поздним стадиям древнегреческого мира, а некоторые ответы на них появились, как я надеюсь, и в моей книге От Александра до Клеопатры, где рассматривается эпоха эллинизма. Однако чем больше задумываешься о греках, столь во многом определивших наше бытие, тем больше хочется приблизиться к истокам этой культуры. Согласно принятой периодизации, история Древней Греции разделяется на три части, соответствующие древнейшей, классической и эллинистической эпохам. Разумеется, необходимо обозначить границы этих эпох, так как в противном случае писать историю было бы крайне трудно. К тому же существуют удобные исторические вехи: греко-персидские войны ознаменовали переход от архаической Греции к классической, а Александр Македонский положил начало эллинистическому периоду. Предметом же моей настоящей книги является тот долгий ранний период истории, который предшествовал обеим названным хронологическим точкам отсчета.
Однако, говоря об этой эпохе, хотелось бы избежать понятия «архаический» — первоначально изобретенного для рассуждений о художественных материях и относящегося к периоду между 720 г. (или 750 г.) и 480 г. до н. э., — ибо это понятие обладает словарными значениями «примитивный» и «устарелый». Подобные пежоративные эпитеты едва ли уместны по отношению к древним грекам, чьи деяния и речения на деле породили одну из плодотворнейших эпох во всей мировой истории. Понятие «классический» (в применении к следующему периоду) также изначально относилось к искусству, которое было названо «первоклассным», то есть перворазрядным1; при этом разумелась та же мысль — что все, что делалось раньше, было лишь второразрядным. Но такая точка зрения — касательно ли искусства, или же прочих областей — полностью неприемлема в отношении к грекам, живших в древнейший период. Нисколько ни умаляя достижений «классических» V и IV веков до н. э. (это было бы нелепым и неверным притязанием), можно утверждать, что и предыдущая эпоха не уступает им по великолепию, — памятуя к тому же о том, что сама эта культура восходила к чрезвычайно скромным истокам.
Кроме того, в силу двух особых причин представляется соблазнительным изучить деяния, творения, высказывания и мысли этих древнейших греков. В каком-то смысле причины эти противоречивы. С одной стороны, за недавние годы, особенно за последнее десятилетие, ученые проявили огромный интерес к данному периоду греческой истории. Теперь уже пора попытаться понять, насколько мы смогли продвинуться вперед благодаря этим многочисленным научным изысканиям. С другой же стороны, затронутая тема особенно будоражит еще и потому, что, как ни странно, мы по-прежнему располагаем довольно разрозненными данными относительно различных аспектов рассматриваемой эпохи. В области словесности приходится мириться с чудовищными пробелами; те же сведения, которыми мы обладаем, чаще всего грешат анахронизмом и заведомо обусловлены предвзятостью и избирательностью чужой оценки (в частности, очевиден крен в сторону позднейших афинских авторов, на чью долю пришлось подавляющее большинство дошедших до нас сочинений). В области археологии, разумеется, были совершены чрезвычайно важные, даже сенсационные, открытия, — в том числе, и совсем недавно. Но и эти данные, при всей своей значимости, неравноценны и отрывочны. Они проливают яркий свет на отдельные — весьма краткие — исторические отрезки, тогда как остальное по-прежнему пребывает во мраке Таким образом, писать о греческом мире в эту «доклассичсскую» эпоху. задача нелегкая: здесь требуется своего рода сыскная сноровка Я сознаю, что мне во многом недостает этого качества. Мне бы хотелось выразить глубочайшую признательность тем специалистам, к чьим трудам я позволил себе весьма вольно прибегнуть. Добавлю также, что возможные ошибки проистекают единственно с моей, а не с их стороны.
Перед исследователем встает и другая немаловажная трудность. При попытке воссоздать ход событий скудость и предвзятость сохранившихся сведений — отнюдь не единственная загвоздка. Дело усугубляется еще и тем, что в Греции отсутствовал сколько-нибудь явный объединяющий центр, каким стал Рим для римской истории. Ибо в греческом мире, напротив, царила крайняя и притом намеренная разобщенность. Нам достоверно известно о существовании 700 городов-государств; и никто не будет удивлен, если вдруг обнаружится, что в действительности их насчитывалось вдвое больше. Согласно Геродоту, греки считали себя единым народом, связанным кровным и языковым родством, общностью религии и одинаковым образом жизни2 Но вместе с тем между ними существовали весьма резкие различия, потому что каждое из сотен греческих городов-государств обладало совершенной политической независимостью.
Это ставит историка перед серьезной дилеммой, — особенно в отношении того раннего периода, которому и посвящена настоящая книга. Если бы мы рассматривали эпоху, последовавшую непосредственно за ним, — так называемую классическую эпоху, — эта дилемма тоже оставалась бы, но была бы менее остра. Она была бы менее остра, ибо в эту позднейшую пору картина греческого мира всецело определялась главенством афинян. Во-первых, потому, что большинство исторических сведений сохранилось именно от них и их же касается; а во-вторых, их достижения обрели столь ошеломительный размах, что, ведя речь о «классической» Греции, неизбежно пришлось бы уделять львиную долю внимания тому, что происходило в Афинах.
Однако, даже подчеркивая тенденцию к сплочению и централизации в классическую эпоху, легко впасть в преувеличение. Что же касается более ранней эпохи, то об этом вовсе не приходится говорить. Правда, здесь необходимо сделать две оговорки. Во-первых, огромное количество сведений, дошедших до нас от этой ранней эпохи, все-таки исходит от афинян и имеет отношение к афинянам же. Во-вторых, афиняне уже в этот ранний период достигли удивительно многого. Однако и эти оговорки следует воспринимать в должном контексте. Ибо, невзирая на мозаичность исторических сведений и их явный перевес в пользу Афин, наша главнейшая задача — постараться охватить как можно более полно и остальные части греческого мира. А в эту древнейшую эпоху Афины оставались всего лишь одним из выдающихся центров. Разумеется, было бы невозможно — да и попросту ненужно — излагать даже вкратце события, происходившие в каждом из бесчисленных полисов (и других греческих объединений — например, племенных групп или торговых союзов). Однако представляется важным рассмотреть по крайней мере пятьдесят из них (а также бегло коснуться еще десятка-другого).
К этой цели и будет сводиться моя задача в настоящей книге. Мне остается лишь надеяться, что мой выбор не сильно погрешил против исторической правды. Афинам будет уделено больше внимания, чем какому-либо другому городу, и не только в силу двух вышеизложенных причин — количества сохранившихся данных и обилия культурных достижений, — но также в силу того, что наша осведомленность о самих Афинах в ряде случаев восполняет и наши знания о том, что происходило в других местах. При этом Афинам будет посвящена лишь одна девятая часть книги.
Из предшествующих замечаний уже стало ясно, что я подхожу к истории древних греков с позиций географии. Это означает резкое размежевание с той часто подразумеваемой — или молчаливо принимаемой — точкой зрения, согласно которой единственной более или менее «законной» преемницей древней Греции является Греция современная. Разумеется, это неверно, и живое тому свидетельство являют греки из западной части Малой Азии, Южной Италии, Сицилии и Южной России, а убедительным доказательством служат их многочисленные и разнообразные культурные достижения3 Поэтому-то я и предпочел назвать свое исследование не «Греция в доклассическую эпоху», а «Греческий мир в доклассическую эпоху».
В целом расположение материала согласно географическому принципу в отношении древних греков вполне справедливо: ведь каждый из этих обособленных, резко отгороженных друг от друга городов-государств следовал собственной, несходной с чужими, линии культурного и политического развития. Кроме того, такой географический подход дает весьма добрые плоды: он позволяет проследить, где именно появлялись выдающиеся личности той эпохи, или — в ряде случаев, когда это представляется более важным, — не откуда они происходили, а где разворачивалась их деятельность. Уделяя внимание таким «великим людям» — писателям, мыслителям и художникам, а также государственным деятелям и полководцам, — мы не собираемся приводить никаких оправданий, ибо роль этих личностей в становлении греческого мира поистине огромна. В самом деле, особое внимание к отдельным историческим лицам — пусть оно ныне и не в моде — положительно необходимо, памятуя о том неистребимом духе соревнования, который царил между различными полисами и внутри них, — а следовательно, и между их виднейшими гражданами. Вдобавок на большинстве этих личностей лежит несмываемое «клеймо» тех городов, с которыми главным образом связана их жизнь, — «клеймо», которого можно было бы и не заметить, не рассматривай мы греческую историю город за городом. Правда, географический принцип распределения материала имеет свои недостатки и не всегда одинаково хорошо срабатывает4, и все же я полагаю, что он лучше других. История греков, как и история любого другого народа — а возможно, более других, — неразрывно связана с их географией. Если мы упустим из виду это обстоятельство, она просто останется непостижимой. Кроме того, любой другой принцип организации материала позволил бы добиться меньшей наглядности.
Однако в начале книги я попытался, насколько возможно, воссоздать некую картину раннегреческого бытия в целом, предпослав географическому обзору — общий. Если на последующих страницах главные достижения эпохи рассматриваются от государства к государству, то здесь они изложены в тематическом порядке. Преследуя эту же цель, я сопроводил книгу двумя хронологическими таблицами. Задача первой — показать исчерпывающую картину событий в их исторической последовательности; главные греческие области представлены в параллельных столбцах. Вторая таблица служит более специфической цели, которая представляется мне особенно важной, хотя и не всегда ставится в подобных книгах. А именно, перечень событий и исторических лиц сопоставляется с другими, негреческими, цивилизациями (им уделено внимание в Приложениях), принадлежавшими к той же эпохе и тесно соприкасавшимися с греческой цивилизацией или испытавшими ее влияние.
Майкл Грант, 1987 г.
ЧАСТЬ I ДРЕВНИЕ ГРЕКИ
На протяжении третьего тысячелетия до н. э. в Грецию населяли племена, которые говорили не по-гречески. Их язык даже не был родственным греческому. Его отголоски живы и поныне в греческих топонимах, — например, в названиях, содержащих неиндоевропейские суффиксы —νθ и —σσ (-ττ в аттическом диалекте): KopivGoj, Παρνασσός, Λυκαβηττός (Коринф, Парнас, Ликабетт). Однако около 2000–1900 гг. до н. э. — в начале эпохи, которую археологи называют среднеэлладской, или средним бронзовым веком, — с севера произошло вторжение племен, говоривших на одном из диалектов будущего греческого языка. И эти племена разрушили большинство ранних автохтонных поселений1.
В течение последующих веков, в особенности после 1600 г., Греция явно подпала под влияние «минойской» цивилизации (как называем мы ее сегодня в честь легендарного царя Миноса), процветавшей на Крите и пустившей мощные корни на другом острове, лежавшем несколько севернее, — на Тере (совр. названия Тира или Санторин). Но вослед живому великолепию минойского искусства явилась материковая культура — более жесткая, более парадная и более иератич-ная. В наше время она получила название «микенской» — от своего очага, Микен в Арголиде (северо-восточный Пелопоннес), хотя имелись и другие очаги — прежде всего, Тиринф, расположенный в непосредственной близости, Пилос на юго-западе этого же полуострова, и Фивы в Беотии (Средняя Греция). Насколько нам сейчас известно, крайним северным центром этой цивилизации был город Иолк в Фессалии.
Властители, жившие в этих пышных дворцах-крепостях, вокруг которых лепились более скромные поселения, купались в роскоши. Об этом свидетельствуют тончайшей работы золотые издеоия, обнаруженные в царских гробницах, а также слоговая письменность («линейное письмо Б»), которым они пользовались для ведения хозяйственных записей, необходимых для управления обширными владениями^. Микенцы были не только неустрашимыми воинами, но и предприимчивыми моряками: они плавали и основывали торговые поселения по всему Восточному Средиземноморью, а также в гаванях многих городов на центральных и западных побережьях Средиземного моря. В Илиаде повествуется о том, что эти «ахейцы», как именовал их Гомер, также захватили Трою — крепость в северо-западной части Малой Азии, выходившую к Геллеспонту (Дарданеллам) (Глава V, раздел 1). Но происходило ли это на самом деле — достоверно мы сказать не можем.
В конце XIII века до н. э. начался закат этой цивилизации: ее погубила затяжная цепочка разрушительных передвижений народов. Во многом это было связано с падением Хеттской державы (Приложение 1, примечание 19), ибо, как нам известно, например, из древнеегипетских записей, она постепенно рушилась, сотрясая всю Эгеиду и ближневосточные земли. Часто остается неясно, что это были за народы; несомненно, их состав был крайне смешанным, и весь процесс представляется весьма сложным. Так или иначе, спустя два поколения микенская цивилизация была полностью уничтожена; вполне вероятно, ее гибель ускорили внутренние распри и раздоры. По-видимому, сначала исчезли дворцы и с их разветвленной чиновничьей системой, благодаря которой осуществлялся общий надзор за хозяйством.
Как показывает анализ растительной пыльцы, при таком стечении обстоятельств население переживало жестокий упадок, возвратившись к пастушескому образу жизни. Искусство письма было утрачено на несколько веков, в строительстве перестал использоваться камень. Греция превратилась в деревенскую страну, производившую убогую послемикенскую утварь (ок. 1100–1050 гг.), для которой характерны грубые, негибкие формы и нанесенные от руки узоры — круги и полукружья. Мрак, в котором пребывали эти «темные века», объясняется не только нашим неведением относительно того, что тогда происходило: история в действительности переживала в ту пору болезненный перелом4.
Несмотря на множество сомнений и опровергающих друг друга теорий5, в целом можно согласиться с древним убеждением: смутное безвременье завершилось появлением в Пелопоннесе новой волны греков (или, по меньшей мере, предводителей царских или знатных родов и их спутников).
Эти греческие племена, известные как доряне, или дорийцы, проникли на запад Греции с севера, миновав пограничные области между Фессалией и Эпиром6. Более поздняя легенда гласила, что их возглавляли Гераклиды — потомки героя Геракла, и что их приход (ок. 1120 г. до н. э.) был «возвращением», так как сын Геракла Гилл будто бы уже являлся в Грецию (и умер там) в более раннее время7, до Троянской войны.
Однако эти рассказы о том, что доряне будто бы уже раньше приходили вместе с Гиллом, — всего лишь домыслы, по-видимому, «задним числом» наделявшие пришельцев почетной древностью и возводившие их происхождение к самому Гераклу. К тому же позднейшая легенда была призвана оправдать захват дорянами, о которых не говорится ни слова в гомеровских преданиях, тех земель, которым принадлежало виднейшее место в этих преданиях и которые отождествлялись с владениями Агамемнона, внука Пелопса (Пелопа), давшего имя Пелопоннесу.
Из крупных городов, по-видимому, лишь Афины и Спарта успешно выдержали натиск дорян. Археологический комплекс Лефканди (Л ел ант) на Эвбее обнаружил удивительные свидетельства роскоши, относящиеся к мрачнейшим глубинам «темных веков» (Глава ГУ, раздел 1). Афины (Глава И, раздел 1) позже заявляли, что они не только выстояли, но и возглавили полчища переселенцев из других частей Греции, получивших имя ионийцев (в честь мифического героя Иона). Эти беглецы, спасавшиеся от дорян, переплыли Эгейское море и обосновались на западном побережье Малой Азии и на близлежащих островах. Эта область впоследствии стала называться Ионией. Другие греки, бежавшие в Малую Азию и на острова из Фессалии и Беотии, поселились в Эолиде, к северу от Ионии. Между тем дорийские завоеватели двинулись южнее. В большинстве прибрежных и островных районов Малой Азии происходило обширное этническое смешение пришельцев с туземцами. Поэтому памятуя к тому же о смешениях, сопутствовавших длительному периоду переселения, едва ли можно говорить о существовании единой греческой «расы».
Тем не менее все эти люди говорили на греческом языке. Правда, этот греческий язык распадался на множество диалектов. Насколько возможно теперь реконструировать эти наречия, исходя из позднейших данных, дошедших до нас, — среди них выделялись две большие группы: западногреческая группа (дорийские и северо-западные диалекты, занесенные в Балканскую Грецию пришельцами после падения Микен) и додорийская восточногреческая группа (эолийские, ионийские [включая аттический поддиалект] и аркадо-кипрские [бытовавшие в Аркадии в центральном Пелопоннесе и на острове Кипр] диалекты)8.
Широко распространившаяся «протогеометрическая» керамика (ок. 1025—900 гг. до н. э.), впервые появившаяся в Афинах, а затем в Арголиде и во всем обширном районе от Фессалии до северных Киклад, — была украшена круговыми орнаментами, которые наносились, в отличие от предшествующей послемикенской утвари, уже не от руки, а циркулем. Вазы были расписаны с помощью составной кисти узорами, подчеркивавшими четкие очертания сосуда^. В протогеомет-рической керамике послемикенский стиль подвергся столь значительному переосмыслению, что в ней надлежит усматривать новую отправную точку — уже не оглядываясь вспять, но провидя будущие художественные триумфы (хотя мысль о непрерывной преемственности неоднократно ставилась под сомнение).
Появление более оседлых условий жизни ознаменовало в X веке до н. э. начало урбанизации: стали появляться и расти большие и малые города. У греков было свое название для этого процесса: синойкизм (συνοικισμός, или συνοικησις), то есть сплочение под началом единой столицы10. Но оно могло происходить по-разному. Иногда группа одиночных деревень фактически сливалась в один город — как случилось, например, в Спарте и в Коринфе, — создавая городской очаг для прежде рассредоточенного населения. Иногда же деревни продолжали существовать раздельно, но одну из них начинали признавать главной, так что она становилась метрополией. Так произошло в Аттике: возвышение Афин не привело к уничтожению окрестных селений, но подчинило их новой городской общине. Большинство крупных греческих городов состояло из верхней части, или акрополя (πόλις), занимавшей крутой холм, и нижней части (ύστυ), находившейся в ее подчинении и под ее защитой — в частности, от морских разбойников, представлявших постоянную опасность.
Не менее важным было то, что эти новые общины, сосредотачивавшиеся вокруг главных городов, составили ядро будущих политически независимых городов-государств. В 850–750 гг. до н. э. такая форма государственной жизни стала для Греции преобладающей. Правда, бытовали и другие формы организации, в частности, θνος — племя или группа племен, лишенные гражданских установлений (самым ярким примером тому служили фессалийцы11); но с течением времени такой строй сохранялся, как правило, только среди наиболее отсталых греческих общин. С другой стороны, как уже говорилось во Введении, существовали сотни греческих городов-государств; ни одно из них не было слишком большим, а некоторые оставались чрезвычайно малы12. Каждое из них именовалось полисом (хотя то же самое слово обозначало не только городской акрополь, но и собственно город как центр содружества в целом). Города-государства не были новшеством. Правда, поселения вокруг микенских городов (даже если воспоминания о них или о том, что от них осталось, и повлияли на новые, постмикенские, городские объединения, — что вызывает сомнения), скорее всего, не обладали в достаточной мере муниципальными установлениями и посему не заслуживают такого названия. Зато трудно в нем отказать всем тем городам, которые уже давно существовали в ближайшем соседстве, на востоке, — особенно в таких странах, как Сирия и Финикия, и особенно в ту пору, когда они избегали сосредоточения большой власти13.
Однако совершенно очевидно, что греки, объединявшиеся в семьи (οκοι), роды (γνη) и фратрии (φρατρίαί, братства)14, о чем будет рассказано подробнее в связи с Афинами, обогатили понятие города-государства, вбиравшего в себя все эти объединения, новым смыслом и содержанием. Такие греческие государства включали полоску окрестных деревень15 — отнюдь не всегда изобиловавших дарами земли, ибо, по замечанию Геродота, «бедность в Элладе существовала с незапамятных времен»16, — но имевших большое значение для греков, стремившихся сделать свои полисы (πόλεις) самодостаточными как в сельскохозяйственном, так и во всех прочих отношениях. И каждое государство действительно добилось такой самодостаточности, что вся общественная, экономическая, нравственная, интеллектуальная и творческая жизнь гражданина (πολίτης) вращалась внутри его тесных пределов. Он существовал в такой слитности с жизнью своего города, что, пожалуй, история не знала других подобных примеров, а ныне такое положение вещей многие сочли бы невыносимым.17
Жизнь греческого гражданина, в частности, была сосредоточена вокруг городской агоры (άγορά), то есть места собраний (что является более точным толкованием, нежели «рыночная площадь»). Именно там — наверное, и раньше, еще в минойские и микенские времена (ср. Дрер, Глава VI, раздел 1) — встречались граждане для обсуждения дел или для участия в религиозных процессиях и атлетических состязаниях. Будучи греками, они, несомненно, спорили и о государственных делах. Но изначально эти сходки на агоре, пусть даже удостоенные названия народных собраний, не сильно влияли на ход политических событий, так как эти древнейшие собрания существовали лишь для того, чтобы выслушивать и одобрять решения, принимавшиеся наверху. Иными словами, эти решения провозглашали народу цари, которые, если верить преданиям, правили городами в глубокой древности.
Ибо Аристотель считал, что нарождавшиеся полисы вначале подчинялись единовластным правителям, представляя собой уменьшенные копии могучих царств микенской эпохи18. В недавнее время такое представление было поставлено под сомнение, тем более оправданное, что мы не располагаем упорядоченными или исчерпывающими сведениями о каких-нибудь из этих монархий. Это так, но подобный довод ex absentia едва ли стоит принимать всерьез, потому что и о других явлениях «темных веков» нам известно чрезвычайно мало. И хотя обобщения невозможны, ибо каждый полис имел собственную историю, Аристотелева гипотеза, как представляется, все же приложима к немалому числу этих ранних общин.
Однако с течением времени эти греческие цари «темных веков» оказались неспособны долее удерживать в своих руках самодержавную власть: у них появились сильные соперники среди знати. И эти знатные соперники (евпатриды), улучая нужный миг — например, если царя заставала врасплох война, — постепенно подрывали царский авторитет. В конце концов, сплотившись, они сами пришли к власти. Для кучки аристократов было выгодней делить власть между собой, нежели бороться с другими за самодержавное владение царством; в любом случае прежняя единоличная форма правления уже отжила свое.
Как ранее царь-единодержец, так ныне сменившая его правящая знать оправдывали свою власть править и судить божественным правом, дарованным им богами, от которых они сами будто бы ведут происхождение19 Поэтому именно они утверждали своего рода монополию на «добродетель» (depend), а тем самым и монополию на могущество, без которого невозможно хорошее правление (etivopla). Следовательно, неповиновение властям считалось преступным. Чаще всего, сама верхушка знати мало чем отличалась от прочих земледельцев и пастухов — правда, у них в услужении находились ремесленники и рабы, — но именно они владели лучшими землями; кроме того, они поддерживали определенную аристократическую преемственность. Они ездили верхом и имели коней, поэтому Аристотель называет некоторые из первых аристократических режимов «государствами всадников (конников)»20 (ср. ниже, а также примечание 32). Описанный у Гомера замысловатый порядок обмена дарами между хозяином и гостем, связывавшего их дружескими узами гостеприимства, по-видимо-му, отражает обычай, который не был вовсе чужд и его слушателям в VIII веке до н. э. Другой излюбленной традицией знати, долгое время сохранявшей политическое значение, были мужские пиршественные сообщества ((гоцябош). Именно ради таких общих застолий было сложено — и во время них спето — немало лучших образцов поэзии той эпохи.
Нам известно о существовании в одной области — Западной (Опунтской) Локриде, в Средней Греции, — 100 домов знати и народного собрания в 1000 граждан (хотя эти данные относятся к V веку до н. э., они несомненно приложимы и к более раннему периоду). Дошли до нас сведения о собраниях в тысячу человек и в других греческих городах (в частности, это были Кима в Эолиде и Колофон в Ионии). Несомненно, в них входила знать и, возможно, часть сословия, следовавшего за нею. Порой собрания насчитывали только 600, или чуть более 200 (как в Коринфе), или даже 180 человек. Но во многих случаях эти собрания по-прежнему оставляли всю полноту реальной власти в руках немногочисленных вождей, «совет благодумных старейшин», которых созывает Агамемнон в Илиаде Гомера21.
Геометрический период в греческом искусстве и керамике продолжался примерно с 900 по 700 г. до н. э. (ранняя стадия ок. 900–850 гг., взлет в 850–800 гг., зрелость с 800 по 750 г., поздняя стадия в 750–700 гг. до н. э.). И вновь, как и в эпоху протогеометрического стиля, из которого развился геометрический, Афины обнаружили наибольшие способности к изобретательству в росписи керамики. Тем не менее вазы геометрического стиля, в основе своей сходные, хотя и несшие отпечаток региональных различий, появились в ту пору по всей Греции — прежде всего в Аргосе, Коринфе, Беотии, на Наксосе, Паросе, Тере и Мелосе. Стиль отражает свое название: роспись представляет собой ряды повторяющихся правильных, прямолинейных узоров, сплошь покрывающих поверхность сосуда. Эти узоры — меандры, зигзаги, свастики и треугольники — наносились с помощью кистей, следовавших за кружением гончарного круга, и ритмично подчеркивали и выделяли очертания вазы. Ближневосточное влияние (см. Приложение 1) имело весьма общий характер, о подражании или копировании не было и речи; возможно, плотная вязь повторяющихся отвлеченных узоров геометрического орнамента обязана своим существованием мотивам, украшавшим восточную металлическую утварь. Однако само это твердое, архитектоничное, поверенное рассудком владение четко воспринимаемыми основами логического анализа (заметное уже в протогеометрическом искусстве, теперь же проявившееся еще ярче), всецело принадлежало грекам.
На вазах геометрического стиля появились небольшие фризы с изображениями животных, а позднее большие сосуды — в их числе стоит отметить удивительный образец работы «дипилонского мастера» (ок. 770–760 гг. до н. э.) — начали украшать фризы с человеческими фигурками. Трудно сказать, какую роль сыграли в развитии этого стиля ближневосточное и позднемикенское искусство, хотя сильнее чувствовалось влияние первого, нежели второго (зато эти афинские вазы вывозились в дальние края, вплоть до Сирии и Кипра). Погребальная сцена была отождествлена с описанными в Гомеровой Илиаде похоронами Патрокла — пожалуй, не совсем убедительно, так как изображенные на вазах фигуры в высшей степени условны, стилизованы, линейны и бесплотны. Однако они уже дают представление о восприятии греками человеческого тела, а также содержат первое зримое доказательство того, что главным предметом художественных размышлений является человек и его дела.
Вероятно, наиболее важные для всего этого пятивекового периода перемены пришлись на VIII век до н. э., когда греческие земли вновь стали открыты вышеупомянутым ближневосточным влияниям. Подобное положение уже наблюдалось в микенскую эпоху; а в тех областях, которые не пострадали во время краха микенской цивилизации, торговые и культурные связи с ближайшим востоком и вовсе не прерывались на протяжении последовавших «темных веков». Но и эти связи поддерживались лишь в немногих местах и оставались довольно ограниченными, так что в полной мере они возобновились только в VIII веке до н. э.
К тому времени появились и новые «каналы связи», в том числе Кипр и Крит, которых, подобно Эвбее и Афинам, не коснулись послемикенские разрушения. Особенно важными точками соприкосновения стали Аль-Мина и другие торговые порты (ёцябркх), которые были основаны, главным образом эвбеянами, на побережье северной Сирии (Глава VI, раздел 4). Такие связи с сирийскими торговыми гаванями сыграли огромную роль в том поистине вулканическом перевороте, что произошел в греческом мире в VIII веке до н. э., — хотя, как отметил автор Послезакония, подражатель Платона, «эллины доводят до совершенства все то, что они получают от варваров»22. В области искусства наиболее заметным результатом стал «ориентализирующий» стиль коринфских ваз (Глава III, раздел 2): отвлеченный геометрический орнамент внезапно сменился буйной пестротой извивающихся зверей и чудовищ, а также другими криволинейными узорами, вдохновленными искусством северной Сирии, Финикии, Ассирии и ближайших соседних стран на востоке (Приложение 1). Новые вазы начали повсюду распространяться и вскоре нашли подражателей в других греческих городах23.
Этот переворот, совершившийся в VIII веке до н. э., затронул не только искусство: он сказался на всех сторонах жизни, сопровождая зрелость греческого железного века. Железо получило применение еще до исхода второго тысячелетия («ранний железный век»)24, но качественный рывок в обработке железа произошел приблизительно между 750 и 650 гг. до н. э. Это во многом ускорило труд и облегчило жизнь людей, а достигнув большей устойчивости существования, население Греции изрядно увеличилось25.
Такой рост численности жителей потребовал полного перехода от пастьбы к пахотному земледелию, и рынок продовольствия заметно насытился. Тем не менее земель, пригодных для обработки, все еще не хватало26. По всей видимости (невзирая на отсутствие конкретных данных), произошло опасное перенаселение, и с течением времени возникла необходимость «перераспределения земли». Такое положение усугублялось тем обстоятельством, что греческое общество не признавало первородства: иначе говоря, имущество, оставшееся в наследство от умершего, разделялось поровну между всеми его сыновьями. А это означало беспрестанное дробление земельных владений, так что под конец участки превращались в скудные клочки земли, которые уже не могли прокормить владельцев. О том бедственном положении, в какое ввергал разорявшихся земледельцев этот нескончаемый передел — вплоть до неоплатных долгов и долгового рабства, — будет сказано в свой черед, в связи с Афинами (Глава III, раздел 2), откуда и происходит большинство дошедших до нас сведений. Между тем надо полагать, что это зло было повсеместным и в других областях.
Демографический гнет, вызванный этими трудностями, вынудил огромное число греков из разных городов покинуть родину и устремиться за море. Территориальная экспансия, последовавшая за этим переселением, побудила Платона уподобить соотечественников «муравьям или лягушкам вокруг болота»27 — болота, простиравшегося от отдаленнейших побережий Черного моря до Геракловых Столпов (Гибралтарского пролива). После гибели микенской цивилизации греческий мир стал впервые расширяться, как мы видели, уже двумя-тремя столетиями раньше — вследствие массовых переселений на западные побережья и острова Малой Азии. Теперь же, на протяжении VIII века до н. э., число полисов удвоилось. Это время стало известно как «эпоха колонизации», хотя основанные греками города — сами греки называли их аяоиат, то есть «выселки», — нимало не походили на «колонии» в современном понимании этого слова. Это были полисы, независимые от «материнского» государства, чьих выходцев основатели апойкии, или ойкисты (впоследствии почитавшиеся как герои — примечание 45) вывезли к этим дальним берегам. Позднее у Софокла имелись все основания поставить на первое место среди всех человеческих достижений именно мореходство28.
В числе поселений «колонистов» VIII века до н. э. были Кумы на юго-западе Италии, основанные эвбеянами; Сибарис и Кротон на юго-востоке того же полуострова, заложенные ахейцами с севера Пелопоннеса, — эта область получила название «Великой Греции»; Занкла и Сиракузы на Сицилии. Основатели Занклы и Сиракуз явились из Халкиды и Коринфа соответственно. Выходцы из этих городов также поселились на острове Керкира (Корфу) в Ионическом море (юг Адриатики). Эта первая колонизация была предпринята в частном порядке, но с одобрения метрополии. Нередко переселенцам помогали представители других чужих общин, а порой будущие колонисты обращались за разрешением к дельфийскому оракулу.
Таким образом, былые связи микенского мира, некогда опутывавшие все центральное Средиземноморье, а позднее распавшиеся, отныне были восстановлены. Правда, теперь с греками состязались финикийские города-государства во главе с Тиром и Сидоном, сами основавшие Карфаген и множество других колоний в тех же областях (Приложение 1). Несмотря на это соперничество, в VII веке до н. э. ионийский город Фокея продолжал осваивать Западное Средиземноморье, что привело к основанию Массалии.
Однако к той поре другие полисы уже исполнили сходную роль на восточных побережьях Средиземного моря. Там — среди бесчисленных поселений других государств — Мегары основали на Фракийском Боспоре Калхедон и Византий, а черноморское побережье было густо заселено милетянами. Некоторые из этих колоний, особенно Ольвия, с годами обрели необычайное могущество, с каким едва могло потягаться какое-нибудь греческое государство метрополии. А в такие отдаленные пределы, как Северная Африка, эгейский островок Тера вывел Кирену.
Колонии снабжали Грецию металлом (который пользовался большим спросом у правителей — аристократов и олигархов — и правительственных войск), сырьем и продовольствием, а взамен ввозили из метрополий готовые изделия. Но подобные торговые операции могли осуществлять не только официально учрежденные колонии (самостоятельные полисы), но и торговые посты (эмпории), не имевшие статуса колонии. Среди таких постов были некогда Питекуссы и Кумы (прежде чем стать колониями), а в Египте фараоны позволили Эмпорию Навкратису обзавестись несколькими кварталами, особо отведенными для многих греческих государств.
Самые ранние сведения о подходящих местах для основания торговых постов или колоний, должно быть, исходили от побывавших там ранее купцов (или морских разбойников). Заметное расширение и оживление торговой деятельности произошло незадолго до 850 г. до н. э., то есть в то время, когда улучшалось морское сообщение. Размах торговли был все еще невелик, как можно заключить из малых размеров самих кораблей. Однако она составляла неотъемлемую часть греческой цивилизации того времени, хотя товары находили и другие пути распространения, помимо торговли, — например, обмен дарами или посвятительные приношения храмам, также неотделимые от привычного образа жизни знати. Одни только аристократы, будучи крупными землевладельцами и имея под началом арендаторов и ремесленников, могли снаряжать корабли и отправлять их в море. (Они нанимали для торговли быстроходные военные суда, приспособленные не столько для перевозки грузов, сколько для боевых маневров, вплоть до VI века до н. э., пока не стали строить особые торговые суда для тяжелых грузов — большие «круглые корабли» под парусами.) Как и колонизация, торговля в эту раннюю пору греческой истории предпринималась не полисами как таковыми, а отдельными гражданами, чьи частные начинания порой оставались весьма несогласованными.
Вместе с тем, по нашим меркам, купеческий нюх (если разуметь плодотворное вложение богатств, в противовес их использованию на удовольствия и показную роскошь) у греков в ту пору начисто отсутствовал. Сократ (как ему приписывалось) и Аристотель были в числе тех, кто выказывал отвращение к производству, нацеленному на прибыль, и к механическим занятиям, необходимым для его хода. Подобными воззрениями и объясняется скудость технических достижений у греков, причем их появлению едва ли способствовала сильнейшая тяга философов-ученых к теоретическим доводам в обход практических, эмпирических изобретений. Об этой тяге еще будет говориться ниже в настоящей главе.
Разумеется, тогда глядели свысока на людей, торговавших в розницу или «лебезивших за прилавком». Аристотель открыто предпочитал жизнь на старый лад — аристократичес-ки-аграрную. И все же было не совсем ясно, в какой степени эти ностальгические предубеждения отражали то положение вещей, которое в действительности существовало в Греции в древнейшую, аристократическую эпоху. С другой стороны, как заметил Плутарх в связи с Солоном, «в те времена… торговля была даже в почете» (для сравнения вспомним Харакса, брата Сапфо: Глава V, раздел 4). Что до Коринфа (где были изобретены и построены новые виды кораблей [Глава III, раздел 2], что было исключением на фоне общей картины технического застоя в Греции), то вряд ли там когда-либо бытовали подобные предубеждения. Как отметил Геродот, «менее же всего презирают ремесленников в Коринфе»29.
Это говорит о том, что торговлей все-таки занимались, пусть в скромных масштабах, представители всех сословий древнейшей Греции. И эта деятельность вынуждала жителей разных полисов объединяться. Но любое сотрудничество с гражданами чужого государства, должно быть, оставалось неохотным, потому что саму суть отношений между различными
греческими общинами составляло столкновение. Глубочайшая поглощенность каждого полиса собственной внутренней жизнью обычно сопровождалась, как нам известно, неспособностью ужиться с соседним полисом — или даже, в течение долгого времени, с любым другим полисом. Осознание греками своего затруднения, яствовавшее из многочисленных попыток предотвратить или смягчить вражду, и то обстоятельство, что уже к 600 г. до н. э. некоторые правительства обзавелись постоянными представителями (πρόξενοι) в столицах других государств, — едва ли меняло что-либо к лучшему. Как позднее неутешительно указал Платон, в греческом мире «от природы существует вечная непримиримая война между всеми государствами»30.
Местные войны редко заканчивались гибелью целых государств, так как воины-победители не могли надолго отлучаться от своих земель и своих хозяйств. Поэтому все пришли в ужас от неслыханной жестокости кротонцев, разрушивших Сибарис. Тем не менее межполисные войны почти не прекращались; они ослабляли воевавшие государства, неся ущерб и опустошение. Странное дело: почему такой разумный народ, как греки, оказался столь воинственным и столь безрассудным в обращении с соседями-сородичами? Греки воевали между собой, так как им не хватало богатств, необходимых для достижения самодостаточности, к которой стремился каждый полис; следовательно, столь необходимые блага нужно было по возможности отобрать у другого государства силой.
Это явление было тесно связано с другим — а именно, глубоко укорененной в сознании греков и чрезвычайно острой тягой к соревнованию, состязанию — агону (άγων). Примером этого чувства служит упоминание в Илиаде о том, как Пелей, отец Ахилла, заповедовал сыну «тщиться других превзойти, непрестанно пылать отличиться»31. Внутри огражденного полисного мирка эта повсеместная состязательность среди граждан, которую подстегивали извне сходные дерзания со стороны всех прочих, порождала бурную деятельность и приносила немало пользы. Когда же соревновательный дух перекидывался на отношения между целыми полисами (а именно так оно и было), он сеял раздробленность и разобщенность, причем сеял постоянно, и на деле это оборачивалось своего рода «вольной борьбой» между государствами.
При таком положении вещей каждый город был вынужден обзаводиться военной мощью, что привело к так называемому «гоплитскому перевороту», в котором ведущее место заняли Аргос, Халкида и Коринф. Гоплиты — тяжеловооруженная пехота — сменили прежние, не столь сильные, войска, где главная роль принадлежала «всадникам» и лошадям (последних, впрочем, почти везде оказывалось недостаточно, кроме Италии, Фессалии, Эвбеи и Кирены)32. Доспехи гоплита состояли из шлема с пластинами, защищавшими нос и щеки (впервые появились в Коринфе), нагрудника или панциря (Халкида) и поножей. Все это делалось из бронзы33, а техника изготовления была заимствована отчасти с востока, отчасти из центральной Европы. Главным орудием защиты пехотинцев был тяжелый бронзовый щит, круглый или овальный (Аргос), который надевался на левую руку, а оружием служили короткий прямой железный меч (Халкида) и копье для выпадов длиной в 2,8 м.
Фаланга — строй, в котором сражались гоплиты, — как и их снаряжение, неоднократно изображалась на вазах. Это была плотно сомкнутая масса воинов глубиной в восемь рядов, продвигавшаяся вперед толчками (швюцо;), причем каждый воин защищал соседа. Эпоха героических деяний и единоборств, которую обессмертил Гомер, уже канула в прошлое: наступил век сплоченных, согласованных и упорядоченных действий, вершившихся не от лица собственного «я», а от лица государства, которому это «я» принадлежало.
Такой переворот повлек за собой и политические перемены. Военные новшества не благоприятствовали бедноте, потому что все гоплиты были обязаны оплачивать свое снаряжение, а для этого им требовалось обладать достаточным имуществом. Но хотя среди гоплитов наибольшим воодушевлением, пожалуй, отличалась знать, отнюдь не все эти воители имели аристократическое происхождение; в действительности им могла похвастаться лишь незначительная часть пехотинцев. В то же время именно эти люди, защитники государства, как заметил Аристотель, в конечном итоге контролировали его и задавали тон34 (например, требуя себе равной доли при дележе любой добычи). Таким образом, хотя своим возникновением гоплиты были обязаны знати, стремившейся обезопасить свое правление (и усматривавшей политическую целесообразность в том, чтобы эта воинственная роль выпала лишь относительно богатым гражданам), само возникновение этого воинского слоя постепенно привело к расширению правящего сословия за счет незнатного люда а тем самым и ускорило крах прежнего правления.
Между тем и прочие явления эпохи вели к тому же. Распахнувшись для контактов с внешним миром, Средиземноморье, как мы уже отмечали, значительно расширило торговлю. Правда, и аристократы не чуждались покровительства или даже участия в торговле, но со временем в этой области неизбежно выдвинулись и обрели влияние люди незнатного происхождения. Кроме того, многие стороны греческой жизни подверглись изменениям в связи с тем, что в обращение был введен несколько преобразованный финикийский или северно-сирийский алфавит (вероятно, при посредничестве северно-сирийских портов и Халкиды —* см. Главу VI, раздел 4, и Приложение I)35, — после пяти веков безграмотности, наступившей после исчезновения микенского линейного письма Б.
Появление новой письменности привело к быстрому росту грамотности36. Кроме того, хотя все договоры греков — народа словоохотливого — продолжали сохранять устный характер, новое алфавитное письмо вскоре превратилось в орудие общественных, мирских целей. В частности, люди ощутили потребность иметь перед глазами законы (νόμοι) своего города; времена, когда цари и знать по своему изволению навязывали народу «богоданные» законоположения (θεσμοί), канули в прошлое37. Так в городах появились первые законодатели; пусть даже Ликург в Спарте — фигура мифическая, зато на Крите (где сохранившиеся фрагменты самого раннего из известных сводов законов происходят из Дрера) с законами для обсуждения выступил Фалет, а его примеру последовали Залевк (считавшийся его учеником) в Локрах Эпизефирий-ских на юге Италии, а также Харонд в Катане на Сицилии и в других городах. Два последних примера крайне значимы, потому что в новых городах, основанных на западе, возникала особенно острая потребность в писаных законах, ибо там жизнь людей отличалась большей свободой, что порождало неизбежные столкновения между выходцами из различных метрополий; законы же были призваны сплотить эти разнородные гражданские элементы. Впрочем, сходные явления наблюдались и в метрополиях — прежде всего в Афинах, Фивах и Коринфе.
Последующим поколениям эти законы показались суровыми. Действительно, власти многих городов, записывая законы, стремились, по-видимому, скорее к подавлению любой вольности и распущенности, нежели к их поощрению. Однако итог оказался совсем противоположным: само появление писаных законов внушило гражданам новую мысль о своих правах и возможностях, что привело (как и предсказывали ранее аристократы, угрюмо противившиеся новшеству) к реформам или, чаще всего, к неоправдывавшимся надеждам на реформы. Такова была суть второго явления, исподволь упорно подтачивавшего аристократические режимы.
Алфавит появился как раз вовремя: возникла возможность записать недавно завершенные Илиаду и Одиссею. Эти эпические поэмы были сочинены устно и исполнялись под сопровождение рудиментарной лиры (форминги — <р6рцгу£ или кифары — кгОосрц). Размером был величественный и в то же время вольно· льющийся гекзаметр (шесть дактилических стоп — сочетаний одного долгого и двух кратких слогов, иногда перебивавшихся спондеями — двумя долгими стопами38, — что вносило разнообразие в скорость, движение, тон и настроение стиха). Авторство обеих поэм принадлежит аэду Гомеру, хотя многие не согласны с такой точкой зрения (Глава V, раздел 1). Оба творения, благодаря непревзойденной поэтической мощи и нетленной значимости образов, превратились в важнейшее воспитательное орудие, которому суждено было влиять на греков грядущих веков и вдохновлять их на собственные подвиги и свершения.
Совершенно иной эпос, приписывающийся Гесиоду из Беотии в Средней Греции, появился, как принято считать, чуть позже гомеровских поэм, ибо там описаны более поздние и менее «героические» формы общества. Это были поэмы Теогония, предвосхитившая более серьезные философские споры о сотворении вселенной, и Труды и дни, произведение более раннее (Глава IV, раздел 4). Однако такой подход к датировке гомеровского и гесиодовского эпоса едва ли пра-вомерен, потому что оба поэта творили, повинуясь художественному воображению, а не современной им исторической правде. Кроме того, они жили в весьма несходных и удален-ных друг от друга регйонах, где сам жизненный уклад и процессы развития нимало не совпадали и не шли параллельно.
Устные поэмы, предшествовавшие эпосу Гомера и Гесиода (а они были явно меньшими), до нас не дошли. Утрачены и другие образцы ранней поэзии — неэпического характера, — упоминающиеся в Илиаде и Одиссей и составлявших неотъемлемую часть устной исполнительской традиции. Такая неэпическая, драматическая поэзия греков — сплав слов, музыки и танца, условно называется «лирической»41. Но понятие это неоднозначно: те поэтические произведения, в отношении которых оно применяется, явно распадаются на две разновидности — хоровую лирику, то есть песни, исполнявшиеся под аккомпанемент лиры и прочих инструментов (ее главными представителями были Архилох с Пароса и Алкман со Стесихором, жившие, соответственно, в Спарте и Гимере), и монодическую лирику (таковы стихи Алкея и Сапфо с Лесбоса), то есть песни, которые исполнял соло сам поэт, аккомпанируя себе на лире (или флейте).
Другого рода классификация, которую предпочитали греки, учитывала стихотворный размер. Изобретение элегического дистиха приписывалось Архилоху и Каштану Эфесскому. Этот элегический размер состоял из попеременно чередующихся строк гекзаметра и пентаметра (пяти стоп) и годился для передачи интимных чувств или рассказа о злободневных событиях лучше, нежели полновесный и величавый гекзаметрический стих. Само слово «элегия», возможно, было связано с каким-нибудь восточным названием флейты, так что та форма поэзии, которую принято им обозначать, изначально могла представлять собой песню, исполнявшуюся под звуки флейты. Предположение древних о том, что элегия произошла от плачей, или скорбных песнопений, представляется сомнительной. Так или иначе, этот размер нашел много разных применений: им пользовались не только для песней под флейту (окбАла), исполнявшихся во время застолий (сгоцтюта) в домах знати, но и, в частности, для любовных стихотворений и исторических сюжетов, а также для воинственных кличей, какие слагали Тиртей и Солон.
Ямбический размер (название имеет также ближневосточное происхождение), основанный не на дактилях и спондеях, а на ямбах (чередование краткого и долгого слогов), чаще всего связывали с «сатирическими» и хулительными сочинениями; для них его использовали Архилох и Семонид. Это было открытое выражение личных чувств, а также еще более бурных и разнообразных взглядов на политику и поэзию, выливавшихся у монодистов в самые разные размеры. Часто считается, что такие стихи напрямую отражают личный опыт и переживания авторов — и потому знаменуют наступление нового «лирического века», последовавшего за веком эпическим и сменившим его. Однако подобное истолкование коренится в непонимании самого механизма поэзии: ведь личина, которую примеряет поэт, является вымышленным, «литературным» построением — неважно, оригинальным или заимствованным, — и вовсе не обязательно отражает какое-то событие, приключившееся в жизни поэта-личности. Следовательно, когда Алкей говорит, что бежал с поля брани и бросил свой щит, или когда Сапфо живописует страсть влюбленной женщины, — не следует думать, будто они описывают в точности то, что с ними происходило. Их задача заключается в другом — в создании и насыщении поэтического образа. Ведь точно так же, «повествователя» в каком-нибудь современном романе отнюдь не подобает отождествлять — по крайней мере, полностью, — с личностью самого романиста.
Безусловно, греческая лирическая поэзия, в отличие от | эпической, была скорее направлена на размышления и внут-| реннее созерцание; и ее подход к человеку совершенно иной.
Однако из всего вышесказанного следует, что «лирический век», когда поэты принялись описывать собственные чувства и собственную жизнь, — определение весьма ненадежное. Кроме того, разнообразные формы «лирической» поэзии, коль скоро о них упоминает Гомер, предшествовали его собственным творениям. А посему представление о такой хронологической последовательности, согласно которой эпический период будто бы сменился лирическим, следует отвергнуть. Обе — а точнее сказать, все — разновидности поэзии произошли от народных песен, которые, в свой черед, минуя и Гомера, и Гесиода, и Архилоха, глубоко уходили корнями в туманное прошлое, когда еще не существовало алфавита, чтобы сохранить эти песни для потомства.
Многие из этих стихотворений буквально пронизаны религией; во всяком случае, поэты никогда о ней не забывают. Ибо она отнюдь не была всего лишь привеском к греческой жизни, но составляла существенную и неотъемлемую часть этой жизни, пропитывая собой все ее стороны. В то же время религия греков чрезвычайно трудна для постижения, хотя, как мы надеемся, рассмотрев в настоящей книге один за другим ее важнейшие очаги, разбросанные по географической карте, нам удастся пролить свет на эту тайну. Разумеется, греческая религия была политеистической. В ней нашлось место для великого множества богов и богинь, которые представляли различные стороны жизни (невзирая на частые совпадения или «дублирования») и отражали многообразие человеческого мира. Культ каждого божества более или менее тесно привязывался к его собственному святилищу, хотя важнейшие из них к тому же почитались повсеместно. Связи с древнейшим прошлым оставались весьма крепки, и вместе с тем мы нередко сталкиваемся с парадоксальным обстоятельством: будучи верными старине, греки одновременно умудрялись вводить всяческие новшества.
В какой степени греки были обязаны этой старине, становится ясно хотя бы на примере величайших богинь пантеона — Геры, Деметры и Артемиды. Все они, каждая по-своему, явно созвучны богиням более древних цивилизаций — Матери-Земле или Владычице Зверей: эпитет Геры «волоокая» (роштсц) и эпитет Афины «совоокая» (уАхшо&яц), вкупе с ее атрибутом — совой в Афинах — звучат отдаленным эхом тех времен, когда люди поклонялись звериным тотемам. С другой стороны, Зевс — верховное божество, отец богов и властелин неба — был позднейшим «нововведением»: он появился во время катаклизмов, сопровождавших крах микенской Греции и продолжавшихся после него; в ту же пору был введен и культ Аполлона — «губительного и ослепительного», — самого греческого их всех богов, несмотря на свое явно негреческое имя и происхождение.
И все же истоки греческой религии остаются туманными. Порой, без особой убедительности, их искали в Египте, однако большего доверия заслуживает мнение, приписывающее важнейшую заслугу в отношении греческой религии Гомеру и Гесиоду, которые упорядочили и свели воедино сказания об олимпийских богах. В особенности у Гомера они предстают «могучей кучкой», что заметили греки, жившие позже (порой с неодобрением, как Ксенофан): это было собрание грозных и могущественных божеств, наделенных множеством пороков и слабостей. Их недостатки были весьма человеческого свойства, так как одной из самых отличительных черт греческой религии (опять-таки, во многом благодаря Гомеру) был антропоморфизм, поместивший ее особняком в ряду главнейших мировых религий. Эти боги и богини являли собой тех же людей, только «в крупном масштабе», ибо греки, с присущим им живейшим драматическим и пластическим чутьем, просто не могли вообразить себе богов в каком-либо ином обличье.
В древнейшие времена эти божества — пусть они и вызывали восхищение своей красотой и силой — далеко не всегда воплощали этические понятия или идеалы, будь то собственным поведением или же требованиями, которые они налагали на смертных. Исключение составлял Зевс (для обозначения различных «граней» его могущества существовало множество уточняющих прозвищ-эпиклез), требовавший от людей определенных проявлений благонравия — например, предоставления защиты тем, кто об этом молит, и гостеприимства по отношению к чужестранцам. Отдельные провинности — такие, как гибрис (йррц) — самодовольная и злодейская дерзость (см. Главу IV, раздел 2), — порой накликали кару богов, хотя представление о том, будто боги негодуют на погрязших в роскоши смертных, возникло никак не раньше 500 г. до н. э. Но эти божества умели жестоко мстить тем, кто не чтил их (именно такой смысл заключен в греческом понятии vopi^eiv — «чтить», «воздавать почести», а отнюдь не «верить в») и не умилостивлял. Иными словами, религия греков была основана на формальных отношениях взаимных обязательств и услуг, являвшихся залогом спокойного существования по принципу do ut des — «Я даю тебе, чтобы ты дал мне».
Прежде всего боги требовали жертвоприношений — желательно, крови жертвенных животных: она искупала вину и ликование тех, кто приносил жертву, и утверждала жизнь самим лицезрением смерти (а заодно оставляла жертвенное мясо для еды). Поэтому главными очагами древнейшего культа были жертвенные алтари, а не храмы; те, в свой черед, выросли потом вокруг них. Вероятно, поначалу и алтари, и храмы существовали на средства не только культовых сообществ, но и отдельных богачей.
Со временем появились крупные святилища: Зевса — в Додоне, в Олимпии и Немее; Аполлона — в Дельфах (Пифо — iroed>), на Делосе, в Дидимах и в Кларосе; Геры — в Аргосе, на Самосе, а также около Кротона и Посейдонии; Артемиды — в Эфесе; Посейдона — на Истмийском перешейке возле Коринфа. Свидетельства в пользу прямого преемства между этими греческими святилищами и капищами микенской эпохи представляются спорными или сомнительными (в любом случае, если где-то такое преемство действительно существовало, само божество обычно подвергалось значительному переосмыслению). Однако в VIII веке до н. э. эти важнейшие культовые очаги ознаменовали решительный этап в греческой религии, повлияв на развитие гражданской жизни в целом и невероятно разросшись в течение последующих двухсот лет. Некоторые из этих религиозных центров прославились своими оракулами: огромное влияние снискали оракульные святилища в Додоне и особенно в Дельфах4.
Четыре святилища превратились к тому же в средоточие больших празднеств — Олимпийских, Пифийских, Истмий-ских и Немейских игр. Возможно, эти многолюдные собрания восходили еще к гомеровским погребальным играм в честь погибших героев, хотя такое мнение об их происхождении и вызывает споры. Достигнув стадии зрелости, эти игры удостоились красноречивой похвалы Платона, отмечавшего, что «на таких празднествах с помощью богов» все участники могут «исправить недостатки воспитания»43. Между тем их роль в объединении, или сплочении, греческого мира была достаточно противоречивой. С одной стороны, их панэллинский характер отчасти противостоял разобщенности отдельных полисов. С другой же стороны, соревнование, составлявшее суть этих регулярно проводившихся игр, воплощало высший образец того неутомимого соперничества, которое и удерживало эти государства порознь. И тот же самый дух состязательности (άγων) порождал обильный поток произведений искусства, которые посвящали различные города и отдельные дарители со всего греческого мира богам в различных храмах — особенно Зевсу в Олимпии и Гере на Самосе. Начиная с VIII века до н. э. среди этих посвятительных предметов появляются огромные бронзовые котлы двух видов, вдохновленные сирийскими изделиями, — пышные и монументализированные подобья домашней утвари, отделанные украшениями, явно предвосхищавшими будущую скульптуру44.
Наряду с почитанием олимпийских богов существовало множество прочих, более «народных» культов, зачастую носивших местный или территориальный характер и подчеркивавших особенности каждого полиса. Такие культы были посвящены героям (ρωες), вышедшим из местной среды, знаменитым умершим обоего пола — историческим или легендарным, — и чаще всего сосредоточены вокруг их действительных или мнимых захоронений45. Практиковались к тому же экстатические и хтонические (посвященные подземным силам плодородия) обряды: таковы, например, культ Диониса (занесенный из Фракии) и сокровенные таинства, или мистерии, Деметры (справлявшиеся в Элевсине). На исходе раннего периода такие «хтонические» культы обрели множество приверженцев. Их привлекало спасение в загробной жизни, которое приносило исступление при мистическом посвящении в обряды культа — исступление, которого было начисто лишено призрачное бытие, или, скорее, небытие теней в подземном царстве, описанное, например у Гомера46
В Элевсине жреческие обязанности вначале были прерогативой знатных родов и передавались по наследству, но ни там, ни в других местах «профессионального» жреческого сословия не существовало47. Ибо, несмотря на вездесущее могущество греческой религии, сколько-нибудь близких аналогов Церкви либо канона правоверия у греков не было и в помине. Это становится ясно хотя бы из путаности, пестроты и противоречивости греческих мифов. Они были столь же вездесущи и имели великое множество истоков и назначений, так что ни единый подход к ним, ни всеохватное истолкование попросту неприемлемы. Взывая одновременно к рассудку, чувствам и воображению, мифы воплощают нечто, ускользающее от нашего понимания. Их целью было объяснение природных и общественных явлений. Они отражали народные предания. Они оправдывали обряды — или оправдывались ими. Они служили и прославлению отечества, возвеличивая тот или иной город или правившую в нем знать.
А иногда они просто повествовали о чем-нибудь. Повествования в духе Гомера, рисовавшие яркие, но малопочтительные картины из жизни богов, предоставляли более поздним поколениям простор для рационалистических толкований. Но невзирая на такие ухищрения рассудка, большинство мифов — даже если в них нельзя было усмотреть исторической «правды» — навсегда оставались в людской памяти. Более того: наперекор разуму, к ним продолжали относиться серьезно. Мифология греков — живое свидетельство их веры в то, что самым важным и завораживающим предметом исследования являются деяния человека и человекоподобных существ, — обладает неизмеримой глубиной и богатством и поныне остается одним из удивительнейших творений людской фантазии.
Но тем временем в прочих отношениях жизнь греков продолжала меняться. Особенно заметно это было, например, в области политики. Ибо довольно скоро повсюду (за исключением социально отсталых регионов вроде Фессалии) прежние способы правления, при которых горстка евпатридов наследовала власть единственно в силу своего благородного происхождения, — прекратили существование. В разных городах это происходило по-разному, но в многочисленных приморских государствах аристократические режимы были свергнуты сильными личностями, которых греки именовали «тиранами» и которых мы здесь назовем диктаторами.
Слово τύραννος, вероятно, финикийского происхождения (родственное древнееврейскому serari), насколько нам известно, было впервые употреблено поэтом Архилохом Паросским в отношении негреческого властелина — лидийского царя Ги-геса (ок. 685–657 гг. до н. э.; см. Приложение I)48. Гигес, силой ниспровергнув существовавшее правление, сам единолично захватил власть: именно такого узурпатора обозначало в греческих землях понятие τύραννος. Ибо и в греческих полисах диктаторы обычно приходили к власти таким путем: каждый из них силой вмешивался в местную политику и единолично завладевал верховным могуществом.
Из всех наиболее важных греческих полисов лишь Спарте и Эгине удалось избежать диктаторского правления. Возможно, впервые подобные режимы появились в Ионии (под влиянием событий в соседней Лидии). Но данные касательно этого не вполне внятны, так что не исключено, что первый диктатор, напротив, объявился в Балканской Греции. Может быть, им оказался правитель Аргоса — города, сохранявшего главенство в Пелопоннесе на протяжении всего древнейшего периода греческой истории. Этого властителя звали Фидон. О времени его правления велось много споров; но воцарился он, как ныне достоверно установлено, не раньше 675 г. до н. э. (прежде нередко называлась чересчур ранняя дата). Однако он не совсем вписывается в привычное определение «тирана» или диктатора, так как, согласно Аристотелю, он «достиг тирании на основе царской власти»49. Иными словами, он был не узурпатором из числа знати и не низкородным выскочкой, подобно другим, позднейшим, тиранам, но баси-левсом, или басилеем (βασιλεύς) — государем, унаследовавшим власть, — превысившим дозволенные законом полномочия.
Легче укладываются в данное определение такие тираны-диктаторы, как Кипсел Коринфский, Орфагор Сикионский, Поликрат Самосский, Фрасибул Милетский, Фаларид Акра-гантский и Гиппократ Геланский. Все они низвергли прежнее аристократическое правление и самовольно воцарились в этих городах, диктуя их гражданам собственные условия. Имея частично — или полностью — знатное происхождение, они по возможности привлекали на свою сторону инакомыслящих или обделенных привилегиями аристократов. Кроме того, они заручались поддержкой не совсем знатных, но достаточно богатых гоплитов (они уже существовали в ту пору, хотя тактика сражения в фаланге, возможно, еще не была окончательно разработана). Несомненно, многие из гоплитов полагали, что при сохранении старого аристократического правления отведенная им роль военного костяка государства не предоставит им той меры политического влияния, какой они заслуживают.
Как правило, диктаторы, побуждаемые честолюбием, заводили связи с иноземными государствами, вступали с ними в союзы и заключали междинастические браки, стремясь укрепить собственный флот (этот процесс достиг вершины при Поликрате), а тем самым и расширить торговлю. Купеческой деятельности благоприятствовала и активная чеканка монет — превращение бесформенных комочков металла в плоские кружки, обладавшие установленным весом и оттиснутым изображением — сперва только с одной стороны (в другую просто вдавливали грубую отметину), а позднее и с обеих сторон. Вначале монеты делались из электра (бледного золота), а затем из серебра50.
Милет при Фрасибуле (ок. 600 г. до н. э.) — или незадолго до его пришествия к власти, — а вскоре и Эфес, Кизик, Ми-тилена и Фокея заимствовали из Лидии идею чеканки и принялись чеканить собственные монеты. Первенство в этом принадлежало именно лидийцам, хотя возможно, что они отчасти опирались на пример и систему весов Ассирии и Двуречья. Целью чеканки монет было облегчение выплат из царской казны (например, для содержания наемных войск, строительства кораблей и зданий), а также поступлений в казну (арендаторская плата, подати, пени). Греческие города, начиная выпускать собственные монеты, руководствовались сходными соображениями. Как уже упоминалось выше, изобретение оказалось незаменимым для обмена и торговли. Правда, в этой области помехой было отсутствие «мелких» монет. К тому же и в мерах царил разнобой: в каждом городе чеканка велась согласно собственным весовым стандартам. Это породило безнадежную путаницу в расчетах между городами. Однако со временем, в силу острой необходимости, во всем греческом мире остались две основные системы мер — эгинская и эвбейско-аттическая (основанные соответственно на месопотамских и сирийских мерах). В дальнейшем предпринимались попытки «примирения» и соотнесения между собой этих двух систем: появилось понятие мины — р\ю (1/60 таланта). Мина весила 425 г, что составляло 70 эгинских и 100 афинских (а также 150 коринфских) драхм. Тем не менее оставались бесчисленные местные сложности и несообразия, так что большинство монет, по крайней мере на первых порах, имели хождение лишь «дома».
Вместе с тем изобретение чеканки, заимствованное греками у лидийцев, постепенно приобрело огромное значение. И совершенно очевидно, что развивать скрытые возможности этого нововведения первыми взялись именно диктаторы различных полисов, прекрасно сознававшие, какими политическими и гражданскими выгодами чревато обладание собственным монетным двором и как можно эти выгоды усугубить, наняв талантливых чеканщиков (об их работе будет подробнее сказано ниже).
В дальнейшем диктаторы, переняв опыт предшественников-аристократов, принялись тратиться на возведение общественных зданий, на отправление государственных культов и пышные празднества, оставив за собой право покровительствовать искусствам и тем самым уменьшив роль былых церемониальных традиций, покоившихся на древних семейно-родовых связях.
А чтобы такие большие траты стали возможны, они ввели налоги на продажу земли и урожая, а также ряд портовых сборов. Разумеется, новые подати едва ли могли вызвать одобрение граждан, но вместе с тем известно, что Кипсел и Орфагор, диктаторы Коринфа и Сикиона, упрочили свою политическую власть, выказывая дружественное поощрение додорийской части населения. При этом они намеренно стремились сохранить прежние законы в неприкосновенности.
Их сыновья — Периандр и Клисфен соответственно — правили еще успешнее отцов. Но впоследствии (то же самое происходило и в других городах) власть подобных диктаторов, обособленная в силу своей незаконности, становилась крайне подозрительной, падкой на жестокости и вызывала народную ненависть. Так само понятие «тиран» уже в древние времена приобрело тот бранный оттенок, что оно сохраняет поныне. Везде эти режимы постепенно пали — кроме Сицилии, где они то и дело вновь возникали ввиду политической неустойчивости, и Малой Азии, где местное автократическое правление позднее оказалось на руку персидским владыкам.
В прочих краях греческого мира, хотя дела и обстояли по-своему в каждом городе, диктаторское правление чаще всего уступало место олигархии — то есть «власти немногих». Критерием для этих новых правителей отныне было уже не происхождение (хотя, вне всякого сомнения, и знатным людям нашлось среди них место — вопреки сетованиям Феогнида Мегарского на попрание их богоданных прав), а достаточная доля богатства, первоначально определявшаяся в понятиях земельной собственности, теперь же благодаря недавно введенной в обращение и чрезвычайно удобной денежной системе. Как мы видели, еще до наступления диктаторских времен аристократическим правительствам городов приходилось считаться как с теми, кто был обязан своим положением происхождению, так и с теми, кто возвысился благодаря богатству. С исчезновением диктаторов мало где продолжали существовать аристократические режимы, опиравшиеся единственно на благородство происхождения. Исключение составляли отсталые области вроде Фессалии — и Спарта, где наблюдался совершенно особый случай: там правление сочетало в себе черты различных типов государственного строя. Сохраняя такое любопытное и весьма действенное равновесие, спартанцам удалось перехватить у Аргоса главенство надо всем Пелопоннесом.
Итак, для тех городов, которые прошли стадию диктаторского правления, можно установить (пусть прибегая к излишнему упрощению) последовательную смену политических систем: аристократия — диктатура — олигархия. Если фаза диктатуры отсутствовала, то аристократия напрямую сменялась олигархией. Как первая, так и последняя форма правления избрала своей целью идеал эвномии («благозакония») — за-конопочитания и поддержания гармоничной целостности, где каждый знает свое место. Олигархические правительства возглавляли гражданские органы с ограниченным числом представителей, часто приравнивавшиеся к гоплитам и отождествлявшиеся с ними. Порой, подобно своим знатным предшественникам, они устраивали собрания, но им не принадлежал решающий голос, так как главенство оставалось за «немногими». А в некоторых городах такие собрания и вовсе были отменены.
Но такое пренебрежение народным представительством наблюдалось далеко не повсеместно; к тому же положение менялось в лучшую сторону. Например, в некоторых государствах народные элементы — в частности, наименее знатные гоплиты объединялись с олигархами для свержения диктатур. Со временем во многих городах эти гоплиты и отобрали власть у олигархов, учредив взамен ту или иную форму демократии. Ее важнейшим элементом было народное собрание, куда входила гораздо булыная, нежели прежде, доля мужского населения. И этим людям предстояло в течение жизни добиваться для себя должной меры политической власти. В таких демократически настроенных государствах, в противовес эвномии (ευνομία), идеалом провозглашалась исоно-мия (Ισονομία) — «равнозаконие», то есть равенство людей перед законом.
Спарта являлась демократией в том смысле, что ее жители-мужчины (за исключением илотов, рабов и периэков) были равноправны (δμοιοι). Надпись на Хиосе, датированная серединой VI века до н. э., где был особо упомянут δάμος (δήμος, народ), заставляет предположить, что на острове происходило в ту пору нечто похожее. Но настоящий шаг вперед был сделан чуть позже в Афинах. Там незадолго до 500 г. до н. э. Клисфен, опиравшийся на реформы Солона, в начале века уже отменившего унизительное долговое рабство, — по-видимому, провел новые реформы (насколько можно судить по позднейшим спорным сведениям), которые составили костяк будущей знаменитой афинской демократии.
Города-государства Сицилии, как мы уже отмечали, составляли исключение, так как в силу неизбывных внутренних смут здесь продолжали властвовать диктаторы. Однако и большинство других греческих городов, хотя там и не возобновлялись диктатуры, также долгое время оставались весьма подвержены внутренним политическим распрям: между олигархами и демократами, между привилегированными и обделенными, между богачами и бедняками. У греков для таких смут существовало слово στάσις («раздор»), обозначавшее любое несогласие — от законных расхождений во мнениях касательно общественных дел до жестоких кровопролитных усобиц. Особенно часты были раздоры в колониях, где, например, случались распри между родами коренных жителей и позднейших поселенцев51. Классическое определение стасиса принадлежит Фукидиду, описывавшему ужасные потрясения на Керкире в начале 420-х гг. до н. э.52 Между тем, если бы мы располагали необходимыми сведениями, мы бы несомненно обнаружили, что точно такие же условия наблюдались и на Керкире, и в других местах, веком или двумя ранее; зафиксированы они и в Мегарах. Сам полис являл собой блестящую выдумку и таил в себе множество других блестящих выдумок, но в конечном счете он был обречен на неудачу из-за губительного сочетания внутренних στάσεις с постоянными угрозами извне, исходившими от соседей-греков.
На VII век до н. э. выпали важнейшие греческие достижения в области зодчества и ваяния. Греки заимствовали представление о монументальном каменном зодчестве у египтян; некоторые греки имели возможность воочию увидеть их творения в Навкратисе и других городах Египта еще на исходе предыдущего столетия. Но, по своему обыкновению, греки подвергли чужую идею основательным изменениям. Отчасти прототипом для новой архитектуры послужили деревянные микенские постройки и залы (мегароны — μέγαρα), от которых в ту пору еще оставалось довольно много следов.
Древнейшие из храмов, которые почти повсюду стали возводить в эту пору, находятся в Коринфе (где ок. 720 г. до н. э. появились первые образцы «ориентализирующей» керамики) и в землях, испытывавших влияние Коринфа. Эти сооружения принадлежат, согласно позднейшей терминологии, к дорическому архитектурному ордеру. В дорическом стиле массивные стволы колонн с желобками- каннелюрами лишены базы, а венчающие их капители состоят из двух элементов: круглой подушки — эхина и лежащей на ней квадратной плиты — абаки. На капитель опирается антаблемент из трех частей: над гладким горизонтальным архитравом располагается фриз, состоящий из триглифов (плит, разделенных натрое вертикальными врезами), чередующихся с метопами (квадратными полями, помещенными чуть глубже выступающих пластинок триглифов и часто украшенными скульптурными рельефами). Антаблемент завершает покатый карниз, а с обеих сторон двускатной кровли располагаются треугольные фронтоны, заключенные между карнизом и фризом и также предоставлявшие простор для фантазии ваятелей.
Дорический ордер прекрасно выявляет греческое чувство ритма. Его горизонтальные и вертикальные линии плавно вписывают здания в окружающий пейзаж, так что глаз скользит ввысь и создает ощущение громады, которая величественно отделяется от земли, но вместе с тем не воспаряет к небесам и не пытается, подобно готическим соборам, преодолеть закон тяготения. Эти четкие очертания и сверкающие острые углы, оттененные раскрашенными деталями, были плодом живейшего ума; позднее это же стремление к выверенной красоте породило ряд «усовершенствований» — едва заметных изгибов, отклонений, выпуклостей, вызванных огь тическими и эстетическими требованиями (кроме того, спо-собствовавших большей устойчивости и лучшему стоку). Начиная приблизительно с 600 г. до н. э., все храмы строятся целиком из камня (чтобы крепче держалась тяжелая кровля), а с VI века до н. э. входит в широкое употребление мрамор. Прекраснейшие дорические храмы были настоящими шедеврами вкуса, соразмерности, образцовой симметрии, величавости, спокойствия и мощи.
Почти одновременно появился ионический ордер, главным образом на малоазийском побережье и ближайших к нему островах. Ярчайшим примером этого стиля служили храм Геры на Самосе и храм Артемиды в Эфесе, намного превосходившие размерами все прежние культовые постройки. Эти огромные сооружения с лесом колонн, напоминавших египетские, свидетельствовали о том, что полисы (ибо эти крупные сооружения возводились на общественные, а не частные средства) тратились на строительство греческих храмов больше, нежели на какие-либо другие цели, за исключением войн.
Ионический ордер, свободный и еще не скованный стилистическими канонами, отличался от дорического легкостью пропорций и усложненностью декоративных элементов. Число каннелюр на стволе колонны было несколько больше, и сами желобки чуть глубже врезаны. Каждая колонна покоилась на базе. Ионическая капитель 53 древнейшие разновидности которой пришли из Смирны и Фокеи, имели по обеим сторонам спиральные завитки, или волюты (такая декоративная обработка, со значительными усовершенствованиями, родилась из ближневосточных и, в частности, финикийских орнаментов). Поверх капители покоился трехпоясный архитрав, над которым тянулся скульптурный орнамент из ов и язычков, а еще выше — ряд дентикул (небольших выступающих блоков в форме зубчиков). Нередко и здесь встречался скульптурный (зофорный) фриз, только, в отличие от череды триглифов и метоп дорического ордера, он был ленточным, то есть сплошным.
Такие фризы и горельефы, заполнявшие храмовые фронтоны, являли собой высочайшие образцы творчества раннегреческих ваятелей, обнаруживавшие их тесное взаимодействие с зодчими. Но одновременно повсюду стала быстро развиваться монументальная круглая скульптура, не связанная с архитектурой. Она пришла на смену так называемым "дедаловским" статуэткам, отчасти и вызвавшим ее к жизни. Это были мелкие, главным образом женские фигурки с похожими на парик волосами. Такая пластика, из всевозможных материалов, имела хождение во всех греческих землях начиная с первой или второй четверти VII века до н. э… Эти скульпторы "дедатнды" вдохновлялись финикийскими и сирийскими терракотовыми статуэтками, вероятно, впервые оказавшими влияние на критских мастеров: по преданию, работавший на Крите ваятель Дедал передал свое искусство двум даровитым ученикам — Дипэну и Скиллиду, которые потом перебрались в Сикион.
Однако важнейшим из факторов, благодаря которым возникла новая монументальная скульптура, вероятно, следует считать (хотя некоторые и оспаривают такую точку зрения) египетское влияние, прежде уже ускорившее появление греческого монументального зодчества. По-видимому, первые массивные статуи были изваяны незадолго до 650 г. до н. э. на островах Наксос и Парос Кикладского архипелага, где имелся в избытке мрамор, — хотя давняя традиция ваяния существовала и на Самосе, да и в других местах.
Главным предметом изображения в этом новом искусстве стал обнаженный юноша (κούρος). Это отражало греческую повседневность, потому что мужчины действительно часто ходили нагими. Такие куросы (κούροι), служившие могильными памятниками, или вотивными приношениями, или культовыми изваяниями, изображали бога Аполлона или его служителей. Прежде всего ваятели стремились воспроизвести ослепительную красоту юного мужского тела, придав ей обобщенные и нетленные черты. На протяжении VI века до н. э. в искусство скульптуры неуклонно движение вперед. Ибо, при всей своей обобщенности, во всех уголках греческого мира эти изваяния отражали непрестанное стремление к реалистическому жизнеподобию, — звуча отдаленным эхом тех идеалов, которыми вдохновлялись и творцы эпохи Возрождения, и последующие поколения художников вплоть до Пикассо. И вместе с тем, даже в период наивысшего развития этого течения, ок. 525–500 г. до н. э. этих куросов непременно отделял хотя бы шаг-другой от настоящего натурализма. И не оттого, что скульпторы не умели совладать со сложностями анатомического строения (ибо по большей части это им удавалось, хотя их поиски окончательно увенчались успехом только в следующем столетии), а оттого, что, изображая человеческое, мужское, тело, они стремились не столько передать точное, «фотографическое», сходство, сколько выразить некий отвлеченный идеал.
Во множестве городов создавались и статуи девушек (κόραν). Коры предназначались скорее для святилищ, нежели для могил, и изображали богинь либо их прислужниц. Возможно, девушки посвящали свои изваяния храмам после того, как оставляли жреческие обязанности и выходили замуж. В рамках установленных канонов эти женские изображения претерпевали столь же явственные изменения, что и мужские. Если в случае мужских фигур главное внимание уделялось трактовке тела, то здесь резец мастера сосредотачивался на плавно ниспадавших линиях и струящихся складках драпировки, окутывавшей женскую фигуру. Вначале это было простое длинное платье из шерсти, унаследованное от искусства «дедалидов», но затем на смену ему пришел (к тому же расцвеченный красками) пеплос (πέπλος) — просторное шерстяное одеяние, надевавшееся поверх хитона — χιτών (рубашки). Все эти изваяния со знаменитой «архаической улыбкой» отличаются необыкновенным изяществом, которое объясняется наплывом в Афины и прочие места ионийских художников, чьи родные города подвергались в ту пору угрозам и нападениям со стороны персов. Но в этой, как и в других областях греческого искусства так называемая «архаическая» манера приблизительно к 500 г. до н. э. начала постепенно приобретать «классические», то есть не столь стилизованные, формы.
Между тем продолжали появляться великолепные рельефы. Кроме того, было достигнуто высочайшее мастерство в резьбе по геммам и чеканке монет. Изысканные резные геммы находили спрос, пожалуй, лишь среди высших сословий, так что они создавались в ограниченном количестве54. Зато монеты (см. выше, а также примечание 50) очень быстро распространились во множестве: города словно состязались между собой, пытаясь превзойти друг друга красотой и четкостью чеканки. Иногда на монетах изображали покровительствующее божество или местного героя: например, в Книде — Афродиту, в сицилийском Наксосе — Диониса, в Сиракузах — Аретусу, в Таренте — мифического основателя города Таранта или Фаланта, в Афинах — Афину, а в Посейдонии и Потидее — Посейдона. Или вместо самой священной фигуры выбивалась олицетворявшая ее эмблема — например, черепаха (посвященная Афродите) на Эгине, Пегас (крылатый конь Беллерофонта) в Коринфе, сова в Афинах.
В ряде случаев монету украшал знак или символ самого полиса. Нередко это было изображение того, чем славился этот город: сильфий в Кирене, баран в Саламине на Кипре, ячменный колос, бык и дельфин в южно-италийских городах Метапонте, Сибарисе и Таренте55, или виноград и кувшин для вина на двух кикладских островах — Пепаретосе и Наксосе. На другом изобильном вином острове, Фасосе, предпочитали изображать возбужденного сатира (уродливое существо из свиты Диониса), похищающего нимфу. Иногда городской герб отражал словесную игру: например, тюлень (<рсокт|) в Фокее, петух (т'рёра, «день») в Гимере, роза (ро5оу) в Камире и Полисе на Родосе. Иные эмблемы принадлежали знатным родам или отдельным людям: по-видимому, они удостоверяли подлинность монет на раннем этапе чеканки в Эфесе (примечание 50), или, может быть, выбивались на монетах по почину государства, желавшего польстить владельцам этих эмблем (Глава II, раздел 4). В Херсонесе Фракийском (Галлипольский полуостров) Мильтиад Старший изображал колесницу, запряженную четверкой коней, в память о своей победе на Олимпийских играх.
Другое величайшее достижение VI века до н. э. произошло в вазописи. Прежде первенство в этом искусстве оставалось за коринфянами, но решающий рывок суждено было сделать Афинам, — и оно пережило удивительно яркое, мощное и стремительное развитие. На первую половину столетия пришелся наивысший взлет двухцветного чернофигурного стиля. Рисунок наносился на красновато-бурую глину темной краской, а позднее — блестящим черным лаком (поливой). Детали процарапывались по поверхности. Отвлеченный декоративный орнамент, игравший столь важную роль в ранней вазописи, здесь заметно отступил на второй план: основная часть сосуда отныне была покрыта повествовательными сценами, зачастую мифологического свойства.
Афинская чернофигурная керамика вошла в широкое употребление, а появление новой техники приблизительно ок. 530 г. до н. э. способствовало еще большему ее распространению. Этим новшеством стал краснофигурный метод, являвшийся словно «негативом» чернофигурного: отныне основной узор сохранял естественный цвет поверхности, а фон, напротив, заливался черным лаком. Внутренняя разметка больше не процарапывалась, а наносилась тонкими линиями и покрывалась глазурью. Такой стиль оставлял вазописцам большую свободу. Однако и они, подобно скульпторам, не доходили до крайней степени натурализма, накладывавшего довольно сильный отпечаток на вазопись позднейших эпох. Зато они добились мастерства в изображении оживленнейших движений, а начиная с середины VI века до н. э. некоторые художники стали экспериментировать с уменьшенным ракурсом: сначала подобные опыты ограничивались неодушевленными предметами, так как считалось, что героям гораздо больше подходит двухмерное изображение. Вазописцы и чернофигурного, и раннего краснофигурного стилей достигали такой художественной мощи и трогательной красоты, которые впоследствии остались недостижимыми для смешанного стиля, вобравшего черты их обоих.
В то время как искусство претерпевало столь бурный рост, у греков развивалось рационалистичное и научное мышление. Ряд выдающихся мыслителей не самым удачным образом оказался впоследствии объединен определением «философы-до-сократики». Но все они были одновременно чем-то меньшим и чем-то большим, чем философы — в том смысле слова, который сегодня в ходу у нас. Меньшим — так как они еще не до конца выбрались из пут древнейших мифологических представлений о мироздании, — хотя, несомненно под влиянием Гомера, хладнокровно «обличавшего» богов, в этом они совершили большой шаг вперед, заявив, что каждый человек, невзирая на свою зависимость от этих богов, является самостоятельным существом, чьи поступки определяются единственно его собственной волей (век спустя эта мысль словно магнитом притягивала трагических поэтов). Правда, их рассуждения все еще оставались за пределами «философии». В то же время досократики были чем-то большим, нежели философы, так как они брались за объяснение необъятного круга явлений, которые ныне являются предметом не философии, а той или иной науки.
Первые из этих мыслителей — Фалес, Анаксимандр и Анаксимен из Милета — стремились понять, откуда взялись вселенная и мир и из чего они состоят. Пустившись в эти поиски (Фалес размышлял устно, а оба его преемника оставили прозаические записи, что само по себе стало поворотным шагом, породившим новые, более строгие и аналитич-ные способы выражения мысли), они сделали огромный шаг вперед для становления логического рассуждения, так что его родиной по праву можно считать Ионию.
Два других ионийца покинули Ионию, спасаясь от угрозы персидского завоевания; следовательно, о них в этой книге будет говориться в связи с западом, где они поселились (Глава VII, разделы 2 и 4). Один из них, Ксенофан Коло-фонский, оставил стихи, в которых беспощадно высмеивал антропоморфную картину жизни богов, изображенную у Гомера и Гесиода. Другой, Пифагор Самосский, совмещал в себе математика-первопроходца, врача и главу религиозного сообщества, которое обрело огромное влияние в городе Кротоне. Он и еще один иониец, живший позже, — Гераклит Эфесский (автор прозаического трактата), — первыми сместили центр внимания с вселенского макрокосма на микрокосм человеческой души. Они приписывали существование и развитие как макро-, так и микрокосма борению противоположностей. В следующем столетии такой двойственности был резко противопоставлен «монизм» Парменида Элейского, считавшего мир единой, нераздельной и нетленной сущностью. Согласно его парадоксальному взгляду, представляющегося разнообразия в действительности не существует вовсе.
Каждый из этих мыслителей, по очереди бравшихся за критику предшественников (вполне в агонистическом духе, свойственном грекам), желал соотнести единичный случай с общей закономерностью. В то же время, при всей остроте поставленных ими вопросов и внятности их доводов, они продвинулись главным образом в теоретической, нежели практической науке. Все эти мыслители стремились постичь человека и природу отвлеченно. Некоторые из них к тому же оказывались проницательными наблюдателями природных явлений, но таких было немного. Греческая наука потому мешкала с развитием, что эмпирическим наблюдениям, в целом, долгое время не придавали значения.
Тем не менее в VI веке до н. э. достижения греков в самых разных областях были ошеломительны. Им удалось достичь столь многого благодаря досугу. Следовательно, греки видели для себя идеал именно в досужей праздности, и хотя презрение Платона и Аристотеля к физическому труду разделяли отнюдь не все (представляется сомнительным, чтобы с ними согласился Солон), все же, если греку, чтобы жить безбедно, приходилось работать, — он вызывал некоторую жалость у других и у самого себя. Ибо понятие о «труде ради труда», или о самом ремесле как о рыночном товаре, который можно выгодно продать, древним грекам было чуждо. Поэтому столь важным представлялся досуг, который, по словам Аристотеля, «должен быть предпочтён деятельности»57.
Но если уж работать приходится, говорил он же в другом месте, то хуже всего — работать на кого-то, так как «свободному человеку не свойственно жить в зависимости от других»58. Эта мысль не была нова, потому что еще в Одиссее тень Ахилла называет худшей земной долей участь поденщика (е^1<;), вынужденного добывать свой хлеб службой у пахаря59. Тем не менее вплоть до 500 г. до н. э. таких бедных и презираемых, но свободных работников, бравшихся за грубый труд, насчитывалось больше, нежели рабов.
Однако численность рабов, пусть вначале их было немного или (согласно одному античному источнику) не было вовсе, на протяжении этого раннего периода постепенно росла. Все предшествующие государства были в той или иной степени рабовладельческими; так же обстояло и с греками60. Правда, рабы всегда играли лишь вспомогательную роль в греческом хозяйстве (свободные бедняки видели в них скорее своих сотоварищей по труду), но грекам пришлось бы тяжко без них. Рабы были собственностью хозяина, подобно орудиям, — если не считать того, что они могли и внушить страх. С ними не обязательно было хорошо обращаться; разумеется, о хорошем обращении и речи не шло на серебряных рудниках в Лаврионе, принадлежавших Афинам и считавшихся самым «каторжным» и гиблым местом во всей Аттике. Но в целом представлялось разумным заботиться о рабах: ведь глупо было бы портить собственные орудия.
Античные авторы, которым были по душе полярные противоположности, предпочитали просто разделять всех людей на свободных и рабов. Это как будто заставляло их забывать о существовании разных прочих категорий людей, не принадлежавших к числу граждан, — людей, занимавших промежуточное положение между гражданами и рабами. Например, в Афинах и других городах жили метэки (цётоисоц теша, поселенцы-чужаки), принимавшие большое участие в делах общины, игравшие важную роль в ремеслах, торговле, но не обладавшие гражданским статусом.
В Спарте же, как и во многих других местах, существовала еще одна категория жителей, носивших название периэков (7сер1оисо1, репоес1)у буквально «окрестных обитателей»61. Они жили в собственных городках и деревушках, но трудились на благо полиса и гоже па равные лады за и торговлей. Но и они были лишены и подвластной Спарте Лаконии, а также а ынимались ремеслами политических при». В и ряде других греческих областей (под другими именами), существовали Нередко они были потомками коренных жителей. Они были не рабами в полном смысле слова, а чем-то вроде государственных крепостных, и следе гиен по, зачастую таили весьма разрушительную силу.
Однако самой многочисленной частью населения греческих полисов, исключенной из политической жизни, были женщины. Какие-либо обобщения на сей счет практически невозможны — во-первых, потому что единственные свидетельства о них дошли до нас исключительно из «мужских» источников; а во-вторых (коль скоро мы располагаем хоть какими-нибудь сведениями), пегому что положение женщин чрезвычайно разнилось от одного греческого полиса к другому.
На западном побережье Малой Азии и соседних островах уже в глубокой древности можно различить намеки на изрядное женское влияние, впоследствии значительно ослабшее. Гомеровские женщины, чьи образы явно отражали действительность той эпохи (хотя здесь нет места твердой уверенности — Глава V, раздел 5), пусть и не принимают в самом деле важнейших решений, зато играют весомую второстепенную роль в описываемых событиях. Но позже поэзия Сапфо (р. ок. 612 г. до н. э.) рассказывает о существовании на Лесбосе женского общества, пользовавшегося упоительной свободой в жизни и самостоятельностью в чувствах. Но даже на островах бытовало совершенно иное отношение к женщинам, живое свидетельство чему — безудержное злословие Семонида Аморгского (происходившего с Самоса — Глава V, раздел 1). А в Балканской Греции провозвестником будущих нравов стал Гесиод, испытывавший перед женщинами панический страх, который сквозит в мифе о Пандоре).
Для более позднего периода некоторые обобщения становятся возможными, хотя и здесь мы вынуждены полагаться большей частью на афинские свидетельства (а в Афинах женщины пользовались, по-видимому, меньшей свободой, чем почти во всех других греческих землях). Следует отметить, что Спарта и Крит являли более благоприятную картину, а в Кирене в конце VI века до н. э. женщина по имени Феретима даже стала диктатором — предтечей цариц эллинистической эпохи. И все же до наступления этой эпохи женщины, как правило, не обладали гражданством своих полисов, не занимали государственных должностей и были напрочь отлучены от политической деятельности. К тому же им не разрешалось заправлять собственными делами, и по закону каждая женщина находилась под опекой какого-либо мужчины. Не имели женщины и законного права распоряжаться своим имуществом. Разумеется, семейные привязанности были достаточно крепки, как и везде (чему свидетели — надгробные памятники), и было бы нелепо отрицать, что женщины оставались незаменимы во всякого рода домашних делах. Геродот же не боится зайти дальше, пусть косвенно, но все настойчивей подчеркивая женскую роль — наравне с мужской — в учреждении и сохранении общественного порядка.
Однако, как и во многих других отношениях, такой взгляд скорее представлял исключение из правил. Куда более расхожей была позиция Гесиода и Семонида. Бесчисленные литературные произведения греков обнаруживают их жгучую ненависть к женщинам — а вернее сказать, отражают глубоко затаенный страх перед женщинами и перед тем, что они способны натворить. Ибо в этом обществе, где власть оставалась исключительно мужским уделом, где бытовал обширный сексуальный лексикон, а во время празднеств царила преувеличенная непристойность, существовал своего рода любопытный «апартеид» сексуального свойства. Невзирая на то, что женщины были необходимы для продолжения рода, в мужском сознании они служили воплощением таинственной, грозной, нечистой, «чуждой» стихии. Греков не покидали опасения, что эта временно укрощенная стихия вдруг взбунтуется и вырвется прочь из положенных ей пределов.
Такова была подоплека мощных и драматичных женских образов в греческой мифологии и литературе, где нередко изображены картины, любопытным образом противопоставленные подлинному ограниченному положению женщин в греческой жизни. Такова, например, подоплека мифа о воинственных амазонках, комического перевертывания половых ролей в аттической комедии, а также женских трагедийных персонажей — жутких, жестоких, ведомых злым роком. Трагедия Еврипида Вакханки получила название от прозвища менад, растерзавших царя Пенфея, — служительниц бога Диониса.
Последняя роль напоминает нам: религия была единственной сферой общественной жизни, куда женщинам не был закрыт доступ. Им даже позволялось совершать собственные обряды — например, Тесмофории, — где их участие носило главенствующий и исключительный характер (особенно подчеркивались их силы плодородия). Ибо признавалось, что всем божествам присуща дикая, мрачная, неукротимая сторона — столь резко противопоставленная упорядоченной мужской культуре в «правильной» греческой цивилизации. Поэтому женщины казались существами, наиболее подходящими для служения этой оборотной стороне божественного мира, объятого распадом и хаосом, где привычные закономерности бессильны. Собственно, так же греки судили и о браке — как об укрощении дикого, неуправляемого, в основе своей не подвластного разуму женского начала. Поэтому на многих греческих вазах с изображением свадебного шествия мужчина силой увлекает жену, крепко держа ее за руку: свадьба приравнена к своего рода символической смерти. К тому же после замужества женщина оказывалась словно между двумя домами — причем в обоих к ней могли не испытывать доверия. Ибо в большинстве греческих полисов женщина не имела голоса в делах, связанных с ее браком, — точно так же, как она была лишена прочих законных прав.
Крайний случай такого бесправия представляла девушка, у которой не было братьев. Если происходило такое несчастье — в семье не рождались сыновья, — то греки выдавали девушку замуж за ее ближайшего агнатического родственника, то есть родственника по отцовской линии, — в установленном порядке, по возможности начиная с брата ее отца. Подобную женщину, на которую, ввиду отсутствия брата, возлагалась ответственность за сохранение οικος — для следующего поколения, — в Афинах называли έπίκληρος — «прикрепленной к семейному имуществу» (от κλήρος — клер, надел). Солон предусмотрел особые законы на такой случай (Глава II, раздел 3).
Положение женщины-έπικληρος (несколько иное в Спарте и на Крите) лишь подчеркивает общее бесправие женщин, лишенных возможности устраивать собственную судьбу в браке. Правда, подобные меры свидетельствовали о том, какой ролью наделяло общество женщин: они должны были передавать имущество потомству и тем самым поддерживать семейное преемство, — но в то же время явно указывали на недоверие по отношению к женщинам, словно те были неспособны на самостоятельные поступки. Кроме того, греки настаивали на том, что невеста должна сохранять девство до брака. Поэтому от женщин ожидали раннего замужества — согласно литературным источникам, примерно в восемнадцать-девятнадцать лет (женихи были старше), хотя вполне можно допустить, что замуж выдавали и в шестнадцать лет, и значительно раньше.
Ввиду такого отношения к женщинам в греческом обществе наблюдалась куда бульшая наклонность к гомосексуализму, нежели, например, в нашем. Опять-таки в разных городах дело обстояло по-разному. Но все же и здесь можно предложить некоторые обобщения. В обществе, где женщины большей частью сидели дома, а мужчины проводили дни с другими мужчинами или юношами, занимаясь государственными делами, атлетическими упражнениями или войной — или на пиршествах (сгоцябакх) в чисто мужском кругу аристократических объединений (ётадре'юи), — однополые связи были неизбежны, причем, как правило, они были сильнее, глубже и сложнее, нежели любовные отношения мужчин с женщинами. В полисах, где сохранялся старомодный, «героический», общественный строй, — таких, как Спарта, Фивы, Элида и Тера, — подобные мужские «союзы» были делом привычным и порой даже признавались законом. Как мы уже отмечали, повсюду главным предметом изображения для художников оставалось обнаженное мужское тело.
Росписи на бесчисленных вазах позволяют сделать еще одно замечание: на педерастию взирали более благосклонно, чем на однополую связь между сверстниками. Первый тип отношений породил целую философию: в ее основе лежала мысль о том, что любящий является наставником, учителем и товарищем возлюбленного как в жизни, так и в делах войны и что он должен всеми силами завоевывать восхищение любимого. Позднее Платон устами участника одного из своих диалогов заявил, что могущественнейшим в мире войском было бы то, что состоит из влюбленных и их возлюбленных63, а в IV веке до н. э. такой «идеал» был осуществлен в Элиде и в Фиванском священном союзе64. Официальное отношение к акту однополой любви как таковому явно разнилось от места к месту, хотя зафиксированы случаи неодобрения содомии. Однако наиболее распространенное мнение гласило, что младший мужчина или юноша, возлюбленный, не должен выказывать любовного наслаждения: ему скорее подобает обороняться от знаков внимания и ласк влюбленного, принимая роль преследуемого, — наподобие того, как в «нормальных» любовных отношениях в наше время (хотя сегодня это уже кажется старомодным) девушке следует вначале разыграть сопротивление — по крайней мере, для вида. Согласно неписаным правилам однополой любви у древних греков, юноша мог в конце концов из чувства благодарности за заботу и услуги своего покровителя подарить влюбленному свою «благосклонность» — а это, безусловно, означало физическую близость. О женской однополой любви рассказывалось меньше, да и вазопись в этом отношении более скупа. Однако можно сказать, что попытки отрицать, что лесбийский кружок Сапфо чуждался физических радостей, представляются беспочвенными; к тому же подобное поведение упоминалось в Спарте и кое-где еще.
К концу описываемого в настоящей книге периода всему зданию политической, общественной, хозяйственной, научной и художественной жизни, столь виртуозно воздвигнутому греками, начала угрожать смертельная опасность, исходившая от могучей Персидской державы на востоке.
Завоевав Лидийское царство (в 546 г. до н. э.), персидский царь Кир II (Великий) тем самым «унаследовал» от лидийцев господство над греческими городами на малоазийском побережье и соседних островах. Затем Дарий I проник в Европу и присоединил к своим владениям Фракию \ок. 513–512 гг. до н. э.), лежавшую совсем вблизи греческих пределов. В 499–494 гг. до н. э. против него взбунтовались ионийские и другие города, — а два города, лежавшие значительно западнее, — Афины и Эретрия, — выслали им в помощь флот. Геродот был прав, полагая, что это сделало греко-персидские войны неизбежными65. Но эти столкновения находятся уже вне рассмотрения настоящей книги, задача которой — представить картину греческого мира до той эпохи, когда они разразились.
ЧАСТЬ II АФИНЫ
Глава 1. ДРЕВНИЕ АФИНЫ
Аттика представляет собой треугольный полуостров площадью около 2590 квадратных километров, что приблизительно равняется площади Дербишира или Люксембурга и несколько больше площади острова Родоса. Она образует восточную оконечность Средней Греции. От Мегариды (на западе) ее отделяет гора Керата, а от Беотии (на севере) — горы Парнеф и Киферон. С юго-востока границей Аттики служит Эгейское море, с востока — пролив Эврип (отделяющий материк от острова Эвбеи), с юга — Сароническим заливом. Эта южная оконечность завершается мысом Суний, который и дал Аттике ее первоначальное название — Акте, что означает полосу суши, вдающуюся в море. Вся территория Аттики четырьмя горными массивами — с запада на восток вытянулись Эгале-ос, Гимет, Пентеликон и Лаврион — разделена на три равнины: афинскую (πεδία, что значило просто «равнины»), центральную (μεσόγεια, то есть «внутренная страна») и Фриасийскую (с главным городом Элевсином — раздел 2).
Поля в Аттике вспахивали трижды в год, чтобы верхний слой почвы оставался рыхлым. И все же земля эта, по словам Платона, — лишь «скелет истощенного недугом тела»1, с проглядывающим каменистым остовом голых скал. Лишь четверть всей поверхности земли была пригодна для обработки, и со временем местному населению, необычайно многочисленному, пришлось ввозить из других областей огромное количество зерна, хотя в жаркий летний сезон глубокие корни винограда и олив могли питаться влагой из нижних слоев почвы. Невзирая на тяжкую борьбу с природой, землепашество стало одним из источников богатства Аттики. Другими же источниками стали добыча серебра (ранее — меди) на Лаврионе, мрамора — на Пентеликоне и глины — со дна реки Кефис. Главным же благоприятным фактором было географическое положение этой довольно большой области, зажатой между горными отрогами.
Область была густо заселена уже в позднем бронзовом веке, о чем свидетельствует множество археологических данных. В Афинах были обнаружены богатые гробницы XV и XIV веков до н. э., хотя они и уступают в величии аналогичным гробницам в Микенах и Фивах. В Илиаде, в знаменитом «каталоге» ахейских (греческих) кораблей, во многом отражающем подлинное положение вещей в бронзовом веке, упоминания удостоился лишь один аттический центр — Афины; вероятно, они держали в подчинении значительную часть Аттики. Город этот расположен в юго-восточной части равнины, в 4,8 км от моря.
Афиняне считали себя «автохтонными» (коренными) жителями. Их мифический царь Эрехтей будто бы приходился сыном самой Гее (Земле), и, по преданию, его воспитала Афина (в честь которой город получил имя), одолевшая в борьбе Посейдона. Правда, и его сын Тесей стал местночтимым героем. На обрывистом холме с афинской крепостью (Акрополе), в некотором удалении от моря (вне досягаемости пиратов — как и в Коринфе и в Аргосе), росла олива, будто бы посаженная Афиной в память о споре богов из-за города. Последнего «потомка» того самого дерева показывают и поныне.
Согласно принятым представлениям, дорийские завоеватели (Глава I и примечания 4–7) вторглись в Аттику, но не сумели захватить Афины. Вполне возможно, что дорийское присутствие в западной Аттике подтверждается недавним открытием: там были найдены одиночные цистовые захоронения — неглубокие могилы, выкопанные в земле и укрепленные изнутри каменными плитами, — которые в те неспокойные времена пришли на смену пышным и просторным усыпальницам прежней эпохи. Что же касается самих Афин, то, по-видимому, справедливым будет заключить, что крепость действительно выдержала натиск одной или нескольких вражеских волн, и те, получив отпор, были вынуждены обойти город стороной.
Ключом к смутам того периода может отчасти послужить то обстоятельство, что жилища на склонах Акрополя оказались заброшены, тогда как сама цитадель была явно укреплена новыми сооружениями, а кроме того, прямо в скале были высечены крутые ступени — для того, чтобы в случае осады у афинян имелся безопасный доступ к источнику воды (ок. 1225 г. до н. э.). Ходили рассказы о беженцах, спасавшихся от захватчиков и устремлявшихся в город, — главным образом, из Пилоса в Пелопоннесе, если верить поэту Мим-нерму, который заявлял, что они породнились с афинским царским родом и что сам он — один из потомков тех переселенцев2.
Но каково было происхождение этого царского дома, да и афинян вообще? На какой-то стадии они стали называть себя «ионянами»; этот этноним упоминается и в гомеровских поэмах. Однако ведутся споры о том, сколь широко расселились и рассредоточились эти люди по материку в позднем бронзовом веке. К тому же невозможно сколько-нибудь достоверно определить, откуда они явились, хотя они явно представляли собой сложное этническое смешение, по-види-мому, ставшую еще пестрей в результате переселения в Аттику.
«Афина» (АОт^уп) и «Афины» (’АОпусл) —; негреческие имена. Еще Гекатей явственно чувствовал здесь сильный негреческий дух, указывая на то, что среди древнейших жителей города был коренной народ «пеласгов»3. Это название стало удобным ходовым обозначением любых древнейших и малопонятных неэллинских племен. Однако впоследствии мифологи пришли к выводу, что в Афинах поселился «Ион» и поделил население на четыре филы (названные в честь его сыновей)4.
Афины называли и «старейшей землей Ионии»5, ибо, согласно стойким местным преданиям, именно афиняне, чья численность чрезмерно возросла благодаря притоку всяческих беженцев, во главе с одним или несколькими царевичами из правящего рода положили начало «ионийскому переселению» на западное побережье и острова Малой Азии (Глава V). Произошло же это спустя пять поколений после гибели Трои.
Возможно, роль афинян была несколько преувеличена в подобных преданиях, — в частности, благодаря Фукидиду, который стремился найти исторические прецеденты для оправдания Афинского союза, заключенного в его собственном V веке до н. э… Как бы то ни было, аттический диалект, на котором говорили в Аттике, и ионийский диалект, на котором говорили на малоазийском побережье, обнаруживали сходство; и в обеих областях сохранялись общие праздники (в частности, Апатурии) и деление на филы. Поэтому в целом, несмотря на высказанные сомнения, мы можем принять позднейшие притязания афинян, приписывавших себе весьма весомую роль в переселении греков в Ионию. Вполне вероятно, что в ряде случаев им действительно принадлежало главенство, хотя весь этот процесс, вопреки преданию, явно занимал более длительное время и носил более постепенный характер. К тому же среди переселенцев, должно быть, имелись и выходцы из других греческих городов, которые не обязательно проходили по пути через афинские земли.
Тем временем сами Афины, чей мифический царь Кодр, согласно позднейшим преданиям, спас город ценой собственной жизни, явно вели мирное, хотя достаточно тревожное и шаткое, существование посреди царившего хаоса, являя один из немногих во всей Греции примеров выживания древних городов, после того как были разрушены Микены, Пил ос и другие видные центры бронзового века. Образно говоря, афиняне продолжали жить в сгустившихся микенских сумерках.
Однако, судя по упоминаниям в гомеровских поэмах, где афиняне не играют важной роли, им не удалось очень быстро или до конца оправиться от кризиса, — отчасти из-за того, что они потеряли лучших мужей во время переселения, но, по-видимому, еще и из-за того, что Аттика лишилась былого единства. Тем не менее Афины, вероятно, вернули себе контроль над восточной частью Аттики. В отличие от многих других частей греческой метрополии, эта область была весьма густо заселена в течение нескольких десятилетий до и после 1100 г. до н. э., так что уже к 1000 г. до н. э., если не раньше, здесь наблюдались явные признаки расцвета. Именно в этих землях впервые на материке появилось железо (вероятно, ближневосточного происхождения), а также первые случаи трупосожжения, которое вошло у афинян в обычай примерно с 1050 г. до н. э. Якорные стоянки на песчаном берегу Фалера и в Пирее и Зее — глубоководных гаванях по обеим сторонам мыса Мунихии — позволяли афинянам поддерживать морские связи с островами, в том числе с Кипром.
В связи с тем, что Афины не пострадали от вторжения, в афинской керамике прослеживается некоторое преемство по отношению к закатившемуся микенскому миру. Вазы протогеометрического стиля (ок. 1050/1025—900 гг. до н. э.), более изящные и тщательнее проработанные, чем предшествовавшая им послемикенская утварь (благодаря более быстрому гончарному кругу, с кисточками и циркулем), стали изготавливать во многих городах, и зародился этот стиль отнюдь не среди афинян. Но Афины, освоив его, по-видимому, превратились к концу X века до н. э. в главный центр распространения и распределения таких ваз. И именно в Афинах, судя по обильным свидетельствам — захоронениям праха умерших в городском квартале Керамик, — протогеометрические сосуды достигли высочайшей степени гончарного и живописного мастерства.
Казалось бы, сам собой напрашивается вывод о том, что своим позднейшим господством афинское классическое искусство обязано именно этому первенству в более древние времена. Однако такой вывод на поверку оказывается спорным, ибо это позднейшее искусство, достигшее вершины в эпоху классики, не обнаруживает сколько-нибудь явной или прямой связи со своими предполагаемыми истоками, весьма с ним несходными. Вместе с тем при желании эту связь проследить можно. Как бы то ни было, на какое-то время художественное главенство перешло к афинянам, когда они производили протогеометрические вазы, и удерживалось за ними после того, как на смену этому стилю в их мастерских пришел стиль геометрический. Ибо — если только мы не пребываем в заблуждении ввиду изрядного обилия афинской утвари (но едва ли это так), — геометрическое искусство Афин отличается от искусства других греческих государств большей живостью и мастерством. Однако вскоре и местные мастерские этих других государств стали уверенно заявлять о себе. Неясно, объяснялось ли это закатом афинского влияния, так как аттическая керамика среднего геометрического стиля (ок. 800–770/750 гг. до н. э.) имела широкое хождение и вывозилась даже на Кипр и в Сирию. Кроме того, к началу этого периода афинский некрополь Керамика уже хранил свидетельства необычайной пышности геометрических сосудов. Возможно, богатство афинян росло благодаря обработке (купелированию) серебра в Лаврионских рудниках (данные раскопок в Торике).
Эпохальный шаг был сделан афинским «дипилонским мастером» (ок. 770–750 гг. до н. э.), изобретшим или разработавшим роспись позднего геометрического стиля на огромных вазах. Эти сосуды 1,2–1,5 м в высоту ставились на могилы и служили их знаками. В их стенках проделывались отверстия для жертвенных возлияний умершим6. Отвлеченная геометрическая роспись на таких гигантских вазах обогатилась благодаря включению поясов-фризов, где появляются корабли, животные и фигурки людей. Такие изображения кораблей (встречающиеся на удивление часто) отражают оживившийся в ту пору интерес к торговым путям. Пояски с мелкими фигурками животных на сосудах этого типа представляют собой одну из немногочисленных геометрических идей, заимствованных из ближневосточных земель (Приложение 1) — либо напрямую — через рельефы слоновой кости или узорчатую вышивку, либо косвенно — через аттические золотые диадемы с вкраплением ближневосточных мотивов. Правда, характерным очертаниям этих зверей в геометрических орнаментах присуща чисто греческая новизна.
Группы человеческих фигур на этих сосудах являют пример отвлеченной, линейной стилизации с искажениями — опять-таки, вероятно, вдохновленной ближневосточными образцами (в том числе плетеными изделиями), а также сохранившимися до той поры произведениями позднемикенского фигуративного искусства. Для этих изображений принято весьма соблазнительное толкование: считается, что на дипилонских вазах представлены персонажи и сцены гомеровских поэм (Глава V, раздел 1). Так, возможно, одна погребальная сцена была призвана напомнить о погребении Патрокла. В таком случае, следует признать, что подобное искусство ознаменовало своего рода греческое Возрождение, или воскрешение героического прошлого, получившее толчок благодаря недавнему распространению эпических поэм и рассматривавшее текущие события и достижения в свете этого эпоса. Горделивое воплощение этого явления в форме сосудов выглядит чем-то вроде художественной слоновой болезни. И хотя гекзаметрическое двустишие на трофейном кубке (ок. 730 г. до н. э.) говорит о введении письменности в обиход, почти совпавшее во времени с созданием Гомеровых поэм, — все же их связь с росписью погребальных сосудов нельзя считать доказанной. Допустим, несколько характерных мифологических сцен действительно были выбраны для изображения намеренно, — большинство все же носит обобщенный характер и не поддается «опознанию». Разумеется, в ту пору могли работать и другие мастера, ничуть не хуже дипилонского вазописца, чьи произведения до нас не дошли. Но насколько нам позволено судить, именно он первым из греческих художников удостоил серьезного отношения человеческие фигуры. Можно добавить, что он стал первой личностью в греческом искусстве — личностью, чей легко узнаваемый художественный «почерк» — настойчивый, ритмичный, повествовательный, с его непременным заполнением углов, принадлежал целиком ему самому.
Необычайно богатые погребения, которые художники украшали такими позднегеометрическими вазами-монстрами, отражали существенные сдвиги в аттическом обществе. Ибо к 900 г. до н. э. Аттика, должно быть, весьма продвинулась на пути к объединению, а точнее воссоединению (в ознаменование чего были учреждены ежегодные празднества — Си-нойкии). К той поре присоединение главной, срединной равнины (месогеи) было уже завершено. Это заново сплоченное единое государство, вобравшее в себя и город, и деревню, не только обладало чрезвычайно обширной (для Греции) площадью, но и оказалось исключительно устойчивым образованием. Такая форма сплава (синойкизм) предусматривала не переброс населения с места на место, но расширение существующих общин при сохранении централизованной власти.
В то же время в мифах и преданиях сохранялась память о маленьких независимых государствах в Аттике, и даже после того, как эти государства оказались низведены до разряда деревень, как это теперь произошло, — слияние ни в коей мере не означало для них потерю независимости в действиях. Напротив, после того, как первая волна централизации несколько поутихла, среди аттических сельских угодий вновь стали оживать микенские поселения и земельные владения: началось деревенское возрождение (ок. 750–730 гг. до н. э.). По всей территории число могил увеличилось вшестеро на протяжении VIII века до н. э., что указывает на необычайно высокий прирост населения: он составлял около четырех процентов в год. Высказывались также предположения (хотя прямые доказательства и отсутствуют), что между 800 и 750 гг. до н. э. население Аттики увеличилось вчетверо, а за последующие полвека снова почти удвоилось.
Все жители по-прежнему делились, согласно иерархическому ряду, на родовые группы, возникшие в древнейшие времена, и возводили свое происхождение к тем первым поселенцам, которые будто бы пришли вместе с мифическим Ионом в здешние земли. Группами этими были: οϊκος (ойкос, семья), γένος (генос, род), φρατρια (фратрия, братство) ώνλή (фила, племя) — своего рода окружные оборонительные стены (хотя местами налагающиеся друг на друга), за которыми человек был укрыт от внешнего мира. Существует одна теория, согласно которой такое родовое членение и его звенья были позднейшими искусственными образованиями. Однако уже гомеровские поэмы содержат свидетельства о подобных племенных объединениях в древности. Разумной гипотезой представляется следующая: среди древнего населения Аттики существовало разделение на эти родовые группы, а после смут и разрушений 1200–1000 гг. до н. э. именно они пришли на смену рухнувшему политическому строю, превратившись в определяющий элемент общества. Кровное родство было главной социальной составляющей в Афинах древнейшего периода — иными словами, в Афинах раннего железного века. Однако нельзя с точностью утверждать, что это было микенским наследием, потому что подобная структура не приносила бы особой пользы во времена микенских царей, куда более могущественных.
Важнейшей из этих постмикенских родовых единиц был οίκος, или семья — основное объединение, на которое во многом опиралось устройство жизни в целом, владение собственностью (главы семейств, в большинстве своем, были землевладельцами, а тем самым и кормильцами) и поддержание преемственности. Οίκος включал более или менее обширное число домочадцев, а в хозяйствах побогаче в него входил и ряд иждивенцев — как рабов, так и свободных. Семья была экономическим и физическим выражением рода — геноса. Род же состоял из нескольких семей (а в ряде случаев, возможно, из одной большой семьи, включая взрослых сыновей с их женами), возводивших свое происхождение к общему предку (хотя с очень ранних времен в него стали допускать и неродственников) и связанных между собой отправлением одних культов. Неясно, были ли в древности все афиняне членами какого-либо рода; может быть, и нет: ведь все эти γένη, безусловно, оставались уделом знати, а вначале, наверное, их состав только ею и ограничивался. Все браки устраивались главами этих родов, которые впоследствии — хотя прежде они и не имели веса в афинских или других греческих законах (Гомер их не упоминает), — стали влиятельнее, нежели ойкосы, и решали многие важные дела, заключая союзы или вступая в соперничество.
Что касается фратрий — в каждую из них входило, как представляется, около тридцати родов, — то они появились достаточно рано (об этом можно судить по упоминанию в Илиаде), сперва, вероятно, как военное объединение, «кровное братство». Это было очень древнее явление, хотя в сохранившихся текстах на микенском линейном письме Б слово «фратрия» и не встречается. Итак, если представить структуру этого догородского племенного мира в виде перевернутой пирамиды: ойкос — генос — фратрия, то фратрия окажется на ее вершине, выше нее будет только само племя. Общая численность одной фратрии была, вероятно, сравнима с численностью жителей деревни или городского квартала.
Начиная с VIII века до н. э. фратрии обретают все большее значение, начинают играть важную роль в жизни любого афинянина и становятся главным очагом его деятельности. Каждое общественное объединение, начиная от ойкоса и ге-носа, было также религиозным союзом (и чтило какого-либо собственного героя, давшего ему имя). Поэтому каждая фратрия ежегодно справляла празднества (Апатурии), дабы почтить покровительствующие божества (Зевса-Фратрия и Афину-Фратрию) и принять в свое общество новых членов. Причем фратрии пополнялись не только за счет представителей собственных γένη, которые звались γεννήται (геннеты, родичи): на определенной стадии они стали допускать в свои ряды значительное количество посторонних, незнатных служителей и последователей — крестьян, ремесленников и «сомнительных» граждан, то есть не имевших родословной ни в одном из γένη (а следовательно, не имевших и хорошей пахотной земли); ибо, невзирая на множество других объяснений, именно этот наружний слой представителей фратрий и представлял, очевидно, ту категорию граждан, которую афинские писатели называли оргеонами (ώργεωνες).
В каждой из четырех афинских фил, или племен, было по три фратрии (отсюда еще один загадочный термин трит-тия —τριττύς, «треть», — который, по-видимому, вначале служил синонимом «фратрии» в территориальном значении и употреблялся в целях местного управления). Обе формы объединения, фратрия и фил а, упомянуты рядом в Илиаде7. Филы с теми же именами (примечание 4) существовали также в ионийских городах Малой Азии; они соответствовали четырем культовым прозвищам Зевса. Филы, возглавлявшиеся собственными племенными вождями, служили родственными объединениями, а их древнейшее назначение (отраженное у Гомера) было сродни военным общинам; маловероятно, что они когда-либо носили исключительно местный или географический характер.
Согласно преданию (а ему представляется разумным довериться) жившие в Аттике и в Афинах племена сплотились под властью единого царя из династии Медонтидов, который вел свой род от Медонта, сына мифического Кодра. Вместе с тем гражданское устройство населения в первое время отличалось примитивностью, являя собой лишь ряд политических, юридических и религиозных союзов между филами, фратриями, родами и семьями, о которых шла речь выше. Царю же полагалось поддерживать их единство, насколько это было в его силах, — хотя, несмотря на свой авторитет и формальное главенство по отношению к «царям» всех четырех фил, он оставался фигурой менее величественной, нежели микенские владыки прежних эпох. Однако к 700 г. до н. э., как и в прочих краях греческого мира (но не везде, так как еще продолжали существовать этносы (έθνη — «племена»), внегородские родовые объединения), такая рыхлая структура преобразовалась в более тесно увязанную гражданскую систему, присущую полису, хотя, собственно, город Афины начал по-настоящему разрастаться лишь почти столетие спустя; но даже тогда его население едва доходило до 10 тысяч человек.
Судя по позднейшим рассказам (вполне правдоподобным), афинская монархия Медонтидов постепенно уступила власть группе знатных сановников. По-видимому, началось это с того, что править наравне с царем был назначен полемарх (πολέμαρχος — военачальник), а позднее царь оказался в подчинении у архонта (άρχων — правитель), ведавшего гражданскими делами. Впоследствии, как считалось (хотя точный ход событий, обрисованный античными авторами, и вызывает сомнения в подлинности), царь Акает вовсе уступил свою самодержавную власть архонту (позже именовавшемуся «первым архонтом»), назначавшемуся пожизненно8 (хотя при этом сохранялась особо должность царя-архонта, отвечавшего за религиозные дела). Следующий шаг был сделан в середине VIII века до н. э., когда пожизненная должность архонта сменилась десятилетним сроком службы. Позднее (в 683–682 или 682–681 гг.? до н. э.) архонта стали выбирать уже ежегодно.
К этому времени многочисленные обязанности, прежде возлагавшиеся на одну особу — монарха, — оказались распределены между первым архонтом, царем-архонтом и полемархом. Должности первого архонта и полемарха были выборными; выбирали их «по благородству происхождения и по богатству»9. Первый архонт (иначе, архонт-эпоним, так как его именем назывался год его правления) обладал верховной властью и являл собой средоточие политических прений и борений. Военачальник, или полемарх, занимал третью ступень сверху, так что управление государством почти свелось к гражданским делам. Ко второй половине VII века до н. э. а может быть, еще раньше, к этим трем архонтам добавилось еще шестеро. Эти тесмотеты (θεσμοθεται, то есть «законодатели») понадобились ввиду роста численности (и склонности к тяжбам) афинского населения. С тех пор в Афинах ежегодно заново избирались девять архонтов (άρχοντες).
Они совещались с Ареопагом — высшим судом, гордившимся тем, что его будто бы учредили сами боги. Его членами становились пожизненно. Это были евпатриды (εύπατρΐδαι, «благородные»): в некоторых греческих государствах в эти древнейшие советы допускались только главы семейств, — но истинно ли это для Ареопага VII века до н. э., остается неясным. Назначение другой сходки — народного собрания (έκκλησια), включавшего всех граждан полиса, оставалось в ту пору размытым и во многом формальным, так как за ней не было решающего голоса.
На протяжении этого периода, ознаменовавшегося политическим развитием, искусство тоже не стояло на месте. Первым мастером в афинской (протоаттической) вазописи стал Аналат (ок. 700 г. до н. э.); позже работал вазописец Несс (ок. 620 г. до н. э.). Обратившись к достижениям коринфской ориентализирующей керамики и к чернофигурной технике, эти художники порвали со строгой геометрикой и дали прорваться наружу собственной яркой индивидуальности — мощной и напористой, пусть еще несколько грубоватой.
Приблизительно в. 632 г. до н. э. (по другой версии, после 621 г. до н. э.) влиятельный евпатрид Килон (зять Феагена, диктатора Мегар) дерзнул было совершить автократический переворот в Афинах, напав на Акрополь. Его попытка провалилась, а сам он был убит, — вероятно, из-за того, что афинян возмутила поддержка, оказанная ему из Мегар. Вполне возможно, Килон отстаивал радикальные взгляды и надеялся, что ему сыграет на руку недовольство граждан текущей аграрной политикой (об этом подробнее в разделе 3); но, если это было так, то он действовал преждевременно, так как афиняне, в большинстве своем, еще не разделяли такого радикализма. И в любом случае его неудавшийся переворот не был изначально вдохновлен демократическими идеалами, а скорее, явился результатом жарких схваток между аристократами — главами различных кланов евпатридов. Когда мятеж был раздавлен, сообщники Килона укрылись в храме — неприкосновенном убежище, — но были убиты по повелению другого влиятельного рода, Алкмеонидов. За такое святотатство их изгнали из Аттики. Позднее враги отзывались об Алкмеонидах как об «аристократах-разбойниках», хотя их кровожадность, возможно, оказалась достаточно типичным проявлением ненависти, которую питали друг к другу вожди враждующих кланов.
Так или иначе, наступила тревожная пора смут. Как бы ни обстояло в действительности с «радикализмом» Килона (или клана Алкмеонидов), по-видимому, афинские граждане, знавшие о том, что в других краях греческого мира уже записывают законы (сперва, очевидно, на Крите, а затем в Южной Италии и на Сицилии), с возраставшим недовольством переносили правление евпатридов-тесмотетов и судей с их произвольными устными решениями, не закрепленными никаким писаным законодательством. Ибо в 621–620 гг. до н. э. граждане поручили некоему Дракону (иначе называемому Драконтом) кодифицировать афинские законы. Это не обязательно означает, что он был избран архонтом: может быть, он просто получил особое личное назначение на должность законодателя, как это уже случалось ранее в Локрах Эпизефирийских, в Катане и других полисах.
Драконовский свод законов, не вылившийся в «конституцию» (представление, согласно которому он ввел нечто подобное, возникло позже и является анахронизмом), порой истолковывали как попытку евпатридов заглушить народный ропот, которым дерзнул было воспользоваться Килон. Мы не можем быть уверены в истинности такого мнения, и все же благодаря законам Дракона был сделан важный шаг вперед, по крайней мере в одном отношении, — а именно, в своем определении смертоубийства. Ибо в этих законах впервые появилось понятие умысла (как явствует из повторного обнародования свода в V веке до н. э.)10: таким образом, было проведено разграничение между преднамеренным и случайным убийством, или убийством, совершенным при смягчающих обстоятельствах. Так Дракон положил начало государственному вмешательству в кровавые родовые усобицы. Ранее они затрагивали исключительно отдельные кланы и семьи и «доставались по наследству» родичам жертв, — отныне же государство попыталось взять на себя главенствующую роль в усмирении вражды, провозгласив, что подобная резня оскорбительна для чтимых общиной богов, и объявив всякого злодея, пролившего кровь, нечистым в религиозном смысле.
Но другие драконовские меры показались позднейшим поколениям чересчур суровыми: говорили, что его законы «на-писаны кровью». Так, кража капустного кочана каралась казнью. Вдобавок его долговое право действовало© неодинаково для благородных и низкородных — для геннетов, то есть членов клана, с одной стороны, и оргеонов, то есть их «прихлебателей», — с другой стороны. Если знатные люди становились должниками (о чем речь еще пойдет в разделе 3), их, по крайней мере, не продавали в рабство, — каковая участь, по словам Плутарха, выпадала беднякам11.Но сколь бы жестокими ни были эти наказания (даже если они не превзошли в жестокости прежние), — важнейшей особенностью законов Дракона стало то обстоятельство, что их суровый свод был наконец записан. Тем самым он (быть может, сам того не желая) привлек к ним общественное внимание, и при таком ослепительном освещении их угрюмое правосудие не могло не показаться вопиющим пережитком мрачноватой древности.
За тот период, что ныне подходил к концу, Афины оставили довольно тусклый след в греческой межполисной истории. Одно время они входили в Калаврийский союз (о. Калав-рия — ныне о. Порос, расположенный к востоку от берегов Арголиды — Глава III, примечание 2) — после того, как утратили былое морское могущество (после 730 г. до н. э.) из-за вражды с Аргосом и утверждения морского надзора над Сароническим заливом островом Эгиной (см. конец настоящей главы). В отличие от множества других полисов, Афины не выводили колоний, — возможно, из-за того, что сравнительно обширная площадь Аттики долгое время позволяла избежать нехватки земли. Но как показал разразившийся долговой кризис, этому относительно спокойному положению уже грозила опасность. К концу VII века до н. э. аттическое население заметно увеличилось (пусть и не настолько, чтобы множество жителей стало сниматься с обжитых мест в поисках лучшей доли на чужбине). Поэтому потребовалось принять новые меры, чтобы прокормить людей. На деле это означало, что следует во что бы то ни стало взять под контроль хлебный путь, тянувшийся от Понта — Черного моря — и Пропонтиды (Мраморного моря — Глава VIII, раздел 2).
И вот что афиняне предприняли. Собрав войско во главе с олимпиоником Фриноном, они захватили город Сигей (возле нынешнего Енишехира) в Троаде (северо-запад Малой Азии), расположенный рядом с плодородными землями и занимавший стратегически выигрышное положение к югу от входа в Геллеспонт (Дарданеллы). Захват Сигея вызвал продолжительную войну с Митиленой (на Лесбосе); митиленский властитель Питтак сразил Фринона в единоборстве. Однако Периандр, коринфский диктатор, решил спор в пользу Афин, хотя окончательно водвориться в Сигее афинянам удалось лишь спустя полвека.
Глава 2. ЭЛЕВСИН
Со временем — возможно, ок. 675 г. до н. э. (хотя предлагались и более ранние, и более поздние даты), — Афины установили окончательное господство над всей материковой Аттикой, добившись подчинения от соседнего Элевсина. Этот город, во всей области уступавший место по значимости только Афинам (а позднее и Пирею), располагался у запертой среди суши бухты, восточнее небольшой Рарийской равнины (посреди плодородной Фриасийской равнины). Элевсин занимал стратегически выгодное положение напротив острова Саламин (примечание 15), у соединения дорог из Афин, между севером и югом. Поселение существовало здесь с раннего бронзового века, и благодаря своим природным укреплениям Элевсин долгое время сохранял независимость от Афин, в нем властвовали свои цари. Теперь же и он не устоял; и отныне вся Аттика превратилась в единый организм с Афинами во главе.
Элевсин был обязан своей известностью справлявшимся там мистериям (тайным обрядам инициации) в честь Деметры и ее дочери Персефоны (или Коры, то есть Девы). Культ Деметры, в той или иной форме, существовал уже в период поздней бронзы (в микенскую эпоху), или, по крайней мере, начиная с XI века до н. э. Ибо к этому времени относятся, судя по всему, остатки мегарона (прямоугольного чертога), который, очевидно, служил первым святилищем богини. Позднее было воздвигнуто круглое сооружение с апсидами — возможно, ок. 800 г. до н. э. К этой поре относятся многочисленные женские захоронения, обнаруженные неподалеку; вероятно, это были жрицы.
Миф рассказывал о том, как богиня (по-видимому, вобравшая черты доэллинского хтонического божества и месопотамской богини зерна) горевала о похищении дочери Персефоны Аидом (Плутоном), богом подземного царства. Похищение Персефоны привело к тому, что всякое плодородие на земле иссякло, — подобно тому, как с исчезновением хеттского бога Телепинуса в полях не растут злаки, а животные перестают давать приплод; сходные мотивы проглядывают в месопотамской и ханаанской мифологии (Приложение 1).
Скитаясь по земле в поисках дочери, Деметра достигла Элевсина. Дочери местного царя Келея увидели, как она сидит возле колодца, и привели ее в царский дом. Там она принялась нянчить царского сына, и произошло много чудес. Богиня открылась элевсинцам и поселилась в храме, построенном для нее. Там она жила до тех пор, пока Зевс не решил, что Персефона будет проводить треть года под землей, возвращаясь на остальное время в мир живых. Тогда Деметра вернула земле плодородие и сама засеяла пашни Рарийской равнины первыми семенами злаков. А прежде чем удалиться с дочерью к себе на Олимп, она посвятила Келея в «свои сокровенные обряды и все свои мистерии».
Как и заставляет предположить само слово «мистерия» (от глагола рйе™, «хранить тайну»), эти ночные священнодействия, вершившиеся при свете факелов, оставались тайной — в соответствии с первобытным представлением о том, что посторонним не дозволено знать ни истинных имен богов, чтимых узким сообществом, ни того, как можно заручиться их помощью. К тому же это было чем-то вроде расширенного семейного культа, к отправлению которого, по идее, глава семейства допускал кого хотел. Но в то же время мистерии Деметры едва ли были или оставались совсем уж тайными, потому что в позднейшем святилище могло уместиться около четырех тысяч почитателей. Допускались же до посвящения в таинства все мужчины, женщины и дети, говорившие на греческих наречиях, включая рабов, — за исключением тех людей, на ком лежала скверна душегубства.
Судя по сохранившимся отрывочным свидетельствам, в разыгрывавшихся обрядах изображалось похищение Персефоны и появление в Элевсине Деметры, блуждающей в ее поисках, а когда таинства достигали вершины, те факелы, что освещали представления, выбрасывались в воздух. По-видимому, там устраивались еще и целые шествия с изображениями детородных органов и фигурками совокупляющихся мужчин и женщин12, потому что считалось, что человеческая любовная страсть способствует произрастанию урожая. По той же причине мисты — участники таинств — осыпали друг друга бранью, выкрикивая непристойности (считается, что именно так родились язвительные стихи — ямбы).
Приблизительно к 600 г. до н. э., спустя несколько поколений после подчинения Элевсина афинянам, они подняли местный культ до панэллинского статуса. Такое общегреческое воодушевление объяснялось, прежде всего, стремлением к загробному блаженству, которое таили мистерии для людей, прошедших последовательные ступени посвящения: каждый новый урожай олицетворял возрождение жизни после смерти13, ничуть не схожее с мрачными картинами, описанными в гомеровских поэмах. Как сказал Пиндар:
Блажен, кто сошел под землю,
Увидев, что он увидел:
Ведом ему жизненный конец,
Ведомо дарованное от бога начало14,—
тогда как для непосвященных «все пребудет ужасным». Кроме того, культ неудержимо привлекал к себе бесправную половину греческого общества — а именно женщин, — ибо признавал женскую драму Деметры и Персефоны образцом и источником такого посмертного спасения.
По этой причине афинское государство стремилось взять культ под собственный надзор, дабы, сохраняя видимость одобрения сверху, устремить вовне эти набиравшие все больше приверженцев, но в то же время подозрительные экстатические верования, выливавшиеся в столь негражданственные мистические культы и народные обряды. А хлынув вовне, мистерии обрели свою историческую форму, став прекраснейшим цветком на древе греческой народной религии. Празднество больших Элевсиний справлялось на втором году каждой олимпиады; в остальные годы праздновали малые Элевсинии. Первоначально отправлением культа ведали два афинских семейства — Эвмолпиды и Керики; первые хвалились своим происхождением от фракийца Эвмолпа, который слыл первым участником элевсинских таинств. Примерно в ту же пору, с возвышением элевсинского культа, в Афинах был сложен серьезный и веселый Гимн к Деметре — один из самых драматичных и завораживающих среди так называемых (неверно) «Гомеровских гимнов», излагавший миф о богине.
Различные меры в этой области были ускорены в эпоху афинского государственного деятеля Солона и благодаря его усилиям. Вероятно, именно по его почину в Элевсине была сооружена новая «святая святых» («Ысктороу). И именно о нем настала пора рассказать подробнее.
Глава 3. СОЛОН
Впервые о Солоне стало слышно в связи с тем, что Афины, завершив подчинение материковой Аттики присоединением Элевсина, возгорелись желанием завладеть еще и весьма выгодно расположенным соседним Саламином. Этот остров, находящийся прямо напротив элевсинского побережья, был необходим афинянам, дабы единолично пользоваться его гаванями и якорными стоянками, превратив остров в «конечный пункт» своего хлебного пути, тянувшегося из Причерноморья1^. Но Саламин, хотя о его ранней истории сохранились противоречивые мнения, принадлежал Мегарам (Глава III, раздел 5), отобравшим его у Эгины (примечание 45), — поэтому Афинам (с которыми у островного пиратского населения имелись давние связи) теперь пришлось втянуться в борьбу с мегарянами за обладание островом. Но, вероятно, их успех оказался в лучшем случае временным, так как несколько лет спустя Солон принялся побуждать разочарованных и павших духом сограждан вновь устремиться на войну за желанный остров16.
Солон — первый из древнейших греческих государственных деятелей, чьи собственные слова дошли до нас доподлинно: он оставил величавые, звучные и тревожные стихи, напоминающие пророчества оракула17. Солон, глубоко взволнованный событиями своей эпохи, воспользовался поэтическим даром, чтобы высказать свои политические убеждения. Возможно, он декламировал свои элегии на аристократических пирах — симпосиях, где подобные дела вполне могли служить предметом споров. Солон был ярким мыслителем, которому удалось стать и смелым пропагандистом. Он имел явно благородное происхождение, но скромный достаток: согласно традиции и судя по его путешествиям и экономическим реформам, он был купцом — человеком новой породы, аристократом из рода землевладельцев, пустившимся в торговую деятельность.
Однако действительный ход его жизни восстановить трудно: уже к V–IV векам до н. э. его личность обросла легендами; вразрез с исторической истиной его превозносили или порицали за достоинства и недостатки демократического правления уже этих позднейших эпох. Тем не менее попытаемся выяснить, что же он сам совершал и думал в действительности, — и хотя наш лучший источник, Плутарх, писал спустя почти 800 лет после эпохи Солона, все же не стоит выказывать излишний скептицизм. По-видимому, аграрные затруднения, накопившиеся за предыдущие годы, вылились наконец в кризис, сопровождавшийся соперничеством между могущественными родами. Некоторые из этих кланов выступили с чересчур смелыми или необдуманными посулами перед роптавшими бедняками, так что остальные дома обратились за помощью к Солону, дабы тот избавил их от полного хаоса в земельных отношениях и предотвратил диктаторский переворот. Так этот исключительный человек — мыслитель, поэт и делец в одном лице — был назначен главным архонтом — если верить античной традиции, в 594/593 или 592/591 гг. до н. э. (Высказывались также настойчивые предположения, что Солон занимал какую-то особую должность, ввиду чего пик его законодательной деятельности следует отнести к 580/570 гг. до н. э. Однако доказать это невозможно.)
Аттика действительно переживала тяжелую пору в аграрно-хозяйственной жизни и, вероятно уже была на грани гражданской войны. Главные причины такового кризиса уже были изложены. Земельные угодья сосредоточились в руках зажиточного меньшинства, тогда как население продолжало расти, и многие имения дробились между сыновьями до тех пор, пока эти наследные владения не превращались в скудные лоскутки земли, не способные прокормить хозяев. Бедняки продолжали нищать, тщетно возделывая бесплодные окраинные наделы, вжатые в холмные подножья. Воцарилось тягостное уныние, а несколько неурожайных лет сделали такое положение вконец невыносимым.
Главное бедствие заключалось в том, что разорившиеся граждане (зачастую эти люди скатывались к той установленной Драконом черте, когда невыполнение обязательств приводило к немедленному закабалению) были вынуждены занимать зерно у своих богатых соседей. Тогда они становились ёкттщороц «шестидольниками». Это понятие, вокруг которого велось немало споров, вероятно, означает, что из-за долгов земля таких людей переходила в собственность заимодавцев. Последние водружали на участках, таким образом приобретенных, деревянные или каменные закладные столбы (брог) — в знак того, что сам земледелец, угодивший в кабалу (а заодно и все его семейство), находится во власти заимодавцев до тех пор, пока не выполнит своих обязательств. Но и это еще не все: заимодавец позволял должнику продолжать возделывание этой земли лишь при условии, что он будет отдавать ему одну шестую урожая (отсюда и прозвание — «шее-тидольник»). Это была весьма обременительная повинность особенно если земля у должника была худая, так что и десятая часть (десятина) показалась бы суровым оброком, — и особенно после того, как появление писаных (драконовских) законов породило было радостные надежды, а многие другие граждане заметно поправили свои дела благодаря прибыльной чужеземной торговле.
Но Солон с большой жесткостью применил свою власть. Он отменил все долги, залогом которых стала земля или личная свобода, и впредь воспретил давать взаймы под залог свободы: так все формы долгового рабства были упразднены. Те, кто лишился своих наделов, получили их обратно. Солон сам скажет о своей заслуге:
Я убрал позор
Повсюду водруженных по межам столбов.
Была земля рабыней, стала вольною18.
К тому же он приказал разыскать и выкупить всех проданных в рабство, куда бы их ни угнали. Солон также «урезал долю прироста»19 — иными словами, ограничил ссудный процент до приемлемого уровня.
Солон добился удивительных результатов. Но он прекрасно понимал, что ему удалось это лишь благодаря хитрому подспудному компромиссу — маневру проницательного и бдительного распорядителя.
Я меж народом и знатью, щитом прикрывая обоих,
Стал, — и ни тем ни другим кривдой не дал побеждать, —
заявлял он сам; и вот теперь многие «затаили обиду»20. Он приструнил алчность богачей-заимодавцев, и они понесли немалые убытки, что, разумеется, не могло прийтись им по нраву. Вместе с тем вполне возможно, что он спас их от куца горшей участи, ибо не допустил полного передела земли на основе всеобщего равенства, — а именно этого требовали его сторонники-бедняки (как и в других греческих краях).
Ибо Солон, насколько можно судить по сохранившимся скудным свидетельствам, был по своим убеждениям одним из величайших в истории ревнителей умеренности. Он хотел устранить несправедливость, но избегал обеих крайностей, — а это роль чрезвычайно трудная и неблагодарная, как и поныне ежедневно показывает история. Однако следует добавить, что эта его тяга к умеренности — пусть он и отказал беднякам в радикальном переделе земли — в конце концов привела к своего рода общественному перевороту, в ходе которого свободное крестьянское большинство, былые жертвы угнетения, составило основу афинского общества, остро сознававшую свои личные права. Не нужно отрицать, что именно к этому к стремился Солон. Он не предвидел лишь одного следствия: вызволение из кабалы всех ёкт^юрсн. поставило в большое затруднение заимодавцев, разом потерявших даровую рабочую силу Им оставалось только ввозить из чужих краев огромное количество рабов, — хотя это явление стало ощутимо сказываться лишь много лет спустя.
Забота Солона о простых гражданах проявилась и в иных областях. Он был первым, кто наделил каждого гражданина правом возбуждать судебное разбирательство. Так, в ход тяжбы могла вмешаться третья сторона, защищая того, кто понес обиду, и «обида каждого стала общим делом». Здесь следует отметить одну чрезвычайно значимую подробность: вмешивающееся лицо имело право действовать независимо от своего семейства или рода. Старинные кровнородственные узы, подточенные и ранее, отныне заметно ослабли. По-ви-димому. они ослабли и еще в одном звене, ибо, желая упрочить драконовские меры, согласно которым пеню за убийство должно взыскивать государство, а не семья или род убитого, — Солон вовсе запретил семье жертвы убивать убийцу; взамен она должна была возбудить судебный иск весьма сложного свойства. Правда, здесь дело далеко не продвинулось: общественная власть оставалась еще довольно слабой. Зато был сделан важный шаг, призванный укрепить ее могущество.
Однако Солон отнюдь не задавался целью ослабить все кровнородственные связи. Напротив, отлучив, с общего согласия, родичей от расправы над убийцами, в другом отношении он явно стремился возвысить и упрочить роль семьи. Ибо некоторые из его постановлений (если Плутарх прав, приписывая Салону их авторство) свидетельствовали о намерении защитить семейную собственность. В частности, Солон провел закон относительно категории женщин, которых в Афинах называли еткХцрог. Как уже говорилось в Главе I, это были девушки, не имевшие братьев. Такая единственная наследница становилась «предметом спора» (ётйбисо^). Иными словами, ей надлежало выйти замуж за ближайшего родственника по отцу — согласно установленному порядку первенства, начиная с его брата. Такое положение вещей ясно показывает, сколь беззащитную роль отводило афинское государство женщинам, — особенно в ту пору, когда окрепшие демократические настроения стали навязывать большинству общественные нормы, опиравшиеся на подобные ограничительные меры. Хотя и здесь, как в прочих местах, у женщин, благодаря их ведущей роли в некоторых религиозных празднествах21, оставалась спасительная отдушина. Афинские поэты — трагики и комедиографы — вскоре примутся свободно рассуждать о бесчисленных парадоксах женской натуры.
Итак, Солон отнюдь не выказал себя освободителем женщин, и, вероятно, он разделял общее мнение касательно того, что их следует держать в узде. Вместе с тем, по словам Плутарха, он тщательно пекся об их семейных обязанностях. В частности, он ввел правило о непременном завещании, так что отныне должны были появляться распоряжения относительно браков ётик>лро1. Он не разрешал усыновлять мужчин из других семей, ибо те не прочь были воспользоваться этим, в надежде заполучить богатую наследницу — ёя1кХтро<;. Более того, он отвадил от подобных браков и стариков, которые стремились завладеть имуществом жены, но не способны были произвести потомство. Для этого Солон прибег к довольно странному способу: он как будто постановил, что муж любой Ешккт^рос, должен спать с ней не менее трех раз в месяц, а если он окажется неспособным на это, то ей позволяется разделять ложе со следующим за ним родственником, дабы обеспечить наследников для ее (точнее, для отцовского) ойкоса.
Солон не стремился предоставлять женщинам свободу, но он сумел обернуть существующие обычаи к наибольшей выгоде, а именно — не дал пресечься тем родовым линиям, которые иначе бы непременно затухли. Его законы и вправду свидетельствуют о том, в чем он усматривал драгоценное назначение женщины — в поддержании ею кровного преемства, передаче семейного имущества, а тем самым и сохранении общественного порядка.
Возможно, те меры, что он принял, дабы алчные старцы не проникали в чужие семьи и не расстраивали браков, отчасти должны были предотвратить межсемейную рознь, которая нарушила бы городской покой. Вполне вероятно, что он руководствовался тем же побуждением, учреждая дома разврата и завозя в них специально купленных женщин. Правда, не исключено, что его внимание к женщинам носило несколько отрешенный характер, йбо его поэзия обнаруживает определенную наклонность к педерастии, которая едва ли сводилась исключительно к литературной условности22. Но, как бы то ни было, Солон (как говорили, вслед за Драконом)
принял закон, ограждавший мальчиков от сексуального насилия. Передавали также, что он позаботился и об их воспитании, обязав по закону каждого гражданина обучить сыновей грамоте. К этому времени Афины, первыми среди греческих городов, вытеснили в школьной системе воинскую выучку с первого места на второе.
Подобные постановления касательно семейных дел заняли видное место в обширном своде — настоящей лавине — Со-лоновых законов, который, очевидно, был задуман как исчерпывающая кодификация права. Это важнейшее свершение Солона в течение долгих веков продолжало служить свою службу. Подобно законодателям-предшественникам — появившимся прежде всего на Крите и в италийских Локрах, — он, должно быть, видел свою задачу в записи обычного права23. Но, как и везде, сам этот процесс (например, в случае с реформой долговых отношений, не входившей в свод законов) неизбежно толкал общество в сторону реформ.
С той же целью Солон учредил и Гелиэю (пАла1а), которой он отводил весьма важное место. Это слово вначале означало «собрание», теперь же оно стало относиться к афинскому народному собранию (которое существовало уже давно, но носило несколько призрачный, формальный характер и было лишено власти), или, быть может, к определенной части его представителей, проводившей судебные заседания и выслушивавшей прошения отдельных граждан, несогласных с решениями и приговорами, вынесенными государственными чиновниками24. Вероятно, вначале эти разбирательства касались только смерти, изгнания и утраты гражданских прав; неограниченное право обжалования любых вопросов являло бы демократический идеал, о котором в ту пору никто еще не мечтал. Тем не менее начала демократического правосудия были заложены, ибо стал очевиден важнейший принцип: пострадавший может обратиться напрямую к своим согражданам для восстановления справедливости25.
Солон воспользовался и своим прежним опытом купца, поощряя сельское хозяйство. Он стал поощрять производство оливкового масла, вероятно, преследуя политику «возвращения к земле» и к тому же желая надежнее оградить производителей масла от угнетения. Согласно Плутарху, имелось и еще одно соображение: вывоз масла пришлось увеличить для того, чтобы платить за привозное зерно, в котором все больше нуждалась Аттика. Однако вывоз всех остальных сельскохозяйственных продуктов был запрещен (особенно это касалось зерна), — чтобы их случайно не продали возможным врагам — Эгине и Мегарам. Солон покровительствовал также торговле и ремеслам, обязав всех отцов обучать сыновей своему уменью.
Вдобавок Солон начал поощрять метэков (μέτοικοι) — постоянных переселенцев, чьи ремесленные навыки могли теперь сослужить полису бесценную службу. Этот обширный слой чужестранцев (по большей части, тоже греков из других полисов), лишенных гражданства (как рабы и женщины), обладал тем не менее признанным статусом в аттической общине, пользовался покровительством закона, выплачивал умеренный налог и, наравне с афинскими гражданами, нес военную службу (в мирное время — добровольную). Вместе с тем метэкам не позволялось иметь во владении землю. Поэтому они занимались ремесленным производством, а вывоз этих товаров, наряду с вывозом масла, уже позволял метэкам занять заметное место в жизни города с его портом. Солон понимал, какую пользу приносят эти люди (и даже даровал нескольким метэкам гражданство).
Едва ли можно назвать Солона «политэкономом» в современном смысле слова, — ибо, ратуя за сохранение старинных нравственных и религиозных ценностей, он взваливал все беды общества на Корысть и Кривду — полубожественные олицетворения людских пороков. В то же время то обстоятельство, что Солон питал интерес к торговле и сам, несмотря на знатное происхождение, ее не чуждался, наложило особый отпечаток на этот род деятельности. Не представляется разумным сомневаться, ставил ли он себе целью процветание города в ремеслах и торговле: безусловно, именно благодаря его мерам полис сделал огромный скачок в этом направлении.
Солон произвел также (возможно, на втором этапе своей деятельности) ряд законодательных преобразований, которые — несмотря на пелену позднейших искаженных пересказов — явно имели огромное значение как для той эпохи, так и для грядущих времен. Для начала Солон ввел имущественный ценз, разделив всех граждан на четыре разряда (τέλη): пен-такосиомедимны (πεντακοσιομέδιμνοι) — люди, чья земля давала ежегодно не менее пятисот медимнов зерна или равной меры прочих продуктов; всадники (Ιππείς) — граждане, которые были в состоянии держать собственных лошадей для военной службы; зевгиты (ζευγΐται) — что-то вроде «крестьян» (возможно, их прозвание происходило от слова ζεϋγος — «упряжка волов»), — получавшие от двухсот до трехсот мер жатвы; и наконец феты (βήτες), беднейшая категория граждан, в основном поденщики, наемные работники26. Первый из этих разрядов стал новшеством; его составляла немногочисленная, но явно влиятельная группа отчасти знатных, отчасти незнатных богатых (или сравнительно богатых) людей, что отражало рост достатка в течение недавних лет. Остальные категории, в том или ином виде, существовали издревле; теперь же Солон окончательно распределил их по ступеням новой сословной лестницы.
И вновь он добился «внепартийного» равновесия между крайностями консерватизма и излишнего новаторства. Проведенная им классификация носила консервативный характер, вполне отвечая старинным аристократическим представлениям о том, что каждому должно знать свое место, и являла образцовый пример эвномии — благочиния и твердого правления. О насильственных диктаторских мерах не могло быть и речи: «Я не хочу ничего силой тиранской вершить»27. Вместе с тем построив новую иерархию на основе тимократии, то есть избрав в качестве главного критерия достаток, а не происхождение, Солон создал понятие безличного государства (в противовес прихотливому самовластью знати) и тем самым заметно подточил господство евпатридов — причем без всякого сожаления, так как во многих из них видел людей беспощадных.
Даже феты — пусть они были слишком бедны, чтобы иметь собственное оружие и доспехи, пусть они были отлучены от любых государственных должностей, — даже они теоретически наделялись правом участвовать и голосовать в Народном собрании и заседать в суде присяжных — гелиэе. В какой мере и начиная с каких пор они стали пользоваться этим правом на деле, остается неясным. Однако сам по себе такой шаг — включение беднейшей категории жителей в политическое сообщество — по-видимому, был афинским новшеством, которому другие города, насколько нам известно, не спешили последовать. Что касается зевгитов, этого «среднего сословия», то им отныне был открыт путь к правительственной службе. Очевидно, высшие государственные должности, распределявшиеся между девятью архонтами (и пожизненное участие в заседаниях древнего Ареопага, которое предусматривалось по окончании срока их службы), — по-прежнему могли занимать представители лишь двух высших разрядов (или даже, вплоть до 487/486 гг. до н. э., только первого разряда), — опять-таки, заметим, по праву достатка, а не происхождения.
Но особенно важным обстоятельством стало то, что зев-гитам, по-видимому, разрешили заседать в другом, новом совете — буле (βουλή). Этот совет, состоявший из четырехсот человек (по сто от каждой филы), будто бы был создан Со-лоном: так считалось с конца V века до н. э. (а возможно, и много раньше). И хотя предпринимались усиленные попытки, особенно за недавние годы, опротестовать такой взгляд как позднейшие измышления местных хронистов-атфидогра-фов, стремившихся «изыскать» почтенный прецедент для созданного впоследствии Совета пятисот (Клисфеном — раздел 5, ниже), — мнение о том, что Совет четырехсот учредил именно Солон, все же можно считать приемлемым. При том, что позднейшие афинские писатели действительно были горазды на такие «подтасовки», — в данном случае едва ли что-либо подобное было совершено и встречено всеобщим доверием, будь оно отъявленной ложью.
Итак, допустим, что Солон учредил новый Совет четырехсот. В чем же заключались его задачи? Остается признать, что это нам неизвестно — хотя совет этот и называли одним из «двух якорей государства»28. С определенностью можно лишь сказать, что он помогал Ареопагу поддерживать порядок в городе, и в то же время ограждал афинян от излишне суровых решений этого аристократического суда, ограничивая его повседневные полномочия (хотя Ареопаг продолжал проводить испытания «на благонадежность» среди должностных лиц и проверять их отчеты — δοκιμασία Ηεύθυνα, вплоть до 462 г. до н. э.). Учредив новый Совет, Солон, должно быть, помнил о спартанском прецеденте.
Мы не знаем, был ли уже Совет четырехсот, как позднее Совет пятисот, пробулевтичен (то есть выносил ли предварительные постановления для Народного собрания [экклесии]). Но вполне возможно, что этих четырехсот избирало именно Народное собрание, уже превратившееся в силу, с которой нужно считаться (хотя представление о народовластии внедрилось отнюдь не во все умы). Это явно признал Солон, коль скоро сам он провозгласил, что δήμος, или «народ» (здесь — синоним Народного собрания) вполне достоин τιμή — «чести», или привилегии29, то есть является подлинной политической силой, — так что у всех его сторонников из народной среды, присполненных надежд, имелись основания для удовлетворения. Солон снова показал себя образцовым мастером на компромиссы. И снова, благодаря такому сохранению равновесия между стариной и новизной, он дал этой новизне ход, словно перекинув мостик к политической философии будущего, в рамках которой предстояло расцвести демократическому строю.
Салон не чуждался телесных радостей, ценил красоту юношей и женщин, почитал за счастье иметь сыновей, дру-зей-чужеземцев, добрых коней и охотничьих псов. Но знал он и то, что все это не в силах отвратить болезней и смерти, которая бесшумно настигла его в возрасте восьмидесяти лет. Он чрезвычайно гордился тем, что, невзирая ни на какие уле-щения, отказался стать тираном Афин30. Он хотел, чтобы народ был доволен жизнью, но не хотел ни приказывать ему, ни внушать, как должно достигнуть такого состояния: народ должен понять это сам.
Глава 4. ПИСИСТРАТ И ЕГО СЫНОВЬЯ
Однако надежды Солона на то, что афиняне, получив от него общие указания, сумеют сами добиться спасения, не оправдались. Он прожил достаточно долго и смог воочию увидеть, что произошло вместо этого. Хотя его своду законов и некоторым общественным реформам суждено было остаться в силе, его политические преобразования не только не отвратили, — напротив, скорее, немедленно породили новые, крайне болезненные затруднения. Иными словами, упразднение Сол оном принципа происхождения, на котором дотоле покоилось аристократическое могущество, дало повод новой борьбе за власть. Ибо знать вознамерилась провалить его реформы (нацеленные на расширение правящего слоя), и Солон, верный своему примиренческому духу, оставил практически в неприкосновенности прежнее деление на семьи, роды и племена, что явилось залогом будущих распрей.
Знать взялась отстаивать свое прежнее положение — ослабленное, но еще не подорванное, — силясь заручиться голосами в пользу тех кандидатов на государственные должности, которых выдвигали они сами. Такая поддержка должна была исходить от средних и беднейших слоев населения, которые отныне пользовались в Афинах новыми гражданскими правами и свободами — при этом держась прежнего уклада жизни с его крепостью семейных, родовых и племенных уз. И вот с их помощью старинная вражда между могущественными домами евпатридов вспыхнула с пущей лютостью, о том, что близился кризис, говорят хотя бы перечни архонтов. Ибо в 590–589 гг. до н. э., а затем в 586–584 гг. до н. э. архонты назначены не были: царила йшрх 1а — безначалие.
Вышло так, что Народное собрание раскололось на три основные группировки, возглавляемые аристократами. Позднее эти три «партии» получили прозвания педиеев (яебгец, то есть «жителей равнины»), паралиев (яарбХюц «жителей приморья») и диакриев (бихкрюц «жителей гор»). Такой сугубо географический — в обход всех прежних — принцип разделения не учитывал действительного состава этих объединений — сложного и текучего, — и неоправданно отвлекал внимание от распрей, коренившихся исключительно в личной или межсемейной вражде. Следственно, в этих трех «фракциях» надлежит усматривать скорее расхожие понятия или ярлыки, нежели четко обозначенные географические единицы, — хотя они и вправду отражали более или менее прочные связи с тремя регионами Аттики, и возможно, были названы в честь тех областей, откуда происходили предводители группировок.
Среди педиеев преобладали древние семейства евпатридов, которым были не по нраву солоновские реформы. Паралии насчитывали многочисленных ремесленников и торговцев (демиургов и оргеонов), выступавших за умеренное солоновское законодательство. Их возглавили представители рода Алкмео-нидов, вернувшиеся из изгнания за убийство сообщников Ки-лона и разделявшие сравнительно передовые взгляды Солона. Основную массу диакриев (возможно, «отпочковавшихся» от паралиев) представляли пастухи и сельские наемники, трудившиеся в крупных поместьях, особенно в северо-восточной Аттике. Дарованное Солоном освобождение от долговой кабалы не смогло окончательно избавить их от нужды — или успокоить радикальные демократические настроения, вызванные этими лишениями.
Однако не следует полагать, будто за годы, последовавшие за реформами Солона, не произошло никаких политических перемен и потрясений. Ибо как раз на это время выпал бурный всплеск художественной деятельности: ваятели и художники, работавшие в ту пору в Афинах, напрямую предвосхитили славнейшие достижения грядущих эпох. Так, целая процессия куросов — изваяний обнаженных юношей (эта форма искусства, очевидно, возникла на Наксосе и Паросе — богатых мрамором островах Кикладского архипелага) — нашла свое памятное завершение в фигуре Мосхофора — юноши, несущего на плечах теленка. Эту сложно выстроенную, мастерски сработанную скульптуру с тонко выточенными деталями даритель (Р?)омб, сын (П?)ала, посвятил некоему божеству — возможно, Афине (ок. 570/560 гг. до н. э.).
Примерно в ту же пору гончар Эрготим и вазописец Кли-тий, афиняне, ознаменовали отход от протоаттического стиля в вазописи, в меру яркого, — создав кратер, известный в наше время как «ваза Франсуа». Он был найден в Клузии (Кьюзи) в Этрурии и хранится ныне во Флоренции, в Археологическом музее. Эта богато расписанная ваза 60 см в высоту, в основе своей чернофигурная, но с полихромными вкраплениями, положила начало новой эпохе (видимо, это осознавали и сами мастера — гончар с вазописцем, — так как оба горделиво начертали свои имена на совместном детище). Клитий изобразил на этом кратере 270 фигур, считая людей и животных, со 121 сопровождающей подписью. Он был в первую очередь миниатюристом, сосредоточенным на тончайших деталях, поэтому композиции в целом все еще несколько недостает единства. Вместе с тем это изысканное сплетение фигур и сцен, главным образом мифологического характера, являет взору невиданную дотоле монументальную и повествовательную сложность, какая и не снилась коринфским мастерам (сперва обращавшихся за образцами к афинской вазописи). Ближневосточные мотивы, с которыми, напрямую или косвенно, Клитий мог познакомиться на примере резьбы по металлу или узорчатых тканей, подверглись у него неожиданному переосмыслению. «Ваза Франсуа» явилась настоящим манифестом, предрекшим великолепное будущее аттической керамики и одновременно ознаменовавшим воцарение Афин на том рынке, где прежде безраздельно господствовал Коринф.
В скором времени тот факт, что Коринф окончательно уступил Афинам первенство в торговле и искусстве, был подтвержден бурным развитием чернофигурной керамики, которую стали производить в городе. В этих афинских изделиях фоном служил естественный цвет превосходной красной, бурой или ярко-рыжей глины, добывавшейся со дна Кефиса, местной речки. При обжиге использовались особые крупинки и техника полирования, придававшие вазам ослепительный лоск. На поверхность сосуда наносилась роспись — столь же блестящей черной краской, обладавшей почти непобедимой прочностью. Тонко процарапанные очертания создавали сильное впечатление органичного внутрипространственного движения. Эти чернофигурные вазы представляли самобытным мастерам упоительную свободу, одновременно удерживая их в рамках заданных возможностей.
Среди мастеров чернофигурного стиля особо выделялись двое. Одним был «вазописец Амасис» — возможно, он же и гончар, подписывавший свои вазы этим именем (если это так, мы имеем дело с редким случаем, когда гончар сам расписывал собственные сосуды). Амасис работал приблизительно в 561–514 гг. до н. э., и за этот длительный период он перебрал великое множество тем и сюжетов, как из мифологии, так и из повседневного быта31. Изделия Амасиса отличаются тщательной проработанностью, а изображенные им гибкие фигуры обнаруживают вычурное изящество, сдобренное неожиданным живым юмором.
Между тем в третьей четверти того же столетия появился совершенно иной, но не менее яркий и талантливый мастер Эксекий (его клеймо ясно говорит о том, что он работал одновременно как гончар и вазописец). Эксекий обогатил свои изображения, процарапывая мельчайшие детали острым резцом. Для него характерны сцены, полные напряженного драматизма и накала чувств (предвосхищавшие напряжение и накал у трагиков). Новаторство Эксекия заключалось в том, что он стал изображать не только решающие мгновенья каких-либо действий, но и предшествующее им напряженное ожидание. Его работы отмечены печатью такой психологической глубины и проникновенности чувства, какую едва ли мыслимо было превзойти в столь тесных творческих рамках.
В то время как афинские чернофигурные вазы завоевывали главное место на греческом рынке керамических изделий, политическая обстановка в городе, расколовшемся на три «областные партии», приняла такой оборот, который показался бы привычным в любом другом месте, но для Афин был совершенно беспрецедентным: здесь было установлено автократическое диктаторское правление — «тирания».
Самовластие учинил Писистрат, возводивший свой род к пилосским царям, а по материнской линии приходившийся родственником Солону. Будучи архонтом в 569/568 гг. до н. э., он отличился в войне против мегарян, которые временно уступили Афинам свой порт Нисею. Затем Писистрат возглавил фракцию диакриев — которая, быть может, ему и была обязана своим существованием (или, по крайней мере, своим четким определением), — и стараниями своих подручных залучил в ее ряды немало городских жителей, недавно получивших гражданство, но все еще бедствовавших, а заодно и прочих недовольных крикунов. В 561 г. до н. э. с помощью телохранителей, которых приставило к нему Народное собрание, он захватил в свои руки власть. Его свергли педиеи и паралии, возглавляемые соответственно Ликургом (предводителем Этеобутадов) и Мегаклом (вождем Алкмеонидов), но впоследствии извлек выгоду из распрей между этими двумя партиями, заручившись доверием Мегакла и женившись на его дочери. Однако Писистрат не довершил брака, порвал с Мегаклом и снова попытался совершить государственный переворот в Афинах (555 г. до н. э.). Вторая попытка тоже оказалась неудачной, и Писистрату пришлось вновь отступить, исчезнув вместе с сообщниками и друзьями.
Но на этот раз он выгодно воспользовался своим отступлением, вначале основав собственное новое поселение на границе между Македонией и Фракией — Рекел (позже Энея) на берегу Фермейского залива, а затем укрывшись в окрестностях горы Пангея и добравшись до залежей золота и серебра, которыми она была чрезвычайно богата. Примерно в эту же пору Мильтиад Старший, отважный представитель рода Филаидов, захватил Херсонес Фракийский (Галлипольский полуостров) и принялся самовластно править им наподобие «карманного царства», побуждая других афинских переселенцев перейти к нему. В этой авантюре его поддержал Писистрат, который и сам за годы выжидания заключил ряд выгодных союзов с разными другими греческими полисами. Наконец, в 546 г. до н. э., дождавшись решающего чужеземного подкрепления и получив помощь из самой Аттики, он высадился у Марафона, разбил противников и, с третьей попытки, объявил себя верховным правителем полиса. Он продержался у власти до самой смерти, вплоть до 527 г. до н. э.
Опираясь на наемническое войско (состоявшее из конни-ков-фессалийцев и, возможно, лучников-скифов), набранное благодаря связям с чужеземными государствами, Писистрат, как говорили, правил городом с умеренной строгостью — скорее как гражданин, нежели тиран, — и пользовался поддержкой как знати, так и демоса. Аристократы, в целом, признавали его потому, что он сам был одним из них и блюл прежние родоплеменные отношения с их этикой. Однако он настаивал на прекращении междоусобной розни — собственно, такое поддержание общественного порядка и легло в основу его правления. Стараясь приструнить евпатридов и загнать их в рамки законности, он постоянно ограничивал их влияние.
Писистрат окончательно утвердил афинское господство над Саламином (призвав в качестве третейского судьи Спарту, которая решила спор с Мегарами в пользу Афин), а также укрепил связи с другими островами Эгейского моря. Он решил оправдать представление об Афинах как прародине и предводительнице всех греков-ионийцев, положив начало ионийской стадии в аттическом искусстве и взяв под свою опеку Делосские празднества.
Не утратил он интереса и к прибрежным землям Фракии и Македонии, изобильным не только металлом, но и строевым лесом, и занимавшим выгодное расположение на хлебном пути из Причерноморья. Вдобавок вскоре после своего окончательного водворения в Афинах Писистрат установил — или восстановил — господство над Сигеем, лежавшим по ту сторону Геллеспонта (Дарданелл), передав его своему сыну Гегесистрату (Глава VIII, раздел 2). Обезопасив таким образом пути сообщения с Пангейскими рудниками (с какого времени были окончательно освоены местные Лаврионские рудники, точно не известно), по-видимому, именно Писистрат положил начало чеканке афинских монет (хотя некоторые предпочитают более ранние даты). Эта серия серебряных монет впоследствии получила немецкое название Wappenmiinzel («гербового чекана»), так как на них изображались геральдические эмблемы или значки. Ранее считалось, что это были самостоятельные и, быть может, даже соперничавшие между собой серии монет, чеканившиеся отдельными знатными родами — например, в ознаменование того, что их представитель был избран в архонты. Но скорее всего, это была единая серия, выпущенная самим Писистратом в знак примирения с домами евпатридов. (Другие мнения, согласно которым выбитые изображения были эмблемами либо наемных войск Писистрата, либо десяти фил, образовавшихся уже после Писистратидов, — не встретили широкой поддержки.) Возможно, появление на одной из монет народного символа — головы Горгоны — ознаменовало переход к чеканке, не связанной более с прославлением отдельных семей и родов.
В то же время Писистрат поощрял мелких и средних землевладельцев, достигших довольно прочного и независимого положения. Для них был создан государственный заемный фонд (необходимый шаг, ибо Солон запретил давать ссуды под залог личной свободы), а положение их было, пожалуй, защищено учреждением разъездных судов в составе тридцати человек. Они вытеснили суды, ранее чинившиеся местной знатью.
Но Писистрат пекся о земледельцах и крестьянах отнюдь не за счет самих Афин, от беднейших жителей которых частично зависела его власть (а число этих жителей постоянно росло из-за притока безземельных крестьян, надеявшихся найти в городе лучшую долю). Ибо он вознамерился сделать город богаче, и для начала принял меры, весьма обременительные для деревни — даже при том, что населявшие их земледельцы были поставлены в более сносные условия.
Доходы от разработки Пангейских руд, позволивших Пи-систрату удержаться у власти, дополнялись за счет афинской торговли (о расцвете которой свидетельствует широкое распространение чернофигурных ваз), за счет конфискации земель у Алкмеонидов, которые вновь пустились в бега, и за счет прямого налогообложения населения — самого раннего, насколько известно. Оно предусматривало подать на урожай (вероятно, в размере пяти процентов), ставшую возможной благодаря увеличению сельскохозяйственных богатств; кроме того, была введена пошлина на торговлю, возраставшая в зависимости от оборота.
Диктатор также вознамерился объединить полис и в религиозном отношении, усердно проводя централизацию культов. В Элевсине (раздел 2, выше) он перестроил Телестерион (теХеотфюу — «место посвящения») — здание, где собирались участники таинств. Новое сооружение выросло на диво всем греческим землям! его крышу поддерживали двадцать две колонны. Аристотель приписывал Писистрату учреждение Па-нафиней — греческих празднеств в честь богини Афины. И даже если в действительности Панафинеи (в более скромном масштабе) были основаны задолго до его правления, — именно при Писистрате этот праздник превратился в главное событие афинского календаря, соперничавшее по размаху с четырьмя всегреческими праздниками, отмечавшимися в Олимпии. Малые Панафинеи справлялись ежегодно, а Великие, особенно пышные, — раз в четыре года. По-видимому, они продолжались в течение восьми дней в июле (по крайней мере, в V веке до н. э., а может быть, уже и в эпоху Писистратидов). Афине преподносили в дар новый пеплос, и в ее честь проводились атлетические и музыкальные состязания. Победители игр получали в награду амфоры с маслом из священных рощ богини, а одержавшие победу музыканты оделялись деньгами.
Все это отчасти служило возвеличиванию Афины — покровительницы Писистратовых новых и великих Афин и самого Писистрата, их властителя. Вероятно, изначально Афина была местным божеством догреческого происхождения, затем превратившаяся в защитницу дворца-цитадели и покровительницу какого-то микенского правителя. Она сохранила свой атрибут — сову, — служивший напоминанием о древнем культе тотемных животных. Этой эмблеме суждено было стать главным изображением на афинских монетах. Ее чтили как Афину-Полиаду — богиню-мать земледельческих культов, и в то же время как Афину-Парфенос — женский архетип девы, одерживающей в мужском мире победу своим отвержением женского начала в пользу воинственной «мужской» мощи. Это качество странным образом уживалось в ней с рассудительностью, изобретательностью и мудростью; к тому же богиня всячески покровительствовала мирным ремеслам.
Другим большим празднеством, которое учредил — а скорее всего, лишь подхватил — Писистрат, стали Великие, или Городские, Дионисии, справлявшиеся весной в честь Диониса и занявшие важное место в афинской религиозной жизни. Культ этого божества пришел из Фракии (Приложение 2) и распространился весьма широко, так как был доступен всем, в том числе отпущенникам и рабам. Поэтому он оказался полезен диктаторам, стремившимся снискать себе поддержку широких слоев населения. И Писистрат позаботился о том, чтобы перенести культ Диониса-Элевтерия из Элевтер — деревушки в северо-западной Аттике, подвластной Афинам, — в свою «столицу», и поместил изваяние бога в святилище на юго-восточном склоне Акрополя, в сопровождении торжественных жертвоприношений и чествований. Однако связь с Элевтерами не была позабыта, потому что она удачно гармонировала с желанием тирана-аристокра-та поощрять крестьянство с его культами и всячески сближать горожан с селянами.
Помимо прочего, Писистрат задался целью поднять культуру в полисе, и для достижения этой цели он не скупился на средства — пусть отдача последовала и не сразу. Одним из плодов его культурной политики явилось возникновение совершенно нового и яркого литературного жанра — трагической драмы. Ибо именно в эпоху Писистрата представление трагедий стало непременной чертой празднеств Городских Дионисий.
О происхождении этой разновидности театральных зрелищ издавна ведутся нескончаемые споры32. Постепенно совершенствовались различные типы представлений, уже существовавших в ту пору в различных краях Греции (среди них, как считалось, были Коринф, Сикион и Мегары). При этом обильным источником творчества стали более древние поэтические жанры, подвергавшиеся переработке и заимствованию, — в том числе хоровая песнь (особенно дифирамб: см. Коринф, Глава III, раздел 2), монодийная лирика, элегическая и ямбическая поэзия, пантомимы с плясками, представлявшие «страсти» Диониса и другие сюжеты, а также древние веселые действа, в которых отдельные люди или целые хоры наряжались сатирами или кем-нибудь еще.
Позднее на Великих Дионисиях три драматурга представляли по четыре действа (такая тетралогия включала три трагедии и одну Сатарову драму — примечание 37), но, согласно античной традиции, автором первой трагедии (разыгранной ок. 534 г. до н. э.), получившим за нее награду, был некий Феспид. Нам неизвестно, в чем именно он усовершенствовал драматический жанр; возможно, многое из того, что ему приписывали, на деле было постепенным развитием, плодом коллективных усилий. Но его собственная заслуга — как будто бы предполагал Аристотель33 — вероятно, заключалась в том, что он ввел пролог к хоровым представлениям (уже и ранее включавшим мимы и игру под личинами), а также заранее сочиненную речь или несколько речей (ρήσις). Вероятно, их уже не пели, а по большей части произносили, или декламировали (правда, в музыкальном сопровождении — под звуки двойного авлоса — δίαυλος). С этой целью в действие был введен «актер-дирижер-режиссер» (возможно, это был сам поэт), так называемый υποκριτής — буквально «дающий ответ», илИу скорее, «толкователь»: декламируя свои монологи, он изображал того или иного персонажа, который в более ранних представлениях лишь описывался в повествовательных стихах34. Этот гипокрит мог также обращаться к корифею, или предводителю хора35. Хор произошел из древнейших обрядов; он, как и прежде, исполнял танцы и традиционные или заново сложенные песни (часто это и были стихотворные повествования, упоминавшиеся выше). Но он мог одновременно представлять коллективного персонажа драмы, — как это случится у великих мастеров афинской трагедии (Эсхила Софокла и Еврипида), появившихся уже в следующем столетии. Вторым основателем трагической драмы считается Фри-них, одержавший свою первую победу в 511/508 г. до н. э. Греки запомнили его за красоту лирики, за изобретение разнообразных танцев и за введение женских персонажей (хотя их роли по-прежнему исполняли мужчины).
Первые трагедии, поставленные в Афинах, вероятно, исполнялись актерами из Элевтер, или из другого святилища Диониса в Икарии (к северо-востоку от Афин, близ Марафона). В городе традиционным местом, отведенным для пляски и прочих представлений, была агора36. Однако трагедии с самого начала ставились в другом месте — под Акрополем, куда Писистрат велел привезти статую Диониса, поставив ее перед храмом бога.
Здесь, у подножья склона, зрители могли располагаться сидя и стоя — вероятно, на деревянных помостах. За представлением они наблюдали сверху: оно разворачивалось на ровной, обычно круглой плясовой площадке — орхестре (ορχήστρα). Это была утоптанная земля, поверх которой, должно быть, сооружали невысокую деревянную платформу. За орхестрой, для удобства актеров, ставили деревянную палатку — скену (σκηνή), одновременно служившую фоном действия.
Истоки аттической комедии были столь же смешанными и древними, что и истоки трагедии. Изображения ряженых и фигур в масках, появившиеся на афинских вазах на рубеже VII–VI веков до н. э. (а также на коринфской и сикионской керамике той же эпохи), свидетельствуют о более или менее грубых зачатках комической драмы. Но настоящее развитие ждало этот жанр лишь в следующем столетии, когда комедии стали исполнять сначала на Городских Дионисиях, а затем на других празднествах, тоже посвященных Дионису, — Ленеях (ок. 487 г. до н. э., Леней — 440 г. до н. э.)37.
Другим искусством, пережившим расцвет при Писистрати-дах, стала скульптура — особенно если говорить о ваятелях мраморных кор, которые были в изобилии найдены на Акрополе, где их закопали после греко-персидских войн. То обстоятельство, что большинство таких находок относится к Афинам, порой заслоняет историческую правду, а именно — что многие из этих кор, особенно древнейшие, на самом деле происходили с Киклад (с Наксоса и Пароса), благодаря Пи-систрату поддерживавших тесные контакты с Афинами.
Именно на этих островах были изваяны многие образцы такой скульптуры, найденные затем в Афинах. Но и афинские ваятели проявили свое мастерство — сперва в течение краткого периода сильнейшего ионийского влияния (последовавшего за переселением в Афины ионийцев, спасавшихся с 546 г. до н. э. от персидского вторжения), оставившего по себе память в прекрасных статуях с печатью изысканной и загадочной чувственности; затем в их творчестве последовал сугубо аттический период с его уверенной и спокойной художественной манерой.
Наперекор позднейшему предубеждению по отношению к «тиранам», даже рьяные демократы признавали впоследствии, что правление Писистрата было настоящим «золотым веком». Как мы видели, он благоразумно воздержался от вмешательства в существующее солоновское законодательство и не вызвал ничем другим серьезных социальных волнений. Зато проведенная им финансовая политика возымела действие, позволив ему заняться устроением народных празднеств, возведением храмов и проведением внешней политики, сочетавшей смелую экспансию с искусной дипломатией.
Такими разнообразными способами, поначалу удачно наложившимися на общую афинскую политику, Писистрат по-настоящему скрепил единство Аттики и Афин. Жизнь их обитателей перестала быть просто отчаянной борьбой за выживание — напротив, наблюдалось все большее благополучие. К тому же, хотя от тирании далеко до демократии (и Писистрат осуществлял, например, довольно сильный «закулисный» надзор за выборами), тем не менее его режим, как ни парадоксально, проторил путь демократическому строю будущего. Ибо он всячески сдерживал и обуздывал родовую знать; а его проницательное правление породило целое поколение — в самых разных общественных слоях, — которое отныне знало, что такое мирное управление государством.
Писистрату наследовали сыновья Гиппий и Гиппарх. Их правление, на протяжении жизни обоих, было довольно мягким. Они снизили налоги и заручились доверием евпатридов, выдвинув в архонты Мильтиада Младшего из рода Филаидов и Клисфена из рода Алкмеонидов; первому было поручено поддерживать афинское владычество, утвержденное его дядей и тезкой в Херсонесе Фракийском (ок. 516 г. до н. э.). Кроме того, Гиппарх покровительствовал искусствам и учредил на Панафинейских празднествах чтения гомеровских поэм. В это же время обновлялся старый храм Афины, с мраморным фронтоном (древнейшим из известных), на котором скульптурная группа изображала сцену гигантомахии — битвы богов с гигантами. Большая статуя Афины (ок. 525–520 гг. до н. э.), некогда входившая в эту композицию, ныне отреставрированная, хранится в Музее Акрополя. Афины становились все краше, хотя пройдет еще полвека, прежде чем город действительно обретет величественный облик, подобающий богатому полису.
Возможно, в эту же пору, ок. 520 г. до н. э. (или, быть может, десятью — двадцатью годами позднее), афиняне принялись чеканить свои знаменитые — долговечные и имевшие чрезвычайно широкое хождение — серебряные монеты с изображением головы Афины с совой. Эти монеты отливались уже не по весовым стандартам враждебной Эгины (раздел 3), принятым на материке, а по «аттическо-эвбейским» стандартам. Такая драхма, весившая около 4,25 г, была создана по образцу монет, бывших в обращении в эвбейских городах.
Примерно в это же время в вазописи появилась новая краснофигурная техника, упрочившая главенство Афин в этой области. Используя великолепную глину из Керамика с содержанием железа, придававшим ей насыщенный красный цвет, гончары разработали новый процесс обжига, состоявший из трех стадий. Он позволил им усовершенствовать и без того изысканные формы сосудов, созданные их предшественниками — мастерами чернофигурного стиля. Кроме того, эти новые вазописцы (если их вообще можно так называть — ведь они почти не пользовались красками!) «вывернули наизнанку» процесс чернофигурной росписи, оставляя человеческим фигурам и прочим изображениям естественный красный цвет глиняной поверхности, фон же, наоборот, заливая черным лаком. Одновременно процарапанные контуры, которыми прежде вазописцы обозначали будущие изображения, сменились длинными, текучими и размашистыми линиями, наносимыми тонкой кистью. Новый метод оставлял художнику больше свободы и простора для воображения, позволяя дотошно передавать строение человеческого тела и выразительные позы, наряду с разнообразнейшими реалистичными подробностями, будь то черты лица или складки одежды.
Изобретение краснофигурного стиля приписывается вазописцу Андокиду (точнее, одному из вазописцев, работавших в мастерской гончара по имени Андокид), который был учеником Эксекия, мастера чернофигурного стиля, и сам расписал множество сосудов в этом стиле — иногда даже сочетая оба метода на одной вазе. Работы Андокида — художника менее чуткого, чем Эксекий, — являют образец изящества и соразмерности, чтб, надо полагать, отражало роскошь при дворе Гиппия с Гиппархом; его фигуры даны крупным планом и создают ощущение глубины. При царском дворе обретались также прославленные поэты из других греческих полисов — в частности, Симонид из Иулиды на острове Кеос, чья слава достигнет зенита после греко-персидских войн38
Однако правление Гиппия и Гиппарха ожидали беды, главным образом — по причине хозяйственного спада, вызванного наступлением персов во главе с Дарием I. Так, Рекел, некогда занятый Писистратом, и Пангейские рудники, которые он в значительной мере взял под свой контроль, пришлось уступить врагам. Режим афинских братьев-властителей ужесточился, а в 514 г. до н. э. Гиппарх был убит. Его убийцы, Гармодий и Аристогитон, заплатившие жизнью за это деяние, позднее были увековечены в скульптурной группе Антенора и обрели среди потомства славу «тираноубийц», положивших конец диктатуре в Афинах — что неверно, так как их попытка убить заодно Гиппия не удалась.
На самом же деле движение, приведшее к свержению Гиппия и его режима, возглавили Алкмеониды (хотя этот факт позднее и был неугоден соперникам этого знатного рода). После того как один из возвратившихся Алкмеонидов, Клис-фен (названный в честь сикионского диктатора, своего деда со стороны матери), отбыл срок архонтства в 525/524 гг. до н. э., Гиппий вновь изгнал этот род (вместе с другими). Однако Клисфен подговорил спартанского царя Клеомена I (а Писистратиды установили тесные связи со Спартой) изгнать самодержца из Афин (510 г. до н. э.). Считается, что в этом ему помог дельфийский оракул.
Глава 5. КЛИСФЕН
Позже Клеомен рассорился с Клисфеном, но попытки спартанского царя заменить его главой соперничавшего рода, Исагором (508 г. до н. э., ок. 506 г. до н. э.), а затем вернуть к диктаторской власти Гиппия (504 г. до н. э.) потерпели полное поражение.
Когда Клеомен предпринял вторую такую попытку, афиняне разбили в один день войска двух союзников Спарты — Халкиды и Беотийского союза, и эта двойная победа преисполнила афинян уверенностью в своих силах. Беотия, еще в 519 г. до н. э. вступавшая (безуспешно) с Афинами в битву за Платеи, была разгромлена не полностью, зато эта участь постигла Халкиду — и земли халкидской знати были конфискованы в пользу четырех тысяч бедных афинских поселенцев — клерухов (κληρούχοι), получивших такое прозвание из-за выделенных им земельных наделов — клеров (κλήροι). Эти клерухи положили начало новому типу колонизации: они сохраняли афинское гражданство (в отличие от переселенцев в обычных колониях, которые становились гражданами основанного ими нового полиса), так что, хотя географическая удаленность от метрополии вынуждала их заводить собственные органы местного самоуправления, они по-прежнему подлежали службе в афинском войске и в случае необходимости превращались в военный гарнизон, действующий на стороне Афин.
В ходе этих волнений, или уже к их концу (возможно, постепенно, в промежутке между 506 и 500 гг. до н. э.), Клис-фен, заручившись поддержкой народа («привлекши на свою сторону народ»39, то есть демос), получил или захватил в свои руки необходимые полномочия, дабы предотвратить истребление собственной фракции Алкмеонидов, которой приходилось весьма тяжко в междоусобной родовой борьбе. Завладев же этими полномочиями, Клисфен утвердился у власти и воспользовался случаем провести законодательные реформы, которым предстояло стать знаменитейшими во всей греческой истории.
Эти реформы отличались необычайной сложностью. Воспользовавшись в качестве прецедента примером Спарты (Глава III, раздел 3), Клисфен упразднил прежнее деление Аттики на четыре филы (примечание 4), при котором господство оставалось за родовой знатью (и которое не учитывало многочисленных новых граждан, получивших этот статус при Солоне и Писистратидах), — взамен же ввел территориальное деление на десять новых фил, никак не связанных с древним родовым прошлым. За прежними четырьмя филами сохранялось лишь религиозное значение, но будущее Афин отныне целиком зависело от десяти новообразованных фил, или областей. Ибо они легли в основу всех сторон общественной жизни. Одной такой стороной была воинская служба, так как каждая из десяти фил должна была выставить свое войсковое подразделение, а подобная обязанность способствовала быстрому зарождению сословного духа среди новых фил. Такой сплоченности благоприятствовали и религиозные | санкции: каждая фила была названа в честь какого-нибудь мифического героя, по преданию, погребенного в Афинах ь (исключение составили два героя, чьи могилы оказались на Саламине и в Элевсине). В эти клисфеновские филы было допущено немалое число метэков и бывших рабов. Само создание этой новой системы деления явилось умышленной попыткой разрушить прежние консервативные родовые союзы.
Прежде всего, новые филы не были единицами местного значения: управление ими осуществлялось из самого города. И, что самое главное, возврат к прежнему делению стал невозможен, так как было введено еще и членение фил на трит-тии (τριττβες, «трети»). Как мы отмечали ранее (раздел 1, выше), они, должно быть, выступали территориальным синонимом или заменой фратрий и были учреждены в административных целях. Раньше их было двенадцать, Клисфен же довел число таких единиц до тридцати. Таким образом, в каждой филе имелось по три триттии. Но в любой филе каждая из этих трех триттий относилась к иной области Аттики, нежели остальные две триттии той же филы: таким образом, среди граждан наблюдалось сильное «смешение», и такая разбросанность бывших союзников по разным округам устраняла опасность розни.
Кроме того, дабы воспрепятствовать повторному возникновению смутьянских фракций среди жителей равнины, приморья и гор, — три новых территориальных подразделения отнюдь не полностью совпадали с прежними тремя областями. Новыми районами стали город (άστυ, включавший Афины, Фалер, Пирей и полоску прилегающей равнины), приморье (παραλία, куда входила большая часть прежней области с тем же названием, но также и дополнительные прибрежные зоны) и внутренняя часть Аттики (включавшая участки всех трех прежних областей).
Клисфен к тому же разделил десять фил и тридцать триттий на округа — демы (δήμοι), числом около ста сорока. Они были созданы для удобства и пришли на смену прежнему аристократическиму разделению на роды и фратрии. Правда, и эти древние объединения продолжали существовать, сохранив за собой религиозную значимость, но основополагающей единицей общества отныне служил дем. Во все десять фил входили демы из трех новых районов. Так как изначально эти демы были или селениями, или городскими кварталами или маленькими городками (раздел 1, выше), они значительно разнились своей величиной. Принадлежность к демам после должного письменного закрепления, становилась наследственной и не зависела от места проживания, так что члены одного дема далеко не всегда обитали по соседству.
Тем не менее во всех демах имелись собственные перечни приписанных к ним граждан с описью их владений (существовали такие перечни и для метэков), так что государство всегда могло раздобыть необходимые сведения, чтобы побудить афинян к исполнению гражданских обязанностей. Кроме того, демы осуществляли надзор за правами на афинское гражданство: каждый афинский гражданин непременно значился в официальных списках отцовского дема. За демами была закреплена земля, в них шла своим чередом общественная жизнь — с религиозными обрядами и даже народными собраниями (возможно, созывавшимися нечасто). Подобная деятельность, которую возглавлял ежегодно избираемый де-марх (δήμαρχος), противостояла соответствующим назначениям прежних родов и фратрий, а следовательно, ослабляла их. Памятуя о неспешно-созерцательном характере деревенской жизни, надо полагать, что наиболее богатые и знатные представители сельских демов (а также демов, располагавшихся под Афинами) все еще удерживали в своих руках значительную меру власти. Вместе с тем такая новая местная самостоятельность позволяла не одним только богачам, но всем афинским гражданам понять, в той или иной мере, каков механизм государственного управления — уже не полагаясь ни на местного покровителя, ни на главу правительства — диктатора, — ни на его «партию».
Распространение политической деятельности и власти на простых граждан в целом нашло выражение в созданном Клис-феном новом Совете пятисот (впоследствии Буле). Традиция, приписывавшая Солону учреждение Совета четырехсот, пришедшего на помощь и, по сути, заменившего Ареопаг, — вероятно, была правдива (раздел 3, выше). Но об органе, основанном Солоном, нам мало что известно, тогда как клисфеновский Совет пятисот и в будущем сохранял господство. Среди пятисот его членов насчитывалось по пятьдесят человек, старше тридцати лет, набранных из всех десяти новых фил. Каждый из демов, входивших в эти филы, был представлен в новом Совете сообразно численности своего населения; таким образом, Совет служил своего рода соединительным мостиком между городом и деревней и в то же время пресекал на корню появление любых политических партий и оживление «партийных» интересов, тем самым способствуя созданию и развитию афинской демократии.
Совет пятисот заседал ежедневно, за исключением праздничных и неблагоприятных дней. Текущие дела Совета готовила группа из пятидесяти его представителей — притонов (яритауец), причем каждая такая группа выбиралась на одну десятую часть года. Пританы являлись на службу каждый день, а над ними начальствовал ежедневно сменяемый председатель — притан-эпистат (ётпот&тпО· Неясно, существовала ли такая система в окончательной форме уже в клисфенов-ские времена, но, видимо, разнообразие обязанностей Совета с самого начала потребовало учреждения подобного «срочного исполнительного комитета». Ибо Совет, будучи органом совещательно-административным, имел в своем ведении множество самых разных текущих дел. Кроме того, Совет завладел всеми законодательными правами, так что отныне к нему перешли важные судебные функции — в частности, право рассматривать случаи предполагаемых нарушений законности. Члены Совета отбывали на службе годичный срок, а по прошествии некоторого времени им позволялось снова занимать в нем должность.
Однако нельзя с точностью установить, как именно осуществлялся отбор граждан в этот орган на заре его существования. В начале должности в Совете были выборными и неоплачиваемыми, а приблизительно с 450 г. до н. э. (или 462 г. до н. э.) булевтов стали назначать по демам путем жеребьевки. Любые попытки выяснить, с каких пор это в действительности началось, наталкиваются на упорное препятствие в лице афинских писателей (в том числе Аристотеля), неизменно приписывавших черты позднейшей демократии чрезмерно раннему периоду40. Но к эпохе Клисфена метод жеребьевки уже был в ходу, а следовательно, по жребию назначались не только члены суда-гелиэи (если только это была особая группа, выделявшаяся из Народного собрания, а не само Народное собрание целиком), но и члены клисфенов-ского совета пятисот.
Афиняне наделяли жеребьевку большим религиозным значением, ибо она оставляла выбор за богами. Впоследствии такой порядок превозносили радикалы (но порицал Сократ), видя в нем высший принцип восхвалявшейся ими крайне-демократической системы, так как он всех уравнивал перед случаем41. В этом отношении он действительно был демократическим, хотя в другом отношении он таковым не был, потому что выбор не всегда падал на достойнейшего: жребий, как замечали его противники, слеп к людским заслугам.
Однако на протяжении последующих веков афинской демократии такая система срабатывала не так дурно, как можно было бы ожидать, — главным образом потому, что многие рядовые граждане уже получили политическую и административную закалку в различных органах местных общин, так что жеребьевка не могла натворить большой беды. Однако этот метод, особенно на раннем этапе, подвергался одному весьма существенному ограничению: жребий тянули лишь для кандидатов, за которых предварительно проголосовали жители дема (это голосование называлось ярокршц). Таким образом, разыгрывавшаяся жеребьевка лишь помогала выбрать кого-то одного из небольшого списка претендентов, ранее избранных путем голосования, — иными словами, исходя из их достоинств и заслуг. Неважно, был ли в Афинах учрежден такой «средний путь» уже Солоном или нет (на сей счет даже Аристотель, кажется, впадает в противоречие с самим собой — примечание 40), — должно быть, он играл важную роль в установлениях Клисфена.
Народное собрание, как и новый Совет, отныне обладали значительными полномочиями, которые ранее показались бы неслыханными. Трудно определить сравнительное влияние этих двух органов в эпоху Клисфена и в последующие десятилетия, однако такую попытку все же следует совершить, ибо от ответа на этот вопрос зависит и наша общая оценка ранней, или нарождающейся, афинской демократии (точнее, демократии среди мужчин-граждан, так как женщины, метэки и рабы к ней не имеют касательства).
В пользу предположения, что главенство принадлежало Народному собранию, говорит его право принимать или отвергать, на своих устраивавшихся в течение года сорока сходках, предложения Совета. Кроме того, за Народным собранием значился ряд важных функций, включая ответственность за объявление войны; а так как состав Совета ежегодно полностью сменялся, это лишало его сплоченности, которая смогла бы противостоять «верховной» власти Народного собрания. К тому же гражданский состав последнего приобрел ббльшую четкость и радикальность, и изрядно пополнился за счет новоявленных граждан. Когда глашатай выкрикивал: ♦Кто может дать полису добрый совет и хочет, чтобы его услышали?» — он действительно обращался ко всему собранию граждан: такова была в действии прямая (а не представительная, как сегодня) демократия, где любой желающий мог выступить с политической речью перед широкой аудиторией — участливой и пристрастной.
В то же время именно Совет решал, какие предложения следует вносить в Народное собрание и в какой форме, — да и заседал Совет чаще Народного собрания (которое, кстати говоря, лишь голосовало поднятием рук). К тому же Совет взял на себя (или сразу, или несколько позже) обязанность предварительно рассматривать эти вопросы (προβούλευσις), прежде числившуюся за Ареопагом. Впоследствии он следил и за тем, чтобы постановления Народного собрания приводились в исполнение, так что официальная формула «Совет и Народ постановили» обладала полнокровным смыслом.
Вторым серьезным ограничением полномочий Народного собрания явился штат из десяти военачальников- стратегов (στρατηγοί), учрежденный в ту же пору. Они возглавляли воинские подразделения каждой из десяти фил и командовали афинским войском. Эти стратеги, вначале происходившие из знатных и богатых семейств, не назначались путем жеребьевки, ввиду их специфических обязанностей, а избирались Народным собранием, причем избирать одного и того же человека на эту должность можно было неограниченное число раз.
Полемарх по-прежнему возглавлял государственные войска, ведя их в битву, и сражался сам, когда полису грозила беда. Однако ни он, ни другие архонты уже не обладали былым влиянием. Признаком такой перемены явилось постановление, согласно которому их, наряду с прочими членами Совета, следовало назначать по жребию, из перечня прокрытое (πρόκριτοι), то есть уже «избранных» жителями демов кандидатов. (В V веке до н. э. от такой системы отказались в пользу двух последовательных жеребьевок.) Наши источники не придерживаются единого мнения относительно того, когда именно архонтов начали назначать таким образом. Возможно, это впервые случилось в 487/486 гг. до н. э., но в целом можно заключить, что и это новшество было введено Клисфеном. (Испытания же претендентов на архонтство, и проверка их деятельности, были учреждены ок. 462 г. до н. э. [ср. раздел 3, выше].)
Учреждение должностей стратегов явно представляло большие помехи безраздельному главенству Народного собрания, нежели те, что могли теперь чинить архонты с их ослаблен, ным могуществом. Но не меньшие ограничения свободе де, ятельности этого органа, которая рассматривалась отныне как демократическое выражение народной воли, исходили из его собственных рядов и вытекали из его собственного характера.
Ибо, хотя выступить с речью в Народном собрании мог любой, — того, кто начинал говорить глупости, как нам известно, немедленно «освистывали». Иными словами, определенная мера опыта и знаний требовалась не только для обращения не только к Совету, но и к Народному собранию, — а единственными людьми, кто располагал досугом для обретения подобных знаний, были представители праздного аристократического сословия, так что и здесь еще господствовали высшие слои общества и формируемые ими же «лобби». Вместе с тем человек, таким образом завладевавший всеобщим вниманием в Народном собрании, мог удержать его, лишь постоянно упражняя и утверждая свой дар убеждения и воздействия на слушателей — снова и снова. Он не получал автоматического признания в силу одной своей принадлежности к определенной «партии» или сословию. Напротив — рассказывали, что Клисфен вознамерился искоренить эти прежние «клановые» обычаи и содружества (ооупвеихг)42, пестовавшиеся аристократическими кружками и симпосиями, которые составляли ядро политической, общественной и культурной жизни в раннегреческом полисе. (И здесь ему не удалось добиться полного успеха, потому что эти древние установления выдержали все подобные посягательства на свое существование.)
Клисфен заботился все о том же — о предотвращении междоусобной розни, — когда ввел неслыханный дотоле обычай — остракизм. Это был новый способ изгнания видных политиков, терявших народное доверие. Каждый афинянин, желавший устранения такого человека, выцарапывал его имя на черепке (ботракоу), и если общее число голосов превышало шесть тысяч, — человек, чье имя возглавляло список, удалялся на десять лет в изгнание. Хотя никто не подвергался остракизму ранее 487 г. до н. э., — указанию Аристотеля на то, что сама процедура была учреждена Клисфеном, вполне можно довериться43. Однако он был не совсем прав, полагая, что остракизм был задуман с целью предотвратить тиранию в будущем; а уж коли так, то это была лишь второстепенная цель — или, быть может, одна из первоначальных целей, которую затем вытеснили другие. Основным назначением этого порядка, как показал ход дальнейших событий, было предотвращение столкновений между враждующими аристократическими родами. Ибо в Афинах еще оставалось немало сторонников Писистратидов; имелись и другие причины — ведь политическая власть по-прежнему оставалась слаба, и Клисфе-ну, который и сам прежде был «партийным» вождем, было это известно как нельзя лучше. Поэтому он решил, что спасти государство можно, лишь временно устранив кого-либо из таких смутьянов. Некоторые особенности остракизма заставляют предположить в нем сознательное возрождение древнейшего религиозного обычая — а именно очищения общины от скверны (μίασμα) изгнанием «козла отпущения». Высылка неугодного политика была вернейшим способом заставить его замолчать; ибо афинская цивилизация до сих пор носила преимущественно устный характер, — а в рамках устной культуры достаточно было физически удалить человека, так чтобы от него ни слуху ни духу не было, — и он уже не представлял никакой угрозы.
Такой метод устранения аристократов-бунтарей явился очередным шагом Клисфена, стремившегося «приблизить народ к участию в общественных делах»44. Принимая подобные меры, он, надо полагать, не мог предвидеть, сколь колоссального могущества достигнет в следующем столетии афинская демократия. И все же он с твердостью проторил путь к этому могуществу, дав народу и Народному собранию верный залог будущей власти. Та степень демократии, что была учреждена Клисфеном или существовала в его время, известна нам под именем исономии — «равнозакония», — которая пришла на смену иерархическому порядку эвномии — «благозакония». Правда, и былое устройство не было полностью разрушено, но его вытеснило новое; как и везде, прежние θεσμοί — «указы», «установления», навязанные властями, отныне соседствовали с νόμοι — законами и обычаями, принятыми по доброй воле самой общиной, — и частично уступали им место. Клисфенова исономия — пусть она не сразу вступила в действие, а лишь постепенно формировалась, — являла собой сложное, мудреное и пробное нагромождение политических новшеств. Оно дополнило самую демократическую форму правления из тех, что дотоле порождала человеческая изобретательность, и определило сущностные черты афинского общества на ближайшие двести лет.
На это последнее десятилетие VI века до н. э. пришлась та стадия в искусстве, которую многие по праву считают вершиной афинского краснофигурного стиля вазописи. Были совершены новые, более смелые попытки достичь реализма: отныне эти росписи были уже не просто украшением плоской поверхности, а настоящими окнами-прорывами в трехмерный, наделенный перспективой мир, в котором по-прежнему преобладали мифологические сцены, но завоевывали все больше места и человеческие изображения — например, сцены из жизни молодого аристократа и дионисийские празднества.
Среди множества афинских вазописцев явно выделялась группа необычайно даровитых мастеров, со смелой уверенностью положивших начало «классическому стилю» будущего и названных впоследствии первооткрывателями. Некоторые из этих художников, особенно Евфроний, Евфимид и вазописец круга Клеофрада, обнаруживали точность и искусность в передаче линий, сравнимые с блестящими достижениями современной им скульптуры. Евфроний, умевший искусно изобразить пышные формы гетер (ешграг) с мельчайшими подробностями, выказывал не меньше художественной сноровки в использовании тени и цвета, передавая ярость воинских сражений. Рассказывали, что, когда вазописец начал терять зрение, он обратился к гончарному ремеслу и преуспел в нем в равной степени. Евфимид, славившийся уверенными, скупыми линиями и тонкостью рисунка, не знал себе равных в изображении изогнутых и перекрученных, необычайно пластичных человеческих тел. Но непревзойденным рисовальщиком, работавшим на рубеже VI–V веков до н. э., был вазописец из мастерской гончара Клеофрада. Для его яркой, личностной живописной манеры характерны смелые текучие очертания и пространственная монументальность композиции. Приблизительно в ту же пору появилась — возможно, по почину мастера Никосфена, — изящная вазопись по белому фону вместо черного, вдохновленная восточно-греческими узорчатыми тканями.
Над афинской внешней политикой Клисфеновой эпохи тяготела угроза со стороны могущественной Персии. Ок. 513/512 гг. до н. э. царь Дарий I вторгся во Фракию и пересек Дунай; возможно, и даже вполне вероятно, он уже тогда замыслил со временем завоевать всю Балканскую Грецию. Мнения афинян по поводу того, как следует вести себя по отношению к персам, разделились. Когда спартанский царь Клеомен I дважды пытался водворить в Афинах своего ставленника Исагора, афиняне было обратились за помощью к Дарию — но затем передумали, отвергнув условия, которые выставил им персидский сатрап из Сард. Вероятно, за первой попыткой заручиться персидской поддержкой стояли Алкмеониды во главе с Клисфеном, а ее неудачный исход, быть может, ослабил или подорвал его положение, — хотя после смерти (последовавшей, видимо, ок. 500 г. до н. э.) ему воздали должные почести, удостоив погребения за государственный счет.
Глава 6. АФИНЫ И ЭГИНА
После того как в 506 г. до н. э., в один и тот же день, Афины нанесли поражение халкидским и беотийским войскам, беотяне, как мы отмечали в предыдущем разделе, еще не были окончательно разбиты. Вдобавок Афины отныне превратились в соперника и решительного врага своего соседа с противоположной стороны — Эгины.
Этот вулканического происхождения остров — гористый и почти неприступный, — лежащий посреди Саронического залива, на полпути между Аттикой и Пелопоннесом, занимал выгодное географическое положение, которое, невзирая на скромную площадь острова (всего 83 квадратных километра), издревле обеспечивало ему важное место в средиземноморской торговле. К дорянам, вторгшимся на Эгину ок. 1100 г. до н. э. и подчинившим себе жителей более раннего фессалийского поселения (следы которого были обнаружены на склонах горы Элии), присоединились ок. 950–900 гг. до н. э. другие переселенцы — возможно, из Эпидавра (Глава III, примечание 2), который, как считалось, одно время удерживал остров под своим влиянием.
Так или иначе, Эгина, вслед за Эпидавром, вступила в Калаврийскую амфиктионию (с центром в Калаврии — на нынешнем Поросе) — один из древнейших священных союзов, в который входили крупнейшие морские полисы в Сароническом и Аргосском заливах, а также Орхомен в Беотии. Но вполне возможно, что остров некоторое время контролировал Фидон Аргосский (Глава III, раздел 1) — хотя сведения о том, что он использовал его в качестве своего «монетного двора», оказались ошибочными. Как бы то ни было, Эгина — избегнув стадии тирании, укоренившейся в ту пору в других полисах, — установила у себя надежный олигархический режим, зиждившийся на торговле. При таком правлении Эгина не только процветала благодаря купеческой деятельности и торговому посредничеству, но и превратилась в VII веке до н. э. в перворазрядную греческую талассокра-тию — морскую державу45.
Приблизительно с 595/590 гг. до н. э., или, быть может, чуть позже, эгинцы принялись чеканить серебряные монеты с изображением черепахи — самые ранние из всех монет как на материке, так и на окрестных островах. Они находились в широком обращении на протяжении последующих веков и явились одним из двух главных (наряду с эвбейско-аттическим) монетных весовых стандартов, бытовавших среди греков. Эгинский стандарт, отталкивавшийся от драхмы весом около 6 граммов (и в конечном счете отражавший сирийскую систему мер, где мина содержала 50 сиклей [статеров]), был принят во всем Пелопоннесе, во многих государствах Средней Греции и на многих островах. Кроме того, на Эгине была разработана старейшая система мер и весов, известная греческому миру.
На Эгине имелся большой храм Аполлона (от него сохранились лишь незначительные фрагменты), а по соседству с ним, на мысе Колонна, — несколько более позднее и меньшее по размерам, но весьма знаменитое святилище Афайи (догреческой богини, затем отождествленной с Афиной). На месте храма до сих пор возвышаются его колонны; сохранились и мускулистые скульптуры с фронтона (ныне в музеях Мюнхена и Афин), принадлежащие по меньшей мере к двум разным стилям и относящиеся, возможно, к 520–500 гг. до н. э. — если только изваяния второго мастера не созданы десятилетием или двумя позже. Эти скульптурные группы, в которых чувствуется и пелопоннесская основательность, и ионийско-аттическое изящество, изображают сцены Троянской войны и предвосхищают будущие возможности круглой (отдельно стоящей) скульптуры. Да и в бронзовой скульптуре эгинцы успели утвердить свое первенство; в этой области славился ваятель Онат. Говорили, что он, а еще Каллон и Глав-кий, превосходили всех прочих в изображении обнаженного мужского тела.
Нередко возникало соперничество между Эгиной и Самосом, особенно в Навкратисе — торговом городе в Египте, — где из всех раннегреческих полисов имела представительство одна только Эгина. Но наконец наступала неизбежная пора, когда сломить морское и торговое могущество Эгины, расположенной в столь неуютной близости, вознамерились Афины. Уже Солон принимал законы, призванные ограничить эгинскую торговлю46, вследствие чего островитяне заключили союз сначала со спартанцами (хотя неясно, сделалась ли Эгина в действительности членом Пелопоннесского союза), а затем с Беотийским союзом. Но после того, как этот союз, вместе с Халкидой, понесли поражение от афинян в 506 г. до н. э., — Афины встряли в неизбежную «необъявленную войну» с Эги-ной — в продолжительную и непримиримую борьбу. Олигархам, господствовавшим на Эгине, и демократически настроенным афинянам было не столковаться между собой. Позднее Пиндар восхвалял эгинскую эвномию, власть богачей. А Геродот в начале V века до н. э. передавал, что они убили 700 представителей демоса — то есть сторонников более широкой формы правления47.
Столь враждебное отношение эгинского правящего класса к Афинам означало, что, когда афиняне как будто собирались вступить в столкновение с Персией, им не приходилось ожидать помощи от все еще нерушимой Эгинской державы, — а ту, в свой черед, легко было заподозрить (быть может, справедливо) в сочувствии персам, которые могли бы истребить ее недружелюбных соседей-афинян. После того как афиняне выказали вражду по отношению к персам, выслав двадцать кораблей в помощь Ионийскому восстанию (499–498 гг. до н. э.), — они вскоре пошли на попятный и спешно увели из Малой Азии свой флот, — опасаясь, как бы Эгина с его отсутствием не учинила какой каверзы.
Избрание в 496 г. до н. э. афинским архонтом Гиппарха (по-видимому, члена семьи Писистрата, чей сын и ближайший преемник носил то же имя) свидетельствует о том, что в городе еще сохранялось некоторое влияние проперсидской партии. С другой стороны, многие афиняне были повергнуты в скорбь, когда пришла весть о поражении Ионийского восстания и последовавшем за ним взятием Милета (494 г. до н. э.). А спустя год (или чуть позже) трагический поэт Фри-них, сочинивший драму на этот сюжет, был подвергнут штрафу за то, что напомнил о бедствии, постигшем милетских друзей.
Тем временем персы ничуть не забыли афинянам их враждебного вмешательства в мятеж и вознамерились им отомстить. Так была подготовлена почва для греко-персидских войн. Почувствовав их приближение, дальновидный молодой Фемистокл, будучи архонтом в 493 г. до н. э., или занимая позже какую-то другую должность, начал превращать Пирей в укрепленный порт. Безусловно, причины, подвигшие его на столь решительный шаг, носили смешанный характер. Одной из причин была персидская опасность, другой — развитие торговли. Но дополнительным побуждением стал страх перед эгинцами и желание устоять против них, — особенно, вздумай они нанести Афинам удар в спину, когда персы приведут свою угрозу в исполнение. И этот страх не исчезал до тех пор, как афиняне наконец не захватили остров — уже спустя два с лишним десятилетия после окончания греко-персидских войн48.
ЧАСТЬ III. ПЕЛОПОННЕС
Глава 1. АРГОС
Пелопоннес — обширный и, по большей части, гористый полуостров в Южной Греции, отделенный от остального материка Коринфским перешейком — Истмом. Греки толковали его название как ШХопсх; ут}оо; — остров мифического Пелопса, внука Зевса, чьи потомки Пелопиды (среди них был и Агамемнон), по преданию, царили в Микенах или Аргосе.
Главными областями, на которые делился Пелопоннес, были Арголида, Ахайя, Элида, Аркадия, Лакония и Мессения. Треугольная Арголида лежала в северо-восточной части полуострова; с северо-востока и юго-запада к ней примыкали горы, а с юга простиралось море. Город Аргос располагался неподалеку от развалин бронзового века — бывших дворцов-крепостей Микен и Тиринфа, — и его тень смутно отразилась в Микенском царстве Агамемнона Гомеровой Илиады, где вся эта область названа Аргосом (что означало, по-видимому, просто «равнина» — центральная равнина, составлявшая ядро Арголиды).
Город Аргос, образованный цитаделями на вершинах двух холмов — Аспида и Ларисы, — находился в южной части этой равнины. Это место было заселено с доисторических времен и играло важную роль в бронзовом веке, чтб лишний раз подтвердили недавние раскопки. Отзвуки этого древнего могущества сохранились в преданиях, окружающих царя Ад-раста. Согласно мифологии, он был сыном царя Талая, а после всего изгнания в Сикион и возвращения в Аргос возглавил поход Семерых против Фив, а позднее совершил и второй набег на этот город, уже с эпигонами («рожденными позже» — то есть сыновьями вождей, павших в первом походе); обе войны стали предметом множества сказаний. Внуком Адраста был Диомед, который в Гомеровой Илиаде правил Аргосом, будучи подвластным царю Микен Агамемнону, а позже играл важную роль в Троянской войне; после ее окончания скитался по западным краям.
После краха Микен и Тиринфа Аргос, по преданиям, подпал под власть мифического Темена и его сына Кисса, слывших потомками славнейшего из всех греческих героев — Геракла, сына Зевса и Алкмены, который совершил много доблестных подвигов ради человеческого рода и чтился как победитель зла и верный помощник1. Доряне любили называть свое переселение «возвращением» Гераклидов (Глава I и примечание 7; это подразумевало, что они следуют по пятам Гераклова сына Гилла, а следовательно, являются потомками самого героя); подобные выдумки были чрезвычайно распространены в Аргосе, лелеявшем предания о том, что Геракл родился по соседству, в Тиринфе.
Как явствует из археологических и исторических данных, Аргос, как и вся Арголида, подвергся серьезному разрушению ок. 1200 г. до н. э.; дорийское вторжение можно датировать приблизительно 1075/1050 гг. до н. э. В этот последний период группа разрозненных деревушек сплотилась в единое поселение с городским центром в цитадели на Ларисе, и оно, в должный черед, заменило сгинувшие Микены в качестве главного города Арголиды; расположено оно было столь же выгодным образом, что и Микены, господствуя над равниной, — а с источниками воды обстояло даже лучше. Возникнув из столь скромных истоков, поселение понемногу развивалось на протяжении следующих трех столетий. К IX веку до н. э. здесь прочно укоренилась небольшая община, а к 700 г. до н. э. город значительно разросся, вобрав в себя окрестные дорийские поселения поменьше. Почти половина известных захоронений «темных веков» на Аргивской равнине (а они оказались куда многочисленней, чем считалось раньше) приходится на сам Аргос.
О ранних событиях и развитии города нам известно лишь в самых смутных чертах, так как сочинения местных историков Сократа и Диния (вероятно, оба жили уже в эллинистическую эпоху) не сохранились. Ясно одно: Аргос стал древнейшим центром дорийского могущества — не только в Ар-голиде, но и во всем Пелопоннесе. Коренное население было подчинено, но не порабощено: оно превратилось в периэков — «окрестных жителей» (ср. Глава I и примечание 61). Иногда их звали орнеатами — возможно, потому, что деревня Орнеи была первым поселением в области, которое захватили доряне. Периэков называли еще гимнетами или гимнесиями (уоц\т|те^, у\)ц\т|сяо1) — легковооруженной пехотой. Часть дорян из Аргоса позднее перебралась в Эпидавр, расположенный возле Саронического залива2.
С крушением микенских центров бронзового века пришел конец и великим школам микенского искусства, но впоследствии в уцелевших деревушках начали производить нехитрую послемикенскую керамику, позже уступившую место (по-ви-димому, достаточно внезапно) более изящному протогеометрическому стилю, который Аргос (еще до Коринфа или Фив) перенял у афинян. Впоследствии аргивяне создали собственную школу геометрической керамики (уступавшую первенство лишь Афинам), разработавшую вскоре после 800 г. до н. э. самостоятельный стиль, для которого характерно обилие грубых полос и фигуративных сценок (одних из самых ранних во всей Греции).
Но особенно славился древний Аргос обработкой металлов. На исходе X века до н. э. он уже имел собственный завод для очистки серебра, где купелировали этот металл. Геродот же, описывая вычеканенные и отлитые грифоньи головы, выступающие по краям древних котлов, называет их «арголийски-ми»3. Это говорит о том, что Аргос был главным центром, или по крайней мере одним из главных центров их изготовления. Такие котлы нередко служили культовой утварью, и их использование в Аргосе дотошно регулировалось законом; очень часто их посвящали в дар аргивскому Герейону.
С древнейших времен город во многом был обязан своей известностью соседству с этим Герейоном — знаменитым святилищем богини Геры. В соседней Просимне еще в эпоху неолита и бронзы существовали ее капища: Гера издревле была местным божеством плодородия, «матерыо-землей», а ее эпитет «волоокая» (роажц) служил напоминанием о временах поклонения животным-тотемам. Позднейшая мифология сопрягла ее с Зевсом «божественным супружеством», типичным для богов у индоевропейских народов бронзового века. (Имя местного героя Геракла, кстати, означает «слава Геры».)
Самый древний Герейон стоял на верхней из террас, что вырублены в склоне горы, поднимающемся над Аргивской равниной; это был один из самых ранних греческих храмов, построенных в виде периптера (то есть окруженных со всех сторон колоннами). Это эпохальное (и по величине, и по облику) сооружение венчала крыша из терракотовых черепиц, а не привычная дотоле кровля из древесины с соломой. Возможно, это было древнейшее святилище, имевшее каменные колонны, хотя поначалу из камня были вытесаны только базы колонн, а на них стояли деревянные стволы. Должно быть, этот первый Герейон относился к VIII веку до н. э.; терракотовую модель здания, найденного здесь же и, наверное, изображающую сам храм, датировать трудно, но, видимо, слепок был сделан до 700 г. до н. э. (как и остальные слепки, найденные в Пирее [Перахоре] близ Коринфа [раздел 2]). Возможно, и верхняя храмовая терраса относится к той же эпохе. Ее размеры свидетельствуют о том, что Аргос уже достиг к той поре изрядного могущества и богатства, позволивших ему затеять подобное предприятие.
Памятуя об этом, святилище Геры, наделявшееся такой важностью, что впоследствии Гелл аник и Фукидид брали перечень его жриц за хронологический ориентир для греческой истории в целом, — с полным основанием можно отнести к заслугам аргосского царя Фидона, весьма яркого исторического лица.
Считалось, что уже со времен Теменова внука аргивские монархи выродились в «декоративные фигуры». Коли так, то дело повернулось вспять, когда трон перешел к Фидону. В соответствии с различными мифами и легендами, которыми обросло его царствие, античные писатели видели в нем потомка Темена в или шестом, или в седьмом, или в десятом колене; ввиду такого разброса мнений время его жизни безнадежно терялось где-то внутри длиннейшего исторического отрезка — между 900 г. до н. э. и 700/650 гг. до н. э. Однако современные авторы, в большинстве своем, свели все эти противоречия к выбору между началом VIII и началом VII века до н. э… Последняя из двух версий наилучшим образом увязывается с большинством сведений о его деятельности. А если воспользоваться (как нам представляется разумным) ссылкой Павсания на вмешательство царя в дела Олимпии с «восьмой» олимпиады (748 г. до н. э.) по «двадцать восьмую» (668 г.)4, то можно принять именно эту дату начало VII века до н. э.5
По-видимому, Фидон был наследственным монархом, превысившим законные полномочия и утвердившим самодержавную власть, — или, по словам Аристотеля, он «достиг тирании на основе царской власти»6. Взяв на себя роль тирана-диктато-ра, именно он (если только у него не имелось каких-либо неизвестных предшественников-ионийцев) положил начало той стадии греческой — и особенно северно-пелопоннесской истории, для которой были характерны подобные диктаторские режимы. Говорить об «аргивской державе» Фидона, пожалуй, было бы преувеличением, — и все же его заслуги были по-своему примечательны; к тому же общепризнанно, что при его правлении Аргос пережил эпоху такого могущества и расцвета, какие не выпадали ему ни прежде, ни после.
Провозгласив своей целью возрождение «Теменовых владений», Фидон сперва завершил объединение Аргивской равнины и захватил остров Эгину (Глава II, раздел 6), в ту пору являвшийся важнейшим торговым центром в округе (и тем способствовал распространению слухов — опровергнутых нумизматами, — о своем «изобретении чеканки» на эгинских монетных дворах). Затем — если следовать принятой нами хронологии — он возглавил аргивское войско и одержал решающую победу над спартанцами в битве при Гисиях (ок. 669 г. до н. э.) — возможно, отражая натиск спартанских захватчиков. Этот успех позволил аргивянам распространить свое влияние на западные области Пелопоннеса: там Фидон, очевидно, отобрал у Элиды право на устройство Олимпийских игр, вверив его Писе (раздел 6, ниже). Вероятно, в ту же пору аргивяне основали колонию Курион на Кипре.
Хотя прямых свидетельств и не имеется, возможно, Фидон был обязан своим успехом тому, что первый обзавелся отрядами гоплитов (тяжеловооруженной пехотой), появление которых во многих греческих полисах ознаменовало поворотные изменения в их ранней истории (Глава I). Гоплитский щит о двух рукоятях носил название «аргивского» или «арголид-ского», так как его будто бы изобрели аргивяне7 (такое утверждение, даже если оно неверно, свидетельствует о том, что поначалу они сохраняли своего рода монополию на их изготовление), а раскопанная в Аргосе пышная гробница воина, относящаяся примерно к 725–700 гг. до н. э., хранила великолепное гоплитское снаряжение — в частности, колоколовидный нагрудник, латы и тяжелый шлем ассирийского типа.
Гоплите кие доспехи являли собой смешанное наследие, но Аргос явно играл видную роль в их разработке. Вдобавок, хотя в ту пору, к которой относится аргосское погребение, боевая тактика фаланги еще не получила окончательного становления, — Аргос, по всей вероятности, сыграл значительную роль в ее дальнейшем развитии, как и ранее — в создании гоплитского вооружения. Согласно такому предположению, правление Фидона совпало по времени с решающей стадией этого процесса; и, возможно, под его водительством аргивские войска явили в битве при Гисиях один из самых ранних успешных примеров превосходства этой греческой боевой единицы, которой оказалась суждена весьма долгая жизнь. Такие достижения в области военной тактики, безусловно, подходят в качестве здравого объяснения, в котором, по-видимому, нуждались Филоновы победы. Возможно также, что появившаяся в его распоряжении новая фаланга, усовершенствованная на широкой Аргивской равнине, которой так подходили ее тактические методы, — частично или преимущественно состояла из граждан среднего сословия, что позволяло Фидону держать в узде аргивекую знать. Наверное, памятуя о победе при Гисиях, один поэт из Палатинской Антологии восхвалял непревзойденную доблесть воителей из Аргоса8.
Хотя, как мы уже отмечали, неверно было бы говорить, что Фидон стал чеканить на Эгине первые греческие монеты, — вполне вероятно (как об этом сообщается), что он посвящал в дар Гере Аргосской металлические вертела или рожны — обелиски (οβελίσκοι), служившие в ту пору средством обмена и предтечей будущих монет: обломки таких стержней были обнаружены поблизости с аргивскими доспехами VIII века до н. э., а также в самом Герейоне. Кроме того, нам известно о горсти (δραχμή) таких обелисков, посвященной Гере — ибо в Пелопоннесе в эту позднегеометрическую эпоху богатство заявляло о себе изобилием железа.
Однако политическое могущество Аргоса, по-видимому, ненадолго пережило правление Фидона; возможно, оно пресеклось из-за усиления власти в Коринфе (говорили, что тамошняя тирания возникла не без влияния и поддержки Фидона). Ненадолго пережило Фидона и аргивское самодержавие: уже к концу века царской власти настал конец, и ей на смену пришло правление кучки аристократов или олигархов.
На протяжении последовавшего периода Аргос утвердил свое господство в области искусства, примером чему служат два огромных каменных изваяния начала VI века до н. э., найденные в Дельфах: на них высечены имена аргивских героев Клеобиса и Битона, а также имя ваятеля — их соотечественника Полимеда (?). Что до политики, то позднейшие правители оказались не столь удачливы, не сумев объединить Арголиду не говоря уж обо всем Пелопоннесе. Так, диктатор Сикиона Клисфен (ок. 600–570 гг. до н. э.) попрал притязания Аргоса на господство над областью, упразднив всякое почитание аргосского героя Адраста; ответным шагом Аргоса, по-видимому, стало возвышение Немейских игр, некогда любимых Ад-растом.
Эти игры, проводившиеся на легендарном месте первого подвига Геракла (считалось, что здесь он задушил немейского льва), находились под опекой Клеон — небольшого городка на северной границе Арголиды, входившего в аргивские владения. Местные празднества существовали здесь и раньше — их учреждение даже приписывали самому Адрасту (а то и Гераклу), — но поначалу эти состязания имели исключительно местное значение. Отныне же, с 573 г. до н. э., они получили почетный Панэллинский статус, превратившись тем самым в четвертые, и последние, из великих всегреческих Игр. Такова была решительная ответная мера Аргоса на враждебные выпады Сикиона. С этих пор Немейские игры устраивались каждый второй год, а наградой победителям служили венки из дикого сельдерея.
Основной бедой аргивян была их исконная вражда со Спартой, давнее соперничество, которое (вопреки противным доводам) восходило еще к VIII веку до н. э., а более угрожающие формы обрело в VII веке до н. э… После 560 г. до н. э., когда Аргос, согласно Павсанию, посеял тревогу среди спартанцев, изгнав жителей прибрежного города Навплии10, — те в открытую принялись защищать другие пелопоннесские государства от подобного вмешательства, а ок. 546 г. до н. э. вторглись в Арголиду.
Тогда при Фирее, на спорной территории Фиреатиды, что на восточном побережье, состоялась необычная «битва победителей». В соответствии с предписанием властей из аргив-ского Герейона, триста аргивян вышли сразиться против трехсот спартанцев (таковы были экономичные военные предписания, из которых, возможно, так ни разу и не была извлечена польза в более поздние времена). После сражения в живых остались два аргивских воина и один спартанский, причем обе стороны провозгласили себя победителями, так что между противниками последовало новое столкновение. Обе стороны понесли тяжелые потери, и под конец верх взяли спартанцы. Аргивяне в знак скорби остригли волосы, ибо их притязания на главенство над Пелопоннесом были растоптаны.
Но отнюдь не навсегда — и не во всем. Так, из числа аргивян прославились бронзовых дел мастер Агелад (ок. 520/512 гг. до н. э.), флейтист Сакад, знаменитейший музыкант этого века; а согласно одной теории, в числе прочих источников аттической трагедии были и песни в память Адрастовых страстей. Политическое влияние Аргоса тоже начало понемногу оживляться после провала спартанского вторжения в Афины в последнем десятилетии VI века до н. э… Но ок. 494 г. до н. э. спартанский царь Клеомен I высадился со своими войсками на арголидском побережье неподалеку от Тиринфа, и в последовавшей битве при Сепии полегло шесть тысяч аргивских воинов. В отчаянии аргивяне мобилизовали своих периэков и прочих неграждан. Однако этот разгром, оказавшийся куда горше Фирейской неудачи, практически вывел из строя целое поколение аргивян, и им никогда впредь не суждено было стать крупной державой.
Глава 2. КОРИНФ
Коринф располагался возле перешейка (Истма) в северо-восточной оконечности Пелопоннеса, контролируя его сообщение с остальной частью Балканской Греции. К западу от Истма простирается Коринфский залив (выходивший к Ионическому и Адриатическому морям), а к востоку — Саронический залив, глубокая излучина Эгейского моря.
Древний городской центр находился на склонах Акроко-ринфа. Это был неприступный акрополь в 9,6 км к западу от перешейка, в 3,2 км в глубь суши от Лехея, гавани в Коринфском заливе, и в 12,8 км от Кенхрей — другого города-порта в Сароническом заливе.
Акрокоринф, господствующий над небольшой, но весьма плодородной и густонаселенной прибрежной равниной, был обитаем с эпохи неолита, однако в поздний бронзовый век здешнее поселение, по-видимому, затмил приморский Кора-ку — который, возможно, и был тем «богатым Коринфом», что упоминается в Гомеровой Илиаде^, — городом, зависевшим от властителей Микен. Коринф, отождествлявшийся с Эфирой (городом, в иных контекстах не известным), связывался в греческой мифологии с Сисифом — фольклорным персонажем, вором и плутом, осужденным после смерти катить большой камень на вершину горы, откуда тот снова скатывается вниз. Другим местным мифическим героем был Бел-лерофонт (тот самый, что скакал на крылатом коне Пегасе), чья связь со страной на юге Малой Азии свидетельствует о торговых отношениях с теми краями. По мере постепенного краха микенской цивилизации, примерно в XI веке до н. э., сюда проникли доряне и захватили Коринф. По преданиям, их вождем был Алет, чьи потомки впоследствии утвердились на коринфском троне.
На протяжении VIII века до н. э., возможно, в его начале, Коринф превратился в городской центр путем слияния восьми соседних деревень, за которым вскоре последовало присоединение множества других поселений по обе стороны перешейка: их жители были рады обрести защиту от морских добычников — настоящего бедствия здешних мест. Недорийское население области было низведено до полурабского подчинения под презрительной кличкой сброда «в колпаках из песьих шкур» (кгпофосАхн).
Быстро наладив вывоз своей геометрической керамики, коринфяне основали поселение на ионическом (адриатическом) острове Итака (ок. 800 г. до н. э.) и вывели колонии (как предполагается, почти одновременно, ок. 733 г. до н. э.) на Керкире (ныне Корфу, ближе к северу, почти в самом узком месте Адриатического моря) и Сиракузы в Восточной Сицилии. Эти выселки, затеянные с одобрения Дельфов, превратились в прочные опорные точки обширной коринфской колонизации, причем метрополия продолжала поддерживать со всеми ними необычайно тесные связи12.
В период, на который пришлось основание этих двух колоний, или чуть раньше, коринфяне присоединили и северную часть собственного перешейка (южный участок Мегари-ды), чтобы обезопасить свои морские пути. Здесь, в Пирее (Перахора) были найдены развалины сооружения VIII века до н. э., пролившие свет на древнейшую историю греческого зодчества и на ту важную роль, которую издавна играл в его развитии Коринф. Это была постройка с апсидами, некогда, очевидно, имевшая стены из крашеного щебня (или из обмазанного глиной плетня), соломенную кровлю с коньком и вход с крыльцом. Судя по посвятительным надписям архаической эпохи, это сооружение было святилищем Геры-Акреи и Геры-Лимении: в сотне метров от руин была найдена ограда, которая, как установлено, окружала территорию, прилегавшую к этому святилищу. Среди развалин была обнаружена и восстановлена (отчасти на основе догадок) терракотовая модель храма простой планировки, ныне датированная примерно 725–720 гг. до н. э. (и следственно, современная подобной же находке из Аргивского Герейона, см. раздел 1, выше).
Шестой коринфский царь из рода Алета носил имя Бак-хида, и его потомки составили династию Бакхиадов. Однако после того, как отцарствовали пять представителей этого дома, по-видимому, весь клан Бакхиадов, включая породненные семьи (возможно, на сомнительных основаниях), заявил о своем происхождении от царской семьи, упразднил единовластие (согласно традиции, ок. 747 г. до н. э.) и учредил собственное аристократическое правление. При этом режиме численность гражданского Народного собрания была ограничена до двухсот членов из их же рода, а надзор за его деятельностью был вверен совету восьмидесяти — с одновременно действующей группой из восьмерых человек и ежегодно избираемым председателем. Страбон подчеркивал упорство этих Бакхиадов — сперва как царей, а затем как союза аристократов: «Бакхиады — богатая, многочисленная и блистательная семья — сделались тиранами Коринфа и властвовали почти что двести лет, спокойно пользуясь плодами торговли» 13. Правители-аристократы Бакхиады призвали коринфских законников из своих же рядов — Фидона (не аргивянина) и Филолая, — дабы определить и оправдать собственное привилегированное положение. (Филолай установил должную численность семей, чтобы сохранить их.)
Эпический поэт Эвмел, виднейший пелопоннесский аэд своей эпохи (ок. 725 г. до н. э. — или следующее столетие), сам принадлежал к линии Бакхиадов и очевидно сочинил «историю» ее исконного владычества, опираясь на новые сведения из архивов и законоположений, несомненно, сфальсифицированные ради возвеличивания правящего дома. Эвмел сложил также просодион (песнь для шествия) для мессенского хора, отправлявшегося на Делос. Кроме того, он выказывал интерес — весьма ранний — к Причерноморью, привлекавшему внимание коринфян, хотя туда уже выводили колонии милетяне.
Ибо коринфяне, по почину Бакхиадов, стремились извлечь всяческую выгоду из своего географического положения. Памятуя об этой выгоде, они строили флот, использовали как могли свои колонии, развивали — как заметил Страбон — торговую деятельность (которую доверяли, по большей части, местным уроженцам или частым гостям-чужеземцам), а наибольшую прибыль извлекали благодаря взиманию подати на прохождение грузов через их перешеек, — и таким образом скопили колоссальные, по греческим меркам, богатства.
Как писал Геродот, коринфяне менее других презирали ремесленников (Глава I, примечание 29). Они изготовляли статуэтки из слоновой кости, бронзы и, может быть, из камня, и не знали себе равных в отливке скульптуры в форме. Прорисовка контуров линиями тоже, как сообщает Плиний Старший, была изобретена коринфянином по имени Клеанф, — если только не следует поставить это изобретение в заслугу египтянину (или греку, жившему в Египте), некоему Филок-лу, — а быть может, и выходцу из древнего Сикиона, города в 17,6 км к северо-востоку от Коринфа: «одни… утверждают, что она [живопись] придумана в Сикионе, другие — что у коринфян»14. Таково предание, и по всей видимости, его подтверждают доподлинные данные в отношении коринфян, ибо за ними явно сохранялось первенство в производстве и вывозе замечательной керамики, долгое время остававшейся непревзойденной. Впоследствии за этими вазами укрепились названия протокоринфского и коринфского стилей; они зародились в конце VIII века до н. э., достигли зенита в начале VI века до н. э. и удерживались на высоте примерно вплоть до 550 г. до н. э. Чистую, беловатую коринфскую глину, которой придавали в процессе обжига бледно-зеленый или буроватый оттенок, покрывали блестящей краской, отливавшей множеством цветов — от черного до ярко-рыжего. Затем на этот фон наносили силуэты будущих изображений (изредка прибегая к стародавнему методу процарапывания, и наконец расписывали размашистыми криволинейными узорами, словно кружившимися в буйном вихре.
Эти вазы положили знаменательное начало ориентализи-рующему движению в искусстве, распространившемуся по всей Греции благодаря возобновлению связей с городами на побережье Сирии (Глава VI, раздел 4), где, начиная с первой четверти VII века до н. э., особенно ценилась коринфская утварь (это подтверждают раскопки). Но эти коринфские мастера отнюдь не подражали сирийской керамике, потому что она не казалась им привлекательной. Зато они выборочно позаимствовали множество мотивов (сразу же внеся собственные усовершенствования), обратившись к деталям скульптур и прочих изделий из бронзы и слоновой кости, а также, несомненно, и к тканям (хотя сами они и не сохранились) из ближне- и средневосточных областей, поставлявших товары в прибрежные сирийские земли. Особенно полюбились коринфянам изображения животных — козлов, оленей, собак, птиц и львов (имевших сирийское, а потом и более броское ассирийское обличье), — а также сфинксы, грифоны и другие чудища, олицетворявшие неукротимые демонические силы, которые окружают человека. Коринфские художники долгое время предпочитали именно такие предметы изображения сценам из человеческой жизни, которые понемногу «оживляли» вазопись в Афинах и других городах.
Среди прекраснейших образцов протокоринфской керамики, быстро развивавшейся в начале и середине VII века до н. э., были маленькие сосудики для благовоний и масел — арибамы (арираААоО. Их украшали четкие росписи, обнаруживавшие тщательное мастерство и изящество в проработке миниатюрных деталей. Затем последовала фаза, к которой относится шедевр протокоринфского стиля — «ваза Киджи», или олъпа (оАлгп) работы так называемого мастера Макмиллана (ныне в римском музее Вилла Джулиа), датированная приблизительно 640 г. Ольпа демонстрировала новые, более широкие возможности крупномасштабных композиций, была впервые расписана четырьмя разными красками и являла изображения людей, смело объединенные в тесные группы.
К тому времени в Коринфе была изобретена и более простая, «чернофигурная» роспись (хотя позднее она прославилась значительно больше в Афинах): такая техника сводилась к тому, что фигуры и прочие узоры заливали черным лаком, а фону оставляли естественный цвет глиняной поверхности. На 615–620 гг. до н. э. пришлось становление «зрелого» коринфского стиля15; его повсеместный успех породил более грубую и беглую технику, зато было усовершенствовано изображение человеческих фигур.
На одном сосуде для вина, или ойнохое (о1\ю%6 т\) конца VII века до н. э. — этрусской находке из Тральятеллы, сделанной в подражание утраченному коринфскому подлиннику, — изображены две сцены разнополой любви, пожалуй, самые откровенные в греческом искусстве; а на коринфских арибаллах появлялись отвлеченные изображения женских гениталий. Подобные рисунки вполне отвечали стойким представлениям о коринфянах как о распутниках и сластолюбцах. Такой дурной славой они были обязаны бытовавшему у них культу Афродиты (отождествляемой с сирийской богиней Астартой-Аш-торет), которая носила прозвище Урании, как и на Кипре.
Ей служили, как и в Малой Азии, храмовые проститутки: считалось, что их «служение» способствует плодородию природного мира. Коринфские проститутки, чья слава разлеталась по городам и весям, в ремесле не знали себе равных16.
Незадолго до 600 г. до н. э. Коринф достиг вершины в торговых делах, прямо-таки завалив западный мир собственными изделиями, а заодно и перекупленными египетскими товарами — терракотами, скарабеями и амулетами, — в обмен на сицилийскую пшеницу и этрусские металлы. Коринфская утварь проникла и в глубь Балканского полуострова, добралась до греческих городов в Малой Азии, хотя, например, Милет и сам производил товары не хуже. Кроме того, коринфская колония Керкира (явно оказавшаяся во власти демократически настроенных правителей: в одной надписи, датированной примерно 600 г. до н. э., в пяти гекзаметрических строчках слово 5арод — «народ» — упоминается четырежды) превратилась в очередную, нередко весьма враждебную, соперницу своей метрополии, и нанесла ей тяжелое поражение в морской битве при Сиботах (ок. 664 г. до н. э. или позже). По мнению Фукидида, это сражение и положило начало греческим морским войнам. Однако стремление Коринфа производить и вывозить собственную керамику ослабло не раньше 550/540 гг. до н. э., когда господство в области торговли перешло в руки афинян.
Древнейшее коринфское святилище, храм Аполлона (позднее перенесенный в другое место), превосходило все известные ранее храмы как по длине, так и по ширине. По-видимому, этот храм был сооружен ок. 700 г. до н. э. или несколько позже. К тому же времени относится и святилище Посейдона в Истмии (Криас-Вриси), на отобранной у Мегар земле; обломки расписанной штукатурки говорят о том, что его украшала стенопись с крупными изображениями животных. Оба храма обнаруживают совершенно неожиданную новизну как в монументальном строительстве, так и в дорическом архитектурном стиле, воплощая наиболее значительный и самобытный вклад Коринфа в развитие греческой художественной цивилизации17.
В скором времени в городе пришла к власти диктаторская династия; о самом первом из череды этих «тиранов» известно довольно много благодаря обилию исторических сведений (не говоря уж о сопутствующих легендах, которых на сей раз оказалось даже больше, чем обычно). Основатель этого рода Кипсел выдворил династию Бакхиадов и воцарился сам. Он и сам состоял в косвенном родстве с этим кланом: ведь хотя его отец Ээтий был «чужаком» из додорийской среды, его мать Лабда (которая была хрома) происходила из дома Бакхиадов. Возможно, прежде Кипсел занимал должность председателя в Народном собрании и тем впоследствии оправдал свою узурпацию; в то же время он ссылался на имевшийся прецедент — случай Фидона Аргосского, чьей поддержкой он, по-видимому, и заручился. К тому же Кипсел принес щедрые дары в Олимпию и Дельфы, дабы завоевать их благорасположение. Сокровищница коринфян в Дельфах стала древнейшим и богатейшим из всех подобных сооружений, приняв в свои стены роскошные лидийские приношения (Приложение 1).
Кипсел царствовал около тридцати лет — примерно с 658/657 г. до н. э. по 628 г. до н. э. (хотя недавно стали предлагать другие даты — на тридцать или сорок лет позже), Кипсел поубивал вождей из числа Бакхиадов, остальных членов рода изгнал, а земли их распределил (как бы выполняя призыв, популярный в ряде греческих полисов) между своими сторонниками, к которым принадлежала не только уцелевшая прослойка знати, но и множество бедняков. Такое расширение числа землевладельцев обернулось соответственным увеличением числа граждан, и Кипсел, или его сын (если только это не произошло уже в позднейшую олигархическую эпоху) заново разбили население на восемь территориальных фил, упразднив прежнее аристократическое деление с его наследственными союзами-«братствами», или фратриями. Примерно в ту же пору городские законы были освобождены от прежних предвзятых толкований, навязанных им Бакхиадами, и были обнародованы в кодифицированном и, может быть, пересмотренном виде. Сам Кипсел употреблял слово δικαιώσει, говоря о себе, что «водворил в Коринфе право», или «дал ему справедливость», или «предписал ряд правил». Иные называли Кипсела кровожадным, но более поздние авторы находили его вполне мягкосердечным. Он обходился всего одним телохранителем, хотя на деле он, должно быть, опирался на мощное войско вымуштрованных гоплитов, уже устроенное по недавнему образцу, как видно, учрежденному Фидоном Аргосским (раздел 1, выше, и примечание 7). (I Трудно сказать, помогла ли Кипселу гоплитская поддержка в действительности завоевать трон, но в любом случае она помогла ему удержаться у власти: так, на "вазе Киджи" (ок. 640 г. до н. э.) изображена фаланга гоплитов, решительно идущая в бой, а в ходе раскопок был найден ранний, «зачаточный» образец «коринфского» шлема, входившего в гоплитское снаряжение. Вероятно, Кипсел явился одним из первых преемников Фидона Аргосского, воспользовавшихся боевым строем и тактикой гоплитской фаланги, и такое войско, состоявшее преимущественно из представителей среднего сословия, выходцев из крепнущей купеческой и крестьянской среды, превратилось в один из главных столпов его правления.
Оставшиеся в живых Бакхиады, бежавшие от Кипселова режима в Коринфе, нашли приют на Керкире, однако оказались загнаны в угол, потому что коринфяне принялись расширять свое влияние, забрав под контроль Амбракийский залив (Амбракия — ныне Арта): под началом трех царевых сыновей были основаны зависимые от Коринфа колонии Амбракия, Анакторий, Левкада на одноименном острове, а еще севернее, в землях Иллирии, — Эпидамн (Циррахий, Дуррес)18. Эта экспансия на запад явилась наиболее долговечным и ценным политическим наследием коринфских диктаторов; в хозяйственной же области она позволила проторить коринфской керамике путь в греческие города Южной Италии и Сицилии, куда она поступала в огромных количествах.
При сыне Кипсела Периандре (ок. 628–586 гг. до н. э., согласно более «ранней» хронологии, которой мы придерживаемся) поток вывозимых товаров продолжал расти, и город достиг вершины процветания Периандр проложил поперек перешейка волок — диолк (5юАлс6$), чтобы можно было перетаскивать корабли из одного моря в другое (и тем самым наживаться на податях), так что суда, стоявшие на приколе по разные стороны Истма — в Кенхреях и Лехее, — могли беспрепятственно выходить в оба моря.
В Коринфе была изобретена по крайней мере одна (а очень может быть, что и все три) из главнейших разновидностей греческих военных судов, появившихся одна за другой: это были пентеконтера, диера и триера. До сих пор ведутся споры о том, следует ли относить к веку диктаторов, или к предыдущему, или к последующему периодам тех коринфских корабелов-новаторов, которым кораблестроение обязано некоторыми качественными техническими достижениями, приписываемыми гпекам. Олнако тяппрниа т «\лг будь то раньше или позже, должно бьггь, сыграли немалую рань в укреплении державного могущества Кипсела и Пери-андра. Коринфским корабельным мастерам помогли приступить к работе торговцы из Сирии и Финикии. Кроме того, им пригодился опыт предков: ведь греческие корабли IX века до и. э. известны нам по изображениям на вазах.
Как бы то ни было, коринфяне, столкнувшись с необходимостью строить двойной флот для обоих морей, на века утвердили свое морское главенство. Еще до 700 г. до н. э. на коринфских вазах начали появляться изображения различных пентеконтер, а в течение следующего столетия такой тип военного корабля стал преобладать над остальными. Это были быстроходные суда с носами, укрепленными остроконечным однозубым конусообразным тараном (ёцРоЛхх;), обшитым бронзой. На пентеконтере у каждого борта помещалось по двадцать четыре гребца, а еще двое сидели на рулевых веслах, на корме. Такое судно было грозным боевым орудием, но в то же время из-за чрезмерной длины и узости оно нередко становилось игралищем стихий, к тому же им было трудно маневрировать.
Появившаяся в VIII веке до н. э. диера (или, по-латыни, бирема) воплотила новый, поистине революционный замысел.
Здесь двадцать четыре гребца, сидевшие у каждого борта, располагались в два ряда скамей, один над другим: двенадцать вдоль планшира и двенадцать вдоль нижней банки (эти гребли через отверстия в корпусе корабля), так что длина судна не была увеличена, скорее наоборот, зато скорость возросла.
Рельефы ассирийского владыки Синаххериба (705–681 гг. до н. э.) свидетельствуют о том, что его моряки-финикийцы уже ходили на таких судах — более компактных, прочных и остойчивых, чем пентеконтеры, и представлявших менее удобную мишень для вражьих таранов. Вероятно, таков был восточный источник, откуда коринфяне почерпнули столь удачную идею19. Четыре корабля, построенные, по сообщению Фукидида20, коринфским кораблестроителем Аминоклом для самосцев, вероятно, представляли собой диеры. Однако неясно, посещал ли он Самос в ту пору, когда в Коринфе правили аристократы, ок. 704 г. до н. э., или пятьюдесятью годами позже, когда власть захватил Кипсел.
Триеру (она же трирема), появившуюся вослед диере, Фукидид недвусмысленно называл коринфским изобретением21.
Однако его предположение, что оно тоже относится к докип-1 селовои поре, хотя и нашло некотопкгх птопоныиктш к ктоI поставлено под сомнение, так как нет никаких других свидетельств о существовании этого типа кораблей ранее третьей четверти VI века до н. э. Правда, можно увязать между собой оба мнения, если допустить, что изобретение было сделано в VII веке до н. э., а сами такие корабли вошли в широкое употребление в конце VI века до н. э. Триера произошла напрямую от диеры, только в ней помещалось по двадцать семь гребцов на каждом из двух уровней, к тому же прибавился третий ряд, где с обеих сторон находилось по тридцати одному гребцу. Они сидели по трое на одной скамье, причем каждый гребец орудовал собственным веслом (а не по двое-трое — одним веслом), размахиваясь от утлегаря (яар-е^ефеспа) — края судна, не занятого веслами и скамьями. Каждая триера, имевшая обшитый бронзой таран уже с тремя (вместо одного) зубцами на конце, была оснащена легкой палубой, где могли разместиться моряки — как правило, четырнадцать копейщиков и четыре лучника. Штатный состав корабля включал также двадцать пять младших и пять старших военных чинов.
Менее тяжелая и более подвижная триера превзошла суда всех более ранних типов в скорости, в таранной силе и способности маневрировать в замкнутых водных пространствах, обычно избираемых для морских сражений. Она одинаково хорошо годилась и как линейный корабль, и как перевозочное средство для войск и лошадей, и как конвоирующее или почтовое судно. К тому же триера идеально подходила для комбинированных боевых операций (на суше и на море), так как из-за малого веса ее не составляло труда втащить на берег.
И все же триера не вытеснила полностью более ранние типы кораблей, так как для управления ею требовались опыт и сноровка, которых достичь можно было лишь путем длительного обучения, а полисам, не столь богатым, как Коринф (а позднее — Афины), такие траты были не под силу. К тому же на триере было тесно (прежде чем идти в бой,'большие паруса приходилось оставлять на суше), и на борту могла поместиться только провизия на несколько дней; собственно, такие корабли приходилось каждую ночь пригонять к берегу, чтобы команда могла поужинать и выспаться. Вдобавок, при всей мощи весел и парусов, нижний планшир судна оказывался уязвимым в открытом море, особенно в ненастье. Но тем не менее появление триеры на коринфских судоверфях ознаменовало решительный поворот в тактике морских сражений на много лет вперед.
Периандр, несомненно сумевший воспользоваться этими новыми достижениями, удостоился чести быть причисленным к «семи мудрецам». Его двор, где важное место отводилось искусствам, привлек славнейшего поэта и певца того времени, почти легендарного Ариона, которому пришлось покинуть свою родную Метимну на острове Лесбос. Вокруг личности Ариона ходило множество легенд; Геродот утверждал, будто он «первым стал сочинять дифирамб и дал ему имя22.
Это были стихи в честь бога Диониса, хотя не обязательно о нем самом. Периандр особо пестовал культ Диониса, так как он пользовался большой любовью среди народа. Первоначально это были примитивные нескладные напевы,· исполнявшиеся во время сбора винограда, — Арион же, очевидно, придал им художественную форму, возвысив до настоящей поэзии, — и они преобразились в вольно льющиеся чарующие гимны. Эти дифирамбы пел — и плясал — хор из пятидесяти мальчиков, замысловато наряженных сатирами и сопровождавших свои роли мимическими жестами. Если обратиться к мнению (которого держатся некоторые), что афинская трагедия (Глава I, раздел 4) восходит скорее к пелопоннесским, нежели аттическим истокам, — то Ариона, ввиду его новшества, можно рассматривать как одного из предшественников, или даже основателей, драматического искусства. Зарождение этого искусства осталось отражено и в изображениях плясунов в масках и накладных копытцах (представлявших дионисийских божков-даймонов), появившихся в начале VI века до н. э. на коринфских вазах; там эти плясуны разыгрывают разные драматические сценки.
Периандр вогнал в повиновение Керкиру и превратил ее в зависимое владение Коринфа; одновременно были основаны и новые колонии — Аполлония (ок. 600 г. до н. э.), несколько в глубине того же побережья, на земле Иллирии (Глава VIII, раздел 1, и примечание 3), и Потидея, стратегически выгодно расположенная на Эгейском побережье Македонии. Были заключены союзы с рядом греческих и других государств, главным образом, диктаторских (в частности, с Милетом, где властвовал Фрасибул), хотя в числе коринфских союзников были и республиканские Афины.
Периандр нрав имел лихой и горячий: именно из-за него слово «тиран» (диктатор) приобрело бранный оттенок и стало означать кровожадного и жестокого правителя. Ибо высшие сословия в Коринфе прекрасно помнили, что он угнетал их куда пуще отца; к тому же он прикончил собственную жену, а сына сослал на Керкиру, — но тамошние власти, по словам Геродота, навлекли на себя его грозный гнев владыки, убив юношу23. Другие сыновья Периандра тоже не пережили отца, и наследником был назначен его племянник Псамметих (названный в честь египетского союзника Периандра, царя Псамметиха И), которого убили три года спустя, ок. 581 г. до н. э. Так коринфской тирании настал конец. Дабы отпраздновать ее крушение, коринфяне вышвырнули останки Кипселидов за пределы коринфских владений, а все дома, принадлежавшие им, сровняли с землей.
Власть Кипселидов сменилась, как это часто случалось после падения тирании, олигархическим правлением. В Коринфе оно продержалось на удивление долго — почти двести лет, потому что основную массу граждан, которая жила на доходы от земельной собственности (и увеличивала их путем торговли), вполне устраивал традиционный консерватизм дорийского государства с его приверженностью к иерархическому благочинию. Хотя о характере этого правительства известно мало, оно, по-видимому, опиралось на тонкий конституционный слой, состоявший из немногочисленного штата влиятельных чиновников — Ttpofk)\)A.oi — и из совета, ограниченного восемьюдесятью членами. Кроме того, оно ввело более мягкий, нежели при старой аристократии эпохи Бакхиадов, имущественный ценз для граждан (членов Народного собрания): новое правительство пошло на такое расширение цензовых границ, так как стремилось залучить на свою сторону гоплитов из среднего сословия, которые прежде поддерживали тиранию. Возможно, именно в эту пору (ок. 581 г. до н. э.) наиболее знатными коринфскими семьями были учреждены Истмийские игры — в ознаменование возврата к республиканскому строю.
Игры эти устраивались в честь Посейдона, неподалеку от его Истмийского святилища VII века до н. э. Приблизительно в 560/540 гг. до н. э. было отстроено заново другое крупное святилище той же эпохи — храм Аполлона в самом Коринфе, что упрочило главенствующую роль этого города, да и всего северо-восточного Пелопоннеса, в развитии дорической архитектуры. Новое храмовое сооружение насчитывало по шесть колонн с фасада и тыльной части и по пятнадцать колонн с обеих сторон (семь колонн возвышаются там и поныне); имелась при нем и новая наружняя колоннада, а также культовое изваяние. Вначале для постройки внешних частей здания использовали вместо дерева известняк-порос покрытый штукатуркой, раскрашенной красным и черным, а крышу выложили желтыми и черными терракотовыми черепицами, которые считались коринфским изобретением. Возможно, что коринфяне задумали и построили еще одно знаменитое святилище, которое обычно относят к более раннему времени, — храм Артемиды на Керкире. Храм украшал скульптурный фронтон, а это напоминает о распространенном убеждении, что родиной греческой скульптуры был Коринф. Такое мнение подтверждается тем, что именно коринфские художники раньше других принялись ваять самые разнообразные статуи и статуэтки.
Несмотря на то что коринфяне явно занимались строительством на Керкире, именно в этот период их возрожденная олигархия была вынуждена окончательно отступиться от власти над островом, который обрел самостоятельность и стал выказывать вражду по отношению к бывшей метрополии. Примеру Керкиры последовала другая коринфская колония, Амбракия: там появилось независимое государство с демократическим правительством. С остальными же колониями коринфяне сохраняли дружбу, которая была особенно заметна на западе, куда они отправляли своих художников и ремесленников — до самой Этрурии (например, тех мастеров, что в начале VII века до н. э. сопровождали Демарата к Таркви-ниям — Приложение 3).
Коринф чеканил серебряные монеты, в обиходе звавшиеся «жеребчиками» (πώλοι), потому что на них было выбито изображение Пегаса, Беллерофонтова крылатого коня. Их начали выпускать ок. 570 г. до н. э., всего четверть века спустя после того, как в Балканской Греции впервые принялись чеканить монету по эгинским стандартам (Глава II, раздел 6); однако коринфские стандарты значительно отличались от эгинских, так как в их основу была положена драхма, весившая значительно меньше — всего три грамма (по-видимому, переиначенная из какой-то разновидности эвбейских стандартов). Благодаря выгодному географическому положению Коринфа эти «жеребчики», как и их эгинские и аттическо-эвбейские «собратья», играли важную роль в средиземноморской торговле. В некотором смысле представляется странным, что чеканка была учреждена ок. 575 г. до н. э… ведь всего четверть века спустя, а то и раньше, коринфская керамика уступила свою былую монополию в западных землях афинской утвари, что свидетельствовало об относительном спаде торговли. Тем не менее, так как Афины еще не обладали в ту пору собственным флотом необходимой численности (еще в 490 г. до н. э. им пришлось занять у Коринфа двадцать кораблей, чтобы выступить против Эгины), — коринфяне, наверное, извлекали немалую при- | быль, снабжая афинян судами для перевозки их керамики и прочих товаров.
Между тем во внешней политике коринфские олигархи соблюдали осторожность. Они заметили, сколь возросло могущество спартанцев в Пелопоннесе, и заключили с ними примирительный союз (ок. 525 г. до н. э.) против Артоса. Но в 506 г. до н. э. вожди коринфского войска откололись от экспедиционных отрядов, возглавлявшихся спартанским царем Клеоменом I, поняв, что он собирается вмешаться в дела Афин и вновь водворить там диктатора Гиппия: коринфяне сознавали, что это чересчур отчаянная, да и нежелательная, затея. Вскоре они и других союзников Спарты отговорили помогать ей в подобных действиях. Вместе с тем коринфские олигархи дали понять, будто они выступают «посредниками» между Клеоменом и Афинами. Это и вправду было их излюбленной позицией: в 519 г. до н. э. они посредничали между Афинами и Фивами, а в 491 г. до н. э. действовали как третейские судьи в спорах Сиракуз с Гелой.
Хотя коринфяне успешно сражались в греко-персидских войнах, разразившихся позднее, они уже вступили в период упадка. Но упадок этот был постепенным нисхождением с высот славного прошлого («Ты славу зрел во всей ее красе, во всех обличьях», — как сказал Уолтер Сэведж Лендор), и не скоро, лишь во II веке до н. э., Антипатр Сидонский воскликнет: «Где красота твоя, город дорийцев, Коринф величавый?»24
Глава 3. СПАРТА
Лакония, столицей которой была Спарта (Лакедемон), охватывала юго-восточную область Пелопоннеса, ограниченную с запада Мессенией, с севера Аркадией, а с юга и востока — Эгейским морем. Ее территория защищена протянувшимися с севера на юг горными цепями — Тайгетом и Парноном, — которые заканчиваются у двух оконечностей Лаконского залива, образуя соответственно мыс Тенар (совр. Матапан) и мыс Малею (возле острова Киферы, современной Китиры). Между горными отрогами лежала долина, протянувшаяся на 64 км, с равниной, где протекал Эврот (одна из немногих рек в Греции, не пересыхавших круглый год) с притоками. Эта равнина образовывала ядро столь обширных и плодородных угодий, какие не выпали на долю ни одной другой греческой общины. Здешняя земля позволяла вести почти самодостаточное существование, одаряя жителей обильным урожаем; главной из возделывавшихся культур был ячмень.
На протяжении второй половины II тысячелетия до н. э. Лакония была одним из процветающих микенских государств эпохи бронзы. Согласно мифам, отраженным в гомеровском эпосе (Глава V, раздел 1), правил в ней царь Менелай. Похищение его жены Елены, дочери Зевса и Леды, Парисом, сыном царя Трои Приама, будто бы послужило причиной Троянской войны. Но доисторические следы жизни в Спарте, возле северного края Эвротской равнины, довольно скудны, хотя поселение имелось в 5 км к югу, в Амиклах (где находилось позднемикенское святилище Гиакинфа, позднее прослывшего возлюбленным Аполлона), а еще один центр существовал в 3 км к юго-востоку — в Терапне. Там дома людей примыкали к святилищу богини природных сил, отведенному для ее служителей.
Дорийское вторжение в Спарту возглавили, согласно традиции, Эврисфен и Прокл, считавшиеся Гераклидами (потомками Геракла — см. Главу I) и сыновьями Аристодема — брата Темена, основателя Аргоса; говорилось, будто пришельцам передал Спарту в дар сам Зевс (отсюда местный культ Зевса Тропея). Археологические данные говорят о том, что микенская цивилизация постепенно рушилась здесь в 1200–1100 гг. до н. э. Виной тому могли быть войны, или моровая язва, или голод, или все эти бедствия сразу. Затем, в течение X века до н. э., пока среди населения наблюдались постоянные перемещения, вторая волна захватчиков или переселенцев (если только это не были, как гласит другая теория, угнетенные коренные жители, восставшие против хозяев) основали четыре или пять деревень вокруг места, которое позднее станет спартанским акрополем. Поселились они и в других краях Лаконии, которая некоторое время еще сохраняла независимость от Спарты, хотя не была густо заселена в ту пору.
Ранняя лаконская протогеометрическая керамика (ок. 1000—950 гг. до н. э.), образцы которой были найдены в нижнем слое святилища Ортии (позднее отождествленной с Артемидой) в деревне Лимны, как принято полагать, ознаменовала переход к оседлой жизни в эпоху дорийского вторжения. Вместе с тем протогеометрические черепки в Амиклах, найденные в древнем капище, с той поры посвященном племенному божеству спартанцев Аполлону, обнаруживают характерные особенности, отражающие известную степень преемственности с изделиями бронзового века (хотя с тех пор изменились даже имена богов); это вполне согласуется с традицией, утверждающей, что поселения практически не коснулись дорийские вторжения.
С другой стороны, в Терапне до сих пор не найдено никаких следов подобной прямой преемственности. Зато обнаружены остатки священного участка, расположенного на трех площадках, — Менелайона, возведенного ок. 725 г. до н. э. Здесь древняя микенская богиня природных сил была «воскрешена» во образе Елены, а подручные ветхой богини вновь возникли в обличье ее божественных братьев Диоскуров (Кастора и Полидевка [Поллукса]) и ее мужа Менелая. Приблизительно в ту же эпоху жертвенник Артемиды Ортии, дотоле сооруженный из простой земли, сменился нехитрым каменным храмом, огороженным стеной. Там было обнаружено множество статуэток, рельефов и фигурок из слоновой кости (относящихся ко времени до и после 700 г. до н. э.).
К тому времени — а бьггь может, уже и с IX века до н. э., — горстка местных селений сплотилась воедино, образовав город Спарту. По замечанию Фукидида, «Спарта не объединена в единое целое, а состоит… из отдельных деревнь»25; указывает он и на то, что новый город был начисто лишен привычных архитектурных примет любого греческого полиса. Тем не менее Спарта, где пересекались все главные пути, ведшие к внешнему миру, благоденствовала не только благодаря урожаю с окрестной равнины, но и (чему доказательством — некогда оживленный квартал кузнецов) благодаря собственным железным рудникам (большой редкости в Греции), должно быть, разработанным с древнейших времен.
Такое выгодное местоположение способствовало, невзирая на некоторую отсталость в самом облике города, быстрому развитию общинного устройства в Спарте, так что ее по праву можно считать первым полисом классического типа на греческом материке. Однако и устройство это было весьма своеобычным. Ранняя история спартанского государства — предмет довольно темный и спорный, ввиду чрезмерной тяги многих позднейших авторов к нарочитой похвале либо хуле в отношении государственного и общественного строя Спарты. Правда, некоторые подробности донес до нас поэт Тиртей (см. ниже). Им вторит, пусть в несколько ином ключе, и документ, известный как Великая ретра (то есть «речение» — по позднейшему преданию, принадлежавшее самому дельфийскому оракулу), впоследствии дополненный и усовершенствованный более консервативными «Поправками» и описанный у Плутарха26. Но все же Ретре не следует придавать слишком большого значения, потому что, как указывают недавние исследования, она, быть может, вовсе не относится к началу или середине VII века до н. э., а является подделкой IV века до н. э.
Так или иначе, основные черты государственного устройства в Спарте остаются ясными. Там правили одновременно два царя, принадлежавшие к родам Агиадов и Эврипонтидов. Обе династии мнили себя потомками Геракла; и в самом деле, пусть это уводит нас в область мифов и легенд, происхождение этой монархии было весьма древним — даже если она приняла свою историческую, известную нам, форму не ранее 650–600 гг. до н. э. Полномочия обоих наследственных царей носили прежде всего военный характер; к тому же они приглядывали друг за другом27 (это вносило известное равновесие) и, как правило — хотя не всегда, — шли на уступки другим политическим силам Спарты.
Этими другими силами были эфоры (Εφοροι, собственно «блюстители»), обычно числом пять. Они избирались из граждан в возрасте от тридцати до шестидесяти лет, служили в течение года и пользовались большими исполнительными, административными и судебными полномочиями. Собственно эти полномочия наделяли эфоров властью надзирать за повседневной жизнью спартанских граждан, а заодно и ограничивать влияние Совета старейшин — герусии (γερουσία). Последний же орган, будто бы основанный по дельфийскому наущению, состоял из тридцати избранных членов в возрасте от шестидесяти лет — геронтов (γέροντες).
Старейшины заранее готовили дела для обсуждения в Народном собрании — апелле (απέλλα). Членами апеллы были все спартиаты (σπαρτιάται — собственно «спартанцы», то есть свободнорожденные граждане Спарты), достигшие тридцати лет. Их было 9 тысяч, и звались они δμοιοι — «равными» или «подобными»: все они были равны перед законом, и каждый владел собственным земельным наделом — κλάρος. Эти граж-дане-спартиаты, или «равные», и составляли поголовно гоп-литское ополчение полиса, развившееся из прежних воинских отрядов. Пять подразделений, на которые распадалось это гоплитское войско, — лохи (λόχοι) — служили военным синонимом для пяти спартанских племен — об (ώβαι), которые пришли на смену трем старинным дорийским племенам гил-леев, диманов и Памфилов (сохраненным лишь для религиозных целей). Новое спартанское войско было лучше обучено, сражалось более действенно благодаря разбивке на фаланги. К тому же оно пользовалось таким восхищением и нагоняло такой страх, какие не выпали на долю ни одного другого войска во всем греческом мире, и, как видно, оправдывало то мнение, что спартанцы, усовершенствовав аргивские образцы, явились истинными творцами гоплитской боевой техники и тактики28.
О том, как соотносились полномочия спартанских герусии и апеллы, велось множество рассуждений и споров (так же, как и о соответствующих афинских органах); очевидно, в разные эпохи дело обстояло по-разному. С одной стороны, власть достопочтенных членов герусии стояла на страже опрометчивых действий, а рассмотрение дел для апеллы позволяло им влиять на ход вещей. С другой стороны, последнее слово оставалось за апеллой, ее решения подлежали выполнению. Кроме того, ее члены — «равные» — и составляли ту пехоту, что сделала Спарту сильнейшей державой на много километров вокруг. Таким образом, чаще всего между этими двумя органами сохранялось тщательно выверенное равновесие, весьма способствовавшее вящему могуществу Спарты.
Согласно Аристотелю, некоторые называли спартанское правление «смешением всех государственных устройств», сочетавшим в себе монархию, олигархию и демократию29. Но особенно примечательно проявляла себя последняя из трех поименованных составляющих этого строя. Ибо спартиаты носили прозвание «равных» отнюдь не ради красного словца. Разумеется, они не были равны в имущественном отношении или в личностных качествах. Однако они стали, причем весьма рано, равны между собой по закону и положению — чего в ту пору нельзя было сказать о жителях ни одного другого города. Это был настоящий гражданский орган, каждый член которого обладал законными правами (и обязанностями), превосходившими личные полномочия любых других людей или социальных групп30. Так, в отношении равноправия Спарта явилась первой подлинной и последовательной демократией во всех греческих землях и во всем мире, — в той мере, в какой это касалось ее граждан.
Но, подобно всем прочим греческим полисам, она наделяла гражданством лишь ограниченный круг своего населения. В Спарте, как и в ряде других общин в прочих краях, от гражданства были отлучены не одни только женщины и рабы. Существовали категории людей, не относившихся ни к гражданам, ни к рабам, но стоявших на промежуточной общественной ступени. Это были многочисленные периэки, «окрестные жители», населявшие собственные городки, но лишенные независимости. Они занимались торговлей, ремеслами и мореходством, чего чуждались сами спартиаты. В должный черед и они пополнили гоплитские фаланги, хотя это и не принесло им статуса «равных». Еще ниже периэков находились илоты, которые (опять-таки, как и в некоторых других государствах [Глава I, примечание 61]) влачили рабское существование. Они были коллективной собственностью спартанской общины и выплачивали (отдельным спартиатам) подать, составлявшую половину их урожая. Взамен же они получали обещания, что их не продадут на чужбину. Высказывались предположения — хотя их и не следует принимать безоговорочно, — что и периэки, и илоты, по крайней мере отчасти, были туземцами недорийского происхождения.
Хотя и нельзя теперь (невзирая на бесчисленные попытки) проследить стадии формирования такой сложной системы, этот процесс явно вызвали и ускорили военные события. События эти были связаны с западной соседкой Лаконии — Мессенией, которая пережила расцвет в эпоху бронзы (с центром в Пилосе), а затем была захвачена дорянами — предположительно во главе с Кресфонтом, дядей легендарных основателей Спарты, — но сохранила независимость от Спарты. В ходе Первой Мессенской войны (ок. 740/730—720/710 гг. до н. э.) спартанцам удалось осуществить частичное завоевание этой области и присоединить мессенцев к прочим илотам, жившим под их пятой.
Такое значительное расширение владений сулило Спарте преимущественно сельскохозяйственное будущее. Но еще велась внешняя торговля и шло переселение в чужие края. Здесь следует отметить один из самых ранних примеров колонизации: согласно традиции, в 706 г. до н. э. в юго-восточной Италии спартанцы основали Тарент {грен. Τάρας, лат. Tarentum, ныне Таранто). Как говорили, основателями поселения стали «партении», рожденные от связей спартанских женщин (покуда мужья воевали) с периэками или илотами. Но вполне возможно, что это была лишь выдумка (быть может, объяснявшая какое-то географическое название), а переселенцами этими на самом деле были какие-то недовольные (роптавшие на несправедливый передел мессенских угодий), от которых родина пожелала избавиться, хоть ей и жаль было терять боеспособных мужей. Ок. 669 г. до н. э., после того, как спартанцы были жестоко разгромлены аргивскими войсками в битве при Гисиях, нехватка воинской силы дала о себе знать. Но уже Вторая Мессенская война, вероятно, разожженная Аргосом (ок. 650–620 гг.? до н. э.), — в которой заклятым врагом Спарты выказал себя Аристомен, вождь мес-сенского сопротивления, — завершилась полной победой спартанцев, поставившей точку в покорении юго-западного Пелопоннеса. Вероятно, как раз в ответ на тот отчаянный кризис гоплитское войско, изрядно пополнившееся за счет периэков, и достигло колоссальной численности и непревзойденных боевых качеств.
Тем не менее эти ранние спартанцы (отнюдь не заслуживавшие той репутации неотесанных солдафонов, что закрепилась за ними впоследствии), примерно с 700 по 550 г. до н. э., не только ввозили разнообразнейшие предметы роскоши, но и сами добились высокого мастерства в ряде искусств. Среди них можно назвать обработку бронзы, резьбу по слоновой кости, а также терракотовые рельефы и керамику. К тому же Спарта была главным очагом греческой хоровой мелики, достигшей своей вершины именно в дорийских землях; в VII веке до н. э. в городе существовало не менее двух крупных поэтическо-музыкальных школ.
Главой одной из этих школ был поэт-элегик Тиртей — вероятно, гражданин Спарты, хотя его слава разнеслась столь широко, что позже и другие города принялись оспаривать у Спарты честь быть его родиной. Он сочинял элегии на эпическом языке со вкраплениями дорийских элементов и слагал военные марши, призванные воодушевить спартиатов, явно павших духом в ту пору, и вселить в них ярость против мятежных мессенцев, упорно сопротивлявшихся в ходе Второй Мессенской войны. Считалось, что он был стратегом в этой войне, а кроме того, как уже говорилось выше, мы обязаны ему схематичным описанием спартанского государственного устройства составленным как бы в форме дельфийского пророчества. Впоследствии его сочинения были собраны воедино под названием Ебуоц1а («Благозаконие»): это было одним из ключевых слов той эпохи. Отойдя от воспетого в Илиаде идеала ратника-одиночки, Тиртей прославляет в своих стихах недавно зародившуюся гоплите кую фалангу, стоящую на страже этой эвномии с ее гражданской этикой, и призывает биться плотно сомкнутыми рядами, плечом к плечу. Перечислив разные личные доблести — царственный род, прекрасный облик, телесную мощь, сладкоречие, — поэт заявляет, что наивысшая мужская добродетель — это храбрость перед лицом врага.
Вероятно, в конце VII века до н. э. жил и Алкман (хотя некоторые высказываются в пользу более поздних дат). В его поэзии, надо думать, нашли отражение роскошь, процветание и покой, снизошедшие на спартанских жителей (во всяком случае, на какую-то их часть) после удачного исхода Второй Мессенской войны. Возможно, он был уроженцем Лидии или Ионии. Но жил и слагал стихи он именно в Спарте, и та впоследствии мнила себя его родиной. Ходило предание, будто он пребывал в рабстве, но получил свободу в награду за свой ум — ум изощренный, игривый и причудливый.
Алкман, как и Тиртей, сыграл важную роль в создании хоровой лирики. Наиболее полный из дошедших до нас фрагментов — это сотня строк его Девичьей песни, или Парфения (Парвушп), прославлявшего посвящение молодых девушек в религиозные таинства. Десять девушек танцевали и пели эту песню, взывая до зари к богине, во время одного важного спартанского празднества. Парфений создает ощущение счастливого общественного события, а вольно льющиеся стихи Алкмана словно вторят разговору певиц. Он писал и любовные стихи — о девах «со взорами слаще сна и смерти»; он даже стяжал себе славу основателя любовной поэзии. Алкман был зачарован и красотой природы: строки, где он рисует объятые сном урочища, дышат истинным волшебством — и звучат весьма необычно для поэзии своей (да и куда более поздней) поры. Алкман горевал о наступившей старости: ведь он больше не может плясать вместе с хором; даже зимородок счастливей его — когда он состарится, подруга переносит его через волны.
В середине VII века до н. э. в Спарте подвизался и Терпандр из лесбосской Антиссы. Приписываемые ему фрагменты вызывают большие сомнения в подлинности, зато считается, что Терпандр записал лады, или номы (νόμοι), положив на музыку свои собственные и гомеровские стихи. Их исполняли как вокальные соло в сопровождении новой лиры (κιθάρα) — более усовершенствованного инструмента по сравнению с кифарой и формингой (κιθαρις, φόρμιγξ), использовавшихся прежде при декламации Гомеровых поэм. Другой поэт, Фалет (слывший первым законодателем), покинул Спарту и перебрался в Гортину на Крите. В VI веке до н. э. в Спарте некоторое время жили Стесихор из Ги-меры и Феогнид из Мегар.
Ок. 570 г. до н. э. был перестроен храм Артемиды Оргии. Спартанские гончары и вазописцы производили отличную утварь, вдохновляясь коринфским стилем и в то же время проявляя самобытность: примечательна чаша (ок. 600 г. до н. э.), расписанная черными и пурпурными рыбами, или сцена, изображающая, как царь Кирены Аркесилай II наблюдает за погрузкой шерсти на корабль. Среди скульпторов, работавших в Спарте, были Феодор с Самоса и Батикл из Магнесии, что на Меандре. Производили здесь и превосходные бронзовые изделия. (Относительно вероятности, что «кратер из Викса» [бронзовый сосуд для смешивания вина с водой] имел спартанское происхождение, см. ниже: Глава VII, примечание 75.)
Между тем ко времени всех этих достижений уже вошла в силу и начала приносить плоды так называемая αγωγή — совокупность суровых тоталитарных установлений — общественных и военных, — каковыми и прославилась Спарта. Эту систему мер связывают с именем законодателя Ликурга (по преданию, ученика Фалета), — хотя, как признавали еще в древности сами греки, эта фигура вполне могла быть порождением мифа. Как «тесмотету», ему воздавали культовые почести, полагавшиеся «героям» (многие из которых первоначально считались богами), а дельфийский оракул будто бы изрек, что не знает — был ли то некогда человек или бог.
О том, когда же именно стал постепенно внедряться в спартанскую жизнь уклад αγωγή, велось немало споров; обычно предпочитают указывать период ок. 700/600 гг. до н. э. Многие черты этого строя, описанные у Ксенофонта и Плутарха, носят первобытный характер и обнаруживают сходство с обычаями воинских племен в иных краях света. В частности же, им можно отыскать параллели и среди других греков — критян, от которых, как нередко считалось, спартанцы будто бы происходили. Однако не все античные авторитеты соглашались с таким мнением31, да и вправду подобное сходство объясняется всего лишь общим первобытным происхождением. Поэтому можно допустить, что ядро системы, вероятно, сложилось в Спарте уже в самые ранние дорийские времена. Однако во время, или после, тяжелых обстоятельств Второй Мессенской войны порядок, по-види-мому, был ужесточен, что коснулось всех спартиатов. Ибо подобные трудности требовали от государственного и общественного строя особой бдительности: например, понадобилась жесткая система разведки, в том числе печально знаменитая криптия (κρυπτεΐα). Эта постоянная тайная облава на илотов была неотъемлемой частью άγωγή, потому что они шестикратно превосходили в числе полноправных граждан — и следовательно, представляли угрозу как возможные мятежники.
Каждый спартанский младенец вскоре после рождения подвергался осмотру «племенными старейшинами», которые отбраковывали слабых или ущербных детей, веля сбросить их со скалы. И если в Афинах и прочих городах особое внимание уделялось семье (ойкосу), то в Спарте, напротив, тех детей, которые благополучно прошли испытание в младенчестве, отнимали у семей в возрасте семи или восьми лет и записывали в агелу (άγέλη), то есть «стадо» (словно люди — это лошади или другая скотина, которую нужно силком одомашнивать), находившееся под присмотром старшего спар-тиата. По достижении тринадцати лет их распределяли в другие стада, и на протяжении следующих четырнадцати лет (для однолеток существовали отдельные группы, носившие чудные архаические названия) они проходили через многотрудное, сопряженное со зверскими жестокостями и лишениями обучение, целиком поднадзорное государству и на государство ориентированное.
До нас дошли зловещие подробности этой системы обучения. Ни в одном другом городе мальчиков не отрывали от дома и родных столь бесповоротно. Их сгоняли в отряд (βύα), составлявший часть более крупного подразделения, илы (ίλη). Отрядом командовал ирен (εΐρην) — юноша, служивший школьным надзирателем и подчинявшийся старшему наблю-дателю-военачальнику, пайдоному (παιδονόμος). Затем, достигнув двадцати лет, мальчики и сами становились иренами и отныне все время проводили в военных занятиях, но еще не обладали полноценными гражданскими правами. Возможно, именно на этой ступени они обретали право избираться в знаменитые (опять-таки, печально знаменитые) спартанские сотрапезничества — фидитии и сисситии (φειδίτια, συσσίτια), на которых в конечном счете и зиждилось все общественное и военное устройство спартанского государства. Каждое такое товарищество состояло из пятнадцати членов, и достаточно было одного черного боба, чтобы отменить или отложить выборы. За скудную пищу, поставлявшуюся к столу (в том числе черную кровяную похлебку), каждый член сообщества получал «счет», а тот, кому не под силу был этот взнос (а следовательно, и соблюдение требуемых правил), исключался из рядов спартиатов и низводился до низшего положения, что влекло потерю политических прав.
По достижении тридцати лет спартанцы допускались в апеллу, но и тогда значительную часть времени они проводили за общим столом. Эти молчаливые («лаконичные»), не склонные к рассуждениям, не ведавшие пощады молодые люди не занимались ничем, кроме строевого обучения, атлетических упражнений и борьбы. Они жили и сражались бок о бок с товарищами по сисситиям, и такая угрюмая, четко расписанная, крепко спаянная система — «как в военном лагере», — всецело определявшая их существование (целью которого были «национальные интересы» и элементарное выживание), на долгое время сделала из них лучших воинов во всей Греции.
Такой уклад жизни неизбежно порождал особую разновидность однополой любви. Как и везде, здесь бытовали признанные отношения между влюбленным (έραστής) и более юным возлюбленным (έρώμενος). Но в Спарте роль «поклонника» считалась почти официальной, так как на него возлагалась ответственность за нрав и поведение «любимца»3^; такие отношения Ксенофонт называет совершенной формой воспитания33, добавляя при этом, что любая плотская связь между ними противозаконна. Очевидно, такие сведения распррстраняли сами спартанцы34, — вероятно, пытаясь найти моральное оправдание для странных обычаев своего города, — * но едва ли подобный закон кто-либо соблюдал в действительности, хотя однополые связи среди спартанцев и не приобрели столь исключительного статуса, как, например, в Фивах.
Несмотря на такое господство однополых отношений среди мужчин, спартанцу полагалось жениться лет в двадцать (что для Греции считалось поздним сроком); холостяки подвергались насмешкам и к тому же ущемлялись законами. Однако «казарменный» образ жизни спартанцев означал, что женщины по большей части были предоставлены самим себе — а следовательно, пользовались здесь куда большей свободой, чем в прочих городах. Правда, им запрещалось носить украшения и цветные одеяния, умащаться благовониями и раскрашивать лица. Да и сам брачный обряд был отталкивающе груб. По обычаю, спартанскую невесту коротко стригли, одевали в мужскую одежду, затем силой уводили, клали на жесткое ложе в затхлой комнатенке и оставляли там одну. Входил жених, наскоро совокуплялся с ней, после чего снова возвращался на мужскую половину^. После этого супругам позволялось видеться лишь украдкой, нередко лишь до появления на свет первого ребенка.
Однако, если не считать этих отклонений (характерных для общества, более склонного к чисто мужским отношениям), спартанцы относились к своим женщинам с удивительным уважением, так как в государстве, неизменно пребывавшем в состоянии войны, их биологическая роль — которая виделась в том, чтобы рождать Спарте будущих воинов, — заслуживала не меньшего почтения, чем роль отца. Поэтому им, наравне с мужчинами, позволялось и даже полагалось заниматься физическими упражнениями (может быть, они тоже упражнялись нагими, а может быть, нет). Кроме того, они играли на музыкальных инструментах, зато были полностью избавлены от всех домашних трудов, от ткачества и прядения — занятий столь привычных для других гречанок. Афинянам такая свобода казалась бесстыдной, и они порицали одежду спартанок — пеплос с разрезами, оставлявший открытой значительную часть бедер.
Спартанки обладали и неслыханно широкими имущественными правами, могли долго сохранять свободу и выходить замуж довольно поздно — причем за кого сами пожелают. После замужества на них не распространялись (как в иных городах Греции) уродливые законы, ущемлявшие права жен. В отсутствие мужей они управляли делами, свободно выступали в собраниях. Кроме того, ходили слухи, что они делят между собой мужей и заводят любовников (юношей — когда мужья дряхлеют, и илотов — когда мужья в дальних походах, согласно преданию об основании Тарента). Подобные прелюбодеяния представляются вполне вероятными, если вспомнить о постоянной насущной необходимости поддерживать и увеличивать рождаемость в Спарте.
Но если женщины лишь выиграли от жесткого спартан-<ского строя (если не считать угрюмого брачного обряда), но в прочих отношениях он пресекал всякое развитие. В частности, из-за архаических и самодостаточных государственных установлений Спарта отстала от прочих греческих городов-государств в хозяйственном и финансовом развитии. Так, грубые железные прутья, служившие (как в Аргосе и других греческих городах) примитивной единицей расчета до появления настоящих монет, в Спарте имели хождение весьма долго (вплоть до IV века до н. э.)36. Железо добывалось на южных отрогах Тайгета и Парнона, серебряные же деньги — ввиду их развращающих свойств — были запрещены, поэтому торговля оставалась исключительно меновой. И в конце концов (пусть не сразу) столь упорная приверженность архаическому быту, наряду с узостью взглядов, навязываемых общественной и воспитательной системой, привела к упадку в области не только материальной культуры, но словесности и изобразительных искусств (хотя бронзовая пластика превосходного качества появлялась и после 500 г. до н. э.).
VI век до н. э., на который пришлось становление главных уложений в суровой спартанской ауооуть стал к тому же эпохой передовых мер во внешней политике государства. Многие из них обычно приписывают Хилону (позднее причисленному к «семи мудрецам») — знаменитейшему из всех эфоров. Возможно, именно он так преобразовал сам эфорат, что тот встал наравне и начал соперничать с двоецарствием.
В целом приграничные войны спартанцев были успешными. Но ок. 590/580 гг. до н. э. они потерпели поражение от Тегеи, что в Аркадии37. Поэтому во время перемирия спартанцы обратились к пропаганде: тайком выкопали из могилы на тегейской земле и перетащили к себе скелет чрезвычайно крупного мужчины, объявив, что это останки легендарного Ореста, сына Агамемнона, — а Орест, по преданию, в свое время властвовал надо всем Пелопоннесом. Затем, провозгласив себя вождями и покровителями не только дорян, но и недорян (воплощенных в образе «ахейца» Ореста), спартанцы победили тегейцев. Но вместо того, чтобы захватывать их земли, они хитростью заключили с ними оборонительный союз. Такой ход ознаменовал начало новой политики (удостоившейся похвалы дельфийского оракула), целью которой провозглашалось освобождение других полисов от диктато-ров-самодержцев («тиранов») и, в частности, оборона от Аргоса, который уже давно превратился в сильнейшую пелопоннесскую державу и все еще был опасным соперником.
Такого рода пропаганда дала желаемые плоды, и к середине века, предусмотрительно заручившись дружбой лидийского царя Креза (Приложение 1), Спарта создала мощное военно-политическое объединение, известное нам как «Пелопоннесский союз». Сами же древние — так как союзом управляло спартанское Народное собрание и совет союзных государств, — характеризовали его более точно — «лакедемоняне (спартанцы) и их союзники»38. Часто восхвалявшиеся нападения спартанцев на диктаторов чужих городов, многие из которых (даже со скидкой на патриотические преувеличения) были низвергнуты стараниями Спарты и ее союза, привели к учреждению целой сети дружественных олигархий. Опираясь на этих своих ставленников, спартанцы приготовились в 546 г. до н. э. вторгнуться в Арголиду. За безысходной «битвой победителей» при Фирее (с обеих сторон было выставлено по триста воинов; ср. раздел 1, выше) последовал кучный бой, закончившийся победой спартанцев. Этот успех обеспечил целому поколению спокойствие на границах, привел к присоединению приграничных районов и острова Кифера к владениям Спарты и стяжал ей славу мощнейшей державы Греции, невзирая на сравнительно малую численность населения.
Такую передовую политику смело преследовал могучий, хитроумный, но чуждый дипломатии и свирепый спартанский царь Клеомен I (огс. 519–490 гг. до н. э.) из династии Агиа-дов. Объявив себя, подобно Хилону, «не дорянином, а ахейцем», Клеомен вознамерился расширить господство Спарты за пределы Пелопоннеса и Коринфского перешейка — и, преследуя свою политику, изгнал из Афин диктатора Гиппия (510 г. до н. э.). Однако все три его попытки вслед за этим водворить в Афинах проспартанское правительство — в том числе попытка, предпринятая совместно с Халкидой и Беотией (507–506 гг. до н. э.), — оказались безуспешными из-за подрывной тактики его совластителя Демарата, подстрекаемо^ го коринфянами. Затем попробовал было воспрянуть и отомстить Аргос. Но сокрушительная победа спартанцев в битве при Сепии, близ Тиринфа (ок. 494 г. до н. э.), навсегда закрепила за этими двумя государствами установившиеся отношения. Так что в конечном счете драматические деяния Кле-омена, несмотря на все превратности его судьбы, способствовали вящему усилению Спарты.
Однако у Клеомена не было наследников мужского пола, что ставило его в уязвимое положение. И в 490/488 г. до н. э. его настигла беда. Вначале его попытка покарать Эгину (Глава II, раздел 6) за «мидийство», или проперсидские настроения (тут он, по случайности, впервые осознал персидскую угрозу), снова провалилась благодаря проискам Демара-та. Затем Клеомен убедил (или, как поговаривали, подкупил) дельфийскую Пифию объявить Демарата вне закона, низложил его и вместе с новым соправителем Леотихидом отправился захватывать эгинских вождей. Но дело пошло прахом, и Клеомену пришлось, спасаясь от личных недругов, бежать в Аркадию, где он снарядил войско против собственного города. Клеомена отозвали в Спарту, но там его взяли под стражу собственные же родственники, и он закололся.
Хотя эти события уже выходят за хронологические рамки настоящей книги, они существенны для понимания ранних периодов правления Клеомена, — ибо, согласно Геродоту, многие считали, что царь безумен. Историк явно несправедлив к Клеомену (он излишне доверяется его старшим полубратьям, ненавидевшим в нем узурпатора), а мнение спартанцев о том, что царь повредился в уме, потому что скифские посланники приучили его пить неразбавленное вино, — вовсе не обязательно принимать на веру. Правда, если допустить, что Клеомен действительно был не в себе, то легче объяснить некоторые странные колебания в его правлении. И все же его дарования были исключительны: именно они принесли ему куда больше власти, чем выпадало на долю спартанских царей когда-либо ранее.
Глава 4. СИКИОН
Сикион («огуречный, или тыквенный, город», Enoxbv от oudxx), удаленный на восемнадцать километров к северо-западу от Коринфа, возвышался на просторной полосе земли у подножья двух широких плато, где, низвергаясь по глубоким ущельям, сливаются две реки — Асоп и Гелиссон. На одном из этих плато располагался городской акрополь. Сикион, заселенный в эпоху поздней бронзы, упоминается в Илиаде как город, подвластный Агамемнону, царю Микен40. Согласно другому мифу, в Сикионе нашел прибежище Адраст, изгнанный из Аргоса; здесь он будто бы встретился с Полибом, отцом своей матери, женился на дочери Полиба и наследовал ему, прежде чем вернуться в Аргос41. У сикионцев сохранялся культ Адраста.
После крушения микенской цивилизации Сикион был заново основан, как передавали, Фалком — сыном Темена, правителя дорийского Аргоса, которому поначалу город сохранял подчинение. Помимо трех обычных дорийских фил — гиллеев, диманов и Памфилов, — здесь имелся еще класс рабов (наподобие спартанских илотов), известных под прозвищами кор\)\т|<р6ро1 («булавоносцы») или катоуакофбрт («ру-ноносцы»; то есть одетые в овечьи шкуры)42, — потомков более древних коренных жителей. Самый ранний очаг поселения в дорийском слое города еще не раскопан, а древняя гавань исчезла.
Сикион владел довольно обширными и хорошо орошаемыми угодьями, славившимися урожаем плодов и овощей. На смену древнему царскому роду со временем пришла олигархия, а ок. 655 г. до н. э. (как и в случае Коринфа, предложенная более «поздняя» хронология представляется неприемлемой) и она, в свой черед, уступила место тирании. Ей суждено было продержаться около ста лет — дольше, нежели всем другим диктаторским режимам. Основатель династии Орфагор захватил власть, получив назначение стратега и успешно проведя войну на границе. Согласно Аристотелю, он стяжал добрую славу кротким и даже законопослушным правлением43 — вразрез с позднейшими представлениями о «тиранах». Во время правления Орфагора, в 648 г. до н. э., его брат Мирон I вышел победителем из колесничных ристаний в Олимпии и выстроил там сокровищницу с посвятительной надписью от имени «Мирона и жителей Сикиона». Мирон II, сын и преемник Орфагора, был убит своим братом Исодамом.
Но самым знаменитым из сикионских диктаторов был племянник Мирона II Клисфен (ок. 600–570 гг. до н. э.) — воинственный, но при этом чрезвычайно гибкий правитель. В Первой Священной войне (ок. 595–583 гг. до н. э.), вспыхнувшей из-за спора между дельфийскими властями и городом Киррой, он сыграл главную роль в разрушении Кирры, благодаря чему обрел господствующее влияние в самих Дельфах. Он не раз побеждал в колесничных ристаниях на Нифийских и Олимпийских играх, а в 576 г. (?) до н. э., желая выдать замуж дочь Агаристу, созвал со всех краев Греции женихов для состязания. Устроенное действо своей пышностью словно возвращало вспять, к гомеровским сказаниям с политически дальновидным обменом дарами, с обрядами взаимного гостеприимства. Родовитые женихи, домогавшиеся руки Агар исты, явились из самых отдаленных земель, и само их происхождение уже немало способствовало укреплению внешних связей и престижа Клисфена. Несколько претендентов прибыло из северо-западной Греции в из Южной Италии; это говорило о том, что Сикион, хотя сам и не выводил колоний, намеревался заполучить долю в западной торговле Коринфа (и добился некоторого временного успеха). Но Агариста досталась Мегаклу из Афин, который позже возглавил род Алкмеонидов (а сын Клисфен, родившийся от этого брака, стал видным афинским государственным деятелем — Глава И, раздел 5).
Рассказывали, будто Клисфен Сикионский придумал трем старинным дорийским филам, жившим в городе, новые оскорбительные названия, точнее, клички — свиничи, ослятичи и поросятичи (гиаты, онеаты и хереаты)44. Но рассказ об этом вызывает сомнения. Действительно, его покровительство умеренным и либеральным (дорийским) аристократам и плутократам продолжалось недолго. Вместе с тем, будучи, по общему признанию, «законопослушным» правителем (как ранее Орфагор), — едва ли он замыслил бы разом оскорбить подавляющее большинство сикионских граждан дорийского происхождения. Скорее всего, этот травестийный пасквиль был сочинен позднейшими злопыхателями. В действительности же Клисфен, наверное, дал трем старинным филам новый набор имен (ни в коем случае не оскорбительных), предназначенных вытеснить традиционные дорийские обозначения. Должно быть, именно в ту пору к ним была добавлена четвертая фила эгиалеев («жителей побережья»), — возможно, для того, чтобы в нее вошли некоторые илотоподобные «крепостные» недорийского происхождения, чьих предков некогда поработили пришельцы.
Такие шаги объяснялись тем, что Клисфен видел врага в Аргосе. Из-за ненависти к этому городу он искоренил в Сикио-не культ аргивского героя Адраста, который будто бы нашел здесь приют, — а взамен ввел почитание другого героя, Ме-ланиппа — фиванца, который, по преданию, приходился Ад-расту заклятым врагом.
Опять-таки с целью принизить Аргос Клисфен перенес важнейшее религиозное действо Сикиона — постановку «трагических хоров» — на празднества широко чтимого бога Диониса, так как это означало, что изгнанный аргивский культ Адраста будет лишен этих представлений45. Некоторые писатели, отстаивавшие пелопоннесское происхождение греческой трагедии с ее сильным дионисийским духом, приписывали эти начинания коринфянам (см. раздел 2, выше). Но звучали сильные доводы и в пользу Сикиона46, где, как известно, чтецы гомеровского эпоса выступали еще в начале VI века до н. э., и где росписи на вазах местного изготовления изображают различные зачаточные представления драматического свойства (правда, то же самое наблюдалось и в Коринфе). Более поздние авторы упоминают некоего «трагического поэта» Эпигена Сикионского (его вроде бы обвиняли в оскорблении культа Диониса, так как он вводил в свои драмы темы, никак не связанные с этим божеством)47. Должно быть, значительная, а может быть, и решающая заслуга Сикиона заключалась в том, что он поднял эти хоры на высокий художественный уровень.
Сикионцам принадлежало первенство и в искусстве ваяния, хотя и здесь мы вынуждены черпать сведения из более поздних литературных источников. Так, Плиний Старший и Павсаний передают миф о том, как Дипэн и Скиллид, сыновья или ученики критского скульптора Дедала, переселились на материк и основали свою школу в Сикионе (ок. 580–577 гг.? до н. э.) — городе, который «долго оставался родиной всех таких мастерских»48. Взяв в подмастерья многих пелопоннесцев (впоследствии прославившихся), эти двое будто бы первыми стяжали славу в искусстве мраморной скульптуры. Возможно, их рука чувствуется и в сокровищнице сикионцев в Дельфах: фигуры на метопных рельефах, несмотря на застывшие позы и почти полное отсутствие складок в одежде, образуют достаточно смелые паратактические композиции.
Когда Клисфен попросил дельфийский оракул одобрить низвержение культа Адраста, он будто бы получил нелицеприятный ответ: Адраст-де был царем Сикиона, а Клисфен _ всего лишь камнеметатель. Если этот рассказ правдив и дельфийские власти действительно дали такой ответ, выказав неблагодарность по отношению к самодержцу, щедро осыпавшему их дарами, — то это означало, что они либо негодовали на установленный им надзор за их связями с землями по ту сторону Коринфского залива, либо сознавали, что дни диктаторов сочтены — ведь в Эпидавре и Коринфе их правлению уже пришел конец. Вскоре это произошло и в Сикионе, ибо в 555 г. до н. э. сикионский властитель Эсхин был низложен при вмешательстве спартанцев, а все члены Клисфенова семейства подверглись изгнанию из города. И словно в ответ на «приговор» тирании раздавшийся из священных Дельф, — на обломках самовластья был создан олигархический строй.
В политическом отношении Сикион, став республикой, не мог добиться особого влияния, потому что Коринф с его мощной цитаделью, Акрокоринфом находился чересчур близко.
Зато в области искусства, как и прежде, обстояло иначе. Фрагменты деревянных панно (небольших станковых картин) ок. 530 г. до н. э., найденные неподалеку, в пещере в Пице, заставляют вспомнить греческое убеждение, что «открытие» живописи произошло в Коринфе или Сикионе и что прорисовка линий была впервые применена художником из одного из этих двух городов49. Разумеется, «изобретение» такого рода должно было произойти гораздо раньше, но все-таки панно из Пицы заслуживают внимания. На этих дощечках изображена сцена жертвоприношения и религиозное шествие; женщины беседуют между собой. Панно поражают тонкостью рисунка, слаженностью построения и большим числом цветов (красный, коричневый, синий, черный, белый), нежели встречалось на расписной утвари. Так эти картины пролили одинокий и прерывистый луч света на роль Сикиона в развитии живописи — роль, не оставившую других следов, но оставшуюся в памяти потомства. Или — как знать — обнаруженные дощечки принадлежали не сикионскому, но коринфскому художнику? Ведь, несмотря на то, что нашли их на территории Сикиона, они были посвящены нимфам неким коринфянином, да и надпись сделана коринфским алфавитом.
Если это и так, то по крайней мере в одной области Сикион по праву соперничал с Коринфом. Это было бронзовое литье; здесь мастерство сикионцев достигло вершины к концу VI века до н. э. в шедеврах Канаха, который прославился своей статуей Аполлона Филесия в Дидимах (на западе Малой Азии).
Глава 5. МЕГАРЫ
Мегары располагались посреди узкой, но плодородной Белой равнины — единственного низменного участка Мега-риды; эта полоса образовывала северную часть Истма, или Коринфского перешейка (а потому, строго говоря, лежала уже за пределами Пелопоннеса, хотя для удобства мы помещаем ее описание в настоящей главе). У мегарян было две гавани: одна (Пеги, иначе Паги) на западе, у Коринфского залива, а другая (Нисея), более доступная и удобная, — на востоке, у Саронического залива Эгейского моря.
Здешнее поселение, существовавшее еще в эпоху бронзы, — одно из немногих в Греции, носящих греческое название: «Мегары» (Μέγαρα), означает «большие дома», «чертоги» (от μέγαρον). Согласно мифам, Мегары были обязаны своими стенами герою Алкафою (которому помогал сам Аполлон), а впоследствии принадлежали Афинам (хотя такие слухи распускали сами афиняне): предание гласило, что именно в ущелье, пролегавшем через гору Геранию и соединявшем оба города, афинский герой Тесей убил разбойника Скирона, и с тех пор эти места звались Скироновыми скалами.
Доряне, пришедшие в Мегары, вероятно, из Аргоса, поработили коренное население. Сохраняя традиционное деление на три филы, они поселились здесь тремя деревнями (или группами деревень) — отсюда и множественное число в грамматической форме топонима (лишь много позднее переосмысленной как единственное число женского рода — Ме-гара). Эти деревни враждовали между собой, — впрочем, проявляя при этом необычайное «благородство». Но ок. 750 г. до н. э. все эти селения слились в единый город, по крайней мере в политическом отношении^. Прежние три дорийские филы со временем сменились пятью филами, которые, возможно, отвечали новым топографическим очертаниям, или, предположительно, охватывали некоторые додорийские элементы населения. Эти новые филы назначали себе пятерых стратегов (поначалу они делили обязанности с царем, но позднее должность царя упразднили) и учредили высшие должности для правителей-демиургов (δημιουργοί). Каждая фила поставляла войску свое ополчение, что помогло Мегарам стать одним из сильнейших государств в ранней Греции.
Благодаря выигрышному географическому положению на Истме Мегары вскоре превратились в торговое звено, соединявшее Грецию с западными и восточными землями — как и соседний Коринф. Мегаряне обзавелись шерстопрядильной промышленностью, которая прославилась своими плащами. Но, что самое главное, мегаряне, недовольные скудостью своих земель (их площадь не превышала 460 квадратных километров), стали первопроходцами на пути колонизации, сыгравшей столь значительную роль в жизни Греции. И главным образом благодаря этому обстоятельству Мегары заслуживают упоминания в одном ряду с наиболее примечательными греческими общинами рассматриваемой эпохи.
Так, после вывода первых греческих поселений на Сицилию мегаряне основали на восточном побережье острова Ме-гару Гиблейскую. По традиции датой основания принято считать 728 г. до н. э. — то есть ту пору, когда Мегары, как предполагалось, пребывали в зависимости от Коринфа. Если верить такой хронологии, то они затеяли эти выселки по наущению Коринфа (тем более что поселение было основано совсем неподалеку от коринфской колонии — Сиракуз): Мегары, население которых никогда не превышало 40 тысяч, едва ли осилили бы подобную затею без посторонней помощи. Согласно сообщению Фукидида51, вначале прибывшие на Сицилию мегаряне трижды выбирали неудачные места и затем покидали их. В конце концов им предоставил прибрежные земли местный царь сикулов Гиблон, в честь которого пришельцы и назвали свою колонию Мегарой Гиблейской. Место здесь было незащищенное, и освоить его можно было лишь при помощи местных жителей. Зато здесь имелись источники пресной воды, береговая линия создавала небольшие естественные гавани, а прибрежная равнина простиралась на четыре — шесть с половиной километров в глубину и на четырнадцать с половиной — в длину. Раскопки показали, что в Мегаре Гиблейской с самого начала присутствовал определенный градостроительный план, хотя он еще был лишен той ортогональной (прямоугольной) четкости, которую позже связывали с именем Гипподама Милетского. Изрядная часть найденной керамики — местного изготовления, но немало и привозной утвари, что свидетельствует о состоянии умеренного процветания.
Но в дальнейшем мегаряне из метрополии перенесли свое внимание с запада на северо-восток, и эта новая волна колонизации впоследствии дала более ощутимые плоды. Такая «смена курса», вероятно, была вызвана ухудшением отношений с Коринфом. По-видимому, войска последнего вторглись ок. 740 г. до н. э. в Мегариду и захватили ее южную полосу, в том числе Пирей (Перахору). Ок. 720 г. до н. э. мегаряне во главе с Орсиппом (олимпиоником, который впервые вышел на состязания в беге нагим) и, наверное, при поддержке Аргоса и Эгины отвоевали часть приграничных земель, но к 700 г. до н. э. Коринф вновь утвердился на спорной территории. Для Мегар, чье хозяйство во многом зависело от овцеводства и обработки шерсти, потеря этой земли стала весьма болезненным ударом. Вдобавок Коринф принялся угрожать им еще и отлучением от западных рынков.
Тогда Мегары (на сей раз, видимо, с подачи Милета) обратили взоры к Боспору Фракийскому — проливу, обильному рыбой (здесь прекрасно ловился тунец, мигрировавший из Черного моря в Средиземное) и составлявшему важный отрезок пути, по которому из Причерноморья в Грецию поступало зерно. Первой колонией стал здесь, очевидно, Калхедон (совр. Кадыкёй) в Вифинии, на южном берегу Боспора; традиционной датой его основания считается 685 г» до н. э. Затем, всего несколько лет спустя (то ли в 668, то ли в 659, то ли в 657 г. до н. э.) еще одна группа мегарян, к которым, вне сомнения, присоединились и многочисленные выходцы из других полисов, выбрали весьма выигрышную местность и основали Византий на противоположном, европейском берегу пролива. А прежде Византия мегаряне забрались еще западнее и основали Селимбру; мегарская колония Калхедон вывела, в свой черед, еще один город — Астак. В итоге такого расселения — пусть история и умалчивает о взаимоотношениях новых городов с метрополией — правители маленького и далекого государства, греческих Мегар, стали смотреть на Бос-пор и на восточный край Пропонтиды (Мраморного моря) как свои «отъезжие владения». Поэтому они попытались воспрепятствовать самосцам в основании Перинфа, колонии-соперницы, хотя это им не удалось (602 г. до н. э.). (Об этом направлении колонизации см. также Главу VIII, раздел 2.)
Между тем во второй половине VII века (ок. 640–620 гг.? до н. э.) распри среди высшей мегарской знати послужили уже классической сценой для появления диктатора, им стал Феаген. Рассказывали, что, готовясь совершить переворот, он прежде приобрел доверие бедноты, «избив скот состоятельных людей, застигнутый им на пастбище у реки»^2. Но вероятнее всего, он был не каким-то народолюбцем или поборником демократии, а дорянином-аристократом, «потомком богов» (что означает его имя), который просто решил таким образом заручиться поддержкой народа. И даже если в рассказе про избиение скота есть хоть какая-то правда, то, вне всякого сомнения, жертвами он избрал стада своих политических противников, потому что поголовное истребление скотины оказалось бы губительным для всей общины.
Так Феаген стал одним из диктаторов, которыми был весьма богат этот северо-восточный край Пелопоннеса. Он сделался народу любезен тем, что построил нечто вроде беседки с источником и проложил водопровод. Дочь он выдал замуж за влиятельного афинского аристократа Килона, который попытался с помощью мегарян водвориться в Афинах диктатором. Это покушение провалилось, но все же Мегары, воспользовавшись внутренними раздорами в Афинах, отняли Саламин у Эгины (позднее считалось, что у Афин), дабы восполнить урон в собственных средствах и торговле, который недавно нанес им Коринф.
Но позднее Феагена изгнали олигархи — люди, чья власть основывалась не на знатном происхождении от старинных родов, а на богатстве, нажитом благодаря производству и вывозу шерстяных изделий. Но и олигархов, в свой черед, свергла более обширная группа граждан, куда входили и представители бедняцких сословий. Характеристика Плутарха, назвавшего такое правление «разнузданным народовластием», явно анахронична. Хотя оно и вправду обнаруживало радикальные наклонности. Ибо произошло следующее (мы вновь прибегаем к рассказу Плутарха, но он звучит правдоподобно благодаря аналогии с более поздними реформами Солона в Афинах): новые мегарские законы обязывали всех заимодавцев вернуть должникам «прирост», что те им выплачивали. Неудивительно, что такое требование пришлось не по нраву зажиточным сословиям; «народолюбивое» правительство оказалось недолговечным, и в городе снова установилась олигархия. Вся эта цепочка быстрых и резких перемен явилась в глазах античных авторов классическим примером стасиса — вражды между богачами и бедняками (а также между различными группами знати), которой предстояло занять столь важное место в дальнейшей греческой истории53.
На этот период внутренних распрей проливают свет около 1400 поэтических строк, приписываемых Феогниду Мегарско-му (который, возможно, впоследствии стал гражданином Мегары Гиблейской). Очевидно, в сохранившийся сборник вошли и стихи других, более поздних поэтов. Однако многие элегические строки не вызывают сомнения в авторстве самого Феогнида (они написаны не на его родном дорийском, а на более широко известном ионийском диалекте). Стихи эти исполняли под звуки флейты на совместных трапезах аристократических товариществ — гетерий (ётагреюа).
Мастер изящного стихосложения и смелой, яркой метафоры, Феогнид выказывает себя крайним консерватором и яростно отстаивает превосходство знатного происхождения и старинного уклада. Поэт сетует на плачевное усиление «подлых» сословий (он с ужасом наблюдал их временное пребывание у власти), но не меньшее презрение вызывают у него новоиспеченные богачи и отвратительные нравы их нового колониального мира. На таких общественных оценках Феогнид выстраивает своеобразный греческий кодекс нравственности, согласно которому наихудшим из пороков является Аррц — алчность и зависть к чужому богатству, полная противоположность умеренности. Она уже сгубила много великих городов, и Мегарам, по разумению поэта, предстояло стать очередной жертвой.
Кроме того, Феогнид был откровенным мальчиколюбцем (от него сохранилось наибольшее количество стихов, воспевающих однополую любовь, если говорить о доэллинистичес-кой эпохе), а о женщинах высказывался с неприязнью, хотя и признавал, что нет участи отрадней, чем иметь добронравную жену. Однако он с горечью замечает, что хотя люди скотине своей старательно подбирают чистопородную пару, — сами между тем, заключая браки, пекутся уже не о знатном роде, а о богатстве избранника.
Согласно Аристотелю, и Мегары, и их колония Мегара Гиб-лейская приписывали себе «изобретение» греческой комедии. Притязания Мегары Гиблейской будто бы основывались на том, «что из Сицилии происходил поэт Эпихарм»54. По-ви-димому, сицилийские мегаряне считали этого видного комедиографа-первооткрывателя выходцем своего родного города, а не Сиракуз — вопреки более распространенному и правдоподобному предположению (Глава VII, раздел 3). Что касается метрополии, то афинские комедиографы отзываются о ме-гарских комедиях как о срамных. По-видимому, в них выводились разные «избитые» персонажи — вроде повара с поваренком; а после падения мегарской тирании «изобретатель» этого жанра Сусарион принялся ставить представления с политическим подтекстом, где главная роль отводилась сатирам — спутникам Диониса55. Таким образом, прежде чем появиться в Афинах, разновидность комической драмы уже существовала в Мегарах. Правда, отсюда еще не явствует, что позднейшая аттическая комедия имела сильный дорический «привкус», но все-таки мегарские шуты, вероятно, оказали на нее некоторое влияние; а афинский тип комической маски, цагасоу, согласно одному источнику, был обязан своим возникновением мегарскому актеру, носившему такое имя56.
После того, как в 569/568 г. до н. э. Мегары уступили Афинам свой порт Нисею (возможно, не в первый раз и не навсегда), их затяжная борьба за остров Саламин спустя несколько десятилетий вновь завершилась поражением, ибо Спарта, выступавшая третейским судьей, рассудила спор в пользу Афин. Тогда они решили расширить свои владения на северо-востоке. Отправив корабли за Боспор Фракийский (с помощью своих колоний, основанных в тех местах, а также при поддержке Беотии), они основали в Вифинии, на южном побережье Черного моря, Гераклею Понтийскую (ок. 560–558 гг. до н. э.). Она стала первым значительным поселением, выведенным по ту сторону Боспора. Гераклея располагалась у естественной бухты, в землях, где жило племя мариандинов. Колонисты обратили туземцев в рабов наподобие илотов и в дальнейшем жили тем, что возделывали плодородные земли, лежавшие вглубь от берега, и промышляли рыбной ловлей. Правители Геракл ей Понтийской, выказывавшие демократические наклонности, вскоре распространили свое влияние на восточное побережье Черного моря, а также основали собственные колонии на западном — европейском — побережье и в Херсонесе Таврическом (совр. Крым)57.
Но что до метрополии, то Мегары утратили былое положение одной из ведущих держав Греции, а незадолго до 500 г. до н. э. вошли в состав Пелопоннесского союза, который возглавляла Спарта.
Глава 6. ОЛИМПИЯ
Олимпия находилась в Писе (Писатиде) — области, граничившей с Элидой в северо-западном Пелопоннесе58. Она лежала у подножья невысокой горы, носившей имя Крона — отца Зевса, — где сливались реки Алфей и Кладей, прежде чем устремиться по плодородной равнине к Ионическому морю, удаленному отсюда на 12 км. Из археологических данных явствует, что в Олимпии непрерывно существовали поселения приблизительно с 2800 по 1100 гг. до н. э.
В дальнейшем, после прихода дорян, Олимпия стала ареной важнейших атлетических состязаний в мире. Согласно одам Пиндара, воспевавшего победителей, Олимпийские игры были учреждены героем героев — самим Гераклом59, и именно эта версия мифа бытовала в Элиде. Зато в самой Олимпии местное предание гласило, что празднества основал мифический Пелопс (давший имя Пелопоннесу), после того как он убил царя Писы Эномая и взял в жены Гипподамию, дочь убитого. Могильные курганы, считавшиеся погребениями Пелопса и Гипподамии, относились к периоду до 1000 г. до н. э., а существовавшие здесь культы Крона, Геи (Земли, чей оракул, по преданию, стяжал Олимпии славу еще в глубокой древности), ее дочери, или ее же самой в обличье Фемиды (Справедливости) и Илифии (богини-родовспомогательницы) восходят, вероятно, к еще более ранней эпохе.
Дорийские пришельцы — быть может, опираясь прямо или косвенно на какой-то прежний культ, — внедрили почитание Зевса с горы Олимп — Зевса Олимпийского, в честь которого и получило свое имя и само поселение. Его культ отправлялся в пределах Альтиса — прямоугольного священного участка длиной в 198,2 м и шириной в 152,5 м. Терракотовые и бронзовые статуэтки X века, найденные здесь в ходе раскопок, изображают бога с воздетыми руками — как у микенских божеств. Храмовыми служителями Зевса были Иамиды — род жрецов-прорицателей.
Местные атлетические состязания в Олимпии начали проводить, самое позднее, ок. 900 г. до н. э., по дорийскому почину. Игры в более развитой форме, какими мы их знаем, по-видимому, появились в VIII веке до н. э… Считалось, что впервые они состоялись в 776 г. до н. э.; это самая ранняя дата в греческой истории, которую принято считать уже не легендарной, а исторической, — хотя сам метод, с помощью которого был осуществлен (Гиппием из Элиды в конце V века до н. э.) такой точный подсчет, был ненаучен. В самых ранних списках победителей значатся имена атлетов, приезжавших на игры главным образом из западного Пелопоннеса, особенно из Мессении, но позднее близость Олимпии к морю, делавшая ее доступной жителям западных земель, привлекла и гостей из греческих городов Сицилии и Южной Италии, также неоднократно побеждавших в состязаниях.
При раскопках Альтиса было найдено множество древних посвятительных предметов — в частности, бронзовые котлы VIII века до н. э., в которых чувствуется северно-сирийское влияние. Самое раннее сооружение на этом месте было совсем невелико; даже жертвенником Зевса служила просто постоянно обновлявшаяся горка пепла, сгребавшегося после жертвоприношений. Древнейшие из сохранившихся архитектурных развалин принадлежат храму Геры, перестроенному ок. 600 г. до н. э. Возможно, это было первое в Балканской Греции монументальное святилище. Первоначально его стены были сработаны из кирпича-сырца и покоились на облицованных каменных основаниях, а кровлю подпирали деревянные столбы-колонны. В храме находились изваяния Зевса и самой Геры, голова которой и была здесь обнаружена.
По-видимому, это сооружение было возведено по почину писийцев, которые, наверное, взяли на себя устроение игр в VII веке до н. э. ввиду вмешательства аргосского царя Фи-дона. Если это и так (хотя дело затемняется позднейшими противоречивыми сведениями), то ок. 572 г. до н. э., после продолжительной борьбы (а не в самом начале, в 776 г. до н. э., как полагает Страбон60), они уступили эту роль более крупной элидской общине, принявшейся насаждать в Писи-тиде свое влияние.
Отныне Олимпийские игры получили статус Панэллинских, или общегреческих. Это была дань уважения к их возросшей славе, которой, вероятно, отнюдь не препятствовало, а скорее способствовало весьма скромное положение Элиды, слишком ничтожной в политическом отношении, чтобы затевать споры с другими государствами. Такое возвышение местных игр ознаменовалось появлением в Олимпии пышно разубранных сокровищниц (как и в Дельфах), возведенных разными сицилийскими, южноиталийскими и другими греческими городами для хранения своих даров, так как они стекались сюда в таком количестве (включая массу оружия и доспехов, а также военную добычу), что уже не умещались в местных храмах.
Олимпийские игры стали одним из четырех крупнейших атлетических празднеств Греции. Другими тремя были Пифий-ские игры (в Дельфах), Истмийские (близ Коринфа) и Не-мейские игры (устраивавшиеся Клеонами — городом, подвластным Аргосу). Игры в Олимпии — хотя, в отличие от остальных, на них не проводились состязания в музыке и поэзии, — были признаны величайшими из всех четырех и получили панэллинский статус и широчайшую славу на двести лет раньше, чем другие.
В течение последующего тысячелетия они устраивались раз в четыре года, в августе и сентябре — в пору между жатвой и сбором винограда и маслин. Три гонца из Элиды повсюду провозглашали Священное перемирие на время праздника, — и ни разу война между греческими полисами не помешала его провести. Если враждующие государства не слагали оружия на время перемирия, они подвергались суровому штрафу, размер которого исчислялся в зависимости от численности войск-нарушителей.
В своей окончательной форме эти состязания продолжались пять дней. Первый день, приготовительный, был отведен для жертвоприношений и молитв богам. Во второй день устраивались колесничные ристания — забава царей и излюбленное зрелище, — и конные ристания, затем пятиборье (яёутавХоу). На третий день (который, благодаря точным подсчетам, непременно предшествовал полнолунию) снаряжалась процессия к алтарю Зевса. Вслед за этим проходили три состязания среди мальчиков. На четвертый день устраивался бег для трех атлетов, борьба, вольная борьба (тих\тсраш>у) и кулачные бои. Пятый, и последний, день посвящался заключительным торжествам, в том числе принесению благодарственных даров и пиршеству для атлетов-победителей — олим-пиоников.
Несмотря на жару и толкотню, на Олимпийские игры приезжало около сорока — пятидесяти тысяч зрителей изо всех уголков греческого мира. Сами эти соревнования являли своего рода противовес разобщенному бытию греческих полисов. Но сколь бы велико ни было воздействие этих празднеств, ему никогда не удавалось достичь окончательного примирения; во всяком случае, каждый атлет представлял не свое государство (как это происходит сейчас), а исключительно самого себя (к участию же допускались только свободнорожденные греки). Хотя единственной наградой победителю служил венок, сплетенный из листьев священной оливы, росшей возле святилища Зевса, — весьма часто олимпионик, возвратившись домой, получал в родном полисе другие награды и окружался почетом до конца дней.
Когда Олимпийские игры были возрождены уже в наше время, их устроители вначале надеялись, что состязания будут проводиться в любительском духе, — ибо считалось, что таковы были отличительные особенности изначальных празднеств. Однако подобное истолкование древних состязаний ошибочно, потому что они требовали столь напряженных упражнений, что это неизбежно порождало изрядную степень «профессионализма». Недаром само слово &&Хоч означало отнюдь не игру или забаву, но тяжкую борьбу, муку и боль.
Вместе с тем знаменательным «побочным эффектом» Олимпийских (и других) игр стал тот толчок, который они дали разного рода художественному творчеству. Огромное количество ранних образцов металлической пластики было выполнено именно для посвящения в Олимпию. Кроме того, и в дальнейшем эти состязания в немалой мере подстегивали развитие греческой скульптуры: ведь главным предметом ее изображения было человеческое тело, которое и прославляли атлетические соревнования, — причем тело мужское, ибо женщины к участию в играх не допускались, хотя со временем были введены добавочные, уже сверх основной программы, состязания в беге — в честь Геры.
ЧАСТЬ IV ЦЕНТРАЛЬНАЯ И СЕВЕРНАЯ ГРЕЦИЯ
Глава 1. ЭВБЕЯ: ЛЕФКАНДИ, ХАЛКИДА, ЭРЕТРИЯ
Эвбея (в новогреческом произношении Эввиа) — крупнейший, после Крита, остров Эгейского архипелага; его длина составляет 170 км, а ширина колеблется от 6,4 до 48 км. От Беотии и Аттики его отделяет узкая водная полоса, в древности называвшаяся Эвбейским морем. Его наиболее узкий отрезок — пролив Эврип, минимальная ширина которого менее 90 м, — был весьма удобен для захода судов, тогда как восточное побережье Эвбеи, обращенное к открытому Эгейскому морю, грозило им суровыми скалами и стремительным течением. Жители, населявшие в эпоху бронзы западную часть Эвбеи, — абанты (предположительно племя фракийского происхождения из Абы в Фокиде), — упоминаются в списке ахейских кораблей Гомеровой Илиады. О населении северной и южной оконечностей острова говорилось, что это смешанные племена северного происхождения, — известные как эллопы и дриопы соответственно.
Историческими городами на Эвбее были Халкида, Эретрия, Гистиея, Герест и Карист. Важнейшими из них были Халкида и Эретрия, расположенные неподалеку друг от друга на юго-западном побережье. В позднебронзовом веке (микенская эпоха) этот край, составлявший часть области, заселенной абантами, попал под влияние соседней Беотии. Затем сюда переселилась одна из ветвей греков-ионийцев — очевидно, в ту пору, когда другие их сородичи перебирались на Киклады и в Ионию. Впоследствии эти два крупных эвбейских города играли заметную самостоятельную роль в дальнейшем подъеме Греции.
Халкида, возвышавшаяся над самым узким отрезком Эврипа, сохраняла некоторые религиозные традиции минойской эпохи; считалось (возможно, ошибочно), что по окончании Троянской войны со основал афинянин Коф. Эретрия лежала юго восточнее — там, где пролив значительно расширяется. Поселение, существовавшее здесь в эпоху бронзы, согласно Страбону, носило название Меланеиды. Рассказывали, что после Троянской войны его повторно основал Ээл из Афин, а имя ему дал по названию местной агоры. Но Страбон упоминает и другой возможный (видимо, более правдоподобный) источник этого названия, — а именно, что прежде где-то поблизости существовало поселение Аротрия. (Приводит он и еще одну этимологию — от Эретриея из Макиста в Трифи-дни, пелопоннесской области.)'
Можно сказать, что Халкида и Эретрия задали воинственный тон всей позднейшей греческой истории, так как издревле вели непрестанный спор за обладание Лелантской равниной, обязанной своим именем Леланту (ныне Каламондари) — стремительной и бурной реке. Рядом с целебными водами Ле-ланта, протекавшего между двумя городами, залегали богатые руды меди и железа. Именно здесь в недавнее время были сделаны удивительные открытия — близ современного селения Лефканди, которое в древности, возможно, звалось Ле-лактом; но Лефканди можно отождествить и со «старой Эрет-рией», упоминаемой Страбоном2, если только оно не было просто зависимым владением этого города.
Ок. 1150 г. до н. э. на месте Лефканди существовало поселение микенского времени (позднего бронзового века). Располагаясь на широком полуострове с удобным причалом, оно в то же время занимало выигрышное место по отношению к Лелантской равнине. Однако самое удививительное (учитывая нынешнее состояние наших знаний) — это исключительный расцвет, который переживало поселение после краха микенской цивилизации, в течение последующего переходного периода (начиная примерно с 1075 г. до н. э.), обычно называемого «темными веками», — хотя на Эвбее (а отчасти и на Крите и Кипре) не наблюдалось резкого культурного спада, который оправдывал бы такое определение. Ибо жители Лефканди, пусть весьма немногочисленные (о сколько-нибудь точных цифрах ведутся споры), стали, очевидно, одними из первых греков, ввозивших предметы роскоши с Ближнего Востока, в особенности из северной Сирии и Финикии.
Так, среди находок из гробниц (в частности, на невысоком холме Туба, возвышающемся с севера над Лелантской равниной, а с запада обращенном к морю) обнаружено ожерелье из фаянса (голубоватого стекла) середины XI века д0 н. э., вазы, пластинка и египетское кольцо из сходного материала и набор бронзовых колес, возможно, кипрского происхождения. Кроме того, в могилах были найдены образцы афинской протогеометрической керамики (ок. 950–900 гг. до н. э.), а также сосуды, выполненные в местном, эвбейском протогеометрическом стиле. А терракотовый кентавр 34,5 см в высоту являет на редкость ранний пример фигурной пластики.
Раскопки в Лефканди обнаружили также развалины сооружения апсидального типа, относившегося, вероятно, к X веку до н. э… Насколько возможно судить, их форма и характер своей усложненностью заметно опережали зодчество той эпохи в остальной Греции. На каменном фундаменте стояли стены из кирпича-сырца, изнутри облицованные гипсом; на наружных верандах тянулись ряды деревянных столбов-колонн. Постройка оказалась неожиданно велика: сорока трех метров в длину и одиннадцати в ширину. Судя по ямам, выкопанным для пифосов (хозяйственных кувшинов), это было светское здание, — но в то же время оно явно указывает будущее направление в монументальном храмовом зодчестве.
В слое, располагавшемся над строением, обнаружились два пышных захоронения. Одно из них (возможно, героон [црфоу] — святилище героя) — могила воина, который, судя по всему, принадлежал к царскому роду или бывшей царской династии. Его кости и прах были найдены внутри амфоры; они были завернуты в полоски ткани, от которых, как ни странно, сохранились отдельные лоскутки. Во втором погребении обнаружились сожженные останки женщины. На скелете поблескивали позолоченные височные кольца, крупные булавки для одежды и бюстгальтер, украшенный большими дисками. Возле головы ее лежал жертвенный нож: быть может, это указывало на то, что смерть ее явилась человеческим жертвоприношением. Рядом с ней были найдены скелеты трех или четырех лошадей. Следы литейной мастерской по соседству, относившейся к началу X века до н. э., говорят о том, что местные жители уже не только ввозили металлическую пластику с Ближнего Востока, но заимствовали и освоили саму технику литья. Золото и другие предметы роскоши продолжали прибывать с востока, и в Лефканди накапливалось все больше богатств. Но ок. 865 г. до н. э. произошло резкое исчезновение подобных погребений, хотя жизнь здесь продолжалась, уже на более скромном уровне, вплоть до 700 г. до н. э.
Если, как предполагалось, Лефканди и есть «старая Эрот-рия», упоминаемая у Страбона, то, быть может, прекращение этих захоронений объяснялось тем, что отсюда — как и из других деревень — жителей переселили ради фактического и политического объединения «новой Эретрии»; но такая точка зрения порождает ряд хронологических затруднений. Как бы то ни было, обновленная Эретрия, в десяти километрах к востоку от Лефканди, стала городом весьма внушительных размеров, богатым золотом и бронзой. Найденная здесь керамика относится приблизительно к 875–825 гг. В Эретрии имелся храм Аполлона Дафнефора (ок. 750 г. до н. э.) и местный героон. По-видимому, в ту же пору произошло объединение Халкиды, превратившейся из пяти прежде одиночных деревень в крупный город, знаменитый своим бронзовым литьем. Гесиод получил в награду треножник на поэтическом состязании, устроенном на похоронах Амфидаманта Халкид-ского (раздел 4, ниже).
Политические отношения Лефканди с Халкидой и Эретрией воссоздать невозможно, но, скорее всего, они были достаточно тесными. Ясно одно: Эвбея извлекала выгоду из своего географического положения, первой возобновив торговлю с заморскими странами, прервавшуюся к концу микенской эпохи. Если в Лефканди раньше были установлены связи с восточными землями, то Халкида стала крупным ремесленным центром, и здесь, как и в Эретрии, даже правящая знать — учредившая государство всадников, сменившее единовластное правление, согласно Аристотелю3, — не гнушалась подобных занятий или поиска людей для них.
Значительную роль в возобновлении этих связей играли по меньшей мере три порта в северной Сирии — Аль-Мина, Посидейон и Палт. Из этих городов (а возможно, и из торговых кварталов финикийских городов) к эвбеянам и к другим грекам, жившим на материке, поступали золото и серебро, а также разнообразные изделия, послужившие грекам образцами для «ориентализирующего» стиля в искусстве. Затем, в свой черед, часть этих товаров эвбеяне отправляли на свои рынки (эмпории) в Питекуссах и Кумах, в Южной Италии (Глава VII, раздел 1), где они вели торговлю с этрусками (Приложение 3). Кроме того — хотя эту честь «оспаривали» и другие города (Глава I, примечание 35), — есть серьезные основания предполагать, что финикийский алфавит (Приложение 1), легший в основу греческого письма, впервые проник в Халкиду именно из упомянутых северно-сирийских портов. Одна из самых ранних алфавитных надписей была найдена в Питекуссах, эвбейском торговом эмпории.
Между тем Халкида — несомненно, с помощью выходцев из других городов, — играла главную роль и в основании Регия (примерно до 720 г. до н. э.), который, быть может, стал первой греческой колонией на крайнем юге Италии. Регий обрел влияние благодаря выгодному расположению на берегу Сицилийского (Мессинского) залива, который, должно быть, напоминал переселенцам родной Эврип. Кроме того, рассказывали, что уже ок. 734 г. до н. э. выходцы из Халкиды основали Наксос — первую греческую колонию на Сицилии, а вскоре к ним прибавились Леонтины (основанные тем же Феоклом) и Катана. Эти сицилийские поселения были созданы главным образом ради окрестных плодородных земель.
Таким образом, Халкиде принадлежала главенствующая роль в освоении западного мира. Кроме того, совместно с Эретрией она колонизовала имеющий форму трезубца полуостров на македонском побережье, названный поэтому Хал-кидикой (Глава VIII, раздел 2). Халкида, чье аристократическое правительство оставило многих граждан без пахотной земли на родине, вывела более тридцати поселений (опять-таки при участии других полисов) на Сифонии и Акте, тогда как Паллену и побережье Фермейского залива заселили эрет-рийские колонисты. Все эти новые поселения обзавелись легендами, где говорилось, что при их основании не обошлось без дельфийского оракула. В распоряжении переселенцев появились земли, дававшие хороший урожай зерновых, а с тыла оставались «про запас» просторы, пригодные в будущем как источник для работорговли.
Однако незадолго до 700 г. до н. э. обе эвбейские метрополии этих колоний встряли в ожесточенную и продолжительную борьбу за обладание тучной Лелантской равниной, простиравшейся между ними. Это была самая ранняя из греческих войн, имевшая полное основание называться исторической.
Исход войны был предметом живейшего интереса различных греческих государств. И не только потому, что на карту было поставлено благополучие заморских владений враждующих городов, но и еще потому, что Халкида контролировала Эврип —· жизненный путь сообщения между Эвбеей и материком, — а Эретрия владела рядом Эгейских островов, в частности, Андросом, Кеосом и Теносом. Следственно, обоим полисам не составило труда обзавестись союзниками. Например, Самос, Фессалия и Коринф (невзирая на соперничество в делах колонизации), по-видимому, выступали на стороне Халкиды, а Милет и, вероятно, Мегары поддерживали Эрет-рию.
Дельфийский оракул будто бы предрек Халкиде первенство среди всех прочих греческих городов, ввиду хорошего оснащения ее бойцов4 в этот период аристократических войн, предшествовавший появлению гоплитской фаланги, — хотя, быть может, как предполагает само название Халкиды, «бронзового города», здесь был значительно усовершенствован нагрудник, позднее служивший чрезвычайно важной частью гоплитского снаряжения. Халкидская конница тоже была настолько мощной, что местные земельные аристократы даже прозывались гиппоботами (Ιππόβοται), буквально — «коневодами». Правящее сословие в Эретрии тоже звалось всадниками (Ιππείς); отмечалось, что город может выставить 600 таких всадников, а также 60 колесниц и 3000 пехотинцев.
Сохранились сведения о том, что одно сражение в ходе этой Лелантийской войны увенчалось крупной победой хал-кидян, чьим превосходным войскам помогали фессалийские конники. Однако остается неясным, насколько решающим был этот успех, ибо если Эретрия, при таком исходе войны, явно утратила былую роль ведущего полиса — в частности, потеряв Андрос, который ок. 650 г. до н. э. вывел собственную колонию на Халкидику, — то и Халкида с тех пор перестала быть крупнейшей торговой державой, уступив место своему бывшему союзнику Коринфу. Возможно, эвбейские города, по крайней мере временно, были разрушены или ослаблены продолжительной войной (которая, очевидно, и привела к окончательному уничтожению Лефканди). Вместе с тем, хотя споры за Лелантскую равнину в дальнейшем постоянно возобновлялись, Халкида была по-прежнему в силах выполнять свои замыслы в отношении колонизации севера. А Эретрия возводила мощные укрепления, производила огромные сосуды на высоких ножках (ок. 700–650 гг. до н. э.) и к тому же имела златокузнечную мастерскую, от которой остался богатый склад.
Незадолго до 600 г. до н. э. диктатор Тиннонд навязал свою власть эвбеянам — по крайней мере, некоторым. Его имя имеет беотийское происхождение, что наводит на мысль о временном господстве над островом Беотийского союза Согласно сохранившимся сведениям, в Халкиде в ту пору водворились два других диктатора — Антилеонт и Фокс. Об их правлении нам известно из Аристотеля; он же сообщает, что за свержением этих самодержцев последовали соответственно «олигархия» и «демократия», — хотя можно предположить, что гиппоботы просто восстановили свое былое господство, обойдясь без особых перемен. Эретрии тоже привелось пережить тиранию. До или после 550 г. до н. э. прежнее аристократическое правительство было насильственно низложено диктатором Диагором (возможно, именно он разрешил афинянину Писистрату использовать город в качестве «плацдарма» для успешного переворота). Но в законе о перевозке грузов ок. 525 г. (?) до н. э. высший сановник Эретрии назван архсх; — что, предположительно, означало главу олигархического правительства5.
В начале второй половины VI века до н. э. Халкида начала чеканить серебряную монету. На лицевой стороне были выбиты атрибуты Зевса Олимпийского — орел и змея, а на оборотной городская эмблема — колесо. «Эвбейский медный талант» служил расчетной единицей уже в самые ранние времена; а появление новых монет вызвало к жизни «эвбейский стандарт» (с его тяжелым и легким подвидами, а также рядом местных разновидностей — включая аттическую и коринфскую), которому предстояло соперничать с эгинским стандартом за первенство в качестве основной меновой единицы средиземноморской торговли. Если эгинский стандарт преобладал в Эгейском бассейне, то «аттическо-эвбейский» имел хождение на Халкидике, в Киренаике и западных землях. Оба стандарта изначально основывались на сирийской системе мер, в которой одна мина содержала пятьдесят сиклей (ста-теров).
Афины стали все больше выдвигаться на сцену, проэвбей-ская партия Писистратидов была изгнана, — и неудивительно, что для Халкиды, главного эвбейского города, настал черед тревожиться, не последует ли вторжение с афинской стороны. Поэтому когда в 507/506 г. до н. э. Клеомен I Спартанский задумал напасть на Афины, к нему присоединились, образовав трехстороннее объединение, Халкида и Беотийский союз, который увековечил этот сговор тем, что поместил на своих монетах изображение колеса — эмблему Халкиды. Однако и халкидские, и беотийские войска на собственных же землях были разгромлены афинянами в один и тот же день.
В качестве выкупа за многочисленных пленных Афины присвоили часть халкидских земель, посягнув на верховенство местных олигархов, и отрядили туда 4 тысячи своих граждан, по возрасту пригодных к военной службе. Став клерухами, то есть владельцами небольших наделов, переселенцы сохраняли афинское гражданство и служили своего рода гарнизоном.
Халкидцы, как в метрополии, так и в колониях, — по крайней мере, в более поздние времена — были особенно известны склонностью к мужеложству, так что даже появился глагол х<хАла51£е1У (собственно, «вести себя по-халкидски», как бы «халкидничать»), ставший для нее синонимом. Афиней отмечал их, чрезвычайную склонность к педерастии, и Плутарх приводил из Аристотеля народную песенку о том же. Таким наклонностям была даже отыскана опора в мифологии: согласно одной из версий мифа, возлюбленный Зевса Ганимед был родом именно из Халкиды, и похитил его бог где-то здесь же, неподалеку6.
Что касается Эретрии, то, когда ионийцы взбунтовались против персидского засилья (499 г. до н. э.), милетянин Арис-тагор обратился к ней за помощью, как и к Афинам. Эрет-рия, связанная с Милетом узами признательности, присоединилась к афинянам и выслала мятежникам в помощь пять триер. Столь скромное число объяснялось, возможно, тем, что другие ее суда были отправлены на Кипр, где разгромили кипрский флот, состоявший на службе у персов. Такая неприязнь к персам со временем дорого обойдется Эретрии: Дарий I разрушит город, а его жителей выселит (490 г. до н. э.).
Глава 2. ДЕЛЬФЫ
Дельфы (ранее Пифо) находились в Фокиде, срединной греческой области7. Располагались они террасами на крутых нижних склонах Парнаса, под двумя громадными скалами — Федриадами («Блестящими»). Отсюда открывается вид на Коринфский залив, простирающийся на 600 метров ниже, в десяти километрах к югу. Это место, заселенное с позднебронзового века (вначале в Ликории, возле Корикийской пещеры), греки считали центром земли: согласно мифу, когда Зевс выпустил с востока и с запада двух орлов навстречу друг другу и повелел им лететь к середине, они встретились в Дельфи.
Место это широко прославилось благодаря Аполлону — божеству анатолийского происхождения, которое позднее приобрело северные черты; в таком виде его культ был занесен сюда дорийскими захватчиками или переселенцами. Однако в прошлом здесь главенствовали совсем другие божества и чудовища. Об этом повествует гомеровский Гимн к Аполлону Пифийскому, сложенный в VII веке до н. э. и вобравший более ранние предания — отчасти о Дельфах, отчасти о Делосе. Должно быть, изначально боги, почитавшиеся в двух этих местах, были обособлены; но гимн объединяет их в одно божество. Вначале рассказывается о том, как Аполлон явился с Делоса к месту своего нового святилища — в Пифо под снежным Парнасом, а там разыскал и убил Ти-фаона или Тифона — мифическую кровожадную драконицу (здесь отождествленную с дельфийским чудищем Пифоном), сторожившую священный источник Кассотиду. Далее в гимне говорится:
Смертный час наступал для всех, драконицу встречавших,
прежде чем меткой стрелой Аполлон, государь дальновержный,
не поразил ее. Терзаема лютою болью,
билась она на земле, содрогаясь в хрипах бессмертных,
и несказанный шум ужасал округу, покуда
по лесу в корчах она извивалась, а после кровавый
дух испустила8.
Но тот же гимн вслед за тем рассказывает совсем другую историю о пришествии бога в Дельфы. Согласно этой версии мифа, Аполлон, раздумывая о том, кто будет служить ему и приносить жертвы в новом святилище, принял обличье дельфина и перепрыгнул с гребня волны на корабль, плывший из критского города Кносса. Он чудесным образом устраивает так, что корабль вместо Пил оса — куда направлялся — пристает к Кирре (совр. Ксеропигади) близ плодородной равнины, названной в честь микенского города Крисы. Прежде Кирра служила портом Крисы, отныне же ей предстояло стать дельфийским портом.
Тут воспарил от челна государь Аполлон дальновержный, словно средь поддня звезда воссияла — россыпью искры заполыхали, и блеск лучей до неба достигнул, —
продолжает гимн9. Он повелел корабельщикам стать его служителями и почитать его как Аполлона Дельфинин (Δελφίνιος); так они и сделали. Считалось, что так возникло название Дельфы (Δελφοί), хотя другое объяснение гласило, что оно восходило к имени его мифического основателя Дельфа — сына Посейдона и Мелайны; однако более вероятным, нежели эти две этимологии, представляется совершенно иное истолкование, свидетельствующее в пользу критского происхождения этого слова.
Гимн воспевает Аполлона одновременно как грозного стреловержца и как мирного бога, искусного в игре на лире. Он был ослепителен и могуч (каким мечтал быть каждый юный грек), любвеобилен (будучи в то же время богом ритуальной чистоты и врачевания), а в Илиаде разом безжалостен и милосерден. Аполлон считался могущественнейшим из всех богов после своего отца Зевса, чью волю он провозглашал через свои прорицалища.
Пусть Аполлон и был божеством пришельцев-дорян, — тем не менее само дельфийское святилище действительно имело додорийское — критское, минойское — происхождение, на которое указывает гимн. Подлинное, прямое и неразрывное преемство, связывавшее культ Аполлона с предшествующими культами, еще не доказано стратиграфическими методами. Однако здесь были найдены минойские изделия, а под более поздним храмом Аполлона обнаружились следы микенского поселения. Кроме того, из-под позднейшего храма Афины Пронайи было извлечено более двухсот терракотовых статуэток, изображающих женские фигурки и относящихся по большей части к XII веку до н. э. Такие находки позволяют предположить, что культ Афины в свое время вытеснил здесь прежнее почитание некой богини позднебронзового века. К тому же драконица из мифа об Аполлоне была порождением самой Геи — матери-земли, этой главнейшей богини эпохи бронзы, а то обстоятельство, что уже в греческие времена дельфийский оракул всегда вещал устами женщины, а не мужчины, — возможно, тоже служило отголоском более древней, матриархальной и хтонической, религии.
Итак, Аполлон возвещал свои пророчества через жрицу — Пифию. Вначале она должна была испить воды из источника Кассогиды и пройти очищение в Кастальском ключе, бьющем из Федриад. Затем он восседала подле святилища Аполлона, у края расселины, откуда поднимались испарения. Вдохнув этих паров, она впадала в опьянение.
Но в наше время ничего похожего на пропасть здесь не было обнаружено, и поэтому высказывалась догадка, что знаменитая бездна в действительности была просто щелью в полу храма, уходившей вглубь земли до уровня святилища, которое чтилось испокон веков. В таком случае сомнительно, чтобы из почвы вообще поднимались какие-либо испарения Появилось предположение, что Пифия наперед одурманивалась цианистым калием, жуя лавровые листья. Наиболее недоверчивые полагают, что все действие было «подстроено». Но все же не стоит напрочь отвергать вероятность того, что пророчица-медиум в самом деле впадала в экстатическое состояние и погружалась в транс: подобное явление было известно и различным другим культурам.
Как бы то ни было, некий служитель или провидец, приставленный к священнодействию, передавал Пифии вопросы тех, кто приходил посовещаться с оракулом, а та в ответ выкрикивала какие-нибудь слова, далеко не всегда внятные и связные. Затем жрецы-прислужники перетолковывали и перелагали их звучными гекзаметрами10. Святилище, уже известное Гомеру11, понемногу стало приобретать панэллинскую славу в VII веке до н. э., если не раньше. Оно сыграло заметную роль и в великой колонизации, затеянной греками (которые часто отплывали на запад из сопредельного Коринфского залива). Иными словами, предводители будущих переселенцев сообщали оракулу о предполагаемом месте выселок и спрашивали божеского одобрения, которое служило религиозной опорой колонистам, вселяя в них бодрость духа.
Однако чрезвычайно трудно понять характер этих пророческих высказываний и, например, оценить, насколько они в действительности влияли на деятельность колонистов. Дело в том, что хотя некоторые из дошедших текстов, передающих эти предсказания, представляются подлинными, многие другие — просто подделки. Их составляли либо города, желавшие заручиться дельфийской поддержкой для походов, которые они собирались предпринять или уже предприняли, либо само дельфийское жречество, которое пытались таким образом «исправить» свои былые промахи или вытравить их из людской памяти. По этой причине — а также ввиду непомерных слухов о святости самого прорицалища — множество этих якобы аполлоновских изречений превратилось в предмет анекдотов, которые обычно в той или иной степени смахивают на вымысел. Ибо нередко их сочиняли для того, чтобы показать, сколь темны и двусмысленны все эти оракулы, — а на деле они такими и задумывались, дабы всегда можно было избегнуть обвинений в обмане, сославшись на превратное истолкование ответа. Тем не менее соль подобных анекдотов заключалась как раз в том, что предсказания в конце концов сбывались — точнее говоря, сбывались, если их верно толковали.
В действительности, насколько можно судить, все предсказания давались весьма осторожно — так, чтобы в будущем их можно было повернуть сообразно обстоятельствам, — к тому же они, видимо, основывались на надежных и доступных источниках сведений. Правда, порой случались осечки. Так, убеждение дельфийских властей в том, что лидийский нарь Крез (563–546 гг. до н. э.) победит персидского царя Кира II Великого, оказалось ошибочным, — но они с ловкостью вышли из положения, «вывернув наизнанку» смысл предсказания. (О другом промахе, уже в связи с греко-персидскими войнами, пойдет речь ниже.) Впрочем, в большинстве случаев оракулы являли пример политического здравомыслия, как это стремился показать Эсхил в своей трагической трилогии Орестея.
Дельфы прославились еще и довольно «афористичным», лишенным аристократского высокомерия назидательным тоном, какой постепенно приняли изречения Аполлоновых глашатаев; тон сказался, например, в наставлениях, высеченных на стене храма: «Познай себя самого», «Ничего сверх меры». Позднее считалось, что подобными советами Дельфы уже в VI веке до н. э. призывали обратиться к первоначалам закона, порядка, благости и света (ибо сам Аполлон был еще и Фебом — Φοίβο], — богом солнца). Но изречение Γνώθι σεαυτόν — «Познай себя самого» — первоначально означало «познай себя как человека — и следуй богу» — то есть познай положенные тебе пределы; и лишь под влиянием позднейшего философского мышления (в духе геракли-товского «я искал самого себя») возникло мнение, что в этом наставлении речь идет о самопознании, — и оно было перетолковано как «исследуй свое сознание». Что касается изречения Μηδέν ύγαν — «Ничего сверх меры», — то, опять-таки, влиянию Аполлона оказался приписан срединный идеал греков — умеренность (σωφροσύνη) (ибо именно ее достижение они считали особенно ^грудным). Смысл изречения всегда был таков: «ни в чем не переусердствуй» (иначе говоря, «не поступай чрезмерно самолюбиво, презрев права и желания других, — то есть ведомый дерзостью [ύβρις]»; или даже, позднее, — «не будь чересчур удачлив»). Избегать же этих крайностей следует потому, что в противном случае пересечение заветной черты повлечет за собой божественный гнев, или возмездие (νέμεσις); такой образ мышления перейдет и в последующую эпоху, определив главную тему аттической трагедии.
Вслед за быстрым подъемом в течение VIII века до н. э Дельфы стяжали себе славу по всему греческому миру. Здесь было две священных зоны: святилище Афины Прона&и («Предхрамовой») к востоку от Кастальского ключа, в так называемой Мармарии, — и святилище самого Аполлона Пифийского к западу от ключа. Относящийся к VII или началу VIII века до н. э. храм Афины Пронайи, как мы говорили, был возведен на микенских развалинах. К нему примыкало святилище VI века до н. э. с двумя помещениями или чертогами, посвященными Афине и Артемиде. Что касается святилища Аполлона, к которому вела, петляя вверх, Священная дорога, — то, согласно Гимну к Аполлону Пифийскому, прочное каменное основание храма заложили, с помощью самого Аполлона, «с Агамедом любезный Трофоний»1·2 — зодчие из беотийской Лебадии. Это мифические фигуры: Трофоний почитался и как герой-прорицатель, а согласно некоторым преданиям, они с сотоварищем были сыновьями Зевса или Аполлона, — но храм, удостоившийся такого описания, едва ли мог быть сооружен ранее VII века до н. э. Он стоял внутри огороженного участка, на платформе из местной конгломератной породы.
С древнейших времен культ Аполлона включал в себя празднества, проводившиеся через каждые восемь лет. Эго был прообраз будущих Пифийских игр (см. ниже), потому что на них устраивались музыкальные — вернее, мусические — состязания, где особое место занимал гимн, обращенный к богу и исполнявшийся в сопровождении лиры. В связи с Аполлоном здесь чтили и Диониса (считалось, что он на три месяца в году заступает в Дельфах место Аполлона, когда тот удаляется), хотя, по-видимому, дельфийские жрецы изменили и несколько сгладили экстатический характер, который носил дионисийский культ, занесенный в начале железного века из Фракии (см. Приложение 2).
Религиозный центр, достигший такого значения, как Дельфы, уже не мог держаться в стороне от политики соседних греческих государств. Возросшая роль дельфийского жречества как советников в делах колонизации могла отчасти иметь отношение к Лелантийской войне между Халкидой и Эретрией на Эвбее (ок. 700 г. до н. э.). Дело в том, что некоторые наиболее ранние из сохранившихся дельфийских пророчеств (впоследствии, очевидно, сбывшиеся) были связаны с выведением колоний Халкидой и ее союзником Коринфом и прочими» — но не с теми колониями, что выводили города, выступавшие в той войне за противную сторону. По сути, представляется даже, что именно благодаря этой связи с Коринфом в течение VII века до н. э. Дельфы и упрочили впервые свое положение. Ибо когда диктаторы Коринфа Кипсел и Периандр посвящали Аполлону Дельфийскому особо щедрые приношения, они явно выражали благодарность за помощь и поддержку оракула в основании их западных колоний.
Но со временем Дельфы, прежде находившиеся под властью Фокиды, вступили в новую фазу своей политической истории, став средоточием Дельфийской амфиктионии (собственно, союза «окрестных жителей» — амфиктионов). Это было содружество государств, имевшее прежде всего религиозное назначение, но в случае нужды действовавшее и как политическая сила. Поначалу, на самой ранней из известных стадий, в амфиктионию входило двенадцать племен из Северной Греции, в том числе фессалийцы (которым в VI веке до н. э. принадлежало господствующее влияние), фокидяне (уступившие им это главенствующее влияние) и беотяне. Первоначально центром амфиктионии было святилище Деметры в Анфеле близ Фермопил («горячих ворот»), или Пил (просто «ворот» — ШАш) — узкого ущелья-прохода из Фессалии в Среднюю Грецию (где в 480 г. до н. э. предстояло разыграться историческому сражению спартанцев против персов). Совет амфиктионов стремился завладеть Фермопилами, чтобы обеспечить членам своего союза беспрепятственный проход через них.
Спор между Дельфами и их гаванью Киррой из-за права взимать пошлину с паломников, направлявшихся к прорица-лищу, завершился тем, что дельфийское жречество (якобы с божественного согласия) прокляло Кирру, приговорив ее к уничтожению. Амфиктиония, которую попросили привести приговор в исполнение, с готовностью откликнулась. Ее верховный стратег, фессалиец Эврилох, возглавил союзнические силы в разразившейся Первой Священной войне (ок. 595–583 гг. до н. э.). На их сторону встали Афины (как будто подстрекаемые Солоном) и Сикион. Войска амфиктионов нанесли сокрушительное поражение Кирре; ее жители были порабощены, а прежние владения отошли служителям Аполлона.
Очевидно, именно тогда Совет амфиктионов и перенес свой центр из Анфелы в Дельфы — место не только священное, но и, несмотря на сравнительную удаленность, занимавшее срединное положение между различными заинтересованными государствами. Отныне Совет провозгласил Дельфы независимым городом и почти немедленно занялся переустройством здешних мусических празднеств.
Эти обновленные Пифийские игры — отныне более доступные для всех греков, нежели прежде, — впервые состоялись в 582/581 г. до н. э. (или, быть может, в 586–585 гг. до н. э.) под началом победоносного Эврилоха, чье новое назначение лишний раз подчеркивало мощное, пусть и временное, влияние фессалийцев. С тех пор игры проводились уже каждые четыре года (а не каждые восемь лет, как раньше) — на третьем году каждой олимпиады. Как это было и в Олимпии, амфиктиония всякий раз объявляла священное перемирие между враждующими государствами и требовала его соблюдения во время игр.
Первое место по-прежнему занимали мусические состязания — игра на музыкальных инструментах, пение и декламация стихов и прозы, — но к ним прибавились также атлетические и конные соревнования, устроенные по образцу олимпийских. Стадион для состязаний в беге был вырублен в склоне Парнаса, а ипподром для колесничных ристаний был сооружен на Крисейской равнине. Победителей награждали гирляндами из лавровых листьев, собранных в Темпей-ской долине.
Эти Пифийские игры, по всегреческой значимости уступавшие лишь Олимпийским, еще больше превознесли славу Аполлонова прорицалища, так что Дельфы прозвали «пупом земли». Святилище бога было завалено грудами золота и серебра, а также произведениями искусства из слоновой кости, бронзы и мрамора; Геродот перечисляет великолепные дары лидийского царя Креза (Приложение 1), который следовал щедрому примеру своих предшественников, Гига и Алиатга (и, как мы уже говорили, в награду получил дельфийское «благословение» на войну с Персией). Священную дорогу, поднимавшуюся снизу к святилищу, тоже плотно обступали художественные творения: одни увековечивали воинские победы какого-нибудь греческого (или этрусского) государства над его врагами, будь то греки или варвары; а другие посвятительные дары прославляли чью-то победу в атлетических или мусических состязаниях на самих Пифийских играх.
Многие такие произведения хранились внутри или составляли часть сокровищниц, возведенных здесь, как и в Олимпии, различными полисами для своих приношений. Первым подал пример Коринф, пожелавший собрать воедино все лидийские дары. Сокровищницы были украшены рельефами; особо следует отметить метопы сокровищницы сикионцев (ок 560 г. до н. э.) и фризы сокровищницы сифносцев (ок. 525 г.? до н. э.), ставшие подлинными вехами в истории греческой скульптуры. Сокровищница афинян (ок. 500 г.? до н. э.) была первой дорической постройкой, возведенной целиком из мрамора (относительно более раннего ионического Артемисиона см. Главу V, раздел 3).
Но в 548 г. до н. э. храм Аполлона и близлежащие сооружения, в том числе сокровищница сикионцев, погибли в пожаре. Затем, в последнем десятилетии того же века, был воздвигнут огромный новый храм. Именно в эти годы и священный участок был расширен до его настоящих размеров. Его обнесли трапециевидной стеной (впоследствии неоднократно обновлявшейся), в которой все многоугольные камни кладки плотно пригнаны друг к другу каждым своим углом и изгибом — для защиты от землетрясений.
Такая перестройка стала возможна благодаря пожертвованиям со всех концов греческого мира — и даже со стороны негреческих государств, например Египта. Но наибольшая поддержка исходила от рода Алкмеонидов, которые в ту пору жили в Дельфах, будучи изгнанными из родных Афин самодержавным правительством Писистратидов. По сути, именно Алкмеониды взяли на себя всю перестройку и даже с лихвой выполнили обязательства, снабдив новый храм фасадом из паросского мрамора. Благодаря этому они заручились благоволением дельфийского жречества, поддержавшего их в борьбе против соперников: оракул повелел спартанцам выдворить Писистратидов из Афин.
Но, по словам Геродота, ходили слухи, что подобной удачи можно было добиться лишь прямым подкупом жрицы13. Правда это или нет — само такое подозрение уже свидетельствует о том, что служители прорицалища отныне были — или слыли — продажными. Так, поговаривали, что ок. 490 г. до н. э. царь Клеомен I подкупил жрицу, чтобы объявить власть своего соправителя Демарата незаконной. Скандальные подробности всплыли (приведя к гибели Клеомена), и оракул, уже опозоренный опрометчивым поощрением Креза, с тех пор держался более осмотрительно. Эта-то осмотрительность и побудила Дельфы отсоветовать грекам воевать с Персией (а ранее они верно предсказали разрушение персами Милета)14. Но это явилось серьезным просчетом и Оракулу уже не суждено было вернуть себе былое политическое могущество. Правда, прорицалище по-прежнему занимало важное место в религиозной жизни отдельных граждан, — да и государства, замышлявшие войну, как встарь, обещали Дельфам ту долю добычи, которая помогла бы им «освятить» свои военные вылазки божественным одобрением.
Глава 3. ЛАРИСА И ФЕССАЛИЙЦЫ
Высокая горная цепь Пинц — ответвление Динарских Альп — рассекает по вертикали Северную Грецию, разделяя ее западные и восточные области. К западу лежит Эпир; восточный край занимает преимущественно Фессалия. К северу от нее вздымаются заоблачные вершины Олимпа (служащего естественной границей с Македонией), а с юга высится Офрия. Фессалия состояла из двух обширных равнин (которые, как предполагалось, первоначально образовывали озеро или озера), орошаемых водами Пенея и его притоков (а потому чрезвычайно плодородных) и окруженных горами. Благодаря этим просторным равнинам, славившимся глубокой тучной почвой, Фессалия превосходила прочие греческие земли обилием отборных лошадей, крупного скота и зерна.
Примерно до 2500 г. до н. э. здесь была широко распространена неолитическая культура; затем явились люди, говорившие на одном из диалектов греческого языка. Эти пришельцы (наряду с другими, осевшими в Македонии и Эпире) были первыми грекоговорящими народностями, поселившимися на Балканах. Поэтому, согласно мифологии, именно в Фессалии Эллин (в честь которого греки и получили прозвание эллинов)15, породил основателей всех трех легендарных ветвей греческой расы — Дора, Ксуфа (отца Иона) и Эола. Сам Эллин считался сыном или братом Девкалиона (греческого Ноя), а Фессалия поначалу будто бы звалась Пирреей, в честь Девкалионовой жены Пирры.
В некоторых частях этой области постепенно сложилась позднебронзовая (микенская) культура; судя по материальным свидетельствам, ее главным очагом был Иолк, лежавший севернее Пагасейского залива (у основания полуострова Магне-сии). Кроме того, Иолк был легендарным царским городом Эсона и его сына Ясона; черноморский поход последнего (по-видимому, мифологический отголосок подлинных географических открытий той эпохи) лег в основу одного из древнейших греческих сказаний — рассказа об аргонавтах (Глава VIII, раздел 3). Другой круг преданий, повествующих об Ахилле и его подданных — мирмидонянах, — был тесно связан со Фтией, областью на западном побережье залива.
Ок. 1140 г. до н. э. народы, говорившие на северо-западном (эолийском) диалекте греческого языка, — фессалы — переселились к востоку от Эпира, в землю, которая, по преданию, получила имя в честь их вождя Фессала — сына Ясона и Медеи, или, по другой версии, сына Гемона и внука Зевса. Каталог ахейских кораблей в Илиаде не называет ни «фессалийцев», ни их главных городов — за исключением Иолка и Фер, другого центра неподалеку от залива16, — однако упоминает целых девять мелких царств, а также ряд кочевых племен.
Однако на протяжении VIII и VII веков до н. э. фессалы переселились из высокогорных областей в плодородные низины и уничтожили прежние мелкие царства (если они еще существовали), взамен образовав четыре округа (наподобие территориальных кантонов) — Фессалиотиду, Гистиеотиду, Пеласгиотиду и Фтиотиду. Каждому округу подчинялись местные окраинные жители — либо находившиеся, как в Спарте, на положении периэков, либо порабощенные и низведенные до ступени пенестов — крепостных вроде спартанских илотов. Согласно Аристотелю, они стремились сбросить этот гнет, то и дело устраивая восстания17.
Главным городом Пеласгиотиды — который, несмотря на соперничество со стороны Фарс ала во Фтиотиде, превратился впоследствии в важнейший центр во всей Фессалии, — была Лариса. Ее цитадель, располагавшаяся на холме, господствовала над обширной и плодородной равниной и была ограждена течением Пенея.
Лариса, заселенная с доисторических времен, была богата мифами. Многие из них рассказывали о нимфе с тем же именем, которая, играя в мяч, утонула в Пенее. Богатый и знатный род, откуда вышли правители города — Алевады18, — вел свое происхождение от самого Фессала, через его потомка Алевада Рыжего — златокудрого волопаса, которого, по преданию, любила змея.
Фессалийская конница — лучшая в Греции, естественное подспорье олигархического строя — была главенствующей боевой силой греческих войск уже в ходе Лелантийской войны между эвбейскими городами Халкидой и Эретрией (ок. 700 г. до н. э.), когда эти всадники принесли победу хал. кидянам. Во второй половине VII века до н. э., или, быть может, чуть позже, каждый властитель Ларисы из династии Алевадов утверждался, часто пожизненно, в должности военного предводителя (ταγός) Фессалийского союза, который постепенно, выйдя за узкие местные рамки, охватил всю область. Входившие в него государства, связанные весьма свободным политическим единством, присылали своих представителей на религиозные празднества, проводившиеся в святилище Афины Итонии близ Фарсала. Через некоторое время каждое фессалийское поместье, или земельное владение, было обязано выставлять по сорок конников и восемьдесят пехотинцев для союзнического войска.
Фессалийцы были одним из двенадцати племен, входивших в Совет амфиктионов, который заведовал святилищем Аполлона в Дельфах, — и когда из-за спора между Дельфами и Киррой (раздел 2, выше) вспыхнула Первая Священная война, то именно Эврилох из рода Алевадов, объединившись с Клисфеном Сикионским, взял на себя главную роль, принял командование войсками амфикгионии — и стер Кирру с политической карты Греции (591 г. до н. э.). Эврилох возглавил и учрежденные вслед за тем Пифийские игры — и в последующие годы фессалийцы под началом Алевадов удерживали решающее влияние в амфикгионии. Собственно говоря, среди всех полисов и племенных объединений к северу от Коринфского перешейка недосягаемое военное превосходство оставалось за фессалийцами, — и укоренение местной династии диктаторов этому только способствовало.
Возможно, их конные отряды, возглавившие войско ам-фиктионии во время Первой Священной войны, и были теми союзными силами, о которых говорилось выше; существуют некоторые указания на союзническую деятельность и в 560-е и 540-е гг. до н. э. Но самое раннее достоверное упоминание об объединенном совете или собрании относится к 511 г. до н. э., когда фессалийцы — «единодушно», по словам Геродота, — выслали военный отряд в помощь афинскому тирану Гиппию, оборонявшемуся от врагов19. Между тем, их земля привлекала к себе видных поэтов той эпохи. Ок. 514 г. до н. э. сюда явился Анакреонт Теосский, обретший пристанище в Фарсале, у царя Эхекратида и царицы Дисериды. Примерно в ту же пору Симонид Кеосский гостил у династии Скопадов, властителей Краннона (второго по значимости города в Пеласгиотиде). Симонид воздал должную хвалу своим гостеприимцам, но он же обронил замечание, что фессалийцы — единственный народ, который совершенно чужд обмана, ибо для этого слишком глуп20.
Разумеется, им была присуща политическая отсталость, потому что городам, основанным местными династиями, — пусть в ряде случаев весьма преуспевающим, — недоставало упорядоченности и лоска настоящих полисов; и хотя у фессалийцев имелось подобие союзного устройства, едва ли оно отличалось высоким уровнем, так как при этом сохранялись элементы старинного подразделения по округам. А это означало, что областным соперничающим династиям не удавалось достичь действительно спаянного или ладного единства. Правда, весьма влиятельны оказались Алевады, в начале V века до н. э. начавшие чеканку своей монеты (самое раннее из известных стихотворений Пиндара, 498 г. до н. э., было написано для одного их юного питомца), но и они не обладали достаточной властью, чтобы сплотить всю страну. Их конница была по-прежнему отменна, но близился век пехотных сражений — а местные пешие воины оказались неровней гоплитам других греческих государств.
Поэтому господство фессалийцев над Северной Грецией не вышло за рамки VI века до н. э… Их оттеснили Фивы, нанесшие им тяжелое поражение в битве при Феспиях ок. 540 г. до н. э., а притязания на панэллинское военное могущество стушевались перед набравшей силу Спартой. Отныне Фессалии была отведена весьма неприметная роль, которую нимало не украсило ни союзничество с Персией в 492 г. до н. э. (вероятно, затеянное против воли Эхекратида Фарсальского), ни позднейшая беспомощность перед вторжением Дария. В последующем столетии Фессалия довольствовалась более чем скромным уделом.
Глава 4. ФИВЫ И БЕОТИЙСКИЙ СОЮЗ (ГЕСИОД)
На востоке Беотия соседствовала с Эвбеей (через пролив), на юго-востоке граничила с Аттикой, а на юге простиралась до Коринфского залива, — и служила, по выражению Плутарха, «орхестрой войны»21, занимая стратегически выгодное положение между двумя главными областями Балканской Греции. Сердцевину беотийских земель составляли довольно плодородные равнины, принадлежавшие Фивам и их извечному (хотя позднее отодвинутому в тень) сопернику Орхоме-ну, главному городу в долине Кефиса. Равнины эти приносили прекрасный урожай зерна и маслин; здесь же разводили лошадей. Каталог ахейских кораблей в Илиаде перечисляет небывалое количество ратей — не менее чем из тридцати одного поселения — в Беотии22 (где, быть может, он и был первоначально сложен).
Такая важность этого края в доисторические времена подтверждается хотя бы обилием мифов, связанных с ней. Многие мифы сосредоточены вокруг Орхомена; они повествуют о том, как его жители осушили озеро Копаиду, как они обложили данью самих фиванцев, как городские сооружения возводили легендарные Трофоний и Агамед из Лебадии — зодчие, построившие храм Аполлона в Дельфах (раздел 2, выше; ср. также ниже, примечание 35). Однако сохранившийся свод преданий, касающихся Орхомена, не идет ни в какое сравнение с целым кладезем сказаний о Фивах.
На месте, где прежде обитал народ эктинов с царем Оги-гом, Фивы были заложены, по преданию, или Зевсовым сыном Амфионом, или Кадмом (возможно, отголосок крито-минойской легенды), который явился из Тира в Финикии (считалось, что фиванский храм Деметры Тесмофоры был некогда его дворцом). Кадм посеял змеиные или драконьи зубы, из которых выросли вооруженные воины — спарты (отохртЫ, «посеянные»). Эти спарты, как гласит предание, и стали родоначальниками фиванской знати. Фивы также спорили с Аргосом и Тиринфом за право зваться родиной Геракла. Наконец, вокруг этого города сложился величественный цикл сказаний о роде Эдипа, приняв форму эпической поэмы (ныне утраченной) под названием Эдипедия, которую приписывали Кинефону Спартанскому. Сюжетом других не сохранившихся эпических сочинений, чье авторство неизвестно (во всяком случае, это был не Гомер, как часто предполагали), — Фи-ваиды и Эпигонов, — стали походы «семерых против Фив» и их сыновей, возглавленные Адрастом Аргосским.
Фивы лежали у южной оконечности своей равнины. Фиванский акрополь — Кадмея — располагался на продолговатом плато в 1600 метров длиной и в четыреста шириной. Отсюда вел спуск к каменистым руслам рек Дирки и Йемена и открывался вид на город внизу. В минойскую и микенскую (позднебронзовую) эпохи Кадмея была царской дворцовой крепостью и могла потягаться мощью с самими Микенами (как заставляют предположить недавние раскопки). Своим богатством она была обязана местному сельскому хозяйству и выгодному расположению на пересечении путей, соединявших Среднюю Грецию с Коринфским заливом и Аттикой.
Однако эта фиванская твердыня, как свидетельствуют археологические данные (подтверждая сюжет Эпигонов), ок. 1270 г. до н. э. была разграблена, сожжена и заброшена. Гомеровский каталог ахейских кораблей, при всем его внимании к Беотии, не называет Фив, упоминая лишь Гипофивы — «поселение ниже Фив». Считалось, что именно в эту смутную пору, точнее, шестьдесят лет спустя после гибели Трои, и пришли сюда беотяне из Арны в Фессалии23. По-видимому, они являли собой сложный культурный (а также, несомненно, этнический) сплав, который по обретении ими новой родины стал еще богаче благодаря бракам с коренными жителями. В итоге таковых смешений беотийское наречие в иных краях обнаруживало родство с аркадским (додорийским) диалектом, хотя более тесно оно было связано с фессалийским и эолийским диалектами, в то же время неся в себе некоторые западно-греческие (дорийские?) языковые вкрапления.
После этого притока беотян Фивы постепенно ожили (ап-сидальный фундамент местного храма Аполлона Исмения, возможно, относится к началу IX века до н. э.24) и превратились в полис, хотя еще не настолько окрепли, чтобы подчинять себе окрестные города. К VIII веку до н. э. по соседству появится более десятка других независимых поселений, в том числе Орхомен, Коронея, Галиарт, Акрефия, Пла-тея, Танагра, Ороп и Феспии.
Последний из поименованных городов, располагавшийся у восточного подножья горы Геликон, был главным центром южной Беотии. Ему принадлежали две гавани на берегу Коринфского залива — Креуса и Сифы, — а также долина Муз на Геликоне и Аскра — городок или селение, находившееся, вероятно, поблизости от современной деревушки Панайя на геликонском склоне Аскра-Пиргос. Это скромное поселение — по преданию, основанное Эохом (сыном Посейдона и Аскры) и сыновьями Алоея — гигантами Отом и Эфиальтом (взгромоздившими Пелион на Оссу и первыми принесшими жертвы геликонским Музам), — впоследствии затмило своей славой все прочие беотийские города, потому что именно там, по его собственному свидетельству, родился поэт Гесиод.
Вероятно, Гесиод сложил свои поэмы — Труды и дни и Теогонию незадолго до 700 г. до н. э.23 Часто велись споры — раньше или позже обрели они свою историческую форму, чем Гомеровы Илиада и Одиссея. В целом хронологическое первенство принято оставлять за гомеровским эпосом, но главным образом на тех основаниях, что описанные там общественные формы представляются более древними, нежели те, что представлены у Гесиода. Однако подобный критерий едва ли можно счесть здравым: не говоря ух о том, что между гесиодовской Беотией и гомеровской Ионией пролегала бездна различий, — общественное устройство, обрисованное в Илиаде и Одиссее, вероятно, отражало положение дел, давным-давно канувшее в прошлое ко времени создания или завершения самих этих поэм, — да и в любом случае, слишком многое здесь было скорее вымыслом, нежели действительностью (Глава V, раздел 1). Таким образом, по-прежнему неясно, какая же из этих поэтических пар — гомеровская или гесиодовская — предшествовала другой.
Гесиод сообщает, что его отца — купца из Кимы в Эолиде (северо-запад Малой Азии) — бедность вынудила перебраться в Аскру. Там и родился его сын, а потом возделывал неподатливую землю на всхолмьях, отзываясь об этой местности (не вполне справедливо) как о «деревне нерадостной… Тягостной летом, зимою плохой, никогда не приятной»26. После смерти отца раздел имущества между Гесиодом и его братом Персом (обстоятельство, в иных местах приводившее к переселению и колонизации) стал причиной длительных препирательств между обоими. Гесиод рассказывает о своем участии в поэтическом состязании в Халкиде (на Эвбее), на похоронах Амфидаманта, где он получил награду за исполненный гимн27. О его смерти говорили разное: например, что он был убит в Энеоне, в Озольской Локриде28. Могилу его показывали в Орхомене29.
Поэмы Гесиода делают его родоначальником и главным представителем другой — негомеровской — крупной эпической традиции, которая зародилась не в Ионии, но в Балканской Греции. Но так как эпический язык связан с самим жанром сильнее, нежели с местом происхождения автора, его гекзаметрам присущ смешанный диалект, в целом напоминающий гомеровский, хотя и с вкраплениями отдельных «беотизмов». Коль скоро Гесиод (как и Гомер) жил в эпоху, когда письменность только-только входила в обычай, — то можно предположить, что, пользуясь стилем устной речи, он или сам записывал поэмы, или, что более вероятно, диктовал их писцам, тем самым как бы объединяя прошлое с будущим.
Невзирая на стилистические огрехи, его стих звучит порой поразительно величаво и мощно, а яркие описания отражают личностные качества поэта: здесь впервые в истории западной литературы человек говорит о самом себе — и своими собственными словами.
Труды и дни начинаются с обращения к Музам с просьбой восславить Зевса; затем следует примирительное увещевание к брату Персу, где говорится, что соревнование — благое дело, а вражда — дурное. Такова воля Зевса, или богов, что человек должен нелегким трудом добывать себе пропитание. Все беды приключились с человеком из-за любопытства Пандоры, первой женщины. Желая покарать людей за то, что они приняли дар Прометея — огонь, похищенный с небес, Зевс решил создать Пандору — лживое подобие богини, чья пагубная суть пряталась за соблазнительным внешним обличьем.
Аргоубийца ж, вожатай, вложил после этого в грудь ей
Льстивые речи, обманы и лживую, хитрую душу.
…хлебоядным мужам на погибель30.
Став женой Эпиметея, Прометеева брата, она вопреки запрету открыла сосуд, где хранились все невзгоды, — надо полагать, это метафора для плотского акта; но далее эта метафора меняется: когда крышка захлопывается, на дне сосуда остается только Надежда.
Гесиод перелагал здесь древнейшие бранные и суеверные народные басни о женщинах, косвенно заимствованные из Египта. Подобные истории рассказывали о различных напастях и ловушках, чинимых женским родом — ловким, хитрым и коварным, но вместе с тем совершенно необходимым мужскому роду. Сделав такой упор на эту тему, Гесиод немало способствовал зарождению и распространению женоненавистнических настроений, занявших весьма прочное место в греческой психологии и истории. Жена — это трутень, подтачивающий жизнь мужа — причем не только в половом отношении, но и в бытовом (потому что со всеми ее домашними заботами вполне бы справился и раб), а иного проку от нее нет. Поэтому ее проникновение в мир смертных означает всю двойственную природу человеческого существования, которым боги управляют с помощью хитрости, перемешивая блага с бедами. Подобно ветхозаветной Книге Иова, миф о Пандоре трактует классическую проблему зла, пытаясь объяснить, отчего людям выпадает столько страданий в мире, подвластном, как предполагается, благосклонному Зевсу. Только здесь объяснение дается совсем иное: оказывается, во всем повинна женщина.
Далее поэма рисует картину пяти «родов» человечества: золотого, серебряного, медного, героического (греческое вкрапление в древневосточный перечень «поколений») и железною веков. Последний род людей жесток и становится все хуже. Сила обернулась Правом: ястреб, поймав соловья, говорит ему: «Что ты, несчастный, пищишь? Ведь намного тебя я сильнее!»31 Но, пусть ныне и возобладали столь хищнические нравы, — следует себя вести добропорядочно, ибо небеса в конце концов ниспосылают праведным процветание, а злодеям — пагубу. Зевсу видно все — и воочию, и через избранных блюстителей. Одна такая блюстительница — Справедливость, или Дике (Δίκη), которая всякий раз, как ее ущемляют, доносит о такой обиде Зевсу; ибо он, хотя птицам и зверям дозволено истреблять и пожирать друг друга, людям положил за должное справедливое обхождение.
Затем Труды и дни живописуют различные подробности крестьянского года. Поэт описывает его стадии, дает советы относительно семейных дел, брачного возраста, денежных вопросов и хороших манер. Такие назидания роднят поэму с традиционными ближневосточными жанрами «книг премудрости» и «сельских календарей». Однако в греческой литературе подобных сочинений еще не было. Хотя Гесиод временами прибегает к народным сказаниям для того, чтобы поведать о присутствии богов, которое повсюду ему явственно чудилось, — он уже пролагает новую стезю, ища свой главный предмет за пределами мифологического поля. Кроме того, он призывает своих слушателей внять не гомеровской «славе мужей», а своего рода «благовествованию труда», проповедующему трезвость, честность и бережливость. Ибо Гесиод сам был плоть от плоти того мира, где жизнь была тяжка и мучительна и где, как ему казалось, господствует вырождение человеческого духа. Он оплакивает бедствия своего века, в котором творят неправый суд «дароядные люди»32 — аристократишки, уже впавшие в ничтожество в этот переходный период, когда исторический полис еще не сложился окончательно. Гесиод наблюдал за этим с двойственной точки зрения независимого земледельца-рабовладельца, многострадального стародума, который ненавидит существующее положение дел и рвется выразить свой угрюмый и сварливый протест одиночки против неправедности властителей и общества в целом.
Теогония, если не считать повторных нападок на женщин, — сочинение совсем иного рода. Снова Гесиод, подобно Гомеру и многочисленным поэтам позднейших эпох, избирает для зачина обращение к Музам. Обычно такие призывы-инвокации служат олицетворением той горячей творческой волны, что накатывает на поэта и заполняет все его существо. Но геси-одовская инвокация облечена в удивительно теплые, личные тона. Содержится здесь и нечто вроде «литературного манифеста» — самого раннего из всех, дошедших до нас. Гесиод заявляет, что в поэзии помимо художественного вымысла есть и правда, и что его долг — именно в том, чтобы рассказывать эту правду без утайки33. И его собственные старания «рассказывать правду» стяжали ему непререкаемое первенство в любом перечне сочинителей дидактической (назидательной) поэзии, которая в древности расматривалась как одна из разновидностей эпоса — только повествующая не о войне.
Итак, чтобы обратиться к правдивому повествованию о событиях, поэт облекает Теогонию в мифологическую форму. Он берется объяснить божественное сотворение и устройство всего мира и земли. Поэма являет собой весьма раннюю попытку свести воедино огромное количество мифологического материала, претворив его в некую целостную картину, которая, при всей донаучности, уже в силу самого своего замаха стоит на полпути между пестрой бессвязностью древних мифов и последующими рациональными толкованиями. Впервые поэт-«мирянин» возлагает на себя «жреческую» обязанность — пересказать мифы, — причем с новой целью. Умственное развитие греков вступило в новую стадию, и рождение греческой космологической философии было уже не за горами (Глава V, раздел 2).
Вместе с тем различные мифы, предания и генеалогии, к которым прибегает с этой целью поэт, в большинстве случаев уходят корнями в глубь веков. Так, весь рассказ о сотворении мира, повествующий о том, как одно верховное божество (Крон) сменилось другим (Зевсом), — обнаруживает родство с Эпосом о Кумарби и Песнью об Умикумми. Эти поэмы хурритского происхождения перешли к хеттам и были распространены в государствах Северной Сирии, где преобладали хеттские традиции. Кроме того, в несколько меньшей степени слышны у Гесиода и отголоски вавилонского эпоса Энума Элиш (Приложение 1). Какими прямыми или косвенными путями могли эти восточные влияния дойти до поэта — неясно.
Гесиод пространно повествует о том, как Зевс силой добывал себе верховную власть и сколь сокрушительно обру. шивался он на мятежных гигантов, затевавших против него козни. (Заметим в скобках, что Потерянный рай Мильтона во. брал в себя немало подробностей из Теогонии.) Таково было продвижение к олимпийской гармонии, где первооснову мира составляет порядок, налагаемый Зевсом, — так что, невзирая на всяческие случайные жестокости и препоны, справедливость (δίκη) может и в конце концов должна возобладать. Так, в этом намеренном восстании против устарелых эпических ценностей δίκη вытеснила прежнюю τιμή («честь») в качестве срединной общинной доблести.
И та, и другая — всего лишь отвлеченные политические понятия, но тот упор, что Гесиод делает на справедливость, ί говорит о зарождении новой стадии гражданского сознания, I всплеск которого вскоре приведет во многих городах к деятельности законодателей.
Другое крупное достижение беотийцев на этом раннем этапе коренилось в политической области: они заняли видную роль I в развитии союзных соглашений — роль, которую лишь с I ропотом признали позднейшие враждебные писатели, особенно афинские.
В Беотии слишком многое препятствовало сплочению, так как на ее территории обычная греческая тяга к разобщению усугублялась еще и застарелым соперничеством между городами, которые находились между собой в чересчур близком | соседстве.
Но на другой чаше весов оказалась необходимость межполисного беотийского содружества, которое могло бы противостоять Фессалии и Афинам, и потому имела смысл известная хозяйственная сплоченность внутри области. И в должный черед представители разных городов стали регулярно собираться на религиозные Панбеотийские празднества в святилище Афины Итонии в Коронее. Строго говоря, имеющиеся у нас данные об их проведении относятся лишь ко времени начиная с 300 г. до н. э., но сами торжества, скорее всего, зародились несколькими веками ранее.
Это кажется тем более вероятным, что уже ок. 550 г. до н. э. о развитии этого политического содружества свидетельствовала чеканка единой союзной монеты34. Ибо начиная с этого времени монеты ряда беотийских городов обретают общую символику, а именно — знаменитый щит, характерный для этой области, — круглой или овальной формы, с полукруглыми выемками по обеим сторонам. На самых ранних таких монетах выбиты инициалы Танагры и Галиарта, а несколько более поздний чекан, уже безо всяких букв, происходит из Фив. На второй серии монет, выпускавшейся с конца века, были добавлены инициалы Фив и других беотийских городов. Орхомен же, гордившийся собственным богатством35, чеканил монету с другим рисунком: это свидетельствует о том, что он не принадлежал к союзу (к тому же Орхомен даже одержал военную победу над входившей в союз Коронеей)36, Такая «холодность» Орхомена легко объяснима: ведь само отсутствие начальных букв топонима на упомянутых выше союзных монетах, чеканившихся в Фивах, явно указывало на неравноправие городов внутри союза, так как подобным «красноречивым» умолчанием Фивы провозглашали собственное верховенство.
В Фивах правил узкий круг аристократов, причем правил по своему произволу (хотя «тесмотет» Филолай, явившийся сюда из Коринфа, вероятно, еще в раннюю эпоху помог учредить ряд законов и правил)37. Нельзя сказать, в какой степени и с какого периода преимущества происхождения стали уступать место преимуществам богатства, — хотя в свой черед богачи обрели здесь изрядное влияние. В основном богатство наживали разведением и продажей свиней, которыми область весьма славилась.
Отношения фиванских олигархов с афинскими Писистра-тидами (как и с их предшественниками) были дружественными38 до тех пор, пока ок. 519 г. до н. э. не разгорелся спор из-за Платей — небольшого полиса, располагавшегося между горой Кифероном и рекой Асопом, возле границы Беотии с Аттикой. Платей, понуждаемые Фивами вступить в Беотийский союз, обратились к спартанцам; но те лишь посоветовали платейским вождям искать помощи у Афин. Афинское правительство откликнулось на просьбу, и вскоре между Фивами и Афинами разразилась война (именно на это и рассчитывала Спарта). Афиняне одержали победу и снабдили Платей дополнительными землями за счет беотийских владений. Но этим Афины нажили себе врага в лице Фив, и те выступили против них с ответным ударом в 507–506 гг. до н. э., примкнув к Спарте и Халкиде, но столь же безуспешно.
Пусть это нисколько не следует из Гесиода (да может быть, на селе многое и впрямь обстояло иначе), общественная жизнь беотян была настолько пронизана гомосексуальными отношениями, что это удивляло даже других греков. Ибо из Ксенофонта и Платона явствует, что в Беотии плотская близость между влюбленным и возлюбленным не только не порицалась — как в большинстве прочих областей, — но даже почиталась делом весьма похвальным: как уже указывалось во Введении, Платон сообщал, что так же дело обстоит и в Элиде, «да и везде, где нет привычки к мудреной речи»39.
Но что до неспособности к мудреным речам, то край, породивший Гесиода, едва ли был таким уж культурно отсталым «медвежьим углом», каким любили воображать его враги-афиняне. Помимо поэм Гесиода, в Беотии же, вероятно, был сложен и гомеровский Гимн к Гермесу, относящийся к концу VI века до н. э… Кроме того, миф об Амфионе — легендарном основателе Фив, любимце Муз, — который околдовывал звуками своей лиры даже камни, говорит о том, что здесь были сильны музыкальные традиции. Из камышей с Копа-идского озера беотяне делали авлосы (ооХо1, которые звучали наподобие кларнета или гобоя), и местная школа авлетики — игры на этом инструменте — прославилась весьма широко, как и здешние учителя и изобретатели. Не чуждались в Беотии и искусства ваяния. Птойон — святилище Аполлона Птойского в 19 км к северу от Фив — был знаменит своими архаическими куросами и корами; бронзовая пластика беотийских мастеров тоже заслуживала внимания.
ЧАСТЬ V ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭГЕИДА
Глава 1. ИОНИЯ: ХИОС (ГОМЕР), САМОС
К концу II тысячелетия до н. э. западное побережье Малой Азии и близлежащие острова были заселены переселенцами из Греции: в средней части — ионийцами, на севере — эолийцами, а на юге — дорянами.
Территория Ионии — обладавшей, по мнению Геродота, «самым благодатным климатом на свете»1, — охватывала большие острова близ побережья и плодородные материковые долины в нижнем течении трех рек — Герма (ныне Гедиз), Каистра (Малый Мендерес) и Меандра (Большой Мендерес). В Ионии обосновались переселенцы из Балканской Греции, очевидно, спасавшиеся от нашествия дорян и других племен в различные периоды, начиная примерно с 1100 г. до н. э.
Предание о том, что единую волну переселения возглавил легендарный Ион, сын Ксуфа (или Аполлона) и Креусы, на время обосновавшись в Афинах, где в честь его четверых сыновей были названы четыре ионийские филы (Глава II, примечание 4), — вероятно, позднейшее патриотическое преувеличение афинян; на самом же деле процесс колонизации протекал гораздо дольше и сложнее2. Правда, Афины действительно могли играть важную роль в заселении Ионии. Но, допуская такое предположение, следует помнить и о том, что ионийцы были большой ветвью греческого народа, с глубокой древности обитавшего в самых разных греческих землях. Однако их диалект — это первое известное нам наречие в исторической азиатской Ионии, зафиксированное в зародившихся здесь гомеровских поэмах.
К концу VIII в. до н. э. образовалось двенадцать ионийских полисов: это были острова Хиос и Самос, а на материке (с юга на север) — города Милет, Миунт, Приена, Эфес, Колофон, Лебедос, Теос, Эритры, Клазомены и Фокея. Эти двенадцать государств сплотились в религиозный «всеионийский» союз — Панионий. Его очагом стало святилище Посейдона Геликония на вершине горы Микале, заменив прежнее святилище в Мелии (совр. Кале-Тепе над Гюзель-Чамлы) — поселении, которое ионийцы (хотя обычно не отличавшиеся согласованностью в действиях) разрушили из-за сопротивления его жителей, не желавших вступать в союз. Со временем на смену царям, правившим в некоторых ионийских государствах, пришли аристократические республики. Позднее и они пали, подчинившись власти Лидии и Персии, которые, добившись такого подчинения, принялись насаждать местные диктаторские режимы.
Два больших ионийских острова неподалеку от малоазийского побережья — Хиос и Самос — заняли видное место в раннегреческой истории: без них она оказалась бы совсем иной.
Хиос, вытянутый на 48 км в длину (с севера на восток), а в ширину занимающий от 12,8 до 14 км, лежит в 8 км западнее материковой Ионии, там, где береговая линия образует крупнейший мыс. Считается, что древнейшими обитателями острова были лидийцы и карийцы (Приложение 1 и примечание 17 к настоящей главе). Но ок. 1000 г. до н. э. Хиос был заселен ионийцами из Аттики (возможно, вместе с некими абантами с Эвбеи). Эти пришельцы выбрали для своего главного поселения красивую и плодородную равнину на восточном побережье острова; на этом месте и поныне стоит город Хиос.
А в Эмборио, на южном побережье, были обнаружены следы еще одного древнего поселения (возникшего на месте более раннего микенского) и остатки архаических жилищ, в том числе — стена и большой аристократический дом с деревянными колоннами на каменных базах. Развалины относятся к VIII и VII векам до н. э. Местным наречием был ионийский диалект с примесью эолийского. Сперва в Хиосе правили цари; один из них, Гиппокл, был убит в пьяной драке на свадебном пиру, что привело к войне с Эритрами, материковым ионийским городом. Впоследствии хиосская монархия сменилась аристократическим правлением.
Несколько городов в Восточной Эгеиде оспаривали друг у друга право считаться родиной Гомера, которому приписывались Илиада и Одиссея. На то, что поэмы были созданы в этой прибрежной области, имеются указания и в них самих — в частности, яркие пространные сравнения. (Доводы в пользу того, что обе поэмы являются творением одного автора — чтб порой оспаривается, — излагаются ниже.)
Самые убедительные притязания на то, чтобы зваться родиной Гомера, имелись у Хиоса и Смирны; и несмотря на противоречивый и отрывочный характер наших источников — особенно так называемых Жизнеописаний Гомера, в которых на первом месте стоит не правда, а правдоподобие, — представляется вероятным, что, если Гомер действительно родился в Смирне, то затем жил и творил на Хиосе. Там (согласно Эфору) он жил некоторое время в северной деревушке Болисс (совр. Волиссос)3, где позднее возник целый «цех» Гомеридов — чтецов его поэм, которые возводили свой род к его потомкам. В VII веке до н. э. поэт Семонид (см. ниже, в связи с Самосом) приписывал отрывок из Илиады «хиосцу»4, и примерно в ту же пору «Пифийская» («Дельфийская») часть Гимна к Аполлону (из цикла, известного под названием «гомеровского», но Гомеру не принадлежащего), упоминает об искуснейшем из певцов: «Се — слепец! На Хиосе он обитает скалистом»5. Пение считалось подходящим занятием для тех, кто был лишен зрения: так, слеп Демодок, певец Алки-ноя в Одиссее, ибо Аполлон «затмевал очи» своим пророкам. Правда, слепота могла носить и метафорический характер, ибо певцы (чье высокое назначение Гомер всячески старается подчеркнуть) всегда казались погруженными в себя, вглядываясь во внутреннюю сущность вещей, сокрытую от других6.
Очевидно, эти поэмы обрели окончательную (или почти окончательную) форму ок. 750/700 г. до н. э., то есть спустя двести с лишним лет после появления ионийцев на острове Хиос — и спустя полтысячелетия после предполагаемых событий, воспевать которые взялся поэт. Остается неясным, предшествовали ли эти поэмы двум другим, совершенно с ними не схожим, — Гесиодовым Трудам и дням и Теогонии (Глава IV, раздел 4), — или были созданы позже их. Возможно, более короткие песни, принадлежавшие ранним безымянным или неизвестным поэтам, которыми Гомер явно воспользовался, переработав их в отдельные части Илиады и Одиссеи, еще до него были связаны в песни подлиннее, легшие в основу двух завершенных эпических повествований, складывавшихся на протяжении всего долгого периода между предполагаемой порой Троянской войны и временем их окончательного становления. В целом же представляется более правдоподобным, что органичное соединение этих коротких поэм в величественную и сложную ткань двух великих эпических творений как раз и является личной заслугой Гомера.
В течение этих «промежуточных» веков певцы-исполните-ли были неграмотны, но те несохранившиеся песни, что они пели, передавались изустно, из поколения в поколение. Вне сомнения, в них попадались многочисленные повторы — своего рода формулы, служившие мнемоническими «подсказками» и вехами, помогавшими певцам-импровизаторам. Этими же формулами — эпитетами, целыми фразами и отдельными словосочетаниями («розоперстая Эос», «виноцветное море»), а также готовыми «цепочками» для описания определенных предметов и действий, — изобилуют и Илиада с Одиссеей. Собственно, из двадцати восьми тысяч строк, составляющих текст поэм, двадцать пять тысяч приходятся на такие формулы-повторы.
Усилия различных ученых установить ·— при помощи всевозможных археологических методов, — к какой эпохе относятся описанные в Гомеровом эпосе предметы, общественные порядки, обычаи и обряды, — привели к неоднозначным результатам. Прежде всего, пришлось сделать вывод, что он не пытался достоверно воссоздать приметы и особенности какого-то определенного общества, существовавшего в какую-то определенную эпоху — будь то его собственная или гораздо более ранняя. Ибо, если в его поэмах содержатся некоторые указания (более или менее искаженные) на давным-давно канувшую микенскую эпоху — особенно в пространном «каталоге ахейских кораблей» в Илиаде7, — то имеются в них и иные, более многочисленные (хотя отнюдь не упорядоченные) отсылки к окружению самого поэта, характерному для VIII века до н. э. С другой стороны, ряд прочих элементов не почерпнут ни из отдаленной микенской эпохи, ни из современной поэту действительности; скорее, они соотносятся с различными временными отрезками того пути в полутысячелетия длиной, что вклинился между двумя хронологическими вехами. Иные же эпизоды явно не отражают никаких исторических эпох и стоят вне времени.
Очевидно, Гомеру помог в его великом свершении сам перст судьбы: время его жизни, по-видимому, совпало с повторным появлением письменности в греческом мире (Глава I, примечание 35). В создавшемся положении поэт явился живым олицетворением превосходства письменной культуры над бесписьменной, — наверное, самолично воспользовавшись новым «орудием» и записав собственные стихи (или, скорее всего, продиктовав их тем, кто был обучен грамоте). Такая возможность, безусловно, помогла ему создать связные и монументальные эпические полотна, неизмеримо более совершенные, чем устные сочинения его предшественников.
Тем не менее сам он по-прежнему был наследником этой устной традиции; и, вне всякого сомнения, он сочинял свои поэмы для (а возможно, и во время) чтения или пения вслух, > сопровождая стихи звуками грубоватой лиры (кгварц, фбрцгу^). I Исполняли поэмы, вероятно, на пирах знати или в ходе | крупных празднеств, например, всеионийских сходок на горе [Микале. По таким случаям одну из двух поэм исполняли, допустим, в пятнадцать приемов, по два часа кряду, — иначе говоря, в течение трех-четырех дней.
Поэмы, которые имели счастье услышать собравшиеся, яв- | ляли настоящее чудо ясности, прямоты и стремительности. Многие их щемящие строки и по сей день — непревзойденные шедевры литературы; немало в них и тонкого, умного юмора. Богатый традиционный язык этих дактилических гек- 1 заметров (Глава I, примечание 38) способен Передать любое настроение и описать любой предмет. С лингвистической точки зрения, это смешение диалектных форм с преобладанием ионийского наречия, но имеются и вкрапления эолийских и аркадо-кипрских элементов.
После многовековых споров все же можно доказать (пусть даже сегодня такого мнения держится меньшинство), что Илиада и Одиссея являются творениями одного поэта — а именно Гомера. Разумеется, в Одиссее отражен совсем иной уклад жизни, нежели тот, что показан в Илиаде. Но едва ли это представляет серьезное препятствие традиционному ис- | толкованию, приписывающему обе поэмы единому автору (пролегающие между ними различия не больше тех, что разделяют Бурю и Короля Лира). Возможно, Илиаду Гомер сложил в молодости, а Одиссею — уже на склоне лет. Но опять-таки такой вывод отнюдь не является непременным: ведь то обстоятельство, что он рассказывал о событиях, происходивших в течение двух разных десятилетий (причем события обоих были удалены от его времени и к тому же в значительной мере порождены его собственным воображением), еще не означает, что и создание двух этих поэм должно было происходить в разные десятилетия жизни самого поэта, хотя в пользу именно такого мнения были выдвинуты доводы, опирающиеся на язык, идейное содержание и структуру поэм.
Как бы то ни было, Илиада и Одиссея — трагическая и приключенческая истории — во многих отношениях дополняют друг друга; а их несхожесть объясняется, скорее всего, не принадлежностью разным авторам и даже не тем, что они были созданы (о чем только что шла речь) одним поэтом, но в разные периоды жизни, — а тем, что они относятся к двум разным пластам в пестрой фольклорной традиции, которая досталась в наследство поэту.
Илиада повествует о событиях, предположительно происходивших несколько севернее родины самого поэта — в окрестностях Илиона (Трои) в Малой Азии — города-крепости, возвышавшейся над Геллеспонтом (Дарданеллами). В поэме изображен краткий эпизод осады Трои (уже под конец войны) союзными войсками из многочисленных ахейских государств (ахейцами, или ахеянами, Гомер называет додорийские народы, населявшие греческую метрополию), которые возглавляет царь Микен Агамемнон. Вместе со своим братом, спартанским царем Менелаем, он побудил вождей других ахейских народов отправиться в заморский поход против троянского владыки Приама, так как один из Приамовых сыновей, Парис, похитил жену Менелая, прекрасную Елену.
Греки раскинули стан неподалеку от своих кораблей, под стенами Трои, и девять лет держали осаду. Но им все еще не удавалось взять крепость, хотя они захватили и разграбили немало соседних городов; наибольшую доблесть в этих набегах выказал Ахилл, мирмидонский царевич из Фессалии, свирепейший и неукротимейший из союзников Агамемнона. Добыча, захваченная в одном из таких городов, послужила предметом раздора между Ахиллом и верховным вождем. Спор разгорелся из-за Хрисеиды — девы, полоненной ахейцами, которая досталась в награду Агамемнону. Но отец девушки Хрис, жрец Аполлона в Хрисе, Килле и на острове Тенедосе, взывает к помощи бога, и тот обрушивает свой гнев на ахеян. Чтобы умилостивить Аполлона, они понуждают царя вернуть Хрисеиду отцу. Агамемнон взамен забирает себе другую пленницу — Брисеиду, доставшуюся в награду Ахиллу. Разъяренный Ахилл прекращает сражаться с троянцами и отстраняет от битв своих мирмидонян. Таков его гнев (первое слово всей поэмы — р*гллО — гнев, который, как говорит Гомер, причинил ахеянам бессчетные беды.
Перемирие между вражескими воинствами, заключенное для того, чтобы исход войны решило единоборство Менелая с Парисом, нарушается, после чего брань возобновляется. Те-перь ахейцам, лишившимся помощи Ахилла, приходится туго но Ахилл по-прежнему отказывается сражаться, несмотря на щедрые дары, которые сулит ему Агамемнон. Гектор, сын Приама, пробивает оборонительную стену, которую ахейцы возвели вокруг своих кораблей и стана. После этого Ахилл смягчается и позволяет своему любимому старшему другу и боевому товарищу Патроклу (в отличие от позднейших авторов, Гомер ничем не дает понять, что они любовники)8 повести мирмидонян на подмогу теснимым ахейцам. Патрокл успешно сражается, но вырывается слишком далеко вперед и гибнет от руки Гектора под крепостными стенами.
Тогда-то Ахилл, вне себя от горя и ярости, наконец снова устремляется на поле брани, обращает в бегство троянцев, загоняя их за городские ворота. Он убивает Гектора и предает труп врага жестокому поруганию: гнев его столь велик, что заставляет его преступить все мыслимые границы человечности. Отец убитого, объятый скорбью Приам, по наущенью Зевса ночью приходит в шатер Ахилла вымаливать тело сына. Ахилл уступает его мольбам, и поэма завершается рассказом о погребении Гектора на фоне тревожного перемирия.
Раскопки подтверждают, что ок. 1250/1200 г. до н. э. небольшая, но занимавшая выгодное расположение крепость позднебронзовой Трои («Троя Vila») подверглась разрушению. Вполне возможно, что ее разрушителями были представители микенской культуры, пришедшие из Балканской Греции и говорившие на одной из разновидностей греческого языка, — хотя доказать это невозможно. Но вскоре крах постиг и саму микенскую цивилизацию (вместе с имевшейся у нее формой письменности), а Илиада и Одиссея, как уже говорилось, приняли сравнительно завершенный вид лишь пять веков спустя.
Тем не менее столь значительный временной разрыв ничуть не навредил непревзойденному повествовательному таланту Гомера. Он живо и вместе с тем с дотошными подробностями описывает действующих лиц, выявляя характерные свойства каждого. Наибольшее внимание приковывает к себе Ахилл, в преизбытке наделенный всеми добродетелями и пороками гомеровского героя: в нем наиболее полно воплотился героический «кодекс чести». Этот герой, воссозданный Гомером столь ярко (не по историческим сведениям, а силою своего «ностальгического» воображения, которому давала пишу страсть ко всему, что происходило в далеком прошлом), пользуясь преимуществами происхождения, богатства и телесной мощи, посвятил все свое существование непрестанной, яростно-ревнивой, мстительной борьбе за всеобщее восхищение, а также за материальные блага, служившие мерилом этого восхищения, и для этого вечно стремился превзойти равных себе, особенно в ратных подвигах, каковые и были его главным занятием (хотя столь же высоко ценилось и красноречие).
Вместе с тем порой кажется, что Илиада не столько превозносит, сколько ниспровергает подобный идеал геройской доблести. Этот пыл и рвение к бою, в зените славы поднимающие героев к вершине, откуда недалеко и до богов, — предвещают страдание: ибо им никак не избежать той роковой смертной участи, что ждет в конце.
Эта участь отождествляется с самими богами (а иногда оказывается и сильнее их), которым, по замечанию Геродота, Гомер и Гесиод даровали имена, власть и человеческое обличье9. Они поступают безнравственно, обманывают друг Друга, вступают между собой в перебранки, помогая враждующим сторонам в ходе Троянской войны, порой сами ввязываются в битву, наводя на смертных неописуемый ужас и действуя внезапно и непредсказуемо. Отчасти поэтому Илиада преисполнена ощущением бренности всех людских дерзаний. Богам неведома гибель, зато на земных мужей и героев смерть в конце концов набрасывается, становясь высшим испытанием на доблесть, пронзительнейшей мукой и последним свершением. Ахилл знает, что ему суждено жить недолго: и когда в глубоко щемящем конце поэмы он встречается лицом к лицу со стариком Приамом, чьего сына Гектора он умертвил, — ликующий грохот брани стихает, сменяясь нотой жалости и сострадания.
Гектор — пусть он совершал промахи в войне и уступал мощью Ахиллу, — был благородным героем (и благородным врагом греков), в котором оказались сплавлены воедино воинственные и элегические черты. Агамемнон и Менелай наделены множеством недостатков. Женщины в Илиаде — словно из плоти и крови. Особенно горька последняя встреча Андромахи с ее обреченным супругом Гектором. Что до Елены (преображенной из лунной богини в соблазнительнейшую из смертных), то на нее возлагается вся вина, так как из-за нее одной вспыхнула война.
Одиссея повествует о возвращении Одиссея с Троянской войны на родину — остров Итаку. Мифические скитания героя продолжались десять лет, но здесь время действия охватывает лишь последние шесть недель его странствий. В начале поэмы он оказывается на острове нимфы Калипсо, которая удерживает его у себя в качестве возлюбленного вот уже почти восемь лет, несмотря на его тоску по родной Итаке. Тем временем там уже вырос его сын Телемах, а царский дом полон непрошеных гостей — женихов Пенелопы, Одиссеевой жены. Они беспрестанно пируют, проедая запасы отсутствующего хозяина, и понуждают царицу избрать себе в мужья одного из них.
На Одиссея насылает бедствия Посейдон, чей гнев он вызвал, ослепив сына бога — киклопа Полифема. Однако в отсутствие Посейдона Афина, стойкая покровительница Одиссея, убеждает остальных богов и богинь сжалиться над героем и оказать ему помощь. Она побуждает Телемаха отправиться в Пилос (царство Нестора) и Лакедемон (куда уже вернулись Менелай с Еленой), чтобы разузнать там об отце. Тем временем Зевс велит Калипсо отпустить пленника. Одиссей строит плот и устремляется в путь, но Посейдон насылает бурю, и плот гибнет. После тяжкой борьбы со стихией он наконец выброшен на берег Схерии — острова доброго и мудрого народа феаков. Выбравшись на сушу, он встречает царевну Навсикаю, и та препровождает его во дворец своего отца, феакийского царя Алкиноя.
На пиру, заданном в честь Одиссея, герой описывает свои странствия и приключения, выпавшие на его долю после отплытия от разрушенной Трои. Он рассказывает об опасных столкновениях с лотофагами, Полифемом, богом ветров Эолом, людоедами лестригонами, волшебницей Киркой, призраками умерших (на краю земли или в подземном царстве Миноса?), сиренами, утесом-чудовищем Сциллой и скалой-водоворотом Харибдой. Затем Одиссей рассказывает, как его спутники перебили и сожрали священные стада бога солнца Гелиоса и как тот покарал святотатцев бурей, сгубившей их: лишь он один спасся и смог доплыть до острова Калипсо, откуда он теперь и приплыл на Схерию.
Вскоре, несмотря на то, что божественный гнев не утих, феаки отвозят Одиссея на Итаку. Там, в неприглядном обличье нищего-оборванца, герой узнает, что вытворяли в его отсутствие женихи Пенелопы. По наущению Афины Телемах возвращается из Лакедемона домой, отец и сын встречаются
и вместе замышляют перебить незваных гостей. В царском дворце Одиссея не узнаёт никто, кроме его старого пса (который тут же издыхает) и старой кормилицы Евриклеи. Когда женихи снова торопят Пенелопу с выбором супруга, она предлагает устроить состязание в стрельбе из лука — будто бы для того, чтобы определить достойнейшего. На самом деле она знает, что никто, кроме Одиссея, не в силах натянуть тетиву на его могучем луке. Однако герой сам берется за свое оружие и, осыпав противников градом стрел, истребляет ненавистных женихов. Пенелопа узнаёт своего любимого мужа, и Одиссей снова воцаряется на родном острове.
Хотя Одиссея увязана, ради оправдания своей эпической формы, с преданиями о Троянской войне, — в основе ее лежит типичная народная сказка: рассказ о человеке, который пробыл на чужбине так долго, что его уже считают покойником, но в конце концов, претерпев полные волшебства приключения, возвращается домой, к верной жене. В ткань этой захватывающей поэмы вплетены десятки других удивительных древних историй, часто обнаруживающих ближневосточные параллели (Приложение 1).
С Илиадой Одиссею роднит восхваление телесной мощи и отваги; нет здесь недостатка и в жестоком упоении кровопролитием. Однако тут произошел сдвиг (если Одиссея действительно была написана позднее Илиады) от вершин неуемного геройства, пронизанного предчувствием рока, в сторону более истовых добродетелей — выносливости, самообладания и терпения. Одновременно любовь к боевым товарищам и славе здесь уступает первенство любви к родине и жене, — тогда как в лице колдуньи Кирки ниспровергаются женщины другого склада, представляющие угрозу благополучию мужского общества. В нарисованной картине быта отражаются различные черты царского и аристократического правлений (последнее, по-видимому, порой уже сменяло единовластный строй), и внимание наше останавливается на общественном и семейном укладе знатных землевладельцев, живущих в своих имениях. Особым значением наделяются хорошее воспитание, вежливое обхождение и гостеприимство с его хитрым порядком взаимного обмена дарами. Не позабыты и люди попроще — нищие и попрошайки: они обрисованы гораздо ярче, чем тускловатые фигуры воинов, сходящихся на собрание в Илиаде\ к тому же каждый из них находится под покровительством Зевса, пекущегося о добронравии
Но прежде чем поэт достигает более статичной второй по. ловины Одиссеи, где преобладают подобные мотивы, герой, швыряемый по множеству морей, попадает в причуд, ливые земли, которые, как еще во II веке до н. э. указал Эратосфен10,не поддаются определению. Но пусть эти страны намеренно неузнаваемы — в чудесных рассказах о чужедальних краях в целом слышатся подлинные отголоски отважных путешествий, действительно совершавшихся в эпоху переселений. Именно они проторили пути для будущих греческих смел ьчаков-колонистов.
Одиссей, этот архетипичный скиталец — неустрашимый, неодолимый, могучий и выносливый, — оказывается к тому же умнее и изобретательнее всех прочих гомеровских героев. Он даже не столько «хитроумен», сколько способен вникать в суть любых обстоятельств и сообразно с ними совершать единственно разумные поступки. Одиссей являет собой вечный пример последовательного человека, сразившегося со всеми превратностями судьбы и одолевшего все их, одну за другой, таким образом постигшего множество истин и под конец обретшего самого себя. Однако при всей независимости Одиссея, в рассказе о нем ясно слышится новая для греческой мысли (и религии) нота: это исключительная покровительственная дружба — полная восхищения и порой обретающая забавные формы, — которую выказывает по отношению к герою богиня Афина.
Столь же ярко описаны волшебница Кирка и любвеобильная Калипсо — женщины, чья любовная власть над Одиссеем долгое время являла в глазах греков разительное насилие над естественным ходом вещей. Но здесь впервые показаны полностью развитыми личностями и другие женщины — простые смертные, а не колдуньи, — например, Навсикая и, прежде всего, наделенная сложным умом, находчивая и неколебимо целомудренная Пенелопа. Правда, женщины по-прежнему выступают всего лишь мужской собственностью, завися от доблести мужей. И все же им принадлежит важное место в общественном строе, так как они помогают владетельным семьям заключать между собой союзы и обмениваться пышными дарами.
Более того: занимая выжидательное положение и наблюдая за происходящим, они обладают собственными характерами и суждениями, по-своему толкуя смысл и значение мужских поступков. Гомер — далекий от «мужского шовинизма», почти как никто другой среди всех античных авторов, — предоставляет своим героиням изрядную степень свободы. Агамемнон и Одиссей, отправляясь на войну, оставили свои царства на попечение жен; а последующее предательство Клитемнестры, жены Агамемнона (которому предстояло лечь в основу Эсхиловой Орестеи), явилось опаснейшей угрозой общественному строю, в котором главенствовал мужчина.
Обретя завершенную форму, Илиада и Одиссея в свой черед стали достоянием целого «цеха», или клана, певцов-исполни-телей, чье искусство отличалось наибольшей отточенностью среди прочих ионийских ремесел той эпохи. Это были Гоме-риды, предтечи будущих профессиональных декламаторов — рапсодов, вероятно, получивших такое прозвание от жезла (ράβδος), который они держали в руках, вместо того чтобы аккомпанировать себе на лире. Возможно, певцы-Гомериды, впоследствии объявившие себя его потомками, изначально принадлежали кругу самого поэта и происходили с острова Хиос. Но они, как позднее и рапсоды, много странствовали (они стали первыми из греков, кто ввел странствия в обыкновение)11, поэтому Илиаду с Одиссеей вскоре узнали повсюду.
И в самом деле, на протяжении целого тысячелетия античной истории эти две поэмы — возможно, чуть видоизмененные при афинских диктаторах Писистратидах, а позднее, в III веке до н. э., разделенные каждая на двадцать четыре книги, или песни, — непрестанно оказывали на греков благотворное влияние, образуя основы их литературных, художественных, нравственных, общественных, воспитательных и политических воззрений. Долгое время в сколько-нибудь связной истории древности просто не было необходимости, ибо Илиада и Одиссея отвечали любым требованиям. Они снискали всеобщее благоговейное почтение, ибо служили источником житейской мудрости, доводом в пользу героичного, но и человечного, благородства и достоинства, побуждением к решительным (нередко воинственным) мужественным поступкам, неистощимым кладезем цитат и толкований: иными словами, гомеровский эпос превратился в общегреческое достояние, составившее противовес центробежной раздробленности греческого мира.
Ок. 600 г. до н. э. Хиос начал выпускать монеты из электра (бледного золота), а позднее, в большем количестве, — из серебра. Чеканом служила государственная эмблема — сфинкс с прихотливо выгнутым крылом, как нельзя лучше символизировавший благоразумие полиса, который славился чутьем и осмотрительностью в финансовых делах.
Говорили, что именно на Хиосе жил мастер Главк — первый из греков, кто додумался сваривать или спаивать железные пластины и бруски, вместо того, чтобы по старинке скреплять их гвоздями или клепать. Кроме того, на острове процветали школы камнерезов, которым особенно удавались изваяния кор; лучшие из этих статуй относятся ко второй половине VI века до н. э. Порой Хиос даже называют родиной этого искусства; местные скульпторы славились своим умением передавать в мельчайших подробностях струящиеся очертания белого ионийского хитона — одеяния, занимавшего видное место в декоративном убранстве статуй этих кор. Некоторые хиосские резчики по мрамору нанимались на работу к афинянам, так как афинские правители Писистратиды поддерживали тесные отношения с островом.
Среди таких художников, чьи имена сохранили для нас надписи на Акрополе, был прославленный Архерм12, чей дед Мелан, согласно Плинию Старшему, основал целую семейную «мастерскую» ваяния (прежде чем была основана сики-онская школа), которая просуществовала в продолжение четырех поколений и пользовалась в качестве материала белым паросским мрамором. Говорили, что Архерм первым из скульпторов изобразил Нику крылатой13, и ему приписывали различные произведения с подобным сюжетом. На Хиосе в VI веке до н. э. изготовляли и вазы; среди находок в египетском Навкратисе оказалась группа сосудов — как считалось прежде, местной работы, — но впоследствии выяснилось, что изготовили их хиосские мастера. Это подтверждало, что островитяне играли важную роль в этом отдаленном торговом городе. Для хиосского «кубкового стиля» (ок. 580–570 гг. до н. э.) характерно изящное отсутствие заполняющего орнамента, а броские вазы более позднего периода отличает натуралистичная манера полихромной росписи.
Хиос был богат зерном, фигами и камедью. Но особенно знаменит был остров своим вином, которое широко вывозилось и считалось лучшим во всех греческих землях. Тем же прославилась и Маронея, хиосская колония на побережье Фракии (основана до 650 г. до н. э.). Вожди фракийских племен, населявших внутренние земли, поставляли хиосцам рабов; кроме того, рабы в огромных количествах свозились из Малой Азии, Иллирии, Скифии и Причерноморья. Хиос, благодаря выгодному географическому положению, стал (раньше Делоса) главным «пересылочным пунктом» работорговли. Считалось, что граждане Хиоса первыми — после фессалийцев и спартанцев, — начали использовать труд рабов-варваров, при этом не захватывая их в плен в ходе войны, а покупая за деньги, как товар (и тем навлекая на себя — как тогда верили — божественную кару). Таковой промысел, постепенно развивавшийся в течение VI века до н. э. и порождавший экономическую экспансию, превратился в основной род занятий хиосцев; большое количество рабов на острове отмечалось и в следующем столетии.
Такое обилие рабов соседствовало с уважительным отношением к правам свободных граждан, — что, впрочем, никак не мешало строгому правлению15. Хиосцы весьма пеклись о государственном порядке: это явствует из надписи ок. 575–550 гг. до н. э. с законодательными распоряжениями, касавшимися отправления правосудия16. Вначале управление полисом осуществлял Совет трехсот (возглавляемый группой из пятнадцати человек), но позже аристократическое правительство было явно низложено и заменено строем, обладавшим, судя по неоднократным упоминаниям «законов» (или указов) дамоса (δαμος, то есть δήμος, — народа), определенными чертами демократии — например, народным собранием с правом голосования. В чем-то они были сопоставимы с мерами Солона (или даже опережали их), который поколением раньше провел свои реформы в Афинах. Хиосские граждане имели право обращаться с обжалованиями к особому совету, предположительно сосуществовавшему со старинным Советом, главенствовавшим в эпоху родовых отношений. Этот новый совет, состоявший из пятидесяти представителей — по одному от каждой гражданской филы, — собирался ежемесячно для ведения важных дел, в том числе слушания жалоб. Что касается исполнительной власти, то верховным государственным сановникам, все еще звавшимся по старинке «царями», или басилеями (βασιλείς), теперь противостояли и новые должностные лица — «народона-чальники», или дамархи (δάμαρχοι). Местная власть всячески пеклась о благополучии граждан, и на острове на удивление рано развилась образовательная система; сохранилась запись о том, что ок. 494 г. до н. э. обрушилась крыша школы, похоронив под собой сто девятнадцать детей.
После того как в 546 г. до н. э. Кир II Великий разгромил Лидию, Хиос вошел в состав Персидской державы, а позднее присоединился к Ионийскому восстанию, затеянному Милетом (с которым давно поддерживал тесную дружбу). Хиосцы выслали в помощь милетянам 100 триер (тогда как всего у мятежников имелось 353 кораблей) для битвы при Ладе (495 г. до н. э.). Половина этой эскадры погибла в яростном сражении, и хотя некоторые уцелевшие хиосцы вернулись домой, многие другие нашли погибель в Эфесе, после чего персы совершили на остров набег и опустошили жилища хиосцев.
Самос — гористый остров площадью 43,2 км на 22,4 км, лежащий в отдалении менее 3,2 км от мыса Микале, южной оконечности Ионии.
Согласно преданию, сохраненному для нас Страбоном, древнейшее население острова имело отношение к жителям Карии, области на юго-западе Малой Азии17. Вслед за населением эпохи неолита и бронзы явились переселенцы — греки-ионийцы, бежавшие из Балканской Греции от нашествия дорян и прибывшие сюда из Эпидавра в Арголиде. Вероятно, они приплыли на остров до 1000 г. до н. э. под началом Прокла, которого потомки чтили как основателя своего царства. К четырем обычным ионийским филам (Глава II, примечание 4) вскоре добавились еще две — куда, вероятно, входили туземные карийцы (примечание 17). Это говорило о том, что иноземцы, высадившиеся на Самосе, быстро поладили с коренными жителями. Главное поселение пришельцев (на месте совр. Питагорьо), расположившееся возле круглой бухты-«сковородки» с южной стороны острова, впоследствии стало одним из двенадцати крупных городов Ионии. Его жители изъяснялись на особом диалекте.
Упразднив на Самосе монархию, власть прибрали к рукам знатные землевладельцы — геоморы (уеоцброг). Остров процветал за счет плодородной почвы, которая и стяжала ему в греческом мире множество похвальных эпитетов и прозваний. Но наибольшую выгоду Самос извлекал из своего выгодного расположения: он был конечным пунктом на единственном сравнительно безопасном (в любую погоду) пути через Эгейское море. Такое преимущество позволяло Самосу «перехватывать» часть торгового потока у своего постоянного соперника — Милета, а также открывало ему доступ к торговым путям, пересекавшим Малую Азию, где самосцы взяли под контроль прибрежную полоску. Считается, что в 704 г. до н. э. (но быть может, скорее, ок. 654 г. до н. э.) Аминокл Коринфский построил для них военные корабли — вероятно, диеры (Глава III, раздел 2). В VII веке до н. э. Самос подерживал Спарту во Второй Мессенской войне, скупая больше лакейской утвари, чем какое-либо другое греческое государство (особенно после 600 г. до н. э.) и выступая своего рата передаточным пунктом, куда взамен свозились ближневосточные предметы роскоши.
В 640/638 г. до н. э. торговое судно под командованием Колея Самосского направилось в Египет — страну, откуда к самосцам поступали различные товары, в частности, бронзовые изделия, — и достигло ливийского острова Платеи. Но оттуда корабль отнесло бурей на огромное расстояние, за Геракловы столпы (Гибралтарский пролив), до самого Тартес-са — негреческого государства, находившегося возле устья реки Бетис (Гвадалквивир) на атлантическом побережье Испании. Тартесс жил главным образом за счет богатых серебряных копей, разрабатывавшихся неподалеку; кроме того, сюда поступала медь из соседних рудников и олово с юго-запада Британии (Касситериды в Корнуолле — см. примечание 51, ниже) и, вероятно, с северо-запада Испании18. Греческая керамика проникла в поселение у устья Бетиса еще в VIII веке до н. э., а незадолго до плавания Колея, в 648 г. до н. э., в Олимпии уже появились посвятительные приношения из так называемой «тартесской бронзы» Но посещение Колея, несомненно, упрочило давние связи: согласно Геродоту, купец возвратился на родину с неслыханно прибыльным грузом, а из своих доходов пожертвовал бронзовый котел в самосский храм Геры20 (см. ниже; такие котлы были обычным приношением и в олимпийском святилище). Удача Колея подстегнула рвение прочих греческих купцов и искателей приключений: его нечаянное путешествие сослужило им службу, ускорив уже начавшееся открытие дальнего запада.
Но самосцы недолгое время довольствовались подобными купеческими вылазками: они вознамерились и выводить собственные колонии (что примечательно, сохраняя над ними контроль) — причем еще до того, как хлынула по-настоящему мощная волна ионийской колонизации. Так, в VII веке до н. э. переселенцы с Самоса основали Миною на острове Аморгос, что неподалеку от Наксоса и Пароса, в средней части Кикладского архипелага.
Считалось, что главой переселенцев был Семоннд (хотя некоторые полагают, что он жил позже), ямбический и элегический поэт, унаследовавший поэтическую традицию от земляка — самосца Креофила (друга и ученика, а по слухам, зятя Гомера)21. До нас дошел отрывок (118 строк) Семонидовьгх Ямбов о женщинах наиболее обширный из сохранившихся образцов ранней ямбической сатиры. С поэтическим мастерст-вом, но и с едкой сварливой бранью, Семонид дает волю — причем даже решительнее, чем Гесиод (Глава IV, раздел 4), тому духу женобоязни, который впоследствии пронизывал всю греческую литературу. Так, он уподобляет разного склада женщин различным животным (есть женщины-ласки, женщины-свиньи, женщины-кобылы, и так далее), рассуждая с той неприкрытой грубостью, с какой обычно велись перебранки между мужчинами и женщинами, хорошо знакомые по крестьянскому фольклору у многих народов мира. В других ямбических и элегических фрагментах, оставшихся от Семонида, говорится о тщете всяких людских надежд и дерзаний. Ему также приписывали Самосские древности — историю Самоса в двух книгах, написанную элегическим дистихом.
Другие колонисты с Самоса отправились в Перинф (ок. 602 г. до н. э.), а затем в Бисанфу во Фракии, на остров Самофракию (в коце VI века до н. э.) неподалеку от фракийского побережья, в Келендериду и Нагид в Киликии (Приложения, примечание 2), в Дикеархию (позже — Путео-лы) в юго-западной Италии (Кампания). Ок. 525 г. до н. э. наемники с Самоса обосновались также в Оасис-Полисе (Большой Оасис, совр. Аль-Бавайти, в западной пустыне Египта), а самосские дельцы, наряду с другими греками, приняли участие в основании Навкратиса (на побережье этой же страны), построив святилище. Оно стояло рядом с храмом Аполлона, который воздвигли враги самосцев — милетяне.
Самосский храм в Навкратисе был посвящен Гере, по преданию родившейся на Самосе. А Герейон — святилище богини, стоявшее на ее родном острове, в 6,4 км к западу от города Самоса, возле устья реки Имбрас (ранее Парфе-ний), — было знаменито на весь греческий мир.
В этом заболоченном месте, у кромки длинного, отлого спускающегося берега (выбор места был, вероятно, обусловлен каким-то давно забытым древним преданием), при раскопках было обнаружено восемь (?) последовательных слоев доисторических капищ (начиная приблизительно с 2500 г. до н. э.). В середине находился жертвенник; и с наступлением железного века за каменным алтарем, возможно, относящимся к X веку до н. э. (хотя некоторые ученые оспаривают возможность столь ранней датировки), последовало еще не менее семи алтарей, сооружавшихся на протяжении двухсот или трехсот лет. Затем, вскоре после 700 г. до н. э., когда рукав Имбраса затопил окрестности, на этом месте был возведен первый храм — Гекатомпедон, названный так потому, что имел сто (самосских) футов в длину (ширина его составляла двадцать футов). Поистине эпохальная величина храма потребовала зодческих новшеств: внутри для поддержания брусчатой крыши были водружены деревянные столбы; кроме того, вокруг здания выросли стройные колонны, покоившиеся на прямоугольных каменных базах. Эта узкая колоннада явилась предтечей позднейших самостоятельных портиков — стой (отоой).
Однако ок. 660 г. до н. э. и это святилище погибло во втором, более мощном, наводнении, и возник новый Герей-он — еще больше прежнего. Насколько известно, это был первый храм с двойным рядом колонн по фасаду. В эту пору в святилище появилось множество египетских и прочих восточных вотивных бронзовых предметов; местные, самосские мастера-бронзовщики, по-видимому, тоже не отставали. Особенно заметное место среди посвятительных даров занимали монументальные бронзовые котлы; для некоторых ручками служили изображения грифонов, отлитые в перенятой у египтян технике вытопленного воска. С Самоса происходит и замечательная скульптурная группа из дерева ок. 625/600 г. до н. э., изображающая Зевса и Геру (ныне фигуры разделены). Другим важным искусством, процветавшим на острове, была резьба по слоновой кости. Кость, должно быть, привозилась из Сирии, и из рук резчиков выходили изящные статуэтки. Особенно знаменита фигурка коленопреклоненного юноши.
Но на Самосе создавали и превосходные крупномасштабные мраморные скульптуры. Таково женское изваяние, которое ок. 575/570 г. до н. э. посвятил Гере некий Херамий. Эта сверхъестественно высокая статуя косвенно обязана своей цилиндрической формой месопотамским образцам. Но чувствуется в ней и более прямое влияние миниатюрных статуэток слоновой кости, уже упоминавшихся выше; вместе с тем в ней, как и в других самосских статуях той же поры, уже явно осознана потенциальная мощь и одновременно тонкость, заложенные в крупномасштабном произведении. Это сказалось, например, в трактовке складок одежды, словно облепившей тело. Для Восточной Греции в целом было характерно такое внимание к художественной передаче поверхностей, тогда как скульпторов в Балканской Греции больше занимали общие композиционные задачи. Кроме того, мастера, изваявшие кору Херамия, подобно другим самосцам, создававшим куро. сов для могильников и святилищ, не похожи на других художников, производивших подобные же статуи на Наксосе в Средней Эгеиде (раздел 5, ниже): они отказались от той уь ловатой строгости линий, которой придерживались наксосцы. Тем не менее найденная в Афинах мраморная кора (относящаяся к несколько более позднему периоду) свидетельствует о живом взаимодействии этих двух островных школ: у изваяния типично наксосское лицо и типично самосское одеяние.
Самосский Герейон, построенный ок. 660 г. до н. э., весьма стимулировал развитие скульптуры на этой ранней стадии, но сам просуществовал недолго. Спустя сто лет (почти ровно) после возведения Герейона на его месте был сооружен другой храм, величиной 88,5 м на 45,8 м; к нему была проложена величественная Священная дорога, по бокам которой красовались статуи. Новое святилище представляло собой неслыханно пышное здание, где впервые (насколько известно) были соединены боковые завитки (волюты) на капители ионической колонны, благополучно пережившей несколько видоизменений. Согласно традиции, храм построили зодчие Рэк и Феодор, считавшийся его сыном (что идет вразрез с предлагавшейся более ранней хронологией; рассказывали, будто младший из них сделал печатное кольцо для Поликрата [см. ниже], то есть после 540 г. до н. э.)22. Новый храм был возведен из пороса (известняка); отныне его окружала колоннада не с одним, а с двумя рядами колонн. Обнаруженный в ходе раскопок слой разбитой черепицы говорит о том, что по крайней мере часть внутренних помещений была крытой; а целый лес внутренних колонн, на котором держалась эта крыша, заслужил святилищу прозвание «лабиринта».
Тем же Рэку с Феодором ставили в заслугу то, что они распространили технику вытопленного воска (то есть отливки статуй по восковой модели) на создание крупномасштабных фигур. Это позволило мастерам-бронзовщикам, наравне с камнерезами, ваять статуи в натуральную величину, что произвело переворот в греческой скульптуре. Ибо в этом искусстве бронза, позволявшая изображать человеческие фигуры со свободными руками, ценилась выше мрамора. Именно в VI веке до н. э. (ок. 570–540 гг. до н. э.), при Рэке и Феодоре, самосская школа ваяния, начав создавать бронзовых куросов и кор, достигла своих художественных вершин. Судя по одному замечанию у Диодора Сицилийского, Феодор, возможно, узнал от египтян о пропорциях человеческого тела, — хотя такое толкование текста и встречало возражения23. На Самосе продолжали делать прекрасные мраморные статуи, фигурки и рельефы из слоновой кости, причем о них нам известно несколько больше, так как они, в отличие от бронзовых изваяний, не исчезали бесследно.
Приблизительно в ту же пору самосский поэт Асий писал об оживленных сборищах в Герейоне, радовавших глаз многоцветьем: во дни процветания острова юноши из богатых землевладельческих семей славились своим пристрастием к ярким и красивым одеждам24.
По окончании самодержавного правления диктатора Демотеля, ок. 600 г. до н. э. самосская аристократия на короткое время вновь обрела главенствующую роль; к той поре, несомненно, богатство уже вступило в соперничество со знатным происхождением. Однако ок. 540 г. до н. э. аристократическое правительство было низвергнуто Поликратом — хотя возможно, что ему лишь досталось завоеванное предшественником или отцом, совершившим диктаторский переворот. Как бы то ни было, с помощью двух своих братьев Поликрат пришел к власти. Но вскоре, убив одного из них (Пантагнота) и изгнав другого (Силосона), он превратился в единоличного диктатора. Со временем он стал могущественнейшим государем, и о великолепии его двора ходили легенды.
Поликрат «одолжил» наемников у другого самодержца, Лигдамида Наксосского, а у себя на Самосе завербовал отряд из тысячи лучников. Он снарядил флот, куда входило сто пентеконтер и сорок триер (кораблей коринфского типа, которые он значительно усовершенствовал и, должно быть, первым нашел им столь широкое применение). С помощью этого флота он принялся с неслыханным размахом совершать ожесточенные — даже пиратские, по словам его недругов, — морские походы, стремясь превзойти мощью Милетское государство (уже попавшее под власть персов), которому, как и Ми-тилене, пришлось вынести нелегкое сражение с Поликратом. Как заметил Геродот, он первым из греков «задумал стать владыкой на море»25 — и превратил Самос в сильнейшее из греческих морских государств своей эпохи. Он осознал, что при умелом применении такой флот поможет ему устоять против нападения крупнейших ближневосточных сухопутных держав. Таким образом, Поликрату удавалось удерживать времен нов равновесие между своими могучими соседями — Персией и Египтом.
Так, Амасис Египетский (как и его соседи из греческой Кирены) был только рад заключить с Поликратом союз. Но впоследствии фараон расторг эту дружбу, и вскоре после того, как власть унаследовал другой египетский правитель, Псам-метих III (525 г. до н. э.), — Поликрат выслал в помощь персидскому царю Камбису, шедшему войной на Египет, (военный отряд (набранный из неугодных самосцев, от кото- | рых Поликрат желал избавиться). Оказав поддержку Камбису, они вернулись домой и напали на самого Поликрата, но попытка их провалилась, несмотря на помощь коринфян и спартанцев. Рассказывали, будто Поликрат подкупил спартанцев, одарив их фальшивыми монетами из позолоченного свинца. Правдива ли такая подробность или нет, — это столкновение, видимо, положило конец торговым отношениям между Самосом и Спартой.
Между тем Поликрат поглядывал и в другие стороны. Ок. 525 г. до н. э. он присвоил Сифнос, завладев его богатыми серебряными рудниками, и захватил еще один остров — Ренею, что рядом с Делосом, — посвятив ее Аполлону Делос-скому. Он намеревался взять под контроль Делосские празднества и тем добиться главенства над греками-ионийцами.
Поликрат позаботился и о сельском хозяйстве, ввезя на Самос милетских овец и прочий скот для пополнения местных стад. Укрепленный дворец Поликрата стоял на акрополе I (доисторическая Астипалея), возвышавшемся над городом. Дворец не сохранился, зато у вершинной точки восхождения | была откопана сидячая статуя Поликратова деда (?) Эака. Город с портом опоясывала стена, относящаяся к тому же периоду; древний мол (400 м в длину и 35 м в ширину), которым завершалась стена, и поныне служит фундаментом современного мола.
Самосцы с толком использовали для повседневных нужд разные научные и технические новшества (хотя грекам в целом это было не очень свойственно). Так, они сумели подвести воду из источника к гавани, проложив тоннель длиной в 1038 м. Этот шедевр античного инженерного дела и топографии был задуман и выполнен в окончательном виде (хотя его строительство могло начаться раньше) Эвпалином Мегарским, состоявшим на службе у Поликрата. Он работал настолько хорошо, что даже спустя сто лет слыл величайшим во всей Греции мастером в этой области. Кроме того, когда
Герейон Рэка и Феодора был разрушен пожаром — возможно, ок. 530 г. до н. э. (или 520 г.? до н. э.), — по-видимому, именно Поликрат (может быть, еще раз заручившись помощью Рэка) решил восстановить храм. Восстановление было начато с небывалым размахом, в котором проглядывала явная мания величия, — столь небывалым, что работа велась в течение многих веков, но так и не была завершена. Новый Герейон превзошел величиной даже эфесский Артемисион: в нем было 343 м в длину и 17,4 м в ширину. Он стоял на приподнятой площадке, снаружи тянулись двойные колоннады из двадцати четырех колонн, а ряды внутренних колонн делили пространство храма на три нефа. И это был лишь один из множества роскошных даров, преподнесенных Самосу Поликратом за счет многих других городов. Не позабыл он и о домах разврата, взяв за образец устройство подобных заведений в Сардах, лидийской столице.
Ок. 531 г. до н. э. культурному тщеславию Поликрата был нанесен ощутимый удар, когда самый выдающийся (и самый необычный) из всех самосских мыслителей, Пифагор, покинул остров — возможно, не желая жить при диктаторском правлении, — и переселился в Кротон, город в Южной Италии (Глава VII, раздел 2). Правда, Поликрату удалось переманить к своему двору двух славных поэтов — Анакреонта из Теоса, что в Ионии, и Ивика из Регия в Южной Италии. Анакреонта тиран вызвал к себе из Абдер — города во Фракии, в основании которого тот принимал участие с другими теосцами, — для обучения Поликратова сына музыке. Анакреонт, лирический поэт нового склада — уже не связанный географически с родными местами, скорее странствующий «профессионал», — одновременно ознаменовал конец эпохи, будучи последним значительным сочинителем и исполнителем монодийной (сольной) лирики.
Анакреонт оставил три группы стихов — лирических, элегических и ямбических, — дошедшие до нас лишь во фрагментах. С легким, чуть отрешенным изяществом, усугубляемым рискованными образами и неожиданными поворотами мысли, он создает в своих стихах самые пестрые картины. Сюжеты их разнообразны (когда нужно — в меру возвышенны), но чаще всего в них предстает изысканный «сладостногорький» мир бисексуальных любовных отношений. Мастерство Анакреонта в изображении подобных тем и заслужило ему непревзойденную славу поэта любви, вина и песни. Поэтому его стихам подражали другие безымянные поэты-«анакреонтики» в течение еще трех с лишним веков после ею смерти. Кроме того, поэзия Анакреонта повлияла на метрическую форму и на предметное содержание позднейшей афинской трагедии.
Ивик, чья поэзия носила преимущественно хоровой характер — являя собой продолжение героической повествовательной традиции, заложенной Стесихором Гимерским (Глава VII, раздел 4), — отказался стать диктатором своего родного города Регия и предпочел отправиться в изгнание, выбрав остров Самос. Одно из его блестящих стихотворений воздает хвалу некоему юноше Поликрату — вероятно, сыну самосского властителя. Этот ранний пример жанра энкомия (хвалебной оды, как правило, обращенной к победителю) был истолкован как метафорическое прощание Ивика со своими ранними повествовательными стихами и обращение к любовной тематике, особенно нравившейся самосцам. Несомненно, им нравился и стиль Ивика — более вычурный, чем у Анакреонта, но одновременно более непосредственный, цветистый и страстный, — в котором выдержаны его любовные стихотворения. Кроме любви, он писал о птицах и цветах, о приближении старости.
Поликрат считал, что Орет, персидский сатрап в Сардах, поможет ему создать морскую державу, поэтому когда Орет сообщил ему — быть может, с коварным умыслом, — что задумал заговор против собственного владыки, царя Камбиса (ок. 522 г. до н. э), — Поликрат позволил заманить себя ко двору сатрапа. Но там его схватили, предали мучениям и казнили, а тело выставили на обозрение на кресте: словно персы предвкушали будущие расправы над греками, которые не внушали — или перестали внушать — им доверия.
Затем на Самосе недолгое время правил диктатор Меанд-рий, ранее состоявший при Поликрате казначеем и помощником. Меандрий, насколько известно, был первым властителем, провозгласившим исономию («равенство в правах») — впоследствии весьма распространенный демократический лозунг; он также учредил культ Зевса Элевтерия (Освободителя) — чтобы отпраздновать конец Поликратова режима. Преследуя ту же политику «просвещенного правления», он призвал самосцев проверить счета, которые он вел, будучи распорядителем казны на службе у своего предшественника. Однако те граждане, которые неосмотрительно откликнулись на этот призыв, были схвачены братом Меандрия и казнены.
В 517 г. до н. э. персидский сатрап, встревоженный подобными странностями нового диктатора, посадил на место Ме-андрия изгнанника Силосона, Поли кратова брата. Меандрий покинул остров и перебрался в Спарту, оставив войско своих наемников сражаться с персами. Кончилось это кровавой резней среди населения, в которой самосцы винили Силосона.
По приказу персов остров был заново заселен вольноотпущенниками. Самосский инженер Мандрокл навел для Дария I Персидского мост через Боспор Фракийский (ок. 513 г. до н. э.). Но спустя примерно четырнадцать лет Самос примкнул к Ионийскому восстанию против персов. Правда, в сражении при Ладе (495 г. до н. э.) большинство самосских кораблей предали мятежников и обратились в бегство.
Глава 2. ИОНИЯ: МИЛЕТ
Милет был самым южным из материковых городов Ионии и располагался неподалеку от ее границы с Карией (примечание 17). Эта «жемчужина Ионии», — как называл Милет Геродот, — в древности лежала в плодородной долине, в устье Меандра, теперь же город удален от моря на 8 км. По преданию, Милет основал герой Троянской войны Сарпедон из Милата (Маллии) на Крите (или из Ликии на южном побережье Малой Азии). Такое предание отчасти подтверждается археологическими данными: здесь было раскопано несколько слоев, соответствующих поселениям бронзового века. По-видимому, их расцвет пришелся на закатные фазы микенской эпохи, а разрушение городских стен последовало ок 1200 г. до н. э.
Милет — единственное место на ионийском побережье, упомянутое в гомеровских поэмах, причем его жителями Гомер называет карийцев27. Согласно позднейшим греческим авторам, в шестом поколении после падения Трои, они уступили город ионийцам во главе с Нелеем, сыном афинского царя Кодра. Появление ионийских переселенцев в Милете — вероятно, до 1050 г. до н. э., — подтверждается данными раскопок. Среди пришельцев сохранялось традиционное деление на четыре ионийские филы, но к ним прибавились две новые филы. Вероятно, туда вошли различные представители карийского населения, ибо оно продолжало здесь жить, судя по преданию о том, что ионийцы брали себе невест среди карийцев. Вместе с тем пришельцы необычайно гордились и своим героическим прошлым: династия монархов Нелеидов возводила свой род к гомеровским героям и богам. Надо полагать, они относились весьма благосклонно к Арктину — милетскому поэту-киклику, сочинявшему проникнутые ностальгией эпические поэмы о разграблении Трои и других подобных событиях. Но в должный черед на смену монархии Нелеидов пришло правление аристократической клики.
Милет обычно считается древнейшим ионийским поселением. Самый ранний греческий город простирался здесь к северу от высокого холма Калабак-Тепе до Львиной бухты (одной из четырех естественных гаваней в окрестностях). Средоточием города был храм Афины, возле которого был обнаружен низкий овальный алтарь VIII века до н. э. (самый древний из найденных в Малой Азии). Но милетяне посматривали и в глубь страны: их владения продвинулись выше по течению Меандра еще на тридцать — пятьдесят километров, до того места, где начинались холмы. В этих смежных низинах правящая знать богатела, разводя породистых милетских овец. Их шерсть, которую помогали стричь фригийские и лидийские невольники, слыла лучшей во всем греческом мире; ее вывозили даже в самые дальние края, в частности, в Сибарис в Южной Италии.
Однако этим милетским владениям, ограниченным горными пределами, угрожали появление киммерийцев и подъем Лидийского царства (Приложение 1). К тому же они превратились в источник внутренних общественных раздоров, так как земли сосредоточивались в руках немногочисленной владетельной знати, а это вызывало недовольство тех представителей зарождающегося торгового сословия, которые были лишены собственных наделов. Выходом из этого положения стало выдающееся явление в истории Милета — а именно главенствующая роль, которую сыграл этот город в основании греческих колоний в отдаленных краях.
Областями, на которых сосредоточились эти решительные и отважные моряки и купцы, сплотившись с выходцами из других государств (так как им требовалась дополнительная сила и дополнительные средства для основания колоний), были смежные земли вокруг Пропонтиды (Мраморного моря) и Черного моря. Они стремились завладеть неистощимыми запасами хлеба, имевшегося в землях нынешней южной России, а также наладить ловлю тунца, ежегодно мигрировавшего отсюда в Средиземное море. С этой целью им предстояло миновать два северо-восточных пролива — Геллеспонт (Дарданеллы) и Боспор Фракийский (Босфор). С _ точки зрения тогдашнего мореплавания, это было весьма опасное предприятие. Но вскоре милетские моряки обнаружили, что, если плыть вдоль берега, можно попасть в зону попутных юго-восточных бризов и благоприятных водоворотов среди течений, — и что даже летом, когда преобладают северные ветры, корабль может пройти с ночным бризом, дующим в обоих проливах; затем же, когда наступает пора возвращаться, северные ветры вновь благополучно доставляют судно домой.
В этих землях, окружавших Геллеспонт, Пропонтиду и Понт Эвксинский (Черное море), милетяне основали немало колоний, общее число которых называли и тридцать, и сто. Возможно, последняя цифра была недалека от истины, коль скоро в этот перечень попадали колонии, основанные «спутниками» Милета28. Иными словами, на долгое время Черное море и подступы к нему практически превратились в милетский «заповедник». В причерноморских центрах — таких, например, как Ольвия, — вероятно, златокузнецы из Милета выполняли для скифов роскошные золотые украшения (Приложение 2).
Вдобавок, несмотря на постоянное соперничество с Самосом, Милет сыграл важную роль в освоении греками Египта: во время правления Псамметиха I (ок. 664–610 гг. до н. э.) милетяне отправили в Египет тридцать кораблей, чтобы основать Милетскую крепость (ок. 650 г. до н. э., в каком-то еще не установленном месте, возле Больбитского рукава Нильской дельты), а позднее поднялись вверх по течению и помогли сокрушить узурпатора Инара. Милетянам принадлежала главная роль и в основании греческого торгового центра Навкратиса (Глава VII, раздел 4), где они построили храм Аполлона.
Возможно, на подобные смелые дерзания отваживались прежде всего безземельные граждане Милета, которым не терпелось попытать счастья на чужбине. Однако и верхушка городской знати — богатые землевладельцы — не желали от них отставать. Напротив, учредив особый правительственный совет, получивший название Аэйнавтов ((Зсегхххбтоа — «Вечных моряков»)2^, они стремились извлечь наибольшую выгоду из заморских предприятий города. Вместе с тем им удалось повсюду прославиться неподкупной, суровой честностью в тор-говьгх сделках, хотя между высшими чинами в этом совете и менее привилегированными гражданами постоянно происхо-дили усобицы, которые слишком часто выливались в жесто-кие расправы.
Милет также опекал святилище Аполлона в Дидимах, или Бранхидах, на горном плато в 16 км к югу от города. Оно находилось в ведении (сначала политическом, но затем лишь строго религиозном) жреческого рода Бранхидов, которые возводили свое происхождение к Бранху — карийскому юноше, возлюбленному Аполлона. Сохранились записи о том, что в доисторические времена здешнее прорицалище находилось у источника, посвященного местной богине. Воздвигнутый позднее храм Аполлона, где была найдена керамика VII века до н. э., пользовался огромной славой в греческом мире.
Это священное место стало одним из ценнейших достояний Фрасибула, который ок. 600 г. до н. э. установил в Милете свою самодержавную власть и превратил диктаторское правление в подлинное изящное искусство. Он завел дружбу с Периандром, тираном Коринфа. (Рассказывали, будто Фра-сибул посоветовал ему, прибегнув к притче, «сбивать самые высокие колосья», — хотя, по другой версии, он сам получил такой совет от Периандра.)30
Кроме того, союзником Фрасибула был и египетский фараон Нехо II, принесший посвятительный дар в Дидимы. Но милетскому диктатору пришлось долгое время защищать свой город от другого восточного государства — Лидии. Основатель Лидийского царства Гиг раньше уже нападал на Милет, но он же невольно сослужил ему службу, сокрушив Колофон — город, соперничавший с Милетом и прежде являвшийся сильнейшей державой Ионии31. Ардис и Садиатт — позднейшие лидийские цари — относились к Милету не менее враждебно. Вот и теперь Фрасибулу выпало двенадцать лет кряду терпеть истребление посевов, пока Алиатт, очередной лидийский монарх, осаждал стены Милета. Но милетяне были достаточно богаты и сильны, чтобы выжить; в конце концов они заключили мир с лидийским владыкой, и в их отношениях воцарилось спокойствие.
В эту пору Милет уже вполне мог считаться могущественнейшим полисом. Вероятно, именно через него в греческие земли проник обычай чеканить деньги, так как вполне возможно, что приписываемые этому городу монеты из электра (бледного золота) с изображением льва с повернутой назад головой были древнейшими из всех греческих монет. Они выпускались со времен Фрасибула и были созданы по образцу самых ранних в мире монет, которые незадолго до этого лидийцы стали чеканить в своей столице, Сардах (Приложение 1). Очевидно, милетский весовой стандарт основывался на старом «эвбейском» медном таланте, занесенном сюда ионийцами и эолийцами в ходе переселений; 3600 новых серебряных сиклей, или сиглов (σιγλοι), составляли один талант.
Однако общественные разногласия привели к падению Фрасибулова правления, и заново вспыхнули старые усобицы, которым было суждено раздирать город на протяжении жизни двух поколений. Не считая двух рецидивов тирании при Фо-анте и Дамасеноре, враждующие лагеря возглавляли крайние политические противники: «Вечные моряки», или партия Богатства (Πλούτος), и партия Кулачного боя (Χεφομαχια), или Труда. Для разрешения спора милетяне обратились к парос-цам в качестве третейских судей, и те высказались за компромисс — умеренно олигархическое правительство. Но вскоре оказалось, что это правительство не в силах противостоять лидийскому царю Крезу, фактически подчинившему себе Милет (560–546 гг. до н. э.). Однако и под властью этого монарха Милет по-прежнему пользовался привилегированным положением: Крез приносил дары в Дидимы и, возможно, даже помогал восстанавливать храм. Такое дружелюбие говорило о том, что Милет, переживавший небывалый расцвет, каким-то чудом избежал гнетущего лидийского засилья. Тем не менее он отказался заключить с Крезом официальный союз, — будто бы по совету своего славного гражданина Фалеса.
Фалес был мыслителем, которого позднее назвали первым из философов-досократиков; его же обычно чтили как основателя науки о природе (будущей «физики»). Поэтому он был причислен к «семи мудрецам». Но Фалес не оставил никаких сочинений, и если не считать обширных анекдотических материалов, о его жизни и учении мало что известно. Род его возводили к финикийцам; возможно, это говорит о том, что его предки явились из беотийских Фив, где в эпоху бронзы, по преданию, правила династия финикийца Кадма (считалось, что среди ранних переселенцев-ионийцев были и «кад-мейцы»). Однако имя Фалесова отца — Эксамий — имеет карийское происхождение. Скорее всего, у его семьи были I смешанные предки; при этом утверждали, что Фалес принадлежал к знатному греческому роду Фелидов.
Рассказывали, что он изрядно разбогател, предугадав большой урожай оливок и загодя скупив все маслодавильни в I Милете. Фалесу приписывалась и необычайная мудрость в государственных делах: передавали, что он убеждал ионийские города объединиться и учредить союзную столицу с единым булевтерием в Теосе. Но его совету не вняли, так что впоследствии ионийские полисы не сумели сплотиться и отстоять свою независимость.
Рассказ о путешествии Фалеса в Египет, даже если недостоверен, то вполне правдоподобен: ведь в этой стране ежегодные разливы Нила, оставлявшие плодоносный ил, стимулировали научные поиски, — а милетянам, как мы уже говорили, принадлежала немалая доля торговли в Навкратисе. Ряд историй, связанных с именем Фалеса, свидетельствует о его интересе к Египту. Однако предположение, будто именно он первым занес из этой страны в Грецию геометрию — всего лишь неоправданный вывод из того обстоятельства, что Фалес — самый ранний из известных нам греческих геометров. При этом утверждение о том, что именно он разработал аксиоматическую геометрию, отдает явным анахронизмом, так как его привлекали главным образом вопросы измерения (считалось, что он вычислил высоту пирамиды по ее тени).
Практические познания Фалеса в астрономии вызывали восхищение его младшего современника Ксенофана, хотя не следует доверять мнению, что Фалес предсказал солнечное затмение (в 585 г. до н. э.), — и даже если такое произошло, это была лишь удачная догадка, вероятно, основанная на вавилонских записях в Сардах. Его интерес к астрономии, как и к геометрии, объяснялся довольно приземленными нуждами — в частности, стремлением установить ориентиры для мореплавателей. Говорили также, что Фалес открыл времена года.
Что касается Фалесовой космогонии (учения о первопричинах мира), то представляется разумным принять точку зрения, изложенную Аристотелем, а именно — что Фалес считал тем, из чего все происходит (и во что все должно обратиться), воду32, видя в ней первооснову всего сущего, ибо вода пребывает повсюду и проникает во все33. Несмотря на явную произвольность такого суждения и на его обусловленность ненаучными ближневосточными представлениями о том, будто Земля плавает по морю (подобные учения существовали, например, в Вавилонии; но, быть может, здесь сказалось влияние некоего подлинного египетского источника), — сама простота Фалесова убеждения (вопреки видимости), что в физическом мире должно быть некое связующее начало, ознаменовала отказ от чрезмерно сложных раннегреческих космогоний — например, Гесиодовой (Глава IV, раздел 4), и прорыв к новой, плодотворной эпохе в греческой мысли.
Общие понятия в ходе развития языка появляются последними, но Фалес уже разглядел их, начал задавать о них вопросы и искать разумных ответов на эти вопросы. Иными словами, при том, что его интерес носил прикладной характер, он был способен стремиться к познанию как таковому, сопрягая отвлеченные рассуждения со зрительными и умственными наблюдениями. Кроме того, утверждение Фалеса о том, что, раз первостихия воды вечна и божественна, то «все полно богов»34, — отнюдь не было таким богословским и ненаучным, как казалось, ибо это утверждение открывало совершенно новый путь: оно подразумевало, что никакого различия между естественным и сверхъестественным в действительности не существует. Если следовать такому ходу мысли (развив ее чуть дальше), то можно сказать, что немифологическое, безличное толкование мира уже начало проникать в сферу возможного. А лежавший в основе этого толкования монизм впервые позволил прийти к выводу, что совокупность вещей составляет космос (κόσμος) — упорядоченную систему, которой управляют постижимые законы.
Анаксимандр родился в Милете примерно в 610 г. до н. э. и умер после 546 г. до н. э. Таким образом, он был почти современником Фалеса, хотя традиция (быть может, верно) называла последнего его учителем. Роль Анаксимандра в основании Аполлонии Понтийской — милетской колонии в Причерноморье — отражала типичное для ионийца участие в политической жизни. В то же время он сознавал свою мудрость и, чтобы выделиться среди толпы, надевал роскошные одежды.
Как и Фалес, Анаксимандр искал первопричину всего сущего в мире. Он пришел к выводу, что эту архэ (άρχή) — что означает не просто первооснову, но и собственно начало (возможно, Фалес этим понятием не пользовался), — лучше всего назвать άπειρον — безграничным или пространственно бесконечным (а точнее, неопределенным). Это была «бездонная глубина» древних ближневосточных мыслителей (как «безначальные огни», в коих пребывал иранский бог Ахура. мазда). Несмотря на восточные отголоски, Анаксимандр, рас-суждая в подобном ключе, на самом деле продвинулся на шаг дальше Фалеса в попытке найти для мира логическое объяснение. Его апейрон явился порождением чистого рассудка, противопоставленного простому наблюдению, так как апейрон — это нечто, наблюдению не доступное. Анаксимандр I считал, что это беспредельное пронизывает весь мир и уп- К равляет им и что оно предшествовало всем иным формам К существования. Ибо оно «вечное и нестареющее» — или, за- I имствуя выражение Фалеса, божественное, сопредельное богам, — хотя в устах Анаксимандра, в связи с антибогослов- I ским характером его взглядов, облеченное в такую форму определение многим позднейшим грекам казалось безбожным.
Итак, Анаксимавдр опроверг Фалесово суждение о том, I что первоосновой сущего является вода (или любое другое I определимое вещество). Однако он соглашался, что из воды I некогда появилась земля. Такая гипотеза позволила ему при- I влечь результаты эмпирических наблюдений и создать некую I попытку теоретической биологии: поднявшись до неслыханно I смелого толкования, он заявил, что высшие формы жизни I произошли от низших. А именно, люди — вначале существа I наподобие рыб, обитавшие в воде, — сбросили чешую и I вышли на сушу, а затем освоились в этой новой для них земной среде.
Далее Анаксимандр рассуждал, что бесчисленные космосы, образующие огромную беспредельную природу, состоят из парных враждебных противоположностей: сухого и влажного, горячего и холодного. И эти враждующие порождения безграничной первоматерии, по его словам, «выплачивают друг другу правозаконное возмещение»35. Согласно такому утверждению, время выступает своего рода судьей, взыскивающим долги с различных стихий мира за нанесенный ими взаимный ущерб. Так, здесь ясно обозначился сдвиг от древних представлений о безвластном и переменчивом мире к мысли о том, что над миром властвует четкий закон. Неважно, существуют боги или нет, — впервые появилась космогония, оторванная от теогонии.
Анаксимандр рассуждал, что Солнце и Луна состоят из огня и заключены в оболочку пара; они проходят под Землей, вращаясь по окружностям. Он утверждал, что Солнце есть огненное устье, или отверстие, в облаке пара, величиной равное Земле, — еще один вывод, обогнавший эпоху, ибо и в течение последующего столетия греки продолжали считать, что Солнце гораздо меньше Земли. Рассказывали также, что Анаксимандр соорудил некий механизм из колес, вращавшихся с разной скоростью, изображая движение звезд и планет. Однако неясно, вправду ли он сделал такую модель; скорее всего, он исчислил эти движения с помощью другого изобретенного им инструмента — циферблата, или гномона. Он также был первым человеком, начертившим карту мира. Его карта представляла собой схему, представлявшую поверхность Земли в виде диска в центре вселенной, стоящего на вершине колонны, свободно подвешенной в пространстве.
Это был шаг вперед по сравнению с Фалесовым представлением о плоской Земле, покоящейся на воде. Поэтому даже высказывалось мнение, что именно Анаксимандра, а не Фалеса, следует рассматривать как первого в мире настоящего философа. К тому же его сочинение О природе (ок. 550 г. до н. э., или чуть раньше; до нас дошли лишь его фрагменты), по-видимому, стало первым философским трактатом, когда-либо написанным в прозе. Оно ознаменовало освобождение от ненаучных представлений, укорененных в ионийских и гесиодовских эпических поэмах. Надо полагать, трактат Анаксимандра, посвященный новым задачам анализа и категоризации, явился первым опытом, в котором соединились научный поиск и интуитивное прозрение, оказавшиеся необычайно смелыми и преждевременными для той эпохи.
Согласно позднейшей традиции, не поддающейся проверке, Анаксимен был слушателем Анаксимандра. Так или иначе, он был моложе: родился после 600 г. до н. э. и умер в 528/525 г. до н. э. Он тоже написал прозаический философский трактат, от которого, опять-таки, сохранились лишь фрагменты.
На первый взгляд его астрономическая система кажется более отсталой, чем воззрения его старшего современника, потому что он возвращается к старинным вавилонским представлениям о том, что Луна и Солнце ночью обходят вокруг Земли, на которую давит небесный свод. Отказался он и от Анаксимандрова понятия неопределимого единого первоначала, вернувшись к Фалесову мнению о том, что такой первоосновой должен быть некий определимый вещный элемент. Но далее он расходится с Фалесом, утверждая, что такой первостихией является не вода, а воздух (&тр). А чтобы определить это невидимое дыхание, объемлющее вселенную, он связывает с ним Анаксимандрово понятие бесконечного или беспредельного.
Тем, кто упрекает Анаксимена в отсталости, возражают другие: ведь скажи он не просто «воздух», а «разреженный водородный газ» — и он оказался бы недалеко от тех взглядов, что бытуют сегодня. Однако лучше всего можно понять силу и самобытность Анаксименова учения, если обратить внимание на то, что он выбрал именно ту субстанцию, чья способность к видоизменению устанавливается опытным путем: например, при перепадах температуры и влажности. Поняв это, он провозгласил, что все перемены сводятся к «сгущению и разрежению» 36: из первого рождаются ветер, облако, вода, земля и камень, а второе порождает огонь. Такая гипотеза нанесла новый ощутимый удар по мифологическим представлениям о космосе, ибо, исходя из наблюдаемых перемен, она давала разумное и естественное объяснение связи сущего с первоматерией и показывала, что можно искать толкование переменам в природе вселенной и мира, не прибегая к сверхъестественному. Но опять-таки, раз воздух бесконечен и неизмерим, его можно назвать и богом — или Богом, если угодно. Такое учение возмущало Цицерона, зато притягивало Блаженного Августина.
Согласно позднейшим греческим авторам (их свидетельствам можно с полным основанием довериться), Анаксимен даже человеческую душу, или пневму (луебца; здесь это слово встречается впервые, если не считать цитаты, вероятно, анахроничной, из Фалеса), рассматривал как часть того же воздуха. Такое воззрение легко понять, памятуя о том, что древние отождествляли воздух с дыханием, духом. Но в свете Анаксименова представления о воздухе как первооснове всего сущего, его взгляд на душу обозначил существенную связь между макрокосмом мира и вселенной — и микрокосмом отдельного человека. Собственно, его мысль могла двигаться и от микрокосма к макрокосму, так как, по-видимому, он приравнял человеческую душу к воздуху до того, как пришел к выводу, что воздух есть первоматерия вселенной.
Здесь имеется соответствие с учением Упанишад — сводом древнеиндийских прозаических и поэтических трактатов, исследующих природу божественного начала и смысл спасения. Ибо сходное учение в Упанишадах гласит, что некий вселенский ветер, или дух, есть жизнь-душа мира и в то же время — каждого человека в отдельности. То, что Анаксимену стали известны, прямо или косвенно, индийские верования, не должно вызывать особого удивления, ибо учение Упанишад во многом перекликалось с представлениями персов, говоривших на индоевропейском языке, — а об их влиянии на Анаксименова непосредственного предшественника, Анаксимандра, уже упоминалось. Приблизительно в ту же пору милетский поэт Фоки лид, продолжая и развивая общеизвестный дидактический стиль Гесиода, также уделил душе особое внимание, сделав упор на то, что человеческая добродетель есть добродетель нравственная, — и это утверждение стало важной вехой на пути к греческой нравственной философии Платона и бессчетного множества других мыслителей.
Так в Милете, впервые в истории, в центр внимания понемногу выдвинулся человек как мыслящая и чувствующая личность. И это была лишь одна из целого сонма наук, которые породила столь плодотворная пытливость ума и кипучая критика. Правда, несмотря на то, что основателями этих наук принято считать Фалеса, Анаксимандра и Анаксимена, — · настоящая пора для них еще не наступила; ибо во многом этих первых мыслителей отличала скорее любознательность, нежели ученость, и, при всех личных наблюдениях, они вынуждены были основывать свои догматичные и порой наивные заключения на скудных опытных данных. Между тем они проложили путь новому образу мышления, обозначив свою задачу: обнаружить, откуда произошел мир и из чего он состоит. Правда, их постоянные ссылки на богов и божественное начало говорят о том, что от богословского способа выражения еще нельзя было полностью отказаться. В то же время уже появились обезличенные понятия, употреблявшиеся отчасти в переносном смысле — указывавшие на вечность, бесконечность, вездесущность. Милетские мыслители настаивали на приложении постижимых разумом, непогрешимо правильных человеческих критериев ко всеобщим обстоятельствам природного существования, — и эта попытка, которую сделало возможной распространение грамоты, была названа (возможно, без преувеличения) заслугой греков, которая одна могла бы принести им славу.
Такой скачок был совершен отчасти благодаря широким контактам Милета с восточными цивилизациями. Процветание торговли и самоуверенность, порожденная этими контактами, предоставили милетянам необходимое время и досуг для того, чтобы излагать и прилюдно обсуждать свои смелые воззрения. И милетяне выводили четкий закон и порядок царящий в космосе, из сходных начал и первооснов, которые и принесли их городу такой громкий успех.
В конце VI века до н. э., или чуть позже, на новую широкую стезю греческого мышления ступил еще один милетянин — Гекатей. Он родился до 525 г. до н. э., а когда умер, неизвестно. Будучи двумя поколениями младше Анаксимена, он тоже оставил прозаические сочинения, написанные на ионийском наречии — как показывают сохранившиеся фрагменты, изящно и сильно.
Одно из двух приписываемых ему сочинений известно под разными названиями — Истории (στορίαι, то есть «исследования»), или Генеалогии, или Героологии («перечисления героев»). В нем было уделено по-новому критическое внимание мифам и легендам, от господства которых в объяснении природного мира и вселенной уже пытались избавиться Фалес, Анаксимандр и Анаксимен. Гекатей прослеживал происхождение главных милетских семейств (включая его собственное), которые числили среди своих предков героев и богов, вплоть до мифологической эпохи, обнаруживая в этих поисках любопытную смесь легковерия и разумной критики. Первое свойство, проявившееся в нелегкой попытке разумно упорядочить мифы в своего рода псевдоисторию — не отрицая их, а лишь стараясь выстроить в хронологической последовательности, — почти не вызывает удивления: ведь едва ли у Ге-катея имелся выбор, потому что историографии в ту пору в Греции еще не существовало. Но вместе с тем о своем твердом намерении освободиться от засилья мифографов, железной хваткой вцепившихся в глубокую старину, Гекатей заявляет в самом начале: «Я пишу это так, как мне представляется истинным, ибо рассказы эллинов многоразличны и смехотворны, как мне кажется»37.
Эта смелая попытка, несмотря на безнадежную методологию, прежде практически не имела себе равных. Так Гекатей стал одним из первых логографов (λογογράφοι) — повествователей, которые, используя семейные генеалогии, описывали разные земли и местные обычаи — ставя их в более широкий контекст и вводя дополнительный материал, — и таким образом наметили путь к записям-анналам и всему тому, чего в дальнейшем достигли историки в более общем и общепринятом смысле этого слова, — и первым из них — Геродот (сурово критиковавший Гекатея)38. И было вполне предсказуемо, что подобные «протоисторики» вначале окажутся ионийцами, потому что сама история явилась порождением и продолжением гомеровского ионийского эпоса.
Гекатей был не только провозвестником историографии, но и первым географом. К географии он обратился даже раньше Генеалогий, в своем Землеописании. От этого сочинения сохранилось около трехсот фрагментов, которые можно ему приписать (несмотря на сомнения, выражавшиеся как в новое время, так и в античности). Эти «путевые заметки» давали обзор стран и народов — сначала Европы, затем Азии (куда попала и Африка), с которыми путешественник может познакомиться, обходя побережья Средиземного и Черного морей; другие описания затрагивают и глубинные земли, доходя до Скифии и Индии. Унаследовав Анаксимандров интерес к таким всеохватным темам, он переиначил и улучшил карту своего предшественника (хотя и у него мир все еще делился на схематичные сегменты), а благодаря собственным путешествиям пополнил ее многочисленными замечаниями относительно местных нравов и обычаев, растительного и животного мира — причем уже не ради удобства мореплавателей, а просто в порядке дополнительных сведений. Хотя позднейшие авторитеты находили Гекатея излишне доверчивым, он, по-видимому, явился первым писателем, который увлекся топографией и преданиями различных городов греческого мира, и тем самым положил начало связному изучению человеческого общества.
После того как Креза победил Кир II Персидский (546 г. до н. э.), Милет оказался под властью персов. Сатрап Гарпаг благосклонно относился к городу, вновь навязывая местный диктаторский режим; а после того как в 517 г. до н. э. персы подавили мятеж самосцев (давних соперников Милета), его гражданам зажилось еще лучше. Их правитель, или «тиран», Гистией (наряду с прочими ионийскими аристократами) оказал персам помощь во время скифского похода (ок. 513–512 гг. до н. э.), за что его впоследствии наградили Миркин-ской крепостью, стоявшей у прибрежной дороги в восточной Фракии, возле устья Стримона, и сохранявшей контроль над рудниками в глубине страны.
Тем не менее Дарий усомнился в верности Гистиея и призвал его в Сузы. Там Гистией, пока его держали «почетным узником», стал замышлять Ионийское восстание. Другим заговорщиком был его зять Аристагор, наследовавший ему в Милете, но теперь попавший в беду. Отчасти это объяснялось прекращением милетской торговли шерстью в Сибарисе: в 510 г. до н. э. этот город был разрушен. К тому же совсем недавно Аристагор утратил благосклонность персидских властителей, поддержав поход на Наксос, оказавшийся безуспешным. И вот, чтобы порвать с Персией, он сложил с себя диктаторские полномочия в Милете, а взамен учредил сравнительно демократический порядок (исономию): таким шагом Аристагор надеялся завоевать народную поддержку. Затем он отправился за море, чтобы в Балканской Греции заручиться помощью для восстания, которое затевали они с Гистиеем. Отклик оказался не очень живым. Спарта вовсе отказалась помогать; Афины выслали двадцать кораблей — «начало всех бед для эллинов и варваров», как их назвал Геродот39; еще пять предоставила Эретрия.
Достигнув Малой Азии, союзные войска высадились на берег, продвинулись вглубь и внезапно напали на столицу персидской провинции, Сарды. После этого мятеж перекинулся и дальше, хотя афиняне удалились. Мнение Геродота о том, что вину за все восстание следует возложить на тщеславное самолюбие двух милетских вождей, не совсем верно. Его главными причинами послужили скорее хозяйственный упадок в Ионии, недовольство местными диктаторами и вербовка, которой требовала Персия. Как бы то ни было, ионийцы, проявив характерную греческую неспособность достичь должного единства, понесли ряд поражений, а Аристагор был убит, сражаясь с фракийцами близ Миркина. На завершающей стадии военных операций персидский флот, набранный из Финикии, с Кипра и из Египта, направил против Милета все силы, и в битве при Ладе (495 г. до н. э.), у побережья, одержал громкую победу, которой способствовало и бегство кораблей, одолженных мятежникам Самосом, извечным врагом милетян. На следующий год и сам Милет попал в руки персов; город подвергся разграблению, жители были перебиты, а уцелевшие — высланы. Дидимский храм был сожжен дотла.
Это эпохальное разрушение крупнейшего греческого города ознаменовало начавшийся закат политической власти в Ионии. Оно вызвало глубокое потрясение и в Афинах; там драматурга Фриниха оштрафовали за то, что он сочинил трагедию "Взятие Милета", затронувшую столь болезненную тему. Но, что оказалось важнее всего для ближайшего будущего, — это то, что участие Афин и Эретрии в восстании предоставило персам возможность нанести ответный удар. Греко-персидские войны были уже не за горами.
Глава 3. ИОНИЯ: ЭФЕС, СМИРНА, ФОКЕЯ
В древности город Эфес, окруженный плодовыми садами Ионии и господствовавший над обширной Колофонской равниной (примечание 30), стоял на южной стороне узкого устья Каистра. Из-за отсутствия приливов, которые вымывали русло, наносы отодвинули береговую линию далеко на запад; этот процесс начался еще в конце II тысячелетия до н. э.
В эпоху поздней бронзы Эфес был столицей небольшого карийского (догреческого) государства (примечание 17), сохранившего шаткое равновесие между самостоятельностью и подчинением хеттам (Приложение 1). Согласно греческим преданиям, основали город амазонки (Глава VIII, раздел 3); в то же время его жители возводили свое происхождение к колонистам-ионийцам, явившимся во главе с сыном афинского царя Кодра Андроклом, который будто бы изгнал населявших эти земли карийцев и лелегов. Возможно, древнейшие эфесские цари держали монархов соседних ионийских городов в некой квази-феодальной зависимости: быть может, это и навеяло Гомеру сходную картину взаимоотношений Агамемнона, царя Микен, с прочими греческими правителями. Вначале граждане Эфеса делились на традиционные четыре ионийские филы (Глава И, примечание 4), но впоследствии к ним добавились еще две филы, куда, вероятно, были допущены греки-переселенцы неионийского происхождения, чьи предки поселились здесь вслед за коренными обитателями.
Основанное ионийцами укрепленное поселение (со святилищем Аполлона) разместилось на склонах горы Пион (ныне Панайырдаг), в 1,1 км к западу от Артемисиона — славного на весь мир храма Артемиды. Ему предшествовало святилище анатолийской богини-матери и критской «владычицы зверей» (стоявшее на самом берегу, пока он не стал отступать в море).
Память об этом древнейшем божестве сохранилась и в греческом культе Артемиды, которая первоначально считалась богиней невозделанных полей и диких зверей. Поэтому ее культовую статую в Эфесе украшали рельефные изображения животных. В то же время эта любопытная застывшая архаизированная фигура с двадцатью четырьмя выпуклостями яйцевидной формы (которые позднее были истолкованы — вероятно, ошибочно, — как груди), ничуть не схожа с изящной и надменной охотницей позднейшей эпохи, и сохраняет восточное обличье. Эфес всегда умел сплавлять свои гречей кие (ионийские) черты с ближневосточными традициями.
В ходе раскопок здесь были обнаружены довольно ранние греческие постройки. Первая представляла собой алтарь, ко* торый, судя по предметам из золота и слоновой кости, найденным неподалеку (ныне они хранятся в Археологическом музее Стамбула), был сооружен ок. 700 г. до н. э. или чуть позже.
Монархов, вначале царивших в Эфесе, в свой черед вытеснило — как это чаще всего случалось и в других местах, — аристократическое правительство, которое возглавили Басили-ды — род, или несколько родов, царского происхождения. Басилиды разбогатели, введя подать на транзитные судовые грузы (ччхбАюу). Первые эфесские монеты из электра (бледного золота), на которых иногда выбито изображение пчелы — городская эмблема, — очевидно, относятся как раз к эпохе Ба-силидов, то есть к VII веку. (О спорном образце — см. примечание 50 к Главе I).
Эфесцы одержали военную победу над Магнесией — греческим городом у подножья Сипила в Лидии40. Но ок. 675–650 гг. до н. э. на побережье вторглись киммерийцы — негреческие племена, явившиеся из земель нынешней Южной России и разбившие последнего царя Фригии (Приложение 1), разрушили древний храм Артемиды Эфесской. О киммерийской угрозе говорится у эфесского поэта Каллина, который ввел в обиход элегический размер (возможно, позаимствовав его у фригийцев) и принял воинственно-увещевательный тон спартанца Тиртея, побуждая сограждан к действию. Единственный сравнительно длинный фрагмент, сохранившийся от его стихов, призывает сотрапезников взяться за оружие и встать на зищиту родины; отважного бойца поэт удостаивает сравнения с героем.
Ок. 600 г.(?) до н. э. правительство Басилидов было низложено Пифагором — членом их же рода, установившим свою диктаторскую власть. Были найдены статуэтки из слоновой кости, относящиеся к этому периоду; они являют продолжение ранних эфесских традиций и обнаруживают самобытный восточно-греческий стиль, все еще несущий азиатский отпечаток. Очевидно, Пифагор и восстановил храм Ар-темиды, обнеся пределы святилища стеной. Но так как Пифагор нещадно обирал богачей (надеясь тем заслужить народную признательность), его обвинили в попрании священных и светских законов. Дельфийский оракул не захотел его поддержать, и его тирания пала.
Затем, приблизительно в 560–550 гг. до н. э., началось (и продолжалось в течение десятилетий) возведение другого Артемисиона — огромного по тем временам сооружения. Считалось, что это было первое монументальное здание, построенное целиком из мрамора — не считая крыши и потолочных I балок из кедра (о других ранних сооружениях подобного же размаха — см. Сиракузы, Глава VII, раздел 3, и Керкира, Глава VIII, раздел 1). Из других греческих зданий новый Артемисион соперничал по величине с самосским Герейоном I (или даже превосходил его) и считался одним из «семи чудес I света». Строили храм Херсифрон и его сын Метаген — зодчие I из критского Кносса. Для работ был приглашен и Феодор с 1 Самоса, потому что требовался его совет относительно месторасположения возле Священной гавани. Дело в том, что оно было сильно заболочено (переменить же его нельзя было I в силу местных обрядовых традиций), а на Самосе с Герейоном обстояло примерно так же.
Статуя Артемиды стояла в центре святилища, под навесом с колоннами. Само здание было длинным и узким и, вероятно, не имело крыши. Хотя многие подробности до сих пор вызывают споры, совершенно очевидно, что внутри высилен целый лес колонн, напоминавший египетские и другие I ближневосточные храмы. Снаружи храм, вероятно, окружал | двойной ряд стройных желобчатых ионических колонн, а с | фасада к ним был пристроен третий ряд. За ними находился I вход во храм (лроуасх;), где имелось еще два ряда по четыре I колонны, которые уводили к главному святилищу. Поверх фасада, который венчали огромные раскрашенные ионические капители, держался мраморный архитрав невиданной ве-[личины.
Нижние барабаны фронтальных колонн были даром лидийского царя Креза, с которым у Эфеса давно сложились I дружеские отношения (сравнительно мало сказавшиеся на греческих государственных делах). Такая переориентация 1 внешней политики Эфеса отвечала и внутреннему переуст-[ройству, которое произошло в период диктаторского правле-| ния. Главная перемена состояла в упразднении старинного племенного строя и введении совершенно нового деления об-г щества. Так, вместо шести прежних племен, или фил (четырех традиционных ионийских и еще двух — для прочих гре-} ков), было создано пять новых фил. В одну из них входили «эфесцы», то есть представители всех шести бывших фил, ныне рассматривавшихся лишь как шесть «тысяч» (хгАлаатО^) в составе этой единой филы. В остальные четыре новые филь» вошли прочие греки различного происхождения, а также по. томки коренных жителей Малой Азии.
Возможно, в их числе были и карийцы. Ибо новый дик-татор Мелан, водворившийся в Эфесе, взял в жены дочь лидийского царя Алиатта; Крез же, в свою очередь, женился на дочери эфесского аристократа. В Артемисионе прислуживали лидийские жрицы, а щедрость Креза по отношению к храму говорила о том, что в прошлом святилище одалживало ему немалые деньги (или, напротив, о надежде на то, что такое произойдет в будущем). Тем не менее Крез оказывал тяжелое политическое давление на сына и преемника Мелана — Пиндара, которому удалось спасти Эфес от полного подчинения Лидии, лишь выполнив требование царя отречься от дикта-торс кой власти и уйти от дел.
После того как персы разрушили Лидийское царство, Дарий I (521–486 гг. до н. э.) построил Царскую дорогу, которая вела от Суз к эгейскому побережью, заканчиваясь в Эфесе. Это не только значительно расширило географические представления греков, но и позволило эфесским купцам получать большие партии восточных товаров (и особенно рабов) для доставки в другие края греческого мира.
В эту пору в Эфесе появляются еще два диктатора — Афи-нагор и Комас, ставленники Дария I. Это они изгнали эфесского поэта Гиппонакта, которому позже приписывали изобретение «хромого» ямбического размера, или холиамба, названного так из-за метрической перебивки: за пятью ямбическими стопами (краткий слог — долгий) в нем следовал спондей (долгий — долгий); считалось, что такой прерывистый размер особенно хорошо подходит для сатиры и пародии. Резкий на язык Гиппонакт, судя по сохранившимся фрагментам, писал много едких и бранных стихов, где яркими красками живописал свое жалкое положение нищего-изгнанника в Клазоменах — другом ионийском городе. Как представляется, его жалобы носят подлинный автобиографический характер, а не просто являются данью литературной условности. Гиппонакт обрушивался с руганью и на хиосского скульптора Бупала, с которым поспорил из-за женщины, — а не из-за того, что Бупал изваял карикатурное изображение поэта (как рассказывали позже).
В пору владычества Дария жил и мыслил выдающийся эфесский философ Гераклит; рассказывали, что он водил знакомство с персидским царем, но отказался от приглашения поселиться у него при дворе. Трактат, в который вошли философские учения Гераклита, был посвящен в храм Артемиды, после того как эти записи были собраны воедино. Но сделал это не он сам (ибо он никогда не записывал своих изречений), а, должно быть, кто-то из учеников. Позднее это сочинение стало известно под привычным названием О природе.
Вероятно, Гераклит родился вскоре после 550 г. до н. э., и расцвет его пришелся на конец века. Его отец Блосон принадлежал к бывшему царскому роду Басилидов (который все еще сохранял религиозную власть — в частности, жреческие полномочия в храме Артемиды), но сам Гераклит отрекся от наследственных привилегий в пользу брата. Будучи одиноким и мрачным по натуре, он сторонился людей, презирая их как сонливцев — подобных «обожравшемуся скоту», — и сетуя на то, что они ненавидят умнейших. Да и с собратьями-фи-лософами он чувствовал себя не уютнее: вместо того чтобы делиться с ними суждениями, он лишь заявлял: «Я искал самого себя»4.
И все же, его роднило с другим ионийцем — Анаксимандром Милетским (раздел 2, выше) — представление о движении во вселенной как о непрестанной череде перемен и замен, столкновений и трений («перевернутое соединение, как лука и лиры») между противоположностями («Война [По-лемос] — отец всех, царь всех»). Поэтому впоследствии Гераклиту приписывали изречение πάντα φεΐ («все течет, все меняется»): «дважды нельзя войти в одну и ту же реку»42. Такому утверждению яростно противились другие философы — прежде всего, его младший современник Парменид Элейский, считавший, что сущее неизменно (примечание 59 к Главе VII).
Вместе с тем Гераклит допускал и существование некоего высшего, всеобъемлющего единства, в котором все видимые противоречия сопряжены в единую гармонию (согласие), где царят равновесие, лад и мера. Он называл такое верховное единство Речью (Логосом — Λόγος), разумея то трансцендентное первоначало вселенной, что творит все сущее в мире и управляет всеми природными явлениями. Логос этот можно назвать и Богом: «Одно-единственное Мудрое [Существо] называться не желает и желает именем Зевса»4^. Милетские мыслители и ранее толковали божественное начало в таком символическом смысле, но Гераклит уже более решительно отождествил его с безличным, всеобщим жизненным процес. сом.
Этот Логос, соединяющий противоположности, принимает форму вечного огня, который заполняет небо, становится водой и землей, а вода и земля в свой черед обращаются в огонь, так что единство сохраняет постоянное тождество. Здесь Гераклит пошел дальше своих предшественников, Фалеса и Анаксимена, выдвигавших в качестве первоначала мира какую-то одну субстанцию — воду и воздух соответственно, — потому что он рассматривал огонь не просто как нечто, из чего сотворено все прочее, и даже не только как скрытую мощь вселенной и разрешение всех борений — «меру перемен», — а как сущность, тождественную самому Логосу.
К тому же Гераклит наделяет эту первостихию Умом (Γνώμη) и потому приписывает наибольшую мудрость людям, стоящим ближе всех к божественному огню, так как обладают «сухой душой». Ибо он постоянно размышлял (как Анаксимен до него, как Платон и многие другие — после него) о человеческой душе и ее связи с Мировой Душой. И подобно Анаксимену, он заимствовал этот интерес у персов и, косвенным образом, из индийских Упанишад. «Все человеческие законы, — утверждал Гераклит, — зависят от одного, божественного», — иными словами, миром правит единящий Логос. Из этого следовал передовой в общественном значении вывод: «Народ должен сражаться за попираемый закон, как за стену [города]»44.
Но важнейшее побуждение Гераклита — в том, чтобы постичь этот вселенский порядок: всякий должен уяснить для себя, как можно жить в ладу с мировым единством. Душа каждого из нас, говорит философ, будучи началом умственным, должна устремляться к этому, не выведывая все что только можно (или не в первую очередь), но прежде всего воспрянув от глухой лености, в коей погрязли наши умы. Эта леность, которая мешает человеку распознать истину, была свойственна (как он замечает с некоторой резкостью) и таким признанным столпам учености, как Гесиод, Пифагор, Гекатей и Ксенофан: они достигли многознания, но это не принесло им подлинного постижения вещей45.
Гераклит считал, что, научившись у самого себя, он вправе указывать путь остальным. Но эти его указания отнюдь не легки для восприятия и не самоочевидны. Резкий и властный тон, загадочный и чрезмерно парадоксальный характер дошедших до нас изречений, преисполненных потайных и многогранных смыслов, делают более чем объяснимым прозвище Темный (σκοτεινός), которое заслужил Гераклит. Неудивительно и то, что он остался непонят позднейшими греческими философами, — хотя и этой загадочной «темноте» не удается заслонить того обстоятельства, что Гераклит был одним из самобытнейших мыслителей. Да и сегодня его фигура вызывает интерес не у одних только историков и любителей античности.
Эфес не рвался примкнуть к Ионийскому восстанию против персов, но когда войска мятежников высадились в Корессе, близ города, некоторые эфесцы вызвались провести их в глубь страны, чтобы напасть на Сарды (498 г. до н. э.).
Однако после того, как произошло это нападение и мятежники удалились на побережье, персы настигли их неподалеку от Эфеса. А после сокрушительной морской битвы при Ладе (495 г. до н. э.) те хиосцы, что уцелели в сражении, были перебиты эфесцами, которые, по их заверениям, приняли их за морских разбойников. На деле же, едва ли они сожалели о том, что благодаря этой «ошибке» оказали такую услугу победителям-персам, к которым никогда не питали неприязни.
Смирна располагалась у залива, названного ее же именем, куда впадала река Герм. Когда-то древнейший город — Старая Смирна — стоял на скалистом мысе (совр. Хаджи-Мутсо) на северо-восточном берегу залива. Это поселение существовало со времен неолита, а среди его основателей, согласно греческим преданиям, были негреческие племена лелегов (примечание 17), амазонки (Глава VIII, раздел 3) и фригийский царь Тантал (Приложение 1).
В 1050/950 г. до н. э. (судя по найденной керамике) сюда явились греческие переселенцы: сперва эолийцы (большей частью, с Лесбоса — см. раздел 4, ниже), строившие овальные дома с соломенными кровлями, а потом (но не позднее X века) ионийцы (изгнанники из Колофона, города с другой, южной, стороны мыса — см. примечание 31), которые обосновались в Старой Смирне и заняли значительную ее часть. Позднее считалось, что эти ионийские пришельцы изгнали догреческое население, но, возможно, такое представление анахронично, а в действительности на протяжении раннего периода греки мирно сосуществовали бок о бок с прочими народами.
Раскопки показали, что ок. 850 г. до н. э. Старую Смирну окружали довольно крепкие оборонительные стены из кирпича-сырца. Следовательно, уже в столь древнюю пору здесь имелся довольно развитый общинный строй и уклад. В VIII веке до н. э. поселение насчитывало под акрополем (Ка-дифе-Кале) от четырехсот до пятисот жилищ (древнейших из известных нам греческих домов городского типа). Возможно, всего в них обитало около двух тысяч человек, а в окрестностях, за городской стеной, должно быть, жила еще тысяча.
Местные жители твердо верили, что Гомер был уроженцем Смирны; Страбон упоминает имевшийся здесь Гомерейон. Право зваться родиной певца оспаривало еще несколько городов, в их числе — особенно Хиос (раздел 1, выше). Но если Гомер действительно жил на Хиосе, родиться он вполне мог в Смирне46.
Другим поэтом, чья семья жила в этом городе (хотя и на него «притязал» остров Астипалея), был Мимнерм (примечание 31), слывший потомком тех колофонцев-изгнанников, которые и превратили Смирну из эолийского города — в ионийский. Говорили, что его расцвет пришелся на 632–629 гг. до н. э., но более правдоподобной датой представляется начало следующего века, так как имеются упоминания о переписке Мимнерма с афинянином Солоном (занимавшим должность архонта в 594/593 гг. до н. э. или в 592/591 гг. до н. э.). По роду занятий Мимнерм был флейтистом и сочинял элегии (собранные позже в две книги); дошедшие от них фрагменты обнаруживают чувственные, завершенные и яркие поэтические образы. Одна из книг впоследствии получила название по имени (негреческому) флейтистки Нанно; по-видимому, сборник этот достаточно велик, а значит, Мимнерм одним из первых прибег к форме повествовательной элегии. Но в его стихах немало и отсылок к мифам и легендам, особенно связанным с Колофоном и Смирной: об основании последней своими предками-ионийцами Мимнерм свидетельствовал «из первых рук».
При том, что поэт восхвалял и воинскую доблесть, более всего его влекут удовольствия. Так, с особой охотой он воспевает беспечные радости ослепительной юности, в противовес тяготам и немощам старости. От этой темы он переходит к мрачным размышлениям о кратковечности людской жизни и вымаливает себе у богов легкую смерть в шестьдесят лет. Считается, что эти полные уныния строки Мимнерма и вызвали бурное несогласие Солона.
В течение VII века до н. э. — возможно, после временного захвата города лидийским царем Гигом (ок. 685–657 гг. до н. э.)47, — Старая Смирна была перестроена по новому плану. Параллельные улицы с ровными рядами домов являют единственный пример такой планировки в столь раннюю эпоху; это говорит о том, что в эту пору на смену прежней беспорядочной застройке старого города уже пришла прямоугольная градостроительная «сетка», обычно связываемая с именем Гипподама, милетского архитектора V века до н. э… Были также обнаружены остатки большого храма Афины (ок. 610 г. до н. э.), с пробными образцами художественного орнамента. Древнейшие из сохранившихся во всех греческих землях каменные колонны — оставшиеся от этого храма барабаны из мягкого белого пористого туфа. Самые ранние из известных нам капителей с колоколовидными волютами происходят из Смирны (или Фокеи), а на редкостных монетах из электра, очевидно, чеканившихся в отстроенном заново городе, выбита львиная голова с разверстой пастью — эмблема матери-богини Кибелы, чей культ был унаследован от местного догреческого населения.
Смирна процветала благодаря торговле сельскохозяйственной продукцией, вывозимой из глубинных областей Малой Азии. Но в начале VI века до н. э. город снова захватили лидийцы — на сей раз во главе с царем Алиаттом; он сумел преодолеть оборонительные укрепления, возведя мощный осадный вал. За жестоким опустошением, учиненным Алиаттом, ок. 545 г. до н. э. последовало нападение персов, которые, ранее уничтожив Лидийское царство, теперь разрушили храм Афины и значительную часть Старой Смирны. После этих бедствий уцелевшие местные жители, согласно Страбону, расселились по деревням48, хотя некоторые остались на родном пепелище, где они, должно быть, постепенно восстановили город из развалин.
Другим прибрежным городом на западе Малой Азии была Фокея (Ф&какх), получившая такое название от слова <р6кт| — «тюлень» (из-за очертаний ближайших островов). Примыкавшая к городу бухта простиралась у западной оконечности мыса, разделявшего две гавани — Навстатм и Лампстер, — по обе стороны от Фокеи. В бухту впадала речка Смард, но Фокея господствовала и над долиной более крупной реки — ~, Герма, — открывавшей доступ в глубь страны. Фокея была самым северным из ионийских поселений, а в эпоху первых греческих переселений относилась (как и Смирна) скорее к Эолиде, нежели к Ионии (к Ионийскому союзу она примкну, ла сравнительно поздно), потому что землю первым ионийцам, заселившим Фокею, изначально уступил эолийский город Кима. Считалось, что этими ионийскими пришельцами были выходцы из Фокиды, что близ Парнаса, а приплыли они из Аттики под началом двух афинян — Филогена и Дамона.
Однако пахотной земли, доставшейся переселенцам, оказалось для них недостаточно. Поэтому, в силу своего местоположения на краю мыса, они воспользовались преимуществами, которые предоставляли им обе гавани, и стяжали себе славу лучших среди греков мореходов. Фокея, где заканчивался главный путь, шедший по Герму, оказалась удобным рынком сбыта для купцов из срединного Лидийского царства. Стремясь расширить торговлю и в другом направлении, фо-кейские моряки основали Лампсак, выбрав для своей колонии стратегически выигрышное положение возле северного входа в Геллеспонт (Дарданеллы). Сперва они завладели доверием местного (мисийского) царя, оказав ему помощь в борьбе против врагов, — а затем захватили его город (ок. 654 г. до н. э.)49· Кроме того, вместе с Милетом фокеяне вывели дальнюю колонию Амис (Самсун) на южном побережье Черного моря (согласно традиции, ок. 564 г. до н. э.).
Вдобавок они принимали участие в торговых делах египетского Навкратиса; Фокея была одним из двенадцати греческих городов, которые совместно пеклись там о храме Аполлона, известном еще как Эллиний (*ЕШ|уюу) и возведенном при фараоне Амасисе (ок. 569–525 гг. до н. э.). К той поре фокеяне построили в родном городе храм Афины из прекрасного белого пористого камня. Кроме того, они вовсю начали чеканить монеты из электра с городской эмблемой — тюленем, получившие широкое хождение. (Выпускали они и серебряные деньги, вначале чуть меньшего размера.) Город славился также миниатюрными художественными украшениями и красильным делом.
Но важнейшая заслуга фокеян заключалась в освоении дальнего запада. По словам Геродота, «первыми среди эллинов пустились в далекие морские путешествия»50 фокеяне, проторившие отдаленнейшие и опаснейшие морские пути. Именно они продолжили первые контакты, завязанные самосцами с Тартесским царством в устье Бетиса (Гвадалквивира) на юго-западе Испании (ок. 640 г. до н. э. — см. раздел 1, выше), приплыв туда не на торговых кораблях, а на пятидесятивесельных военных судах (то есть пожертвовав грузоподъемностью в пользу скорости и боеспособности). Дружеские отношения, которые фокейские путешественники установили с царем Тартесса, долгожителем Аргантонием, обеспечили им немалую долю бронзы, олова и серебра, которыми были так богаты недра глубинных областей Испании.
Плиний Старший также упоминает некоего Мидакрита — вероятно, фокеянина по происхождению. «Мидакрит, — пишет он, — первым привез «белый свинец» [то есть олово] с «Оловянного острова» (Касситериды)»51, — при этом он имел в виду не острова Силли, а Корнуолл («Оловянные копи»), В древности олово было поистине бесценным металлом, будучи непременной составляющей бронзового сплава. Оно залегало в различных ближневосточных землях, да и в самой Греции, но не в таких количествах, чтобы его можно было вовсе не ввозить с запада. Возможно, слова Плиния просто означали, что Мидакрит отправлялся в Тартесс, чтобы забрать груз олова, который тартессийцы доставили из Корнуолла. Но, скорее всего, он сам, минуя Тартесс, отважно плыл за оловом в Британию. Если допустить, что плавания Мидакрита относятся к середине VI века до н. э. или чуть более раннему периоду, — то он и его сограждане выбрали верное время для подобных путешествий, потому что в ту пору их возможные соперники, финикийцы, были заняты другим: они отражали натиск Персии (Приложение 1).
Фокеяне положили начало и историческому городу Массалии (Марсель) на средиземноморском побережье Галлии, у восточного края дельты Роны (ок. 600 г. до н. э.). Рассказывали, что оракул велел им взять с собой в новую колонию жрицу Артемиды Эфесской. Вскоре после этого Фокея совместно с Массалией вывели новое поселение на северо-восточном побережье Испании. Это был город Эмпории (Ампурьяс), само название которого, означающее торговый порт с рынком, указывает на характер и назначение новой колонии.
Путь из Эгеиды к Массалии и Эмпориям вел вдоль западного берега Италии, и ок. 565 г. до н. э. фокеяне основали Алалию (Алерия) на восточном побережье Корсики, неподалеку от рудников материковой Этрурии (Приложение 3). А в скором времени, в 546 г. до н. э., сама Фокея подверглась нападению! персов и разграблению. Персы разрушили храм Афины, после I чего множество беженцев во главе с Креонтидом поплыли на запад и воссоединились с фокеянами, ранее осевшими в Ала- I лии. Иными словами, Фокея — одна-единственная среди I прочих греческих городов — ответила на персидские угрозы | и вторжения массовым и сплоченным исходом из прежнего I места обитания. Правда, один видный скульптор, происходив- I ший из этого города (?), — Телефан — все же предпочел I остаться на родине и даже работал для персидских царей I Дария I и Ксеркса I.
Чтобы население, столь разросшееся благодаря этим двум волнам переселенцев, смогло прокормиться, алалийцы прибегли к таким способам, которые заставили правителей Цере — крупнейшего приморского города этрусков, — ополчиться против них, вкупе с карфагенянами, которые тоже осознали, что их интересам на Корсике (и на Сардинии) угрожают разыгравшиеся аппетиты греческих пришельцев. Ок. 540–535 гг. до н. э. это привело к исторической морской «битве при Ал алии» (хотя, возможно, само сражение происходило вдали от Алалии). Формально фокеяне одержали победу над флотом, численностью вдвое превосходившим их собственный, но сами они понесли такие тяжелые потери, что большинство уцелевших решили покинуть Корсику (хотя, как представляется ныне, не все греки оставили остров). Фокеяне, уплывавшие из Алалии, вначале нашли прибежище в Регии (Реджо-ди-Калабрия), но позднее перебрались дальше, в Элею или Гиелу (Кастелламмаре-ди-Бруча) на юго-западе Италии. Там их новая колония вскоре расцвела и, благодаря Пармениду (Глава VII, примечание 59), стяжала славу философского центра — к чему никогда не было предрасположенности у самой Фокеи.
Иные из фокеян, бежавших поначалу от персов, впоследствии вернулись в свой родной город в Малой Азии, и храм Афины был отстроен заново. Фокея примкнула к Ионийскому восстанию (499–494 гт. до н. э.). Правда, ее граждане смогли выслать всего три корабля в помошь мятежным войскам, но слава о фокеянах как о лучших мореходах была столь сильна, что в тяжелейший миг, перед сражением при Ладе (495 г. до н. э.), ионийские капитаны сами передали командование фо-кеянину Дионисию. Он принялся учить моряков и морских пехотинцев таранным маневрам, но через неделю такой муштры под палящим зноем те отказались повиноваться приказам. Вот тут-то на греков напали персы — и одержали решительную победу. Дионисий же захватил три вражеских судна, но вскоре бежал в финикийские пределы. Там он потопил несколько купеческих кораблей, но немного погодя навсегда покинул восточное Средиземноморье и уплыл на Сицилию.
Глава 4. ЭОЛИДА: МИТИЛЕНА
Лесбос — крупнейший из греческих островов у западного (эгейского) побережья Малой Азии, лежащий к юго-западу от Адрамиттийского залива (ныне залив Эдремит). Остров, северная часть которого сложена вулканической породой, богат горячими ключами. Поселение бронзового века в Терми, на восточном побережье, поддерживало тесные связи с Троей на Азиатском материке; а в Пирре и Куртире (у залива Эврипа Пиррейского, на юге) и в Старой Метимне (на севере) имеются явственные следы микенских поселений. Гомеру, несколько раз упоминавшему остров, явно было известно о существовании главного города на Лесбосе, но пока его местонахождение не установлено.
Рассказывали, что одно время на Лесбосе жили фракийцы; позднее в храме Аполлона показывали лиру, будто бы принадлежавшую мифическому фракийскому певцу Орфею (Приложение 2). Но начиная примерно с ИЗО г. до н. э. среди островитян стали преобладать греки — выходцы из Беотии и Фессалии. С Лесбоса они медленно (из-за сопротивления коренных жителей — мисийцев52) рассеялись по северо-западной части Малой Азии и соседним островам (примерно с ИЗО по 1000 г. до н. э., или чуть позже), заняв все земли от входа в Геллеспонт (Дарданеллы) вплоть до устья Герма; впоследствии эта область стала известна под именем Эолиды. Вступая в смешанные браки с мисийцами — в надежде сломить их сопротивление, — поселенцы основали ряд городов на материке. Одиннадцать из них, расположенные в южной части, объединились в амфиктионию — союз, первоначально имевший религиозное значение. Возможно, члены амфиктионии собирались в храме Аполлона в Гринее, но во главе союза стояла Кима — важнейшее из здешних греческих поселений53.
Другие эолийцы, заселившие Лесбос, возводили свой род к мифическому персонажу, в честь которого и был назван остров, — внуку бога ветров Эола. Плодородные почвы и мягкий климат благоприятствовали развитию пяти лесбосских городов (Пентаполя, или «Пятиградья»), в число которых вхо-дили Митилена (на юго-востоке), Метимна (среди ее основателей были также выходцы из Эритр, Фокиды и со Скироса), Эрес (на юго-западе; город славился своей пшеницей), Антисса (на северо-западе) и Пирра, бывший микенский город. В этих городах, где власть передавалась по наследству внутри старинных царских родов, звучало негромкое эхо стародавнего микенского величия.
Сильнейшим из лесбосских полисов была Митилена, хотя она никогда всецело не господствовала над остальными. Этот город, поначалу возникший на отдельном островке (в дальнейшем, благодаря наносам и донным отложениям, ставшем частью Лесбоса), затем перекинулся и на основную часть острова, где и началась его история. У этого нового поселения появилась отличная двойная гавань, предоставлявшая судам укрытие от северных ветров, а самому городу позволяло наслаждаться благоприятным расположением в тихих водах. Кроме того, у Митилены имелась доля в Навкратисе — торговом порту, сообща созданном в Египте несколькими греческими государствами.
В Митилене властвовал дом Пенфелидов, возводивших свой род к сыну Ореста (Агамемнонова сына) по имени Пен-фил, который будто бы основал этот город, спасаясь от захвативших Пелопоннес дорян (сомнительное предание — потому что, как мы уже говорили, пришельцы, скорее, явились на Лесбос из отдаленных северных земель). Очевидно, вначале Пенфелиды царили единолично, а позднее этот же род образовал аристократическое правительство. За его свержением — не позже 650 г. до н. э. — последовал период смут, козней и жестоких расправ, на протяжении которого тем не менее все еще проявляли деятельность и представители бывшей правящей династии.
Диктатор Меланхр был убит в результате заговора знатных семей, в числе (или во главе) которых был Питтак (судя по имени, фракиец по происхождению). Впоследствии он возглавил сограждан в их длительной борьбе против афинян за обладание Сигеем — стратегическим центром у Геллеспонта, — и прославился, сразив в поединке афинского вождя Фринона. Между тем в самой Митилене возникли три фракции: первая представляла собой союз знати, вторую партию возглавлял несогласный с прочими знатный род Клеанактидов, а третьей, более многочисленной, группой предводил Мирсил (чье имя явно азиатского происхождения).
Но Мирсила постигла смерть, после чего Питтак (который был его сторонником, восхвалявшим его ладно сработанные сверкающие доспехи) был удостоен — возможно, ок. 590 г. до н. э., — назначения на должность эсимнета (а1 т)цуг|тг£, то есть судьи, распорядителя) сроком на десять лет, что предоставило ему диктаторские полномочия в форме «выборной тирании», согласно позднейшему определению. Сразу же упразднив фракцию аристократов, он отнесся к прочим противникам сдержанно, издавал и пересматривал законы в духе умеренной реформы, в чем-то походя (возможно, намеренно) на своего афинского современника Солона, — и таким образом заслужил немалую славу и был причтен к «семи мудрецам» Греции. Когда десятилетний срок его службы истек, Питтак удалился от дел и прожил в почете еще десять лет, оставив Митилену в состоянии благополучия, свободы и мира.
Тем не менее он нещадно преследовал лирического поэта Алкея, который родился в старинном митиленском семействе ок. 620 г. (?) до н. э. Незадолго до этого другой лесбосский певец, Терпандр из Антиссы (позже перебравшийся в Спарту), очевидно, ввел в греческий обиход семиструнную лиру (из Лидии)54; а некоторые из его соотечественников играли на инструментах, оснащенных аж двадцатью струнами, на которых можно было брать и очень высокие, и очень низкие ноты. Именно в Эолиде, а в частности на Лесбосе, и получила развитие монодия (сольная песнь), то есть «лирика» в узком смысле слова — весьма субъективная, окрашенная личным чувством поэзия.
Алкей явился одним из видных мастеров этого искусства. Когда он был еще ребенком, его братья приняли участие в свержении Меланхра. Позже он сам сражался в Сигее на стороне Питтака. Но, чтобы спастить от вражды Мирсила, Алкею и его друзьям пришлось бежать в Пирру; когда же тот умер, поэт возликовал: «Пить, пить давайте! Каждый напейся пьян! Хоть и не хочешь — пьянствуй! Издох Мирсил!»55
Однако и то, что последовало за этим, не пришлось ему по душе. Когда вместо Мирсила начал править Питтак, его бывший союзник Алкей обругал нового «распорядителя» кичливым, хвастливым, наглым, завистливым, косолапым, толстобрюхим, низкородным пьяницей, насильником и убийцей, — заключив, что плохи дела государства, которое выбрало себе такого правителя. Неудивительно, что Алкей оказался в числе тех, кого Питтак позднее подверг изгнанию; поэт отправился в Египет, а возможно, посетил еще Фракию, Лидию и Беотию. Позднейшее предание о том, что Питгак простил его, прежде чем уйти от власти, не представляется особо достоверным, — но, так или иначе, он вернулся умирать на родной остров. Дата его смерти неизвестна.
Алкей был личностью неуемного, даже буйного нрава — живым олицетворением той шумливой, охочей до распрей и до власти аристократии, к которой принадлежал сам поэт. Отнюдь не все, что он живописует, отражает действительные события: так, его заявление о том, что как-то раз он сбежал с поля брани, бросив свой щит56, — не более чем поэтический вымысел, навеянный стихами Архилоха Паросского (см. следующий раздел). Вместе с тем Алкей остается для нас важнейшим очевидцем исторических событий на Лесбосе в VI веке до н. э., Он посещал многолюдные пиршества, и значительная часть его поэзии предназначалась для исполнения перед сотрапезниками — членами гетерий (тсорешг), игравших столь заметную роль в жизни знати (а в Митилене наслаждавшихся отличным вином). Алкей сочинял и стихи о Троянской войне, гимны в честь Диониса, Муз и прочих богов; кроме того, по свидетельству Горация, он сложил песнь, восхвалявшую красоту юноши по имени Лик57, — самое раннее, как считалось, литературное выражение мужской однополой любви. Однако это было отнюдь не единственным проявлением Алкеевой зоркости к красоте, охватывавшей весьма широкий круг ощущений. Поэт умел искусно передавать несложные чувства, используя необычайно разнообразный набор стихотворных размеров; в их числе была четырехстрочная строфа, позднее названная по его имени Алкеевой.
Сапфо, дочь Скамандронима и Клеиды, была почти современницей Алкея, и тоже родилась на Лесбосе; возможно, ее родным городом был Эрес. С Сицилии (где ее семья жила в изгнании, пока дома царила политическая смута) она вернулась на родной остров и поселилась в Митилене. Один из ее троих братьев, Ларих, служил виночерпием в пританее (городском совете), а другой, Харакс, был купцом (по-видимому, лесбосским аристократам позволялось заниматься торговлей). Однажды он повез вино в египетский Навкратис — а там, влюбившись в некую Дориху, местную гетеру, растратил на нее все деньги. Сама Сапфо, распекавшая брата за эту расточительную связь, вышла замуж за Керкола, богача с Андроса. Их дочь назвали в честь бабушки Клеидой. Сапфо (сама, как поговаривали, низкорослая и чахлая) восторгалась ее красотой: то она советует дочке, как лучше уложить волосы, то сетует, что негде достать пеструю лидийскую шапочку, которую так хочется Клеиде. Рассказ о том, будто Сапфо разбилась насмерть, бросившись со скалы на острове Левкада, — скорее всего, просто выдумка.
Ее излюбленной поэтической формой была любовная песня, исполнявшаяся под звуки лиры. Для них Сапфо использовала различные стихотворные размеры — в том числе знаменитую четырехстрочную строфу, названную в честь нее сапфической. Эти стихотворения — точнее, оставшиеся от них фрагменты, — свидетельствуют об удивительном даре поэтессы передавать самые пламенные страсти — без стыда или сожаления, зато с заметной отрешенной самоиронией, — достигая при этом впечатления крайней обнаженности чувств. Вместе с тем не стоит воспринимать подобные лирические излияния с излишней буквальностью.
Как заставляет предположить обилие традиционных поэтических формул, Сапфо не творит «летописи» собственной жизни. Стихи такого рода (что явствует и из Алкея) не обязательно носят автобиографический характер, а скорее, создают условную рамку для изображения подлинных чувств и взглядов поэта. Таков знаменитый двадцативосьмистрочный Гимн к Афродите Сапфо — единственное ее стихотворение, дошедшее до нас целиком. Когда Сапфо взывает к богине со страстной мольбой избавить ее от боли неутоленного желания — унылого удела взамен радостей и нег любви, — нам не дано знать, отразился ли в этих словах ее личный любовный опыт. Так это или нет — ее безошибочно точный язык, ее яркие, емкие образы исполнены трепетной чувственности и тонкого понимания природы. От этих строк исходит пряный аромат волшбы, в них слышится эхо древних заклятий.
Такую форму она избрала, дабы петь о любовных радостях и утратах в своем замкнутом и небольшом, но крайне деятельном мирке. По-видимому, круг поэтессы составляла группа незамужних женщин (враждебная по отношению к другим подобным «кружкам», упоминаемых ею), которых она возглавляла, воспитывала и к которым обращалась в стихах58. Скорее всего, эта женская «школа» была в некотором смысле религиозным сообществом, или фиасом (θίασος), но девушки проводили немало времени и за другими занятиями — в особенности, за сочинением и исполнением песней, — и, должно бьггь, постигали азы любви. Женщины на Лесбосе пользовались значительной свободой, ведя обособленное существование от дел и забот мужского мира. Это были скорее отношения взаимной зависимости и личной самостоятельности, нежели господства, подчинения и вражды. Согласно Алкею, лесбосские женщины даже устраивали состязания в красоте5^ Это было существование, свободное ото всех тех препон, что столь заметно ущемляли жизнь гречанок — по крайней мере, в Афинах, да, очевидно, и во многих других греческих полисах.
Нынешнее значение слова «лесбиянка» возникло из истолкования любовных стихотворений Сапфо, обращенных к подругам. Действительно, слова поэтессы не оставляют сомнений в том, что она питала явное влечение к собственному полу, которое выливалось (хотя в новое время многие с негодованием отвергали мысль об этом) в подлинные любовные связи, какие бытовали и среди мужчин; и по ее стихам рассыпаны намеки — пусть не совсем прямолинейные — на то, что все обстояло именно так60. Впрочем, все это не помешало Сапфо выйти замуж. Сочиняла она и эпиталамии — свадебные песни для хорового исполнения. Сапфо оказала огромное влияние на позднейшую греческую поэзию, где упоминания о лесбиянках, как правило, несут намек на их крайнюю чувственность в отношении других женщин, да и мужчин.
После периода затишья, наступившего при Питтаке, митилен-цы вначале подверглись ущемлениям со стороны Писистрата Афинского, который в конце концов лишил их Сигея, а затем были разбиты Поликратом Самосским: тот, воюя с Милетом, захватил корабли, что выслала ему на подмогу Мити-лена (заставив потом пленников копать ров вокруг городской стены у себя на Самосе).
Митиленец Кой выслужился перед персидским царем Да-рием I в скифском походе (ок. 513–512 гг. до н. э.), и в награду тот назначил его диктатором в родном городе. Однако согражданам, видимо, пришлось не по нраву его правление: в 500/499 г. до н. э., на заре Ионийского восстания, они забили его насмерть камнями.
Если Эолида занимала северную треть греческих земель на эгейском побережье Малой Азии и близлежащих островах, а Иония лежала в середине, — то южную часть (включая прибрежные земли и острова Карии) населяли доряне. В описываемую эпоху ни одна из их колоний еще не достигла такой значимости, чтобы можно было подробно на них останавливаться. И все же стоит сделать несколько беглых замечаний.
Там возник союз шести общин, куда вошли Книд, Галикарнасе, три родосских города и Кос. Материковый Книд был основан в самом начале I тысячелетия до н. э. спартанцами — сперва у просторной и укромной бухты на южном побережье Херсонеса Книдского (полуостров Решидие), а позднее — на восточной оконечности того же полуострова. Книдяне вывозили вино, лук, целебные масла и камыш, из которого мастерили палочки для письма. Они основали Черную Керкиру (Корчула) на адриатическом побережье и колонизовали Эоловы (Липарские) острова севернее Сицилии. Галикарнасе на северном побережье Керамского залива основали ок. 900 г. до н. э. колонисты из Трезена в Арголиде; но впоследствии он был исключен из Дорийского союза, и к V веку до н. э. из дорийского превратился в ионийский город.
Родос — остров неподалеку от малоазийского побережья, площадью восемьдесят на тридцать пять километров, — в ту пору еще не представлял собой единого города-государства. Напротив, на нем поместилось три небольших самостоятельных полиса: Иалис, Камир и Линд (сплотившиеся в единое государство лишь к 408 г. до н. э.). Остров имел долгое прошлое: по преданию, местные доисторические поселения бронзового (микенского) века были заложены Тлеполемом незадолго до Троянской войны, а ок. 900 г. до н. э. доряне, прибывшие с другого конца Эгеиды, основали здесь три города. Ок. 668 г. до н. э. Линд, выступив от всех трех полисов, основал (сообща с критянами) Гелу на Сицилии и Фаселиду в Ликии (юг Малой Азии). В VI веке до н. э. в Линде властвовал Клеобул — один из «семерых мудрецов». В его правление остров обрел или укрепил господство над торговыми путями, шедшими с севера на юг и с востока на запад, и установил дружеские отношения с египетским фараоном Ама-сисом. Считается, что известнейшие восточно-греческие вазы VII и VI веков до н. э. происходят из родосского города Ка-мира. Впоследствии остров отошел под власть Батта III Ки-ренского, а затем достался персам.
Дорийцы, высадившиеся на Косе (возможно, они пришли из Эпидавра), укоренились на месте прежнего фессалийского поселения.
Кикладские острова — большой архипелаг посреди Эгейского моря между Балканской Грецией и Малой Азией. Их название, Κυκλάδες, происходит от слова κύκλος — «круг», потому что они лежат вокруг священного острова Делоса. В эпоху ранней и средней бронзы (III и II тысячелетия до н. э.) на Кикладах существовала собственная яркая цивилизация, а с XVII века до н. э. на некоторые острова проникли переселенцы с минойского Крита. С 1400 г. до н. э. Киклады относились к микенской культуре, а после упадка и разрушения Микен были заселены пришельцами из Балканской Греции (ок. 1000 г. до н. э.), говорившими преимущественно на ионийском диалекте (хотя южные острова, в частности, вулканические Тера и Мелос — знаменитый своими месторождениями обсидиана, или черного стекла, — колонизовали до-ряне из Лаконии).
Крупнейшим и плодороднейшим из Кикладских островов был Наксос. В доисторические времена он был весьма густо населен и был центром «кикладской» скульптуры, высекавшейся из местного серого или белого мрамора и полировавшейся наждаком, который тоже водился на острове и был известен как «наксосский камень». Считалось, что первые обитатели Наксоса происходили из Карии; позднее сюда явились критяне.
В микенскую эпоху Наксос был видным центром и служил перевалочным пунктом для торговых судов, направлявшихся на восток; здесь зародилось множество греческих мифов. Остров имел и другое имя — Дионисия; здесь производилось отличное вино (прославленное на монетах местной чеканки). Это говорит о том, что Наксос, в числе нескольких других мест, оспаривал у Фракии право считаться родиной Диониса (см. Приложение 2); по преданию, именно на этом острове бог нашел Ариадну (покинутую Тесеем) и сделал ее своей возлюбленной. Другой миф повествовал, что гиганты От и Эфиальт, взгромоздившие Оссу на Олимп, а Пелион на Оссу, умерли на Наксосе, где впоследствии существовал их культ.
После прихода ионийцев — главным образом, афинян под началом Архетима и Тевкла, — наксосцы, в числе жителей других Кикладских островов, основали совместно с эвбейским городом Халкидой древнейшую колонию на Сицилии, получившую в честь их острова название Наксос (ок. 734 г. до н. э.). Позднее ее основатели заложили также Леонтины и Катану. Остров же Наксос участвовал и в колонизации Средней Эгеиды: например, сообща с самосцами и милетянами(?) основал поселение на еще одном Кикладском острове, Аморгосе. Во время Лелантийской войны между Халкидой и Эрет-рией (ок. 700 г. до н. э.) наксосцы вновь объединились с Халкидой, так как эретрийцы осмелились ущемить их верховенство в здешних водах, захватив острова Андрос, Кеос и Тенос.
Как и в догреческую эпоху, наксосцам принадлежала заглавная роль в развитии скульптуры. Ок. 650 г. до н. э. здесь начали ваять крупномасштабные статуи из местного мрамора; и вполне возможно, что первая значительная школа греческой мраморной скульптуры возникла именно на Наксосе, — хотя, как в большинстве случаев, с ним соперничал соседний Парос (а кроме того, в разную пору свое первенство в этом искусстве отстаивали Делос, Крит и Коринф).
Одно из таких древнейших изваяний — статуя женщины, посвященная Артемиде на Делосе — в то время подвластном Наксосу, — некой наксиянкой по имени Никандра (ок. 650 г. до н. э.). Парикообразная прическа, названная «дедаловской» в честь критского ваятеля (Глава VI, раздел 1), имеет все еще восточный вид, зато строгие, упорядоченные линии фигуры — уже греческое новшество. Делосские львицы VII века до н. э. (вероятно, посвятительный дар соперничавших знатных родов) тоже высечены из наксосского мрамора; того же происхождения и изваяние сфинкса в Дельфах, относящееся к началу VI века до н. э… Наксосские мужские и женские статуи — куросы и коры — проникли в Афины и сыграли огромную роль в становлении искусства мраморной скульптуры в этом городе. Одна из афинских кор (ок. 560–550 гг. до н. э.) сочетает в себе одновременно наксосский стиль (удлиненные черты) и самосскую технику (складки одежды).
Наксосцы вывозили не только произведения искусства и художников, но и необработанный мрамор. Ремесло ваяния развилось здесь столь быстро, что Наксос снабжал своими статуями многие материковые города, тогда как их собственные изделия находили лишь местный сбыт. Начиная с середины VI века до н. э. Киклады удерживали первенство и в изготовлении резных печаток, вдохновленных не столько восточными образцами, сколько местными печатками эпохи бронзы, которые любовно и искусно копировались. Возможно, и в этой области греческого искусства первенство принадлежало Наксосу (хотя находки позволяют по праву назвать и другой остров — Мелос). Кроме того, Наксос сыграл немалую роль в развитии греческого зодчества, внеся свою I лепту в создание ионической капители; а еще наксосскому зодчему Бизею приписывали изобретение мраморной черепицы^51.
На острове правили вначале аристократы, затем олигархи — до тех пор, пока не вспыхнули споры об их возросших богатствах (богачей прозвали «жирными»). Тогда один из олигархов — Лигдамид, до того занимавший должность стратега, — водворился в качестве диктатора с помощью другого самодержца, Писистрата Афинского (ок. 545 г. до н. э.). Лигдамид постоянно устранял соперников; но ок. 525/524 г. до н. э. (или 517/514 гг.? до н. э.) с помощью спартанцев изгнали его самого, и власть снова отошла к олигархии. Диктаторский режим Поликрата на Самосе временно затмил славу Наксоса, но его низвержение в 522 г. до н. э. и политические смуты, потрясшие вслед за тем его город, позволили ему за последние десятилетия VI века до н. э. достичь небывалой мощи и процветания (в числе прочего, на острове в изобилии появились рабы). Войско, которое наксосцы набрали у себя и на других островах, насчитывало около восьми тысяч пехотинцев-гоплитов. Имелся у них и свой флот; так они превратились в малую державу.
Как следствие, Наксос привлек алчные взоры и персов, и милетян. Поэтому ок. 500 г. до н. э., когда в результате внутреннего переворота остров оказался во власти демократически настроенного правительства, милетский властитель Аристагор, поддерживаемый персами, живо откликнулся на призыв на-ксосских аристократов-беженцев. Однако объединенному флоту милетян, персов и наксосцев-изгнанников не удалось захватить остров врасплох, и после четырехмесячной осады они ушли ни с чем. Эта-то неудача и очернила Аристагора в глазах персов, а тот, в свой черед, затеял против них Ионийское восстание. Наксос же в 490 г. до н. э. был опустошен персами, понеся кару за деятельное участие в этом восстании.
«Проионийский» Парос был вторым по величине среди Киклад, после Наксоса — своего извечного врага, куда более «западного», хотя лежал он в 6,4 км к востоку. Как и на Наксосе, здесь обрабатывали местный мрамор (белого цвета; добывавшийся на горе Марпесса), поэтому Парос превратился во второй очаг островной скульптуры III и II тысячелетий до н. э. Хотя в паросскую гавань могли заходить лишь небольшие суда, да и то с трудом, — мифы повествовали о заселении острова критским царем Миносом и его сыновьями, будто бы изгнанными Гераклом. Сохранились и рассказы о его колонизации аркадийцами и ионийцами под началом двух афинян — Клития и Мелана. На исторической сцене паросцы появляются во время Лелантийской войны между Халкидой и Эретрией на Эвбее (ок. 700 г. до н. э. — Глава IV, раздел 1): они выступали на стороне Эретрии, потому что Наксос поддерживал противную сторону.
Примерно за десятилетие до этого Парос основал, совместно с ионийскими Эритрами, город Парий на северо-западе Малой Азии. Но важнейшим свидетельством его ведущей роли в северно-эгейской торговле служит то, что ок. 650 г. до н. э., с разрешения дельфийского оракула, он колонизовал остров Фасос (Глава VIII, раздел 2), что открывало наксосцам доступ к золотым и серебряным копи вокруг горы Пангей в соседних фракийских землях. В течение жизни одного поколения между Фасосом и Паросом сохранялась весьма тесная связь.
Поэт Архилох, уроженец Пароса, был незаконным сыном Те-лесикла, основателя колонии на Фасосе. Матерью его была рабыня, возможно, происходившая с этого острова. Сам Архилох, встрявший в местные политические распри, участвовал в позднейшем освоении Фасоса. Он стал мореходом и наемником, выбрав такую долю оттого, что паросец Ликамб не позволил ему жениться на своей дочери Необуле; этот отказ породил поток яростной брани в стихах оскорбленного жениха. Архилох стал землевладельцем на Фасосе (о котором отзывался так: «невзрачный край, немилый и нерадостный» [перевод В.В.Вересаева]) и встретил смерть в одной из многочисленных стычек между паросскими колонистами и наксос-цами.
Что касается его творчества, то он разработал новый вид ямбической сатиры (считалось, что ямбы, в которых за кратким слогом следовал долгий, зародились в Элевсине — Глава II, примечание 12), заслужившей ему эпитет «скорпионоязычный». Не так давно был обнаружен папирус с тридцатью пятью строками Архилохова «Кёльнского» эпода, где с дотошными подробностями, в искусно выверенных образах, поэт живописует сцену любовного соблазнения. Кроме ямба, он пользовался и трохеическим размером (долгий слог — краткий). Но Архилох блестяще владел и другими, самыми разнообразными, метрическими формами, — словно снова вызывая к жизни полузабытое многоголосье древнейших народных песен, издавна сосуществовавших с более известными эпическими поэмами. Среди его сочинений были элегические эпиграммы, эпиникии (песни в честь побед на Олимпийских играх), а также дифирамбы — хоровые песни к Дионису (внушенные, по мнению Аристотеля, действием вина), которые, возможно, были предтечами греческой трагедии (Глава II, раздел 4; Глава III, раздел 2). Другие темы, встречающиеся в его стихах, — его собственное поэтическое дарование, различные мелкие обиды, угроза войны и солнечное затмение.
Вероятно, некоторые свои сочинения Архилох пел на сим-посиях — длительных вечерних пиршествах для членов гетерий (товариществ), куда входили богатые граждане. Но возможно, он был и первым из поэтов, кто воспользовался письменностью для сочинения и сохранения собственных стихов (менее вероятным представляется, что Гомер и Гесиод занимались этим самолично). По-видимому, Архилох первым из греческих авторов заговорил о собственных чувствах в личном, негомеровском, антигероическом тоне: перед нами человек, признающийся, что бросил щит, убегая с поля битвы. Правда, и Алкей позднее расскажет о себе то же самое — и это вновь напоминает нам, что если поэт повествует о случаях из собственной жизни, они отнюдь не всегда отражают некие исторические факты, а скорее, являют сюжетную условность, вымысел, лишенный автобиографичности.
Тем не менее те личины, что примеряет Архилох перед слушателями, позволяют ему пускаться в откровенные «саморазоблачения»: он рисует себя буяном и задирой, мятущимся между возбуждением и унынием, между грубостью и чувственностью, между радостями любви и ее горькими печалями, между наслаждениями — и роковым предчувствием, что за углом всегда таится нежданная беда. Брань его весьма груба, но к ней примешивается почтение к богам, не чуждое страха.
Несмотря на то что в его стихах часто можно проследить или предположить влияния более ранних жанров народной и «авторской» поэзии, слава Архилоха как одного из величайших поэтов и преобразователей поэзии62 (о которой свидетельствовали посмертные публичные чтения его стихов, наряду с гомеровскими и гесиодовскими) была во многом оправданна. Сами греки сочли бы, что не совсем верно относить Архилоха к «лирическим» поэтам, потому что стихотворные размеры, которыми он обычно пользовался, согласно строгим правилам классификации, не укладываются в такую категорию. Однако его позволено назвать «лириком» в более широком смысле слова; по сути дела, он самый ранний из поэтов, кого можно по праву так назвать. К тому же он с самого начала поднял этот род поэзии до подлинных вершин: она сразу обрела четкость, отточенность, тонкость, драматизм и, прежде всего, разнообразие. Ибо и сам Архилох был личностью многосторонней:
Я — служитель царя Эниалия, мощного бога.
Также и сладостный дар Муз хорошо мне знаком63.
В VI веке до н. э. в его честь был воздвигнут героон — святилище, подобавшее героям, — тремя веками позже восстановленный. Сохранилась биографическая надпись, связанная с его культом.
На Паросе имеются развалины храмов Асклепия, Аполлона, Артемиды, а также Зевса Кинфия и Афины Кинфии (эти два божества чтились и на соседнем Делосе); в восточной части острова были обнаружены следы еще одного храма Афины, помимо нескольких святилищ на холме к востоку от города. Но местонахождение самого главного храма, посвященного Деметре Тесмофоре, не установлено до сих пор.
В VII веке до н. э. на Паросе изготовляли собственные вазы (ранее считавшиеся «сифносскими» и «мелосскими»), добывали и вывозили большое количество мрамора для нужд ваятелей, живших в других греческих краях. Паросский мрамор ценился особенно высоко, так как он был очень податливым (хотя и более грубым, чем другие сорта) и имел прозрачную сливочно-белую или дымчато-матовую поверхность, которую оживляло посверкиванье кристаллов. Так, наравне со своим соперником Наксосом, Парос к 650–600 гг. до н. э. отказался от использования известняка, что положило начало созданию крупномасштабной скульптуры. Паросские куросы — в особенности, курос, изваянный неким Аристоном (ок. 540 г. до н. э.) — и коры отмечены печатью единой манеры, преисполненной мерного величия и некоторой парадности, что говорит о существовании на Паросе самобытной школы ваяния.
Паросские законотолкователи снискали славу отменных третейских судей. В 655 г. до н. э. их призвали разрешить спор между Халкидой и Андросом, — хотя прежде, в Делан-тийской войне, Парос и поддерживал противников халкидян Чуть позже, во второй половине VI века до н. э., паросских судей пригласили в Милет, дабы примирить враждующие партии. Очевидно, через некоторое время остров подпал под господство наксосского диктатора Лигдамида. Но в 490 г. до н. э., когда Наксос опустошили персы, Парос занял его место в качестве главного политического центра Киклад; он предусмотрительно выслал триеру в помощь флоту захватчиков.
Делос, лежащий к северу от Наксоса и Пароса и имеющий лишь пять километров в длину и два с половиной — в ширину, — неплодородный, сложенный гранитом и желтым песком остров с нехваткой пресной воды. Вместе с тем именно его чтили как средоточие и первоначало Киклад. Его наивысшая точка — священная скалистая гора Кинф, высота которой составляет 106,8 м. Остатки каменных жилищ на горных склонах (а также на равнине внизу) свидетельствуют о том, что здесь существовали догреческие поселения и капища, восходившие к III тысячелетию до н. э. Согласно Фукидиду, этими первыми поселенцами были карийцы65, но позднее, по преданию, их прогнал с острова критский царь Минос. На Делосе было найдено больше микенской керамики, нежели где-либо еще на архипелаге, а под основаниями позднейших храмов обнаруживались следы микенских строений. Главным божеством, чтившимся на острове в эпоху поздней бронзы, была, по всей видимости, Артемида (раздел 3, выше).
К концу II тысячелетия до н. э. из Балканской Греции явились ионийские колонисты, и к ним перешел священный грот на Кинфе. Ко времени создания Одиссеи Делос уже был знаменит как остров, где родились Аполлон с Артемидой («близнецы», — хотя первоначально их культы имели разное происхождение). Один из многочисленных мифов, увековечивавших это событие, гласил, что остров блуждал по всему Эгейскому морю, пока его не остановил Зевс, чтобы скитавшаяся титанида Лето (Латона) смогла наконец разрешиться божественной двойней.
Об этом повествует и Гимн к Аполлону — довольно раннее поэтическое сочинение, состоявшее из двух частей (возможно, принадлежавших разным авторам): в одной шла речь о Делосе (строки 1—178), а во второй — о Дельфах (строки 179–546; ср. Глава ГУ, раздел 2). «Делосская» часть гимна содержит указание на то, что ее сложил слепой певец с Хиоса, — и в древности ее часто приписывали Гомеру. Но ее автор вовсе не был творцом Илиады или Одиссеи, к тому же его произведение обрело окончательную форму позднее гомеровского эпоса, в середине VII века до н. э. Кроме того, гимн иногда приписывали Кинефу Хиосскому, творившему незадолго до 500 г. до н. э. (Про Кинефа рассказывали также, что он первым принялся декламировать Гомера в Сиракузах66.)
Эта часть гимна была призвана объяснить, как столь бесплодный островок превратился в важнейший культовый очаг. Существовало несколько версий мифа о рождении Аполлона. Но согласно Гимну к Аполлону, Лето произвела бога на свет, опершись о гору Кинф (рассказывали также, что она обняла священное пальмовое дерево) после девяти дней и девяти ночей родовых мук. Ни один другой остров не соглашался дать роженице приют, страшась рождения столь грозного бога; боялся и Делос, пока Лето не пообещала, что Аполлон воздвигнет здесь свой храм. Ее изображения, с Аполлоном и Артемидой, появляются в виде бронзовых статуэток уже в начале VII века до н. э. (из критского Дрера). Гимн рассказывает и о том, как Делос стал местом проведения величайших празднеств, куда все ионийские государства, в том числе и Афины, ежегодно отправляли посольства, чтобы восславить рождество Аполлона. Возможно, и сами эти стихи были некогда исполнены на поэтических состязаниях, сопутствовавших делосским праднествам.
(…) для души твоей, Феб, отрадою первой — Делос!
Ради тебя сюда Ионяне в длинных одежцах сходятся вместе с детьми и с честными своими женами боем кулачным потешить себя и пляской и песней — ради тебя они сии учредили ристанья.
Всяк, узревши оный собор пришедших Ионян, мнит бессмертными их и вечномладыми — толикой милостью отмечены! И ликует он сердцем, любуясь зрелых мужей красой, препоясанных жен лепотою, резвостью быстрых челнов и всем изобильем богатым.
Диво же между див, чья слава не сгинет вовеки, — девы Делосские: у Дальновержца в святом услуженье первого хвалят песней они самого Аполлона, следом Лето, за ней Артемиду меткую хвалят, после же мужей и жен стародавнего времени в песнях воспоминают и все племена чаруют людские.
Всякий говор и всякую речь с толиким искусством
перенимают они, что в ладе слышится стройном
словно бы собственный глас любому — столь песнь велелепна!
(Гимн к Аполлону, 146–164, перевод Е. Г. Рабинович)
Космополиты-ионийцы, в отличие от дорян в Олимпии брали с собой женщин на делосские празднества.
Возможно, самым ранним храмом было маленькое квадратное сооружение на прежде не тронутом месте, на полпути к вершине Кинфа (хотя такое мнение вызывало споры7), но главная святыня (ιερόν) располагалась ниже, на ровной площадке у моря. В этой священной зоне, очевидно, издревле существовал культовый центр с храмом Артемиды (как мы уже отмечали, главного божества бронзового века), где имелась сокровищница с предметами из золота, слоновой кости и бронзы, относившимися как к микенской, так и к геометрической эпохам. Она оказалась погребена ок. 700 г. до н. э., когда поверх длинной и узкой микенской постройки, вероятно служившей религиозным целям, было возведено новое здание. Рядом находился священный участок Лето с храмом, относящимся, в его настоящем виде, к середине VI века до н. э.
Поблизости находилось святилище Аполлона. Остается неясным, какое именно сооружение служило (если служило вообще) очагом его культа в начале I тысячелетия до н. э., потому что известняковые руины древнейшего из трех храмов в пределах священной зоны, очевидно, относятся к той же эпохе, что и соседнее святилище Лето. Однако со временем здешняя Аполлонова святыня превзошла великолепием все прочие, сколько их ни было в греческом мире, — прежде всего благодаря стремлению ионийцев (для которых Делос служил центром амфиктионии или религиозного союза) возвыситься над всеми прочими эллинами. Позже на пропилеях делосского храма была начертана эпиграмма, весьма точно характеризовавшая греческое мышление:
Выше всего — справедливость, полезней — здоровье, но слаще —
Цели заветной достичь, к коей влечется душа.
Каллимах (ок. 310/305—240 гг. до н. э.) в своем Гимне к Аполлону рисует, как ему во время посещения Аполлонова храма является сам бог: он вечнопрекрасен и вечноюн, а с его неостриженных кудрей струится животворная роса. К западу от святилища, до сих пор in situ, сохранилось основание от прославленной статуи бога, высотой в 2,7 м; поблизости лежат обломки торса и одна из ляжек изваяния, которые грабители были вынуждены здесь бросить. Скульптурный ряд из девяти львиц (из них сохранились четыре), относившихся к столь же раннему периоду, некогда нес стражу у широкой дороги для торжественных шествий, которая вела от святилища к Священному озеру. Согласно писателям древности, некогда оно весьма украшало пейзаж острова, — сейчас же озеро осушено. В Священной гавани, располагавшейся неподалеку от святилищ, были возведены искусственные портовые сооружения — насколько известно, самые древние в греческом мире. К числу этих береговых укреплений относится мол VIII века до н. э., вдающийся на 91,5 м в море.
Хотя и сам Делос вполне мог претендовать на первенство в области мраморной скульптуры (он славился и своей бронзовой пластикой)68, — статую Аполлона, изваянную Тектеем и Ангелионом, посвятили в храм наксосцы; упомянутые львицы тоже были сделаны из наксосского мрамора. Очевидно, Наксос в VII веке до н. э. и первой половине VI века до н. э. удерживал Делос под своей властью, расточая на этот маленький освященный остров те богатства, что Лигдамид Наксосский отобрал у собственных подданных. Но позднее делосцев затронуло влияние Писистрата Афинского, который, следуя велениям оракула, «очистил» святыню (выкопав человеческие останки и увезя их с острова)69. Он вознамерился утвердить свое господство (вместо наксосцев) над Ионийским союзом и Кикладами.
В дальнейшем свое ревнивое покровительство над Делосом распростер и Поликрат Самосский, учредив новые празднества и посвятив соседний остров Ренею Аполлону Делосскому. Но вслед за падением Писистрата и Поликрата Делос, очевидно, вновь перешел в ведение наксосцев.
ЧАСТЬ VI. ЮГ И ВОСТОК
Глава 1. КРИТ: КНОСС, ГОРТИНА, ДРЕР
Крит, расположенный к юго-востоку от Балканской Греции и к юго-западу от Малой Азии, — крупный остров: длина его достигает 243,2 км, а ширина разнится от 12 до 56 км. Хлеба здешняя земля рождала мало, зато у критян в изобилии были вино, оливковое масло и строевой лес. И хотя этот лежащий особняком остров служил добычей ветрам и был почти лишен удобных гаваней, само географическое положение — на скрещенье путей — позволило ему стать важнейшим звеном в связях между востоком и западом.
По истечении славной минойской эпохи (бронзового века) среди греков сохранялось предание о том, что первой из всех морских держав стало царство критского властителя Мино-са — сына Зевса и Европы, который, согласно Одиссее, правил по произволению своего отца — и продолжает быть главным судией в царстве мертвых. Посейдон (или, по другой версии, Афродита) наслал на жену Миноса Пасифаю, дочь Гелиоса, противоестественную любовь к быку, которого Посейдон прислал на Крит для заклания в жертву. Легендарный искусник Дедал смастерил деревянную телку для царицы, и та, забравшись внутрь, спозналась с животным и родила от него Минотавра — полумужа-полубыка. Чтобы сокрыть чудище, Дедал построил здание с запутанными ходами — лабиринт. Минос ежегодно требовал с Афин дани — юношей и девушек, — и отдавал их на пожранье Минотавру. В конце концов чудовище убил афинский герой Тесей. Ему помогла в этом дочь Миноса Ариадна, вручив путеводную нить. Они вместе отплыли с Крита, но Тесей покинул ее на Наксосе, а там ей на помощь явился бог Дионис.
На заре железного века греческой истории, после пришествия дорийских захватчиков или переселенцев, Крит — в отличие от большинства прочих эгейских государств — продолжал процветать, наслаждаясь тихими сумерками микенской эпохи. Благодаря этому на острове сохранилось множество более ранних традиций, восходивших к бронзовому веку1. Согласно Илиаде, на Крите было сто городов. С другой стороны, в Одиссее говорится о девяноста городах — а также о четырех других племенах, помимо дорян населявших остров, и о не менее сложном (но, вероятно, не вполне отвечавшем племенному делению) смешении языков2, — хотя получившийся сплав представлялся позднейшим греческим авторам достаточно однородным, чтобы можно было писать о неких общих «критских» обычаях и делах.
Согласно рассказу, в котором слышны явные отголоски | переселений той эпохи, критяне слыли основателями культа Аполлона в Дельфах (Глава IV, раздел 2). На протяжении IX и VIII веков до н. э. остров, вероятно, оставался богатейшим из краев во всей Эгеиде. Возможно, он был обязан этим богатством не только своему материальному прошлому — в значительной мере уцелевшему, — но и пиратству, которое стяжало критянам прочную славу «морских добычников». Об этой стороне их жизни косвенно упоминал еще сам Одиссей: сплетая о себе очередную небылицу, он выдавал себя за критянина, промышлявшего разбоем3.
Вместе с тем в критских полисах устоялась четкая сельскохозяйственная система. Правящая знать господствовала над низшими сословиями, к которым принадлежали и рабы, приобретенные путем грабежа либо купли, а также «крепостные» вроде илотов (κληρωται, μνοΐται, οικεΐς; ср. примечание 62 к Главе I), пользовавшиеся некоторыми ограниченными правами. Так, им позволялось владеть домами и орудиями труда, | по своему усмотрению распоряжаться урожаем — лишь бы исправно платили подать, — но запрещалось пользоваться оружием (а позднее — и посещать гимнасии).
Другие греки, заинтересовавшись критскими установлениями, отмечали сходство этого «крепостного» сословия с аналогичными порядками у спартанцев — имевших, как и критяне, дорийское происхождение. То же можно сказать и о прочих особенностях жизни в островных городах. Например, критские гражданские чиновники — космы (κόσμοι) — напоминали спартанских эфоров (с той только разницей, что этот институт не сосуществововал с царской властью, а, возможно, пришел ей на смену). Обнаруживалось сходство и в общин
И спартанцы, и критяне, сознавая подобную схожесть, всячески подчеркивали, что им обоим свойственно более заботиться о нравах, нежели о телесной красоте. С другой стороны, Платон, разделявший распространенное (и вероятно, ошибочное) мнение о том, что однополую любовь изобрели доряне, — с большей точностью отмечал, что Крит и Спарту роднит особенно рьяная и узаконенная форма подобных отношений4. Тимей высказывал мнение, что педерастия — критское изобретение; это же мнение отражено в рассказе Эфора об обрядовом однополом похищении на Крите, а также в мифе, переданном критским историком Эхеменом: тот доказывал, что прекрасного юношу Ганимеда похитил вовсе не Зевс, а критский владыка Минос. О «сожительстве мужчин с мужчинами» на Крите говорил и Аристотель, поясняя, что это помогало избежать чрезмерной рождаемости5. Все это — позднейшие источники (возможно, за исключением Эхемена), и потому нельзя воспринимать эти сведения как доподлинные свидетельства о древних временах. Но все они указывают на то, что, по крайней мере, один из спартанских обычаев — отношение к однополой любви — был заимствован с Крита.
То же подражание заметно и в других установлениях. Считалось, что многие черты спартанской жизни — в частности, трехчастное племенное деление и законодательные реформы Ликурга, — сформировались под прямым влиянием Крита. Но все эти сходства — которым, следует добавить, сопутствовало немало различий, — вероятно, объяснялись не столько прямым заимствованием друг у друга, сколько общим происхождением консервативных правящих сословий Крита и Спарты от дорийских переселенцев с их племенным членением. При этом, разумеется, между сородичами со сходными склонностями могли происходить различные заимствования — в обоих направлениях. Так, например, считается, что пэаны (гимны к Аполлону) проникли в Спарту с Крита, — с другой же стороны, критский город Ликт был спартанской колонией.
Кносс лежал в северной части острова, на западном берегу реки Кэрат (Кадратс*;). Величие города, в эпоху бронзы переживавшего небывалый расцвет, было погублено до 1350 г. до н. э. За этим последовало частичное новое заселение, и дорийские пришельцы отстроили город рядом с развалинами минойского дворца. Это возрожденное поселение вновь обрело прочное положение ведущего центра острова (заглавная роль ему отведена и в гомеровских поэмах)6. В его распора жении имелись гавани в Амнисе (ныне Картерос; здесь был порт легендарного Миноса) и Гераклионе (Ираклион, современный административный центр Крита). Согласно Псевдо-Скимну, жители Кносса колонизовали эгейские острова Пепаретос и Икос7.
Кносс оставался, как и прежде, естественным каналом связей с востоком, а потому он стал одним из первых греческих городов, испытавших влияние ориентализирующего стиля в искусстве. Ибо уже в конце IX века до н. э. на Крит явилась группа (или нечто вроде гильдии) мастеров-ваятелей из Северной Сирии или Финикии, и весьма скоро на острове возродились изобразительные искусства. Чужеземные искусники принесли новую технику обработки металлов — в том числе, зернь, филигрань и инкрустацию. Среди них были отличные бронзовщики и резчики по твердому камню. Кроме того, недавно на Крите были обнаружены вазы IX века до н. э. (в частности, колоколовидные кратеры) с разнообразными криволинейными узорами, выполненными в свободной манере, и с необычайно ранними фигурными изображениями. Не позднее чем к 800 г. до н. э. относятся и найденные кусочки, или комочки золота, серебра и электра, никак не помеченные — «предки» будущих монет. В последующем столетии критская школа ювелиров продолжала удерживать за собой первенство (хотя с ней уже начали соперничать мастера из Коринфа и Афин). Критские ремесленники были искусны и в изготовлении доспехов; на острове они состояли из особой разновидности шлема (μίτρα) и набрюшников.
Большую часть Крита составляют горные цепи. Они образуют четыре основные группы: Белые Горы на западе, Пси-лорити в центре острова, Ласити и Ситья на востоке. Высочайшая точка хребта Псилорити — гора Ида (юго-западнее Кносса), вокруг которой и располагались главные критские города.
Согласно греческим мифам, в пещере на этой самой горе Рея произвела на свет Зевса, а нимфа Ида, дочь Мелиссея, вместе с сестрой Адрастеей вскормила божественного младенца молоком козы Амалфеи8. Прислуживали им мудрые демонические существа — идейские дактили, что значит «пальцы», так как всего их было десять (или пять). В это время куреты, полубоги минойского происхождения, помогали скрыть существование младенца от его прожорливого отца, исполняя пляску вокруг колыбели и бряцая оружием, чтобы заглушить его крики9. К тому же на Крите показывали могилу Зевса: на горе Юктас, над Арханами, между Идой и Кноссом. Но критяне повсюду слыли отъявленными лжецами10 именно из-за того, что объявляли свой остров местом рождения и смерти Зевса, тогда как прочие греки думали иначе. С исторической точки зрения, всевозможные рассказы о связях Зевса, индоевропейского небесного божества, с этим островом отражают частичное, неполное смешение его культа с культом других богов, почитавшихся ранее на Крите. Одним из этих критских богов был юноша-супруг богини-земли, олицетворявший умирающее и возрождающееся плодородие. Еще в VI веке до н. э. ему поклонялся полулегендарный критский чудотворец Эпименид (обнаруживавший сходство с шаманами — Приложение 2), который занес подобное смешение религиозных идей в Афины.
Другим древнекритским божеством, с которым стали отождествлять индоевропейского Зевса, был бог, почитавшийся в пещерах. В двух гротах на горе Иде были обнаружены остатки различных предметов бронзового века и ранних посвятительных приношений. Появились и более поздние находки, но и они принадлежат периоду до 700 г. К ним относятся большие конические бронзовые щиты, богато украшенные, с шишками в виде звериных голов и чеканными рельефами зверей и чудовищ. Такие щиты завозили сюда сирийские и финикийские ремесленники — а скорее всего, их делали на самом Крите переселенцы из тех краев; предназначались они для посвящения в культовых местах. Были найдены и тимпаны (τύμπανα — бубны, или барабаны), имевшие то же предназначение. Возможно, подобные изделия, в которых переплелись сирийские (и даже более восточные) и исконно критские элементы, создавались представителями второй школы художников-переселенцев, не имевшей отношения к той, что обосновалась в Кноссе, — но таковые свидетельства не вполне убедительны. Эта великолепная бронзовая пластика могла вдохновить мастеров, отливавших массивные котлы из того же материала — имевшие более или менее восточный вид, но происходившие из разных центров, — которые в огромных количествах посвящались в Олимпийском, Дельфийском и других святилищах, а также вывозились в Этрурию и Лаций — или искусно копировались там (Приложение 3). Но опять-таки, невозможно прийти к хоть сколько-нибудь твердому выводу относительно размаха такового влияния, если оно было; нельзя | указать и того размаха, что обрел Крит в качестве срединного звена в греческой ориентализации.
Однако то сирийское или финикийское влияние, которое I ощущается в этих и других раннекритских произведениях 1 искусства, примечательно еще и по иной причине. Дело в I том, что критские надписи, относящиеся примерно к 500 г. I до н. э. (равно как и надписи из Теоса и Митилены, а Е также некоторые места у Геродота) называют алфавит греков I фотксш, то есть финикийским11. Это указывает на северно- I семитское происхождение перенятой ими письменности I (Приложение 1), а сирийцы и финикийцы могли занести I свое письмо на Крит вместе с узорной утварью — или вмес- I те с ее изготовителями, научившими критян разбирать и складывать этим буквы. Некоторые зашли еще дальше, пред- I положив, что греческий алфавит зародился на Крите, так I как там буквы напоминали финикийские (как и сходные I записи на Тере и Мелосе; ср. Главу I, примечание 35). I Однако такое происхождение кажется неправдоподобным, I ибо более убедительными представляются притязания Эвбеи, I поддерживавшей тесные контакты с северными сирийскими I портами (раздел 4, ниже); кроме того, создается впечатление, I что алфавит проник к грекам через какой-то единый канал. И все же критские города (наряду с кипрскими) оказались I среди тех, что первыми переняли и освоили это сиро-фи- I никийское новшество.
Гортина — извечный соперник Кносса — лежала в глу- I бине острова, к юго-юго-востоку от Кносса, по обоим бе- I регам реки Летей (Иеропотам, Митрополитанос). Она занимала стратегически выгодное положение у северной I оконечности плодородной Мессарской равнины. Она была I главным центром этой области, придя на смену поселению бронзового века — минойскому Фесту. Судя по упоминаниям в эпосе, Гортина, как и Кносс, была обнесена городскими стенами уже в эпоху бронзы — или, по крайней мере, в начале железного века. Согласно разным греческим преданиям, Гортина была основана не то критским владыкой Миносом, не то лаконскими колонистами — с названием их города Амикл перекликается гортинское культовое имя Амиклей. Другая же версия указывала на то, что сюда явились пришельцы из аркадийской Тегеи, где имя Гортин бытовало и в позднейшие времена.
Довольно большой храм в Гортине, с крупными каменными рельефами, с выложенной плитами жертвенной ямой в середине и, по меньшей мере, с тремя внутренними помещениями, прежде был отнесен к совсем ранней эпохе, но сейчас более вероятной датой представляется VII век до н. э. Должно быть, это и была та самая эпоха, когда жил и творил критский ваятель Дедал — древнейший ваятель, фигурирующий в греческой традиции. Высказывались сомнения в самом его существовании, потому что он носил то же имя, что и мифический зодчий, воздвигший Лабиринт, — и все же существование этого ваятеля вполне можно допустить. По-видимому, он жил в VII веке до н. э.; о месте его рождения не говорится ясно, но Павсаний ссылался на рассказ о том, что «Дедал женился в Гортине»12, — так что, был ли он сам гортинцем, или нет, его связи с этим городом явно были крепки.
В честь него была названа «дедаловской» характерная для рассматриваемого периода историческая стадия в развитии стиля, представленная статуэтками и рельефами из дерева, терракоты, бронзы, слоновой кости и камня; в должный черед, появилась и крупномасштабная скульптура, отмеченная сходными чертами: таковы «девушка из Оксера» и мраморное изваяние (в масштабе, превосходящем человеческий рост), которое наксосец Никандр посвятил на Делосе Артемиде (ок. 650 г. до н. э.). Говорили, что Дедал первым научился наделять свои изваяния выразительными глазами, «живыми» ногами и руками13. Однако для скульптур «деда-[ловского» стиля характерны треугольные лица с остроконечным подбородком и прямоугольные парикообразные прически. Такая прическа имела северно-сирийское происхождение, но греческие ваятели упорядочивали ее форму на собственный лад, схожий с узорами на ориентализирующих вазах. В частности, «дедаловские» терракотовые статуи были обнаружены во многих центрах (главным образом, хотя не исключительно, дорийских), в том числе и в городах и святилищах Крита, который можно считать местом возникновения этого | стиля (а также появления первых форм для отливки статуэток из этого материала).
Если дело обстоит так, то эти критские изделия являются предтечами почти всего раннегреческого искусства. В самом деле, Дипэн и Скиллид — которые, по словам Плиния, «самыми первыми прославились ваянием из мрамора»14, перебравшиеся в Сикион, — родились именно на Крите, а иные даже утверждали, будто они приходились сыновьями Дедалу15.
На вратах святилища в Принии, между Кноссом и Гортиной был обнаружен прекрасный каменный рельеф VII века до н. э., изображающий женскую фигуру16.
Рассказывали, что в ту же пору жил и знаменитый Фалет — легендарный критянин, слагавший песни и пэаны. Считалось, что он родился в Гортине (или, согласно другим версиям, в Элире или Кноссе, на этом же острове), откуда затем переселился в Спарту. Аристократическая хоровая лирика Фалета побуждала соглаждан к законопослушности, к тому же сам поэт слыл законодателем. Так, некий известный Аристотелю источник утверждал, что Фалет был наставником других первопроходцев на той же ниве — Ликурга из Спарты и Залевка из Локров Эпизефирийских17.
Вместе с тем на той же ниве закона Гортина стяжала особую славу по другой причине — благодаря массивному памятнику, известному как Гортинский кодекс18. Он представляет собой двенадцать колонн высотой в 2,8 м, испещренных 17 тысячами букв и относящихся к сравнительно поздней поре — ок. 480/450 гг. до н. э. Тем не менее они необычайно важны и для понимания предшествующей эпохи, потому что многие из этих указов, в которых перемешались отсталые и передовые воззрения, явно относятся к периоду, на двести лет предшествовавшему времени, когда здесь были высечены эти надписи. В действительности они являют для нас важнейший источник сведений относительно всего раннего, а также и классического, греческого законодательства.
Документ представляет собой ряд законов, образующих нечто вроде бессистемной кодификации с пересмотром устарелых норм. Население разделялось на «свободных людей» (которые принадлежали к мужским товариществам, откуда государство набирало должностных лиц) и на клеротов (кХарбпоа — «крепостных» наподобие илотов), которые также уничижительно именуются аяетагрог («лишенными товарищей»). Должников ожидало суровое обращение — однако менее суровое, нежели то, что бытовало во многих других местах (например, закабаление неоплатных должников возбранялось). Законы затрагивали и семейные дела, в том числе имущественные права, — и женщинам приходилось здесь куда лучше, чем, например, в Афинах. Так, когда в Гортине женщина разводилась с мужем, ей оставлялась та собственность, которой она владела ко времени замужества — а также половина принесенного ею прибытка, и половина любых тканей или одеяний, что она соткала для дома, — в том случае, если на разводе настаивал муж; если же тот слагал с себя ответственность, то о правомерности его отказа выносил решение судья. Существовали и законы относительно женщин, не имевших братьев — то есть наследниц — йАкХцхн, или, как их называли в Гортине, яатроюбхог. Опять-таки, здесь они пользовались большей свободой, нежели в Афинах, — потому что, если не находилось такого претендента на руку женщины, какого «предписывал» закон, она могла выйти за любого мужчину из своей гражданской филы, а если никто из ее филы не желал на ней жениться, она была вольна сама выбирать себе мужа. Вдобавок этот сравнительно передовой свод предусматривал и брачные соглашения для крепостных и рабов, так как браки между представителями разных общественных слоев получили необычайно широкое распространение.
Дрер располагался на северо-востоке Крита, на одном из уступов горы Кадистон (северный отрог гряды Ласити), западнее залива Мирабелло. Несмотря на свою небольшую площадь, город обладал двумя цитаделями и был одним из важнейших полисов на острове с VIII по VI век до н. э.
На месте этого поселения были обнаружены следы самого раннего из известных храмов железного века. Его строительство было начато примерно в 725–700 гг. до н. э. Руины сохранились благодаря тому, что материалом для постройки послужило не дерево, а, несмотря на столь раннюю дату, грубый камень. Вероятно, этот небольшой прямоугольный храм был посвящен Аполлону Дельфинию, который, наряду с Афиной Полиухой (Градодержицей), был главным божеством, почитавшимся в здешних местах.
Раскопкам этого сооружения предшествовало обнаружение трех изваяний, сработанных из чеканных бронзовых пластин (первоначально служивших облицовкой для деревянных поверхностей). По-видимому, они изображают Аполлона, Артемиду и Лето и являются древнейшими из известных ныне культовых изображений во всех греческих землях. Кроме того, во впадине между двумя дрерскими цитаделями лежат развалины древнейшей агоры, какая только известна в греческом мире. Она занимала обширное пространство со ступенями по краям (вдохновленными подобными театроподобными сооружениями при минойских дворцах) и, должно быть, служила местом общественных собраний — религиозных и политических, — и была прообразом театров и булевтериев позднейших греческих полисов. Эта агора явно относится к тому же времени, что и храм, так как они были возведены вдоль единой линии (и соединены двумя дорожками, поднимавшимися на холм).
Группа надписей из Дрера конца VII века до н. э. содержит рад древнейших предписаний, относящихся к области греческого права; они же являют самый ранний пример алфавитного письма, поставленного на службу государства. Здесь же имеется и первое прямое упоминание полиса как собственно политической единицы. Космам — правителям-олигархам — было воспрещено незаконно занимать должность дольше положенного срока, во избежание возможной диктатуры: один человек не имел права становиться космом дважды в течение трех лет19. Дрерские законы, наряду с наиболее консервативными указами Гортинского Кодекса, видимо, подтверждают традиционное мнение о том, что именно на Крите, прежде всех других греческих земель, законы впервые обрели письменное закрепление. Да это и подобало острову, где, согласно мифам, жил Минос — легендарный архетипичный владыка, ставший судией в загробном мире, — и где позднее родился первый из законодателей, Фалет. Критские законы слыли весьма справедливыми, их изучали и в других греческих центрах. В этой области, как и в сфере искусства, представляется возможным проследить влияние северно-сирийских и финикийских городов, чьи передовые своды законов критяне могли взять в качестве образцов.
Над восточной частью Крита господствует гора Дикте, состязавшаяся с Идой за право зваться местом рождения Зевса. Дикте отождествляли то с Ласити (горой к юго-востоку от Кносса), то (более удачно) с горой Моди, составляющей часть хребта Ситья на крайнем востоке острова и возвышающейся над святилищем Зевса Дикгейского (на месте миной-ского поселения в Палеокастро), где имеются руины VII и VI веков до н. э. Здесь и был найден сравнительно поздний Гимн к Зевсу Диктейскому20. Согласно этой версии мифа о рождении бога, которой придерживается и Аполлодор, Зевс появился на свет в пещере (отождествляемой со святилищем в Психро), хотя такая подробность, быть может, объясняется смешением с другой версией, в которой местом события называлась пещера на Иде.
Хотя на протяжении бронзового века Крит переживал небывалый расцвет и продолжал занимать видное положение на заре железного века, впоследствии острову было суждено лишь скромное место на обочине греческой истории. Он почти не оказывал влияния на ее ход, — за исключением того, что он «поставлял» Греции многочисленных пиратов и немалое число колонистов21, а также огромное количество воинов-наемников (пращников и лучников), которые искали себе более завидной доли, нежели та, что ждала их на небогатом родном острове.
Глава 2. КИПР: САЛАМИН, ПАФОС
Кипр лежит километрах в восьмидесяти к югу от Киликии (юго-восточный край Малой Азии). Этот крупнейший в восточном Средиземноморье остров достигает наибольшей ширины в 96 км, а в длину имеет 224 км, причем треть этой длины составляет мыс Динарет (Карпас), вытянувшийся на северо-восток. Простиравшуюся среди гор равнину Месаорию покрывали густые леса, так что в избытке имелась древесина для строительства кораблей (хотя естественных гаваней на острове не много) и для плавки медной руды, запасы которой были здесь гораздо обильнее, чем где-либо еще в Средиземноморье, — поэтому впоследствии римляне стали называть металл лучшего качества aes Cyprium («кипрской медью»), по имени острова.
В эпоху поздней бронзы здесь существовали значительные микенские поселения, когда остров служил важным опорным пунктом на пути между Левантом и западными землями, — поэтому впоследствии Кипр, как и Крит, сохранял исключительно тесную связь с прошлым, с традициями микенского мира. Ибо местное население было потомством тех самых ахейцев (микенцев). К тому же киприоты — невзирая на приток греческих переселенцев из Пилоса и других городов Балканской Греции, а также на сравнительно непрерывную связь с избежавшими разрушения Афинами и Эвбеей (Лефканди) — продолжали говорить на собственном древнем диалекте греческого языка, обнаруживавшем родство со сходным явлением лингвистического обособления в Аркадии, благодаря чему эти два наречия были объединены под названием аркадокипрского диалекта22. Для записей на этом языке применялась (не совсем подходящая) система позднебронзового века, состоявшая из 56 или 57 знаков классического кипрского слогового письма (произвольно выбранных из двухсот знаков микенского линейного письма Б) — и это еще одно подтверждение того, сколь крепки оставались связи с прошлым.
Кипру, в отличие от Балканской Греции, не суждено было веками прозябать во тьме неграмотности. Более того, на острове благополучно процветали различные города-государства, среди которых особенно выделялись Саламин и Пафос. Сильны здесь были и местные монархии, не уступавшие места аристократической системе правления, как это происходило в прочих краях греческого мира.
Однако начиная примерно с 1000 г. до н. э. на Кипр стало проникать все больше сирийцев, а до 800 г. до н. э. важные островные области заселили финикийские колонисты. Это была своего рода «восточная параллель» совместному заселению Сицилии финикийцами (карфагенянами) и греками. На Кипре крупнейшим из нескольких финикийских полисов было царство в Китионе (Карт-Хадашт), неподалеку от Лар-наки, на юго-востоке; там микенское население и другие переселенцы были вынуждены занять подчиненное положение. В начале IX века до н. э. в этих общинах появляются первые финикийские надписи, — а согласно одной догадке, именно с Кипра сиро-финикийский алфавит проник к грекам, которые со временем переиначили его на свой лад. Эту теорию — одну из целого множества (Глава I, примечание 35) — подтверждали надписи (а также упоминания у Геродота), где греческий алфавит именовался «финикийским» — фомкекх. Но одним из центров, где были обнаружены такие надписи, был и остров Крит, который также вполне мог оказаться опосредующим звеном в передаче письма, — хотя в целом по-прежнему наиболее правдоподобным представляется, что эта роль выпала городам Эвбеи, которым был открыт доступ к рынкам на северном побережье Сирии (раздел 4, ниже).
Приблизительно с 709 г. до н. э. на Кипре наступил период ассирийского владычества (киприоты служили в войсках Асархадцона в ход£ его вторжения в Египет в 681 г. до н. э.).
В течение VII века до н. э., пока длился этот режим, в городе процветали ремесла и наблюдалось всеобщее благоденствие. В ту пору кипрское искусство продолжало испытывать мощное ближневосточное влияние, вместе с тем не теряя собственной самобытности (отчасти уходившей корнями к микенской традиции); так что в определенном смысле Кипр — подобно Криту — оказался предтечей художественных движений в других греческих землях. Согласно одной теории, «эолическая» капитель впервые появилась на Кипре, хотя другим местом возникновения этого ордера называлась Финикия; греческое искусство резьбы по драгоценным камням также возводилось к кипрским мастерам, которые были знакомы с финикийской техникой их обработки.
После падения Ассирии (612 г. до н. э.) кипрские полисы ненадолго обрели независимость, но затем, в начале 560-х гг. до н. э., оказались в подчинении у Египта. На протяжении этого краткого периода египетского господства остров достиг вершины в своем культурном развитии. Пока сохранялись древнейшие традиции — не в последнюю очередь, и в религиозной сфере, — кипрская цивилизация процветала, ведя живейшие связи с ближневосточными и эгейскими центрами. Но ок. 545 г. до н. э. египетская держава ослабла, и киприоты были вынуждены покориться персам. Хотя в эту пору на острове были заброшены некоторые поселения, кипрские корабли и воины участвовали в ряде походов против Карии, Вавилонии, а затем и против Египта.
С 520 г. до н. э. цари кипрских городов начали чеканить собственные деньги. Монархи Китиона и Лапета — другого семитоязычного города, находившегося на севере, — выбивали на монетах финикийские надписи, но остальные шесть государств предпочли воспользоваться местным слоговым письмом: это были Саламин (северо-восток), Пафос (запад), Амаф (юг), Идалий (центр) и Марий (северо-запад). Но вскоре эти знаки на кипрских монетах сменились греческими буквами. Ибо если персы едва оставили след в кипрской культуре, то влияние греков-ионийцев, напротив, становилось все заметнее и шире. На острове появилась кипро-гре-ческая школа ваяния, начался ввоз восточно-греческих и аттических ваз (которым местные мастера порой подражали), а также греческих терракотовых статуэток. Накануне 500 г. до н. э. среди кипрских городов наметились четкие разногласия: одни заняли прогреческие, другие проперсидские позиции. Во время Ионийского восстания против персов финикийские города Кипра сохраняли верность Персии, зато греческие предприняли попытку мятежа, которая была подавлена (499–497 гг. до н. э.), о чем будет сказано в свой черед, по мере рассмотрения отдельных городов.
В микенскую эпоху на месте Энкоми, на восточном побережье Кипра (в 8 км от современной Фамагусты), существовал город, соединенный с устьем реки Педией (Педиас) пригодным для судоходства каналом. Но ок. 1075 г. до н. э. поселение в Энкоми сменилось соседним Саламином. Его акрополь размещался на плато, которое возвышалось над широким песчаным заливом возле устья реки, служившим естественной бухтой.
Согласно греческим мифам, основателем города был Тевкр, сын Теламона — царя другого, более древнего Сала-мина, что неподалеку от побережья Аттики (Глава И, примечание 15). Считалось, что первыми здешними поселенцами были греки, покинувшие родные места во время краха микенской цивилизации, — хотя, вне сомнения, они затем перемешались с теми микенцами, что населяли их новообретенную родину. Прочность таких связей с эпохой бронзы, характерных для многих областей Кипра, подтверждается археологическими данными.
Богатые находки из гробниц местных царей, живших в роскоши ассирийских подданных (гробницы эти появились ок. 750 г. до н. з. и продолжали возводиться в VII веке), вызывают в памяти описания пышных погребений в гомеровских поэмах. В действительности это сходство, быть может, отчасти обязано именно знанию Илиады, как раз распространявшемуся в греческих общинах в те годы. Кроме того, существовали еще и Киприи (Κύπρια) — эпос VIII века до н. э. в одиннадцати книгах, приписывавшийся то Гомеру, то (что более правдоподобно) Стасину Кипрскому или Гегесию из кипрского Саламина, и повествовавший о событиях, предшествовавших Троянской войне.
Правитель Саламина Эвелфонт (ок. 560–525 гг. до н. э.), мирившийся вначале с египетским, а затем с персидским засильем, имел и собственное политическое честолюбие. При нем Саламин был виднейшим полисом на Кипре — это признала царица Кирены Феретима, просившая Эвелфонта о военной помощи (в 530 г. до н. э.). В самом деле он даже хотел, чтобы его почитали царем всего острова. Об этом говорит чеканка саламинской монеты, за выпуск которой он взялся, по-видимому, первым из кипрских монархов, — возможно, в начале 520-х гг. до н. э. Ибо эти монеты, хотя для них использован персидский весовой стандарт (и хотя на них выбит египетский анх — Т-образный крест, увенчанный петлей), свидетельствовали о подчинении Саламину киприотов в целом: по-гречески указывались две первые буквы общего имени островитян (Ки>. Кроме того, Эвелфонт стремился к поддержанию связей и с остальными греками и, руководствуясь такой мыслью, отправил в Дельфы посвятительный дар — сосуд для воскурений.
Вместе с тем он прекрасно сознавал, что его политическое могущество зависит от дальнейшего благоволения персидское го владыки. Торг, правнук Эвелфонта, унаследовал его осмотрительность и потому отказался ввязываться в Ионийское восстание, направленное против персидского ига. Однако в результате он был свергнут своим младшим братом Онесилом, который примкнул к противной стороне и возглавил участие Кипра в мятеже. А участие это стало особенно деятельным после того, как эретрийская флотилия разгромила флот тех киприотов, что встали на сторону персов. Но в сражении под стенами собственного города (в 498 г. до н. э.) Онесил был побежден и убит персами, и те вновь утвердили над островом свое владычество.
В Старом Пафосе, на западном побережье Кипра, находилось святилище древней богини плодородия, в чьих обрядах фигурировали храмовые проститутки и священные голуби. Оно восходит еще к месопотамской (шумерской) Инанне и семитской Ашторет-Астарте-Иштар (Приложение 1), но впоследствии греки сплавили культ этой богини с почитанием Афродиты-Киприды. Именно в Пафосе микенцы впервые встретились с этой царицей чувственной любви — и отождествили ее с собственной Великой Богиней (рхубаскх); и именно отсюда распространился по Греции культ Афродиты. Пафосское святилище стало знаменитейшим храмом богини во всем Средиземноморье. Стоял храм на том самом месте, где, по преданью, она впервые ступила на землю, родившись из морской пены, — хотя право зваться родиной Афродиты оспаривал, например, и остров Кифера (в новогреческом произношении Китира), лежащий неподалеку от южного побережья Лаконии.
Ходили разные предания и об основателе храма и города Пафоса. Согласно одной версии, им был Агапенор, царь Тегеи в Аркадии. Другой же миф называл Кинира, царя Пафоса и всего Кипра, — того самого, который, как говорилось в Илиаде, подарил Агамемнону нагрудник перед походом на Трою; его потомки, Кинирады, образовали целую династию царей-жрецов, правивших городом на протяжении долгих веков.
Как показали раскопки, Пафос уже существовал микенскую эпоху (поздняя бронза, ок. 1200 г. до н. э.), а в соседней деревне (Скалес) были обнаружены захоронения раннего железного века. В надписи ассирийского правителя Асархад-дона, относящейся к 673/672 гг. до н. э., упомянут пафосский монарх Этеандр23. Внутри холма высотой в 915 м были раскопаны остатки древнейших укреплений; имелись следы осады и противоосадных сооружений: так, ввиду срочной | нужды строительный материал был позаимствован из ближайшего святилища. Должно быть, такая спешка сопутствовала | суровым сражениям в ходе участия эллинизированных кипр-: ских городов в Ионийской восстании, в результате которого в 498 г. до н. э. Пафос был разрушен персами. (На смену [Старому Пафосу пришел новый город, возникший к концу | IV века до н. э., в 16 км от прежнего.)
Другим кипрским городом, жестоко пострадавшим в Ио-; нийском восстании, были Солы. Этот город (Потамос-ту-Камбу) возле бухты Морфу имел акрополь, возвышавшийся к над нижней частью поселения, примыкавшей к самой гавани. I Согласно одной легенде, город основал герой Акамант, сын I афинского царя Тесея, с Фалером, которому приписывали также сооружение афинского порта Фалер. Другая же версия | относила возникновение Сол к гораздо более поздней эпохе, связывая их основание с именем афинского законодателя Солона. Тот будто бы, посетив Кипр (ок. 594 г. до н. э.) по приглашению Филокипра, царя Эпеи (Вуни), посоветовал ему перенести свой город в более удобное место, поближе к морю, — и там царь будто бы построил новое поселение, назвав его в честь гостя Солами (ЕбАхп).
Однако подобные «истории» — всего лишь шовинистичес-| кие подтасовки афинян, ибо в действительности Солы были куда древнее (как показали раскопки, они существовали уже в эпоху поздней бронзы), и к их возникновению Афины не имели ни малейшего касательства. Вероятно, это поселение, под именем Силлу, упоминается в надписи 673/672 гг. до н. э. ассирийского владыки Асархаддона. Впоследствии город попал под влияние персов и присоединился к неудачному Ионийскому восстанию против них. Солы продержались дольше всех прочих городов, но после пятимесячной осады пали; их царь I Аристокипр, сын Филокипра, погиб (497 г. до н. э.).
Курион, город на юго-восточном побережье, во время восстания ждала иная участь. Это древнейшее поселение, I некогда являвшееся пышным микенским центром, а позднее, согласно Геродоту и Страбону, заселенное аргивянами24, [подпало власти сначала ассирийцев, а затем персов. Против последних курионцы выступили, поддержав Ионийское восстание, во главе со своим монархом Стасанором, но потом I предали мятежников, дезертировав в решающей морской битве при Ладе (495 г. до н. э.), что привело к гибели Онесила Саламинского и определило исход восстания.
Глава 3. КИРЕНА
Киренаика (известная также как Кирена), область в Северной Африке, занимала обширный округленный мыс, простиравшийся от залива Большой Сирт (Сирта, Сидра) на западе до египетской границы на востоке. Но из-за пустынь, отрезавших ее от Египта, Киренаика была более доступна для Греции, и хотя ее засушливые внутренние земли заселяли ливийские (берберские) племена, — северная прибрежная полоса (где в трех разных областях урожай собирали в разное время) оказалась занята группой греческих колоний.
Древнейшей из них была Кирена. Геродот весьма подробно живописует ее основание, и рассказ, несмотря на мифологические вкрапления, подтверждает подробная надпись, представляющая собой указ метрополии о выведении этой колонии25. Историк повествует о том, как в начале 630-х гг. до н. э., следуя совету дельфийского оракула, небольшая группа греков по причине голода была вынуждена покинуть родную Теру (совр. Тира, Санторин) — остров в Кикладском архипелаге, где правила горстка аристократов, что вели род от первых дорийских пришельцев26. Эти островитяне, ядро которых составляли граждане, набранные по жребию (весьма ранний зафиксированный случай подобного метода — усугублявшегося угрозой наказания для ослушников), с некоторым числом добровольцев, — отправились на выселки к берегам Киренаики — прибрежной области, еще не попавшей в подчинение ни одной могучей державе.
С помощью самосских купцов и под водительством Коро-бия из Итана на Крите — ловца улиток-багрянок (цорех), переселенцы доплыли до островка Платея в заливе Бомба (неподалеку от берегов Киренаики), где и высадились. Спустя год к ним присоединилась еще одна группа терян, прибывших сюда, как передавали (и у нас не имеется оснований в этом сомневаться) под началом некоего Аристотеля. Однако жизнь здесь не пришлась по вкусу колонистам, и они обратились в Дельфы с жалобой. В Дельфах же недовольным напомнили: им ведь было велено заселить Ливию — а остров Платея едва ли может считаться ее частью. Следуя этому указанию, переселенцы перебрались на материк и обосновались в Азириде (Вади-эль-Чалиг, возле Дарниса [Дерна]), где прожили еще шесть лет.
Но позже, в 632 г. до н. э. (если принять датировку Евсевия), соседи-ливийцы указали им землю получше, отведя на место будущей Кирены, в сотне километров к западу. Там, заверяли туземцы, они обретут «небо в дырках» — то есть обильные дожди. Там-то переселенцы и осели окончательно, а их предводитель Аристотель, облекшись царской властью, принял имя Батта (I). Вероятно, слово «баттос» по-ливийски означало «царь» и служило чем-то вроде титула, какой носили фараоны — властители Нижнего Египта. А то, что Аристотель взял себе такое прозвание, говорит об участии самих ливийцев в основании нового города, хотя на этой стадии речь еще не шла о гражданских правах.
Новая колония, удаленная на 9,6 км от моря, располагалась на известняковом плато (Аль-Джабаль-аль-Ахдар), возвышавшемся на 5490 м. Впереди расстилались плодовые сады, а позади — тучные нивы, где произрастали злаки для потребления и вывоза. Поселение занимало выступавший отрог — позднее, акрополь, — с запада и юго-запада защищенный глубоким изогнутым рвом, а *на северо-востоке — открытой долиной. С южных склонов на эту долину струились воды из «источника Аполлона», чья невеста, богиня природных сил Кирена (ее имя будто бы происходит от ливийского слова куга, обозначавшего асфодель), даровала городу свое имя.
Перед источником располагалась узкая терраса, а под ней простиралась еще одна, более широкая, терраса, где стоял главный храм города с алтарем Аполлона, восходивший к VI веку до н. э., но после того многократно отстраивавшийся. Неподалеку возвышались храм и алтарь Артемиды, развалины которых, с богатым и весьма разнородным пластом фундамента, относятся почти к самому времени основания города, — хотя, опять-таки впоследствии святилище не раз восстанавливали. Вокруг этих двух главных храмов располагалось несколько второстепенных святилищ. В некотором удалении находился священный участок с могилой Аристотеля Батта I — первого из основателей греческих колоний, о чьем посмертном чествовании в качестве героя (трах;) сохранились недвусмысленные свидетельства.
Вскоре город расширил свои первоначальные границы, захватив основную часть плато, другой холм, что пониже, и выплеснувшись на окрестную долину. Здесь был огромный храм Зевса, о чем свидетельствует дорическая колонна, ныне вновь поставленная стоймя. Это святилище, относящееся к первым годам существования колонии, тоже впоследствии подвергалось частым перестройкам, будучи ок. 515 г. до н. э. разрушено персами (а в 115 г. н. э. — восставшими иудеями; окончательно же его уничтожили христиане). По соседству (за Вади-Бель-Гадиром) был раскопан священный участок Деметры и Персефоны, занимавший пятиступенчатую террасу.
Вокруг города появились некрополи с могильниками и вырубленными в скалах саркофагами, являвшими большое разнообразие форм. Древнейшие из этих гробниц (VI век до н. э.) располагались вдоль дороги, что вела к киренскому порту, в 19 км к северу, — Аполлонии (которая в византийскую эпоху превратится в главный город области). Там археологи совершили немало открытий, хотя большинство береговых сооружений ныне сокрыто под толщей вод.
Аполлония возникла ок. 600 г. до н. э., и в ту же пору киренцы отрядили поселенцев на запад, основав колонию в Эвгесперидах (Бенгази), на мысе, обращенном к северным берегам морской лагуны. Предварительный же шаг в этом направлении был сделан еще раньше, когда киренцы выслали колонистов в Тавхиры (ныне Токра), что примерно на полпути в ту же сторону; там были обнаружены черепки восточно-греческой и критской керамики. Это было делом рук Аристотеля (Батта I) и его преемника Аркесилая I. Последний к тому же учредил в Кирене монархию — наподобие тех, что существовали в Фессалии и Македонии, — опиравшуюся на знать из числа конников-землевладельцев (а порой и враждовавшую с ними). В правление следующего царя, Батта II Эвдемона, или Счастливого {ок. 583–560 гг. до н. э.), колония упрочила свои позиции: по наущению дельфийского оракула, сюда хлынул новый поток греков-пересе-ленцев с островов (в том числе с Крита и Родоса [из Линда]); прибыли сюда и пелопоннесцы {ок. 573 г. до н. э.).
Однако таковая экспансия привела к отчуждению коренного ливийского населения. Поначалу отношения с ними были весьма дружественными. Ливийцы нашли колонистам удобное место для поселения, вошли в подданство их правящей греческой династии (откуда и появился, как уже говорилось, ливийский царский титул — Батт), и, несмотря на свой полукочевой образ жизни, начали вступать с ними в смешанные браки. Поэтому происходил взаимный обмен обычаями, и в Кирене не были редкостью ливийские имена.
Но отныне приток новых поселенцев начал представлять угрозу для этой былой дружбы, так как пришельцы принялись отбирать у ливийцев землю. Между двумя общинами вспыхнула война. На помощь ливийцам пришел Априй (Хофра), ок. 588 г. до н. э. унаследовавший престол египетских фараонов. Так как он не решился выслать своих гре-чееких наемников (лучшие войска, имевшиеся у него), опасаясь, что их верность службе дрогнет при встрече с против-никами-греками, — он ограничился лишь египетскими отрядами. Их сил оказалось недостаточно, и они были наголову разбиты в сражении при Ирасе (ок. 570 г. до н. э.).
В итоге ливийцы были вынуждены покориться киренцам. Но при Аркесилае II Жестоком (правил примерно с 560 г. до н. э.), хоть местный поэт Эвгаммон и превозносил правящую династию в своей Телегонии — возводя ее род к самому Одиссею, — внутренние распри предоставили недовольным возможность отыграться. Ибо Аркесилай II настолько рассорился с младшими братьями, что они вовсе покинули Кирену, перебравшись на 120 км западнее, и основали там собственный город — Барку (Аль-Мардж). Она была удалена на 26 км в глубь суши от Тавхир, но могла пользоваться двумя гаванями, укрытыми между мысом и соседними островами. В этом предприятии участвовали ливийцы, которых рассерженные основатели Барки подстрекали и к возобновлению дойны с Аркесилаем II. Тот же, вознамерившись вновь вогнать их в покорность, оказался заманен в пустыню, где потерпел сокрушительное поражение, потеряв убитыми семь тысяч киренских гоплитов. Некоторое время спустя, по свидетельству Геродота, Аркесилаю наследовал его брат Галиарх; но вскоре новый властитель был умертвлен вдовой Аркесилая Эриксо, которая таким способом заполучила трон для своего сына, Батта III Хромого27.
Пока не наступили эти смутные времена, Кирена благополучно процветала, извлекая немалые доходы из торговли зерном, маслом, лошадьми и шерстью. (На одной лаконской вазе даже изображен царь Аркесилай II, самолично надзирающий за взвешиванием и погрузкой шерсти.)
Другим выгодным источником прибыли было дикорастущее целебное растение — сильфий, — которое так до сих пор и не поддается точной идентификации, несмотря на тщательное воспроизведение на киренских монетах (выпускавшихся примерно с 560/530 г. до н. э.) как самого растения целиком, так и его листьев, и семенной коробочки или плода, и набухшего бутона. Согласно одной из догадок, это был лазерпиций (laserpitium, latifolium, родственный assa foetida). Сильфий, который был специфически киренской диковинкой (выяснилось, что он не переносит пересадки), славился по всему Средиземноморью. Его листья годились в пищу, корень засаливали впрок; употребляли его как слабительное и как антисептическое средство. По существу, силь. фий стали рассматривать как панацею от всех бед — от змеиного укуса до простуды. Так как ему приписывались столь разнообразные целебные свойства, — сильфию, несомненно отводилась важная роль в учениях врачебной школы, возникшей в Кирене в VI веке до н. э., — одной из старейших подобных школ во всем греческом мире.
Однако в период правления Аркесилая II центральная власть в киренском государстве оказалась заметно подорвана — в силу раздоров в царском доме и, прежде всего, в силу недавнего военного краха. Поэтому преемник Аркесилая, Батт III, прибег к услугам знатока — Демонакта из Манти-неи, что в Аркадии, — дабы подвергнуть пересмотру государственное и законодательное устройство Кирены и тем положить конец всем разногласиям. Демонакт не предлагал упразднить монархию, но урезал ее полномочия, сведя их к жреческой деятельности и пышной видимости. Кроме того, он разделил население на три филы, которые состояли, соответственно, из граждан, происходивших с Теры, вместе с «окрестными жителями» (туземцами-периэками; ср. Главу I, примечание 61), пелопоннесцев (предположительно, спартанцев) и критян, а также выходцев с других островов.
Эта попытка уравнять в положении представителей разных слоев местного населения (тем самым упразднив привилегированный статус потомков первых поселенцев) примечательна тем, что периэки оказались включены в первую из упомянутых фил28. Ибо, вопреки противным утверждениям, они, очевидно, были потомками тех ливийцев, что в самом начале участвовали в основании Кирены; теперь же, благодаря содействию Демонакта, им было предоставлено полное равенство с греками. Кроме того, их внесение в списки также способствовало значительному увеличению численности этой первой из трех новообразованных фил.
Однако сын Батта III, Аркесилай III, оказался недоволен ограничением царских полномочий, сопутствовавшим реформам Демонакта, и вознамерился обернуть дело вспять. Его попытка не удалась, и он бежал из страны в сопровождении своей матери Феретимы. Ее старания заполучить поддержку Эвелфонта, могущественного царя кипрского Саламина, не увенчались успехом, но Аркесилаю III удалось набрать войско из числа самосцев, посулив им земли, и цаправить этот отряд на отвоевание своего царства. Однако жестоким обращением с поверженными соперниками он нажил себе столько врагов, что ему вновь пришлось покинуть Кирену, оставив мать за правительницу. Там Феретима самолично распоряжалась делами Совета, пользуясь такой полнотой власти, какая и не снилась большинству гречанок в ту эпоху. Между тем Арке-силай III удалился в Барку, где обрел защиту, и женился на дочери местного царя Алазеира (ливийское имя). Но родственники и потомки тех киренцев, которых изгнал в Барку Аркесилай II, подстрекнули народ к мятежу, и Аркесилай III пал от рук убийц.
После такой беды его вдова Феретима, чей отец был убит в той же резне, бежала в Египет и обратилась за помощью к правившему там персидскому сатрапу Арианду. Ее покойный муж в свое время успел войти в подчинение персидского царя Камбиса (525 г. до н. э.) — когда тот завоевал Египет, — и теперь у сатрапа имелись веские причины вступиться за династию Баттиадов, тем более, что это открывало возможность для расширения персидского влияния над Ливией в целом. Поэтому он отрядил многочисленные сухопутные войска под командованием некоего Амасиса (не путать с его тезкой-фараоном), и тот после длительной осады захватил Барку (ок. 515 г. до н. э.), благодаря помощи местных предателей. Впоследствии Феретима вновь воцарилась в городе и казнила зачинщиков восстания. Во время этих потрясений Барка понесла серьезный ущерб (хотя и не была полностью разрушена, как полагает Геродот29), а многие ее граждане были высланы в Бактрию в Центральной Азии. Пострадала от разрушений и Кирена.
Но персы, распространяя свою власть над большинством обитаемых и пригодных для обработки земель этого края, назначили Батта IV, сына убитого киренского монарха Аркеси-лая III, царем над всей страной, включая четыре греческих города — Кирену, Барку, Тавхиры и Эвгеспериды. Батт IV мечтал создать под опекой персов собственную крупную сухопутную державу — странное желание для грека в ту эпоху. Но когда, по его настоянию и, очевидно, по наущению дельфийского оракула, некий Дорией, сын спартанского царя Анаксимандрида и сводный брат Клеомена I, попытался продвинуться в глубь Киренаики, на запад (ок. 514–512 гг. до н. э.), его попытка основать колонию на реке Кинип (Уэд-Укирре) натолкнулась на сопротивление карфагенян, которые держали под своим влиянием все окрестные земли. Тем не менее династия Баттиадов сменилась республиканским правительством лишь ок. 440 г. до н. э., — и к той поре в ней насчитывалось уже восемь поколений.
Хотя существуют некоторые подтверждения того, что греки поддерживали прямые связи с финикийскими городами-государствами30, — по меньшей мере еще три портовых города на северном побережье Сирии, за пределами самой Финикии, сыграли даже более значительную роль в раннегреческой истории, служа своего рода каналами, по которым всевозможные ближневосточные товары поступали в греческие земли. Среди них были и предметы, представлявшие художественную ценность, которые послужили толчком для «ориентализирующей» стадии в греческом искусстве. Кроме того, по-видимому, оттуда же к грекам был завезен и алфавит.
Одним из этих центров — и портом, занимавшим ведущее место в греческой торговле на протяжении почти всего VIII века до н. э. и последующих веков, — была торговая гавань в Аль-Мине (ее точное название неизвестно) возле устья реки Оронт (Эль-Аси), на территории нынешней турецкой провинции Хатай. Прилегающий холм (Сабуни) являет следы поселения микенской эпохи (поздняя бронза) и его торговой деятельности. Важнейшее же торговое поселение возникло здесь в последней четверти IX века до н. э.31 Оно находилось в пределах арамейского царства Унки (Паттин), лежавшего вокруг Кунулуа, или Калеха (Телль-Тайинат?), и примыкавшего к другому арамейскому государству Гузана (Телль-Халаф). Греческим купцам не приходилось рассчитывать на дружбу между этими сирийскими царствами (Приложение 1) — но, коль скоро большинство этих властителей были друг с другом на ножах, торговцы оставались в выигрыше, ибо их странам не грозило сколько-нибудь согласованное нападение.
В торговых делах Аль-Мины принимали участие финикийцы и киприоты, а возможно, и народы Малой Азии, но большинство купцов происходило, вероятно, из раннегреческих полисов — Халкиды и Эретрии на Эвбее, — наряду с кик-лад цам и, зависевшими от эретрийцев, и, в меньшей степени, выходцами из городов Родоса и других восточногреческих областей. Торговцы эти скупали в Аль-Мине ткани, слоновую кость, металлы (особенно золото) и рабов, и оттуда, начиная с VIII века до н. э., переправляли все это в греческие города, ~ те же взамен слали вино и оливковое масло.
Среди получателей ближневосточных товаров были и западногреческие города. Ибо существовал канал сообщения между Аль-Миной — через посредничество не только Халки-ды и Эретрки, но и Керкнры (Корфу), первоначально эретрийской колонии, — с прочими эвбейскими торговыми постами, вплоть до Юго-Западной Италии. Особенно следует отметить Питекуссы (остров Искья) и Кумы, что лежали по другую сторону моря, на побережье Кампании. Из этих же пунктов иноземные товары поступали к этрускам, которые, со взаимной выгодой, обменивали свою медь, железо и олово на золото и прочее добро, привозимое из греческих портов в Сирии.
По всей вероятности, алфавит, переиначенный греками из северносирийского и финикийского письма (отсюда и его название — φοινχκεια — у Геродота и в надписях; примечание 11), также впервые проник в Халкиду и Эретрию на Эвбее из Аль-Мины и других портов Северной Сирии32. Хотя таковую роль могли оспаривать и другие греческие центры (Глава 1, примечание 35), вполне возможно, служившие дополнительными связующими каналами, — все же, опираясь на эпиграфические и исторические данные, можно утверждать, что именно эвбеяне первыми из греков переняли алфавитное письмо. Насколько позволяют судить наши нынешние знания, одна из самых ранних надписей, выполненных греческим алфавитным письмом, появилась в халкидском эмпо-рии в Питекуссах.
Правда, в самой Аль-Мине не сохранилось никаких эпиграфических свидетельств, несмотря на большое количество найденной керамики — как греческой, так и негреческой, — но, быть может, это чистая случайность. Если уж на то пошло, то в Аль-Мине не обнаружено и никаких следов греческих захоронений или сооружений. Иными словами, ничто не указывает на то, что здесь была греческая колония или город. Города и племена (έθνη) не были единственными формами устройства раннегреческого общества. Существовали еще и торговые посты (έμπόρια), которым установления и тех и других были свойственны лишь в зачаточном виде. В ходе своей эллинизации Аль-Мина (где обитало также немало выходцев из ближневосточных стран) и была одним из таких эмпориев — подобно Питекуссам и (поначалу) Кумам, лежавшим в противоположном краю греческой ойкумены.
Очевидно, ок. 700–675 гг. до н. э., во время восстания киликийцев (на юго-востоке Малой Азии; см. Приложения, примечание 2) против ассирийского господства, — Аль-Мина подверглась разрушению. Позднее город был отстроен заново, причем греческое присутствие заявляло о себе больше, чем прежде, — вероятно, в силу того, что финикийцы понемногу уходили на запад, чтобы избежать ассирийского гнета, о таком укреплении греческих позиций красноречиво свидетельствует появление на этой стадии керамики не только из Коринфа (которую заносили сюда эгинцы, да и сами коринфяне), но и из различных восточногреческих центров. Незадолго до 600 г. до н. э. здесь возводились новые и восста навливались старые постройки — возможно, вслед за укоренением вавилонского владычества. Однако в течение первой половины VI века до н. э., о чем говорит «зияние» в археологическом материале, строительство в Аль-Мине не велось. Здесь возможны два объяснения. Либо завоевание этой области вавилонянами, как только что говорилось, не привело ни к каким восстановительным работам, а напротив, принесло лишь ущерб, — либо нам просто недостает сведений о самой местности ввиду того, что в течении Оронта давно произошли изменения.
Но в любом случае после того, как вавилонское господство сменилось персидским, здесь возник новый город (ок. 520 г. до н. э.), ввозивший огромное количество товаров, особенно из Афин. Исследования местности показали, что здесь существовали одноэтажные ремесленные мастерские, лавки и склады. Они были построены из сырцового кирпича, покоились на каменных основаниях и имели внутренние дворики.
Другим греческим торговым центром был Посидейон (Рас-эль-Бассит), удаленный отсюда на 20,8 км и расположенный по ту сторону горы Касий (Мусадаг), к югу от Оронта. Как показали недавние находки, он поддерживал торговые отношения с греками почти со столь же древних времен, что и Аль-Мина. Греки часто называли мысы Посидейонами — в честь бога моря Посейдона, — вот и это поселение на сирийском побережье лежало неподалеку от одного такого мыса, ныне известного как мыс Бассит. От места поселения в глубь суши идет дорога среди холмов, уводящая к долине Оронта.
В Посидейоне существовало поселение микенской эпохи (поздняя бронза), служившее, подобно Аль-Мине, эмпорием для эвбеян и других греческих купцов, налаживавших торговый обмен между своими родными краями и заселенными областями на западе. От того Посидейона ныне мало что осталось, но в начале прошлого столетия его руины все еще виднелись.
Третьим подобным центром был Палт (Телль-Сукас, Будда), находившийся километрах в пятидесяти южнее Поси-дейона. Над холмом с привычными микенскими развалинами оказались следы поселения раннего железного века, возникшего здесь ок. 850 г. до н. э. Об этом говорили находки керамики, происходившей, по большей части, с Эвбеи и Киклад. Сохранились и руины древнего храма, однако нельзя установить, был ли он греческим. Но торговый пост в Палте представлял в глазах греков особую ценность, ибо, избегая государства Унки, не всегда дружественного, он поддерживал отношения с центром обработки слоновой кости Хамой, столицей другого царства, Хамата, в глубине Сирии, — пока Хамат не был разрушен ассирийцами ок. 720 г. до н. э.
Палт тоже, в свой черед, подвергся серьезному разрушению (ок. 675 г. до н. э.). Но затем поселение было отстроено заново, и на протяжении последних лет этого века сюда стекалось все больше товаров из восточногреческих городов (в отличие от Аль-Мины, которая в эту пору уже зачахла). Однако ок. 588 г. до н. э. Палт постигли новые потрясения, а спустя некоторое время, ок. 552 г. до н. э., он пострадал еще сильнее, возможно, от вавилонян.
Здесь обнаружились остатки храма в греческом стиле, а какая-то гречанка выцарапала свое имя на ткацком грузиле. Но было бы неверно полагать, будто Палт действительно был греческим городом или даже колонией какого-нибудь греческого полиса. Это был такой же торговый центр, или эмпо-рий, как Аль-Мина и Посидейон.
Египет (Приложение 1) в ту раннюю эпоху был менее доступен для греков, нежели Сирия. Однако к 660 г. до н. э. в дельте Нила появились броненосные ионийские воины вместе с негреками-карийцами: до этого они либо служили наемниками у лидийского царя Гига, либо преследовали собственные пиратские цели. По прибытии они поступили на службу к фараону саисской династии Псамметиху (Псамтику) I (ок. 663–609 гг. до н. э.), который впоследствии разослал их не только в подвластные ему египетские города-гарнизоны — в Марею (на западе: местоположение доподлинно не установлено), в Дафны (Телль-Дефенне, пост на восточной границе) и в Элефантину (на юге: эти наемники оставили граффити на ногах изваяний в Абу-Симбеле, ок. 591 г до н. э. 33), — но и в города-лагеря (Стратопеды) по обоим берегам восточного (Пелусийского) рукава Нила, где их присутствие (по крайней мере, в несколько более поздний период) было выявлено в ходе недавних раскопок.
Кроме того, Псаметтих I отрядил наемников-милетян в так называемую Милетскую крепость возле Больбитского устья Нила, на западе дельты (ок. 650 г. до н. э.), а позднее — после того, как они разгромили египетского узурпатора Инара, — позволил им основать торговый пункт (эмпорий) в Навкратисе (по-египетски Пиемро, совр. Ком-Гиейф), на самом западном рукаве реки, где были обнаружены греческие изделия VII века до н. э… Априй (Хофра, 589–570 гг. до н. э.) двинул 30 тысяч ионийских и карийских наемников против Амасиса (Амоса), но безуспешно, так как Амасис в конце концов вышел победителем и сменил его на фараон-ском престоле (570–526 гг.). Этот филэллински настроенный правитель, взявший в жены греческую девушку родом из Ки-рены, стал (на некоторое время) союзником Поликрата Самосского и слал дары различным греческим полисам, среди которых были Линд, Кирена, Самос, Спарта и Дельфы.
Тот же Амасис (если только Априй до него уже не предпринял первых шагов) не только набрал себе личную стражу из числа греческих и прочих наемников, но и превратил На-вкратис в крупнейший открытый порт и торговое звено между востоком и западом. Навкратис был не колонией какого-то одного греческого города, а эмпорием наподобие тех торговых портов в Сирии, о которых шла речь выше. Внутреннее устройство сирийских таких городов-рынков воссоздать нельзя, зато нам известно, что в Навкратисе действовал договор, предусматривавший совместное участие в его торговле целого ряда греческих государств. Ибо, как сообщает Геродот, обнесенное стеной святилище в Навкратисе, известное как Эллиний, было возведено сообща девятью такими восточногреческими полисами — четырьмя ионийскими (Хиос, Клазомены, Теос и Фокея), четырьмя дорийскими (Родос, чьи три города, позднее слившиеся в один, действовали совместно, а также Галикарнасе, Книд и Фаселида) и одним эолийским (Митилена)34.
С другой стороны, Милет и Самос (извечные враги), а также Эгина (единственное не восточногреческое государство, представленное здесь), имели свои обособленные святилища — посвященные Аполлону, Гере и Зевсу, соответственно. Установлено также местонахождение храмов Диоскуров и Афродиты, возможно, принадлежавших и другим греческим общинам. Таков исключительный пример успешного сотрудничества между несколькими независимыми городами-государствами; и союз этот оказался весьма длительным и прочным. Он зародился в пору мощной экспансии греческой торговли (что доказывается местными находками — керамикой из самых разных центров) и послужил прецедентом для живейшего насаждения колоний в других краях, которое тоже потребовало известного (хотя не столь широкого и более формального) межполисного сотрудничества, потому что колонистам из метрополий зачастую нужно было пополнять свои ряды выходцами из чужих государств.
По утверждению Геродота, Навкратис стал единственным портом в Египте, где фараоны разрешали греческим купцам высаживаться и селиться. Однако великое множество находок в северо-восточной части дельты — более чем в десятке различных мест — наводит на мысль, что такое утверждение упрощает суть дела. Тем не менее при всем филэллинстве Ама-сиса, в его интересах было не позволять грекам разбредаться по всей стране, — к тому же предполагалось, что Навкратис станет главным очагом их деятельности, под фараонском надзором. Вдобавок этот город служил портом для Саиса, египетской столицы, что была удалена отсюда всего на 16 км.
Главным товаром, который Навкратис мог предложить грекам — приезжим и поселившимся в здешних местах, — было египетское зерно (о котором с восхищением упоминал Вакхилид35). Они вывозили на родину это зерно, а также фаянс, алебастр и некоторые выделанные товары — такие, как лен (потребный для изготовления одежды и парусов) и папирус (применявшийся в качестве писчего материала и для плетения корабельных канатов). Взамен же купцы везли сюда серебро (которым фараоны выплачивали жалованье наемникам), а также греческую древесину, зерно, оливковое масло (для большинства целей подходившее лучше, чем египетское касторовое масло) и вина (обладавшие лучшим вкусом, нежели египетские сорта). Так, брат Сапфо Харакс, приплывший в Навкратис из Митилены, привез в Египет груз лесбосского вина и завел здесь любовницу — одну из тех соблазнительных продажных красавиц, которые, по словам Геродота, «в На-вкратисе вообще отличались особой прелестью»36. Рассказывали также, что при Амасисе Египет посетил Солон37, тем самым упрочив среди греков славу этой страны как обители древней премудрости. В одном из своих стихотворений он упоминал Канопское устье Нила, как раз являвшееся морским входом в Навкратис.
Другие же греческие купцы, приезжавшие в эмпорий, осе-дали здесь, пополняя число постоянных жителей. Вместе с тем, должно быть, протекло немало времени — согласно преобладающему мнению, несколько веков, — прежде чем египетские власти позволили Навкратису обрести статус и порядки, подобающие полноценному городу. После того, как Египетское царство разрушили и прибрали к рукам персы (525 г. до н. э.), торговый центр продолжал процветать, хотя размах его деятельности стал уж не тот. Позднее он стал предметом поэмы «Основание Навкратиса» (Аполлония Родосского), а в книге «Об Афродите» Полихарма, уроженца Навкратиса, также, надо полагать, сообщались сведения из местной истории. Другими здешними историками были Харон и Филист. Но, пожалуй, величайшим поводом для гордости городу служило то обстоятельство, что именно через него — но, быть может, и через другие греческие поселения, разбросанные по Египту, — греки в других краях впервые (или заново, после длительной утраты связей с эпохи бронзы) познакомились с достижениями египетского зодчества и ваяния, которые они затем быстро усвоили и усовершенствовали. Часто высказывалось предположение (несмотря на сомнения), что греческие куросы были вдохновлены именно египетскими статуями в человеческий рост; а про Феодора Самосского рассказывали, например, что он применял египетскую технику38. В то же время очевидно, что уже сам вид сооружений в этой стране послужил грекам мощным стимулом для создания первых монументальных храмов на собственной земле.
ЧАСТЬ VII. ЗАПАД
Глава 1. КАМПАНИЯ: ПИТЕКУССЫ И КУМЫ
Проникновение греков в земли Южной Италии и Сицилии, произошедшее в весьма раннюю эпоху, вылилось в отважнейшее и плодотворнейшее предприятие: за короткий промежуток времени появились греческие колонии в Кампании, у Тарентского залива (залив Таранто), на берегах Сицилийского (Мессинского) пролива и в Восточной Сицилии.
Эти заселенные колонистами области Италии вскоре стали известны под именем «Великой Греции» — возможно, оттого, что географическая протяженность освоенного материкового края оказалась неслыханно обширной и великолепной. Местный климат — жаркое, сухое лето и мягкая зима (особенно в прибрежных районах), — вкупе с характерными свойствами почвы, моря и растительности, представлял для греков, в целом, знакомое и благоприятное окружение, куда они могли перенести собственные сельскохозяйственные культуры и другие приметы бытия, почти не ощущая перемены.
Сперва внимание греков привлекло западное побережье — Кампания, область к юго-востоку от Лация (Latium, ныне Лацио). Здешние вулканические почвы отличались чрезвычайным плодородием, что не укрылось от греков, — хотя поначалу многие греческие колонии основывались исключительно в целях торговли.
Первое из этих поселений возникло в Питекуссах (ni-тпехгхккхЕ, также Инарима (Ivotpipe), Энария (Aevapia), ныне Искья) — на плодородном острове в 11 км от материковой Кампании, неподалеку от северной оконечности Кумского или Кратерского (ныне Неаполитанского) залива (aivua Хх>-pavoa). Керамика греческого происхождения, восходящая к микенской эпохе (поздний бронзовый век, ок. 1400 г. до н. э.), была обнаружена здесь на крутом, хорошо защищенном мысе Монте-Вико, над Гераклионом (совр. Лакко-Амено) у северо-западного края острова, где к плоскогорью с полоской пахотной земли с обеих сторон прилегают укромные гавани.
В дальнейшем — но не позднее 775/770 г. до н. э. (о чем говорят предметы из местных захоронений) — на этом же месте возник греческий торговый пост (эмпорий) — еще не город1. Основателями поста были выходцы из Халкиды и Эретрии (в последнем случае, вероятно, — политические ссыльные) — эвбейских городов, которые и возглавили великую экспансию, затеянную греками в ту пору. (К этим купцам присоединились и некоторые жители Кимы — только, вероятно, не известного города в Эолиде [запад Малой Азии] с этим названием, а того городка на Эвбее [ныне Палеокастри?], который и подарил свое имя эолийскому городу, а позднее и Кумам.) Такая связь с Эвбеей подтверждается и данными археологии: в Питекуссах был найден кубок (ок. 750 г. до н. э.) с надписью, сделанной на халкидской разновидности греческого алфавита. Это самый ранний из известных нам образцов записанных стихов — три строки, в которых упоминается воспетый в «Илиаде» кубок Нестора. На другом сосуде, обнаруженном в окрестностях, изображено кораблекрушение, свидетельствующее о раннем интересе эвбеян к морским путешествиям.
Собственно, их эмпорий в Питекуссах и был первоначально создан ради налаживания морской торговой связи с Этрурией — областью на Тирренском побережье, дальше, за Тибром, — чьи запасы металла, особенно железа и меди, были насущно необходимы грекам2. Этой связи способствовало и существование важнейших этрусских поселений в самой Кампании. Среди них выделялась Капуя, которая, вероятно, выступала посредником в перевозке металлов из Этрурии в Питекуссы. Кусок железа (гематита), обнаруженный в нижнем археологическом слое в Питекуссах, происходит с богатого металлом этрусского острова Ильва (Эльба); а прочие питекусские находки свидетельствуют о ранней обработке железа — это шлак, блюмы (куски железа, переплавленные в бруски) и поддувала кузнечных мехов.
Обычно в перевозке металлов существовали три ступени: от места извлечения руды до плавильни, оттуда до ремесленной мастерской, а затем от мастерской до получателя. В Питекуссах же второй стадии не требовалось, потому что желе-зоплавильни и кузнечные мастерские сосуществовали бок о бок. (Так же дело обстояло в западносицилийской Мотии [Мотххх, Могил] > с чьими финикийскими [карфагенскими] куп. нами сознательно соперничали эвбейские торговцы в Пите-куссах и прочих краях, — как представляется, порой даже самолично отправляясь в Карфаген3.)
Если правители этрусских городов-государств исправно снабжали питекусских купцов железом и медью, то их побуждало к этому, главным образом, золото, которое те поставляли взамен этрускам: об этом свидетельствуют богатые захоронения VIII века до н. э., найденные в городах Этрурии. Эвбея не же приобретали это золото через свои эмпории в Аль-Мине, Посидейоне и Палте в Северной Сирии (Глава VI, раздел 4), а возможно, и через торговые кварталы в портах самой Финикии. Правда, остается неясным, где именно оно было обращено в те украшения, что обнаружились в этрусских гробницах, — быть может, в Сирии, или в Питекуссах, или в самой Этрурии, — и кто его обрабатывал — чужестранцы или местные мастера, или и те и другие. Как бы то ни было, контакты Питекусс с Востоком засвидетельствованы археологическими находками — привозными скарабеями (геммами, или печатками в форме жуков), которые создавались финикийцами под влиянием египетских образцов (и вызвали подражания на острове).
Кроме того, на одной амфоре, сделанной из питекусской глины, обнаружена арамейская надпись. Уже упоминалось о появлении халкидского алфавита на сосуде местной работы. Это лишний раз подтверждает догадку, что греки позаимствовали письменность у финикийцев через Аль-Мину и другие эвбейские эмпории в Северной Сирии. Согласно этой правдоподобной гипотезе, эвбейские купцы, торговавшие в сирийских эмпориях, занесли алфавит не только на свой родной остров, но и дальше на запад, в Питекуссы, а оттуда он проник в другие греческие поселения в Южной Италии и на Сицилии.
Обращают на себя внимание греческие похоронные обычаи в Питекуссах. С покойниками обращались по-разному, в зависимости от возраста: трупы взрослых сжигали, детей же хоронили в земле. Но при этом поверх детских гробов водружали массивные каменные плиты, чтобы их разгневанные духи не выбрались наружу — в противном случае они могли бы это сделать, потому что, как считалось, отлучение от взрослого погребального обряда лишало их полноценной загробной жизни. Рабов погребали вместе с семьями, которым они принадлежали.
Приблизительно в 500 г. до н. э. Питекуссы были разрушены вулканическим извержением горы Монтаньоне — небольшого кратера главной горной гряды Эпомей (Эпомео). Вулкан этот, ныне потухший, в античные времена действовал.
Однако задолго до этой катастрофы торговля в Питекуссах потеряла былую значимость — ввиду того, что эвбеяне основали второй эмпорий, позднее превратившийся в настоящий город, — Кумы (Киму) на материке напротив.
Кумы лежали за северной оконечностью Кумского (Неаполитанского) залива. Акрополь возвышался над береговой полосой, удобной для причала, и над укромной гаванью у стока (ныне не существующего) из Лукринского озера (Lucrinus lacus, ныне лагуна Фузаро). Этот акрополь был заселен примерно с 1000 г. до н. э. коренными жителями (осками — 'OrciKoi). Греческие купцы из Питекусс (остров Искья) перебрались сюда ок. 575 г. до н. э., основав торговый пост в Кумах и усмирив осков либо уговорами, либо силой. Большинство пришельцев, возглавляемых Мегасфеном, было родом из Халкиды, но его сотоварищ Гиппоклеид происходил из маленького эвбейского городка Кимы, которое и дало свое имя кампанскому городу (как и Киме в Эолиде). Среди основателей поселения были и грайи (племя, жившее вблизи беотийской Танагры), от чьего этнонима и произошло впоследствии латинское слово Graecus — «грек».
Приблизительно в 730/725 г. до н. э. торговый пост в Кумах обрел статус греческой колонии и города, став самостоятельным. Почва окрестных равнин была достаточно плодородна, чтобы жители Кум выращивали зерно и для себя, и на вывоз (с начала VII века до н. э. его грузили и перевозили в сосудах, являвшихся хорошими местными копиями коринфских пифосов). Возможно, именно благодаря их усилиям в Италии привились культуры винограда и оливы.
К тому же представляется, что именно через их посредничество греческий алфавит, проникший на материк из Питекусс (как сказано выше), попал к этрускам (Приложение 3), которые приспособили его под собственные нужды. Ибо Кумам принадлежала главенствующая роль в быстро наладившихся связях между греками и городами-государствами Этрурии. В основе этих отношений лежал торговый обмен: этрусское железо и медь обменивались на золото, завозимое в Кампанию эвбеянами.
Гражданам Кум приносила прибыль и ловля рыбы и раз. личных панцирных в соседних полусоленых озерах — Авери-ском и Лукринском, — расположенных внутри полуострова который с севера замыкал залив. Вулканический кратер Авер* на, имя которого чрезмерная фантазия древних производила от слова йоруо^ («лишенный птиц») — оттого якобы, что зловонные испарения озера губили пролетавших над его водами птиц, — был, согласно местным преданиям, тем самым местом, где Одиссей и Эней спускались в подземное царство мертвых. Правда, иногда то же рассказывали о Лукринском озере (впоследствии известном как Ахерусия, начало Ахеронта в Аиде), отделенном от моря узкой косой, через которую некогда Геракл будто бы прогнал стада Гериона (позже в ней прорыли канал).
Вскоре Кумы превратились в крупную политическую державу, стремившуюся целиком завладеть Сицилийским проливом — каналом сообщения между греческими метрополиями и Ближним Востоком. По словам Фукидида, первыми поселенцами в Занкле (позже Мессана, ныне Мессина), в наиболее узкой части пролива4, были кумские пираты. В дальнейшем к ним присоединились колонисты, прибывшие напрямую из Халкиды и других эвбейских городов. Должно быть, заселение это произошло в очень раннюю эпоху, так как фрагменты керамики, находимые в Занкле, восходят к 730–720 гг. до н. э. Позднее выходцы из Кум основали (гораздо ближе к родным краям) Дикеархию (ок. 621 г. до н. э.; Пу-теолы, Поццуоли) и Неаполь (ок. 600 г. до н. э.), впоследствии ставший главным городом этой области.
Кумы были знамениты и своей Сивиллой — одной из десятка таких пророчиц, появившихся в греческом мире вслед за Сивиллой из Марпесса в Троаде (хотя на первенство притязали и Эритры в Ионии). Самая первая кумекая вещунья носила имя Амалфеи (возможно, как и ее преемницы). Согласно Вергилиевой «Энеиде»5, Сивилла изрекала оракулы, будучи медиумом Аполлона (пришедшего здесь на смену Гере в качестве главного божества). А как-то раз, согласно легендарному преданию, она вела здесь переговоры с этрусским царем Рима, Тарквинием Древним (ок. 616–579 гг. до н. э.). Спустившись в глубины акрополя, можно и сегодня посетить сводчатые покои, галереи и цистерны, вырубленные в скале Сивиллиной пещеры.
Но по-настоящему Кумы вошли в историю — и ввели на сцену собственного исторического деятеля, — когда диктатор полиса, Аристодем Изнеженный, затеял войну против нескольких этрусских городов-государств, которые прежде приносили Кумам столько барышей; или, быть может, этрусские воины, сражавшиеся с ним, были просто вольными отрядами разбойников, которые орудовали сами по себе. Так или иначе, этрусское войско, набранное (по крайней мере, отчасти) из Клузия в Северной Этрурии и даже из Спины на берегу Адриатики, — возможно, по приглашению или при поддержке этрусского соседа Кум, Капуи, — двинуло «долгим маршем» в Кампанию. По пути к нему примкнули новые отряды, например, из Ардеи в Лации. Когда этруски столкнулись с войсками Аристодема, тот нанес им жестокое поражение, хотя нигде не говорится, удалось ли ему вовсе прогнать их. Позднее, между 506 и 504 гг. до н. э., Аристодем заручился помощью других латинян, не ладивших с ардейцами, и снова разгромил этрусских соседей — или захватчиков. Одержав эти две победы, Аристодем обезопасил Кумы от этрусской угрозы, до тех пор, пока обоих соперников не смели с дороги самнитские племена, нагрянувшие из Центральной Италии.
Глава 2. СИБАРИС, КРОТОН (ПИФАГОР), ЛОКРЫ ЭПИЗЕФИРИЙСКИЕ
Другой областью, которую охватила греческая колонизация, был полуостров на самом юге Италии. Позднее эта местность звалась Бреттии (Бруттии); на оскском наречии означало «рабы» или «беглецы», что указывало на некоторую ущербность племени, носившего такое имя, по отношению к другой, более многочисленной, италийской народности — луканам, которые прежде держали их в подчинении. Теперь же эта область называется Калабрией — что таит в себе некоторую путаницу, ибо в древности Калабрией звалась другая часть Италии — «пятка» Апеннинского «сапога».
Ок. 730–720 гг. до н. э. халкидяне основали Регий (Реджо-ди-Калабрия) на стратегически важной южной оконечности полуострова7, а несколько лет спустя ахейцы заложили Сибарис на «подъеме» того же «сапога», образованном Тарентским заливом (ныне залив Таранто), лукой Ионического моря. Сибарис, первоначально звавшийся Лупией, был основан предположительно ок. 720 г. до н. э. (несколькими годами ранее, чем Тарент8, достигший славы значительно позже), и имеющиеся археологические данные восходят почти к самой этой традиционной дате. Его основатели, предводи-мые неким Исом из Гелики (согласно не очень внятному сообщению Страбона9), явились из Ахайи, области на севере Пелопоннеса, где обитали, впрочем, отсталые племена (микенского происхождения10). Они нуждались в земле и почти не имели возможностей для торговли на родине, и потому возглавили колонизацию крайнего юга Италии — в том числе Сибариса. Согласно Аристотелю, часть переселенцев, обосновавшихся в здешних местах, происходила из Трезена в Арго-лиде11.
Новое поселение заняло обширную низину, граничившую на отрезке в шесть с половиной километров с приморской полосой между реками Сибаридой (Кошиле) и Крафидой (Крати). На побережье велась добыча улиток-багрянок (murices); внутренние земли тоже были открыты для поселенцев, благодаря соглашению с сердеями — местным племенем, обитавшим по соседству и избежавшим истребления со стороны колонистов. С их помощью (обусловленной смешанными браками) Сибарис расширил свои владения, заняв соседнюю равнину с плодородными наносными почвами, и сумел, если верить Страбону, утвердить свое господство над четырьмя этническими группами и подчинить не менее чем двадцать пять городов12. На монетах города (с 550 г. до н. э.) было выбито изображение быка, изначально воплощавшего речное божество Крафиды; в то же время оно напоминало о богатстве, которое приносили сибаритам тучные стада, наряду с овцами, дававшими ценную шерсть. Вскоре богатство и неслыханная роскошь, в которой купались сибариты, вошли в поговорку13.
Сибарис способствовал также основанию новой ахейской колонии —· Метапонта на берегу залива, ближе к северу14. А с благословения оракулов в Дельфах и Олимпии он отправил колонистов и в западную часть италийского «сапога», на Тирренское побережье —· в Лауду (Лао) и Скидр.
Было и еще одно сибарисское поселение, куда вела дорога через долину, — на том же западном побережье, на месте древней Посейдонии (Пестума), у северной оконечности Луканин (ныне юго-восточная Кампания). Находки керамики в Посейдонии заставляют предположить, что она была основана ок. 625–600 гг. до н. э. Здесь же видны и хорошо сохранившиеся остатки трех святилищ — одно из наиболее значительных скоплений дорийских храмов во всем греческом мире. Древнейший из них — так называемая «базилика» (ок. 550 г. до н. э.), — был, вероятно, святилищем Зевса и Геры. К северу от него стоит сооружение (ок. 500 г. до н. э.), известное как «храм Цереры», — но скорее всего, оно было посвящено Гере и Афине15. Возле Священной дороги находятся руины подземного святилища (mfryeiov), где поклонялись Гере, приблизительно той же эпохи. А в 13 км к северо-западу, возле устья реки Силар (Фоче-ди-Селе), имелось еще одно святилище той же богини; там была найдена сохранившаяся почти целиком серия песчаниковых метоп (ок. 575–550 гг. до н. э.), некогда украшавших храмовую сокровищницу. Хотя, судя по чеканным изображениям на монетах, колония в Посейдонии не находилась в политической зависимости от Сибариса, — само ее существование помогало купцам-сибаритам поддерживать выгодные связи с этрусскими городами-государствами, расположенными далее вдоль того же Тирренского побережья, и соревноваться с кампанскими эмпориями в Пи-текуссах и Кумах, основанными незадолго до возникновения Сибариса.
Вдобавок, сибариты — хотя их единственная гавань представляла собой открытый рейд, — извлекали выгоду из своего географического положения на побережье Ионического моря, стараясь завязать контакты как с западными, так и с восточными землями. Так, они установили тесную связь с Милетом, привозя оттуда ткани — и для собственных нужд, и для прибыльного обмена с этрусками, которые затем везли их через Лауду дальше, в Северную Этрурию.
В начале VI века до н. э. Сибарис, пожалуй, превосходил все прочие полисы величиной и богатством. Говорили, что внутри его городских стен, достигавших небывалой длины в 10 км, проживало сто тысяч жителей. Дороги здесь были тенисты, чисты и содержались в отличном состоянии. В пределах города запрещено было держать голосистых петухов; не пускали и крикливых торговцев. Зато рыбаков и продавцов пурпурной краски освобождали от уплаты податей. Поварам присуждали награды и воздавали почести за изобретение новых блюд. Сибариты завели паровые бани, взяли за обычай, подобно этрускам, возлежать за трапезой вместе с женами, — и тем навлекли возмущенные попреки со стороны греков, живших в прочих краях. В самом деле — восклицали хулители, — сибариты ведут образ жизни столь изнеженный, что даже от розовых лепестков их чувствительная кожа покрывается волдырями, а при виде человека, занятого тяжким трудом, у них и вовсе делается грыжа.
Но куда большим бедствием была для сибаритов их неис. требимая склонность к внутренним распрям, — объяснявшая, ся в данном случае, как считалось, этническим смешением с местными жителями: сколь бы благими целями ни была про-никнута такая дипломатия, она лишь обострила извечную болезнь греков — страсть к политическим смутам.
Тем не менее, по утверждению Страбона, сибариты в ту раннюю эпоху сумели набрать трехсоттысячное войско, в том числе пять тысяч всадников16. Такая цифра — явное преувеличение, даже если учтены силы союзников, — но мощное войско Сибарису действительно было необходимо, так как его отношения с южным соседом, Кротоном, отравлялись постоянными вспышками вражды. Это наводит и на мысль о том, что большинство насмешек над сибаритами исходило как раз со стороны кротонцев.
Правда, был в течение VI века до н. э. такой период, когда оба государства действовали заодно: а именно, ок. 530 г. до н. э. они объединились, чтобы уничтожить Сирис — ко-лофонскую колонию (основанную в начале VII века до н. э.), которая лежала между Сибарисом и Метапонтом (тоже примкнувшим к разгрому). Но вскоре злополучные распри в Си-барисе, где присвоил диктаторские полномочия некий Телий, отличавшийся демократическими наклонностями, — позволили Кротону нанести удар под тем предлогом, что в его помощи нуждались представители знатных имущих сословий, бежавшие от сибарисского самодержца. И вот, с помощью спартанского искателя приключений, царевича Дориея (он уже попадался нам в Кирене: Глава VI, раздел 3), кротонцы напали на Сибарис и захватили его — а затем стерли с лица земли (510 г. до н. э.).
А сделали они это, повернув вспять течение Крафиды, так что ее воды затопили город, — и тот оставался затерянным и невидимым до тех пор, пока двадцать лет назад, после продолжительных поисков, его местопребывание наконец не было установлено. С помощью насосов, дрелей и магнитометров были обнаружены основания строений VI века до н. э., а также кровельная черепица, керамика и печь для обжига глины, относящиеся к той же эпохе. Должно быть, в древнем Сибарисе хранилось и немало произведений искусства, — но они пока не найдены. Мощеный участок возле пристани (ныне — в 3 км от моря), очевидно, служил стоянкой для кораблей.
После разрушения Сибариса (это неслыханно жестокое обхождение одного греческого полиса с другим причинило немало горя милетянам, торговым союзникам сибаритов17) те из жителей, кому посчастливилось уцелеть, укрылись в своих бывших колониях — в частности, в Посейдонии, процветанию которой они немало способствовали. Прошло более полувека, прежде чем кто-либо из этих беженцев или их детей решил вернуться в родные места, где, претерпев множество трудностей, они заложили новую колонию, обретшую международный статус, — Фурии (443 г. до н. э.).
Кротон (совр. Кротоне) — южный сосед Сибариса, впоследствии погубивший его, — находился по другую сторону от устья реки Эсар (Эзаро), на мысу, к которому с обеих сторон примыкали неплохо защищенные гавани. Когда-то здесь обитали мессапы, но позднее, предположительно ок. 710 г. до н. э., сюда приплыли ахейские греки (соотечественники тех племен, что незадолго до того основали Сибарис чуть севернее) под началом Мискелла из Рип (Кунари).
Ранние даты основания этой колонии подтверждаются археологическими находками: так, обнаружились следы улицы VII века до н. э., установлено местонахождение цитадели, определена линия городских стен и к тому же прослежены остатки гаваней (обведенные каналом). Раскопки также помогли воссоздать план главного кротонского святилища Геры Лаки-нии, которое стояло на мысу Лакиний (Колонна), в 11 км к юго-востоку от города. Храм существовал здесь еще до 600 г. до н. э. (хотя сохранившиеся развалины относятся лишь к середине V века до н. э.).
По мере того, как новый город рос и процветал — возможно, благодаря серебряным копям, так как в окрестностях Кротона были обнаружены груды шлака с содержанием серебра, — он расширял свои владения, заняв плодородные равнины, лежавшие к югу, и основав собственные колонии — сперва Кавлонию (ок. 675/600 г. до н. э.) у пограничных земель, а затем Терину — с другого края Апеннинского полуострова, на побережье Тирренского моря.
Знаменитейшей личностью из всех, кто жил в Кротоне, был Пифагор. Будучи сыном Мнесарха Самосского, он покинул родной остров ок. 531 г. до н. э. — возможно, из-за разногласий с самосским самодержцем Поликратом, — и перебрался в Южную Италию, где его второй родиной стал Кротон. По всей видимости, он сам никогда не записывал своих учений, что дало повод ко всяческим кривотолкам, порождая неумеренную хвалу и столь же неумеренную хулу, в частности, отсутствие записанных текстов, которые восходили бы к самому учителю, практически не позволяет рассудить какие именно изречения из тех, что приписывались ему последователями его плодовитой школы18, в действительности принадлежали Пифагору. Судя же по загадочным высказываниям, приводимым его учениками, а также по его «жизнеописаниям», гораздо позже составленным Порфирием и Ямв-лихом, — учение Пифагора являло причудливую смесь из религии или суеверия, наставничества (на манер «гуру») в общинном кругу, исследований природы (Сотор1са) — и отвлеченных рассуждений, имевших предметом математику и музыку.
Если обратиться для начала к наиболее «научным» взглядам Пифагора, то он, очевидно, утверждал, что мир (для которого он и придумал понятие космос — «порядок») возможно объяснить, лишь исходя из поддающихся исчислению данных. Иными словами, ему представлялось, что сущность мира можно истолковать с помощью чисел19, — и потому, как свидетельствовали Аристоксен и Эвдем, он взялся за всемерное исследование самих чисел20. Это дерзновенное открытие (впрочем, породившее разноречивые толки) приветствовали как «изобретение математической науки», — и пусть даже такое определение незаслуженно умаляет более ранние достижения других народов (особенно вавилонян, которые, должно быть, и повлияли на Пифагора), он действительно совершил эпохальный сдвиг в этой области, вознеся математику на некую вселенскую ступень, — так что сама природа превратилась в материю, доступную количественному измерению и исчислению.
Озарение же, в результате которого он пришел к столь разительным выводам, явилось ему благодаря открытию числовых соотношений, определяющих основные интервалы внутри музыкального ряда. Однако здесь Пифагор ввел типичное для него возвышенное понятие, отождествив тетрактй; (первые четыре натуральных числа) с гармонично-сладостной «песнью сирен» — позднее получившей название «музыки сфер» у Платона (которому мы обязаны многими — пожалуй, чересчур многими — сведениями о Пифагоре)21.
Столь фантастическое определение не было чем-то из ряда вон выходящим для учения Пифагора, потому что его научные — или псевдонаучные — исследования неразрывно переплелись с разного рода выдумками, которые, несмотря на присущую им причудливую логику, оставались далеки от всякого научного метода. Так он стяжал себе славу знатока сокровенных тайн и чудотворца, а кроме того, заявлял, что обладает (и, быть может, действительно обладал) исключительной духовной мощью. Одной из особенностей его учения, вызывавшей возмущение и неприязнь, было обилие всякого рода волшбы (окутанной назидательными толкованиями) в сочетании с необъяснимыми первобытными запретами, — причем Пифагор будто бы проповедовал перед слушателями, обрядившись в «театральное» облачение — белый хитон, штаны и золотую диадему. Вероятно, такая мешанина возникла благодаря разрозненным рассказам его последователей, живших в разные эпохи, — зато другие подробности явно имеют отношение к собственным высказываниям Учителя.
Кроме того, учение о противоположностях, казавшееся столь плодотворным в изложении Анаксимандра Милетского и Гераклита Эфесского, — Пифагор облек нелепыми чертами женоненавистничества, достойными разве что Гесиода или Семонида. Он заявлял, что мужчины, хоть и «ограничены», — имеют природу правую, светлую и благую, женщины же не ограничены (в своих опасных свойствах, когда те вырываются наружу), и суть имеют левую, темную и дурную. Во всяком случае, Аристотель передавал, что именно таковы были Пифагоровы воззрения22. Вполне возможно, что истинная сущность высказываний Пифагора на сей счет была в действительности куда сложнее: ведь у нас имеются сведения совершенно противоположного характера, а именно — что среди его последователей было много женщин и что они были допущены в его «братство» на равных основаниях с мужчинами.
Более неопровержимо было учение Пифагора о человеческой душе. Он был одним из первых греческих мыслителей, кто, пойдя по следам Анаксимена и Гераклита, начал вкладывать в подобные учения определенный нравственный смысл, — тем самым наметив в философских исканиях сдвиг: от мира — к человеку; в последующих столетиях это направление предстояло развить Сократу и Платону. Пифагор рассматривал душу одновременно и как гармоничное начало в природе человека, и как микрокосм, отвечающий макрокосму живой вселенной, так как в обоих ему виделось родство с числовыми соотношениями математического ряда; такая параллель пришлась весьма по душе Платону.
Но еще Пифагор считал — и здесь нам приходится полагаться на свидетельство его (крайне ворчливого) современника Ксенофана23, — что душа есть падшее, оскверненное божество, заточенное в темницу тела, словно в могилу, и приговоренное к тому, чтобы пройти круг перевоплощений (цетецуйхюоц), вселяясь в людей, животных или в растения; но путем особого ритуального очищения можно все-таки вырваться из этого круга. Очевидно, в целом эта доктрина была вдохновлена не египетскими верованиями (такое мнение приводит Геродот — Приложение 1, примечание 27), а скорее — как и некоторые воззрения, бытовавшие среди милетских мыслителей, — индийскими Упанишадами, знание о которых, предположительно, распространялось через Персию.
Это ритуальное очищение, которому сопутствовало аскетичное воздержание, связывалось с поклонением Аполлону, весьма чтимому Пифагором, — так что кротонцы, разделявшие его приверженность этому культу (в котором бог выступал «очистителем»), отождествляли его с Аполлоном Гиперборейским (то есть «северным»). Эта связь с севером прослеживается и в Пифагоровых представлениях (засвидетельствованных у Аристотеля) о свойстве нетленной души временно отделяться от тела, так как эта теория «раздвоения», или билокации, была почерпнута из шаманских верований — зачастую называемых орфическими, — которые бытовали в Скифии и во Фракии (Приложение 2)24. Из этих отдаленных стран подобные идеи каким-то образом просочились на крайний запад, где Пифагор, возможно, впервые высказал их, или, во всяком случае, привлек к ним всеобщее внимание — как рассказывали, распространяя собственные стихи под именем Орфея25. | ш
Это искупительное очищение, полагал Пифагор, позволит душе обрести лад не только с собой и миром, но и с неизменной, вечной первоосновой истины и блага, созвучной соразмерному порядку вселенной. Пифагор утверждал, что всякий человек в силах достичь такой личной гармонии чистым мышлением, каковое он полагал высшей деятельностью, доступной людям. Иными словами, добиться своей цели можно, посвятив себя умственным изысканиям. Себя он называл «любомудром» (91X00690;), и многие соглашались с тем, что Пифагор — настоящий мудрец, который умеет объяснить, каков подлинный смысл человеческой жизни и смерти; и, по верному слову Платона, он учил проходить целиком «путь жизни». Ибо смело можно сказать, что пифагорейские взгляды на жизнь сводились к совершенно новой религии.
И в Кротоне эти взгляды привились в аскетическом братстве, спаянном общественными и религиозными узами (в том числе, совместным поклонением Музам). Вскоре это сообщество обрело мощное политическое влияние в городе: «из юношей триста человек, клятвенно обязавшихся к сохранению прав товарищества, вели отличную от прочих граждан жизнь», — и затеяли заговор против правительства, успешно его свергнув26. Очевидно, эти события вершились при личном руководстве самого Пифагора, которому после переворота досталась роль законодателя. Но когда Пифагор уже достиг старости, кротонский аристократ по имени Килон, которого некогда отказались принять в сообщество (как будто ввиду его буйного нрава), возглавил враждебную партию, вынудившую мудреца удалиться в Метапонт. Там Пифагор и умер, — но пифагорейство продолжало процветать уже без него.
Точная последовательность этих событий остается неясной, но и до и после Пифагора Кротон продолжал набирать мощь, превращаясь в величайшую державу Южной Италии. Его восхождение стало еще более стремительным, когда сеть тайных пифагорейских обществ охватила ряд других полисов, тем самым подчинив их Кротону. Эти облеченные властью братства — устроенные, согласно Полибию, наподобие гетерий 27 (и бывшие чем-то сродни союзам «вольных каменщиков»), — явились ранним и весьма характерным примером олигархического правления, основанного (как на словах, так и на деле) исключительно на выборности, а не на семейственных связях и родовой преемственности, — хотя не ясно, в какой степени пользовались предпочтением богатые соискатели.
Однако судьба Кротона не всегда оставалась безоблачной. Ему довелось понести постыдное поражение в битве на реке Сагре (Сагриано, или Турболо) — возможно, ок. 540 г. до н. э., хотя дата эта неточна, — когда 10 тысяч воинов из Локров Эпизефирийских и из Регия разгромили 130 тысяч кротонцев. Но то была лишь временная неудача. Ибо уже ок. 530 г. до н. э. — вскоре после прибытия Пифагора, который, если верить местным преданиям, способствовал поднятию духа среди граждан, — Кротон объединился со своим северным соперником Сибарисом и с Метапонтом, чтобы вместе уничтожить Сирис. А затем, ок. 510 г. до н. э., с помощью спартанского «вольного стрелка» Дориея (мелькавшего ранее в Кирене), кротонцы совершили победоносный поход на сам Сибарис, — вняв просьбам сибарисских олигархов-из-гнанников и тем самым став на некоторое время главенствующей державой Южной Италии.
Рассказывали, что эта сокрушительная победа была одержана благодаря необычайной воинской доблести Милона Кротонского, знаменитейшего из сынов этого города. Этот ученик Пифагора28, чья панэллинская отзывчивость побуждала различные полисы к состязательности, стал самым известным греческим атлетом на все времена. Благодаря Милону за его родным городом числилось неслыханное количество побед, одержанных на Олимпиадах. Этот полулегендарный человек-гора хвалился тем, что никому еще не удавалось поставить его на колени. В 540 г. до н. э. он выиграл в Олимпии на состязании мальчиков в борьбе, а затем пять раз подряд победил уже во взрослых Олимпийских играх; кроме того, он одержал еще шесть, девять и десять таких же побед на Пифийских, Немейских и Истмийских празднествах, соответственно.
Лишь значительно позднее такой культ атлетической мощи, воплотившейся в Милоне, пошел на убыль. Так, Цицерон воображал одряхлевшего борца, оплакивающего былую силу, — и добавлял при этом, что благородство такого мужа заключалось не в нем самом, но лишь в его туловище и руках; а врач Гален, живший во II веке н. э., заметил как-то, что тот бык, которого Милон пронес на плечах, а затем съел за один день (возможно, следуя неким пифагорейским предписаниям касательно пищи), был ненамного тупее самого атлета29.
Дочь Милона вышла замуж за Демокеда — представителя кротонской врачебной школы (находившейся под пифагорейским влиянием и являвшейся одной из древнейших подобных школ — Глава I, примечание 56). Демокед ездил пользовать больных на Эгину, в Афины, на Самос и ко двору Дария I. Затем он вернулся в родной город, но вскоре, по политическим причинам, был вынужден вновь покинуть его.
Хронология его жизни неясна; еще хуже обстоит с другим, более выдающимся, кротонским врачом — Алкмеоном. Возможно, деятельность Алкмеона пришлась на конец VI века, или на период после 500 г. до н. э. Он написал книгу (ныне утраченную), посвященную науке о природе, по всей видимости, отстаивая в ней «разумные» способы лечения — в противовес «исцелению» ведовством и заговорами, к которому вовсю прибегали храмовые врачеватели. Но, несмотря на свою неприязнь к магии, Алкмеон, как и Демокед, не чуждался пифагорейской мысли. Например, он уподоблял бессмертие души непрерывному круговращению небесных тел. Он приписывал различные состояния человеческого тела пифагорейскому взаимодействию противоположностей. Так, он, пожалуй, стал первым, кто приложил это понятие к врачебному предмету и пришел к выводу, что здоровье зависит от гармонии, ибо в основе его лежит исономия («равноправие») противоположностей — в отличие от болезни, которую он называл монархией, тождественной жестокой тирании (торосч^). Алкмеон также полагал, что внутри человеческого тела имеются каналы, или дорожки, связывающие органы чувств с головным мозгом (который он считал главным органом восприятия, как вслед за ним думал и Платон, но не Аристотель). Вдобавок, он основывал подобные утверждения не только на умозрительных доводах, столь излюбленных многими фечес-кими мыслителями и учеными, — и даже не на логическом заключении, хотя он и подчеркивал ценность такого подхода, — а на собственном хирургическом опыте. Ибо он смело взялся за перепарирование животных (тем положив начало эмбриологии); кроме того, он совершал и операции над человеческим глазом, что позволило ему открыть роль оптического нерва.
Для пифагорейцев Кротон оставался священным градом — градом здравых умов — благодаря философским и религиозным учениям, — и здравых тел — благодаря атлетическим победам и врачебному искусству. Однако что касается политики, то местное правительство, исповедывавшее пифагорейство, в конце концов было вытеснено иным, более демократически настроенным, режимом. Говорили, что его возглавил некий Феаг, ранее принадлежавший к оппозиционному движению. Но нельзя точно сказать, в какое время он появился на сцене (и существовал ли вовсе). Быть может, его переворот имел какое-то отношение ко второму отъезду Демокеда. Ясно лишь одно: как только влияние пифагорейства в Кротоне ослабло, кровавые сословные распри вспыхнули в городе с такой яростью, какая была редкостью даже для греческих полисов.
Локры Эпизефирийские (Западные Локры) находились на берегу Ионического моря, у южной оконечности италийского «носка». Город был основан греческими поселенцами, согласно Евсевию, в 679 или 673 г. до н. э.; такое предположение подтверждают и археологические данные — местные находки протокоринфской керамики. Колонисты, возглавляемые неким Эванфом, происходили из незначительной, отсталой и раздробленной области в Средней Греции — Локриды. Они состояли главным образом из опунтских (восточных) локров наряду с озольскими (западными) локрами (вероятно, опирав· шимися на помощь Коринфа). Среди них были также, как поговаривали, те самые лаконские рабы, которые прелюбодействовали со знатными спартанками, пока их мужья сражались на Первой Мессенской войне, — хотя порой эту историю начисто опровергали как антиспартанскую пропагандистскую выдумку.
Проведя три или четыре года на месте, потом оказавшемся неудобным (возможно, это был Зефирийский полуостров [мыс Браццано], хотя такой вывод можно сделать, лишь исходя из второго имени поселения), колонисты перебрались на 19,2 км к северу, поближе к побережью (Джераче-Марина, ныне снова Локры). Там обитали коренные жители — энотрии (т. е. сикулы — примечание 32), — которые, судя по археологическим данным, уже поддерживали связь с эвбейскими торговцами. Пришельцы коварно изгнали их из родных мест, несмотря на заключенный ранее дружественный договор. (Впрочем, нельзя точно сказать, что между ними произошло, так как подлинную историю заслонили позднейшие приукрашенные домыслы).
Местонахождение самого раннего греческого поселения в этом новом центре еще не установлено, но, вероятно, оно располагалось в холмистой части, где позднее вырос акрополь. Сколько-нибудь удобной естественной гавани у колонии не имелось, но неподалеку от причала возник еще один городок, потому что место здесь было явно выгодное: ведь Локры Эпизефирийские были последним континентальным портом на пути из Южной Италии к Сицилии. В Маразе сохранились руины святилища, построенного в VII веке до н. э. (и перестроенного в V веке до н. э.), а найденные во-тивные предметы и посвятительные надписи свидетельствуют о существовании храма Персефоны, обретшего известность после 600 г. до н. э. (вероятно, его можно опознать в сооружении на вершине холма Манелла).
Локры Эпизефирийские прославились прежде всего благодаря Залевку, который может считаться самым ранним из законо-дателей-греков, живших в историческую эпоху, в западных греческих землях. Его имя и биография окутаны легендами,
до у нас нет оснований отметать предложенную Евсевием дату — ок. 663 г. до н. э., — которая относит время его деятельности к началу существования колонии. Но когда его свод писаных законов называют первым во всем греческом мире, это противоречит сведениям о первенстве Дрера и других критских городов (Глава VI, раздел 1), которое выпало им в этой области в силу ранних контактов с финикийскими купцами, знакомыми с подобными сводами. Собственно, За-левка называли учеником критянина Фалета, хотя Эфор ошибочно полагал, что образцом для локрийских законов послужили законы не только Крита, но также Афин и Спарты (чей легендарный законодатель Ликург тоже слыл учеником Фалета)30.
Законы Залевка — насколько их возможно воссоздать — отражали правовые требования локрийского аристократического государства, опиравшегося на правление «ста домов» и распределявшего высшие полномочия среди тысячи знатнейших граждан. Меры Залевка прославились своей суровостью; они предписывали возмездие (lex talionis) и назначали точную кару за все мыслимые преступления. Говорили также, что он не одобрял изменения в законах.
Вместе с тем, как ни странно, Залевк прославился и как примиритель разных общественных сословий. Собственно, уже то обстоятельство, что его законы были вообще записаны, означало, что отныне люди по крайней мере осознавали свое положение. Эта кодификация права, следует отметить, впервые произошла в одной из западных колоний, — а это были города, вероятно, ощущавшие особую потребность в обнародовании правовых сводов, дабы унять политические раздоры, проистекавшие из неотвязных местных этнических и прочих трений, а также из тех давних случаев несправедливости в метрополии, которые ранее и побудили колонистов сняться с места и которые не должны были повториться на их новой родине. Кроме того, проведение законов оказалось делом куда более легким именно в новых поселениях, не скованных мертвящим гнетом вековых традиций, — да, помимо прочего, здесь срочно требовались постановления касательно численности поселенцев; поэтому, как передавали, Залевк и наложил запрет на продажу земли.
По тем же самым причинам и в других греческих городах Южной Италии и Сицилии возникли сходные правовые своды; древнейшим, после Залевка, законодателем считался Харонд из халкидской колонии Катаны (VI век до н. э.?)31, тогда как в другом халкидском поселении — соседнем с Лок-рами Регии — подобная роль досталась Андродаманту.
Локры Эпизефирийские воспользовались преимуществами своего расположения на узком «мыске» полуострова, выведя собственные колонии на противоположном тирренском берегу. Среди них были Гиппоний (ок. 650 г. до н. э.; позднее там возник город Вибон-Валенция), Медма, или Месма (ныне Розарно; древнейшие археологические находки относятся к периоду ок. 625–600 гг. до н. э.), Тавриан (возле Монте-Травиано; ок. 600–550 гг. до н. э.) и Матавр, или Метавр (где локрийскую колонию, основанную ок. 550 г. до н. э., впоследствии сменило поселение, выведенное Зан-клой).
Сухопутная перевозка товаров из Локров в эти колонии приносила первым немалую прибыль; кроме того, обогащению полиса способствовали и сельскохозяйственные культуры, успешно привившиеся на плодородной, хотя и узкой, прибрежной равнине. К некоторой неясной дате — возможно, ок. 540 г. до н. э., — относится уже упомянутое выше событие: в сражении на Сагре локрийцы одержали победу над гораздо более многочисленными силами кротонцев — якобы с чудесной помощью Диоскуров, Кастора и Полидевка.
Глава 3. ВОСТОЧНАЯ СИЦИЛИЯ: СИРАКУЗЫ
Сицилия, отделенная от материковой Италии узким Сицилийским (Мессинским) проливом, — крупнейший остров Средиземноморья, имеющий в поперечнике более 256 км и вытянутый почти на 160 км (в восточной части) с севера на юг. Поначалу ее называли Тринакией (от слова θρΐναξ — «трезубец»), затем Тринакрией — имея в виду ее треугольную форму. Античные авторы выделяли среди догреческого населения острова три основные группы: элимийцев (якобы троянского происхождения) на северо-западе, сиканов (от которых произошло название острова, встречающееся в Одиссее, — Σικανία) на юго-западе, и сикулов (иначе сикелов, которые и дали острову имя Σικελία, закрепившееся за ним в последующих веках) на востоке32.
В эпоху поздней бронзы (конец II тысячелетия до н. э.) на Сицилию и близлежащие Липарские острова (которые также называли Эоловыми, по имени бога ветров Эола) наведывались микенские купцы. Затем, начиная с VIII века до н. э., прибрежные области острова — в отдельных точках — принялись заселять финикийцы и греки. Однако древнейшие литературные источники, которыми нам приходится довольствоваться, весьма отрывочны, и многое навсегда останется неизвестным. Фукидид отводил хронологическое первенство финикийцам, замечая, что еще до прибытия греков они вовсю заселили сицилийские мысы и соседние островки, чтобы вести торговлю. Но когда в большом количестве появились греки, особенно в восточной части острова — которая весьма напоминает побережья Эгейского моря и располагает пригодными для возделывания землями, — финикийцам пришлось удалиться (хотя это могло произойти и не сразу) в три города на западе. Это были Мотия (Моция), Со-лоент (1оХ6ец, 8°1ипШш; Солунто) и Панорм (Палермо), причем все три впоследствии установили связи — хотя нам не известно, на чем они основывались, — с ведущей финикийской колоний в Северной Африке — Карфагеном. Но что касается истоков этих и других финикийских поселений на острове, то археологические данные пока что не подтверждают мнения Фукидида о том, что финикийцы обосновались здесь раньше греков. Нам не известно, кто первым возобновил судоходство через Сицилийский пролив — греческие или финикийские купцы. Но греки проникли сюда, по-видимому, задолго до основания своей первой колонии. Поначалу отношения между двумя народами, наверное, не были враждебными. Правда, вражда возникла в VI веке до н. э., но это еще не означает, что так же дело обстояло и в более раннюю эпоху.
В греческие колонии стекались предметы роскоши из метрополий и из Восточной Греции. Кроме того, сюда везли и мрамор, ибо местная скальная порода оказалась слишком мягкой, чтобы из нее можно было добывать перворазрядный строительный материал. Возможно, взамен они слали зерно, которое произрастало на острове в изобилии, а также овощи, плоды, древесину, оливковое масло и вино, — хотя едва ли в большом количестве, потому что все это имелось и в самой Греции. Известно, что в V веке до н. э. сицилийское вино вывозилось в Карфаген, — но неясно, когда впервые установились торговые связи с этим и другими финикийскими центрами.
Древнейшей греческой колонией на Сицилии традиционно считается Наксос (Джардини-Наксос) у подножья горы Этны на восточном побережье34, будто бы основанный в 734 г. до н. э. выходцами из эвбейской Халкиды и с Наксоса, одною из кикладских островов. Рассказывали, что Сиракузы — несколько южнее, на том же побережье — были основаны годом позже, на месте бывшего торгового поста микенской эпохи. Жителями нового поселения, которыми предводил некий Архий — находившийся, по слухам, в бегах после совершенного преступления, — стали коринфяне (или, скорее, земледельцы из Теней — деревни близ Коринфа). Согласно записям, в том же самом году другая группа коринфян (вытеснив эретрийцев и иллирийцев) колонизовала Керкиру (Корфу), служившую естественной остановкой на пути между Сицилией и греческими метрополиями.
Такую двойную колонизацию справедливо расценивали как решающий шаг, принесший Коринфу его могущество. На протяжении первых ста лет после основания Сиракуз практически вся керамика, которую они ввозили — служа главным пунктом ее распространения по всей Сицилии, — поступала из Коринфа (позднее ее вытеснила афинская утварь); и именно Коринф позаботился о соглашениях, позволявших провозить эти грузы через Сицилийский пролив. Вместе с тем Сиракузы, подобно Керкире, сопротивлялись желанию коринфян удержать влияние над выведенными ими колониями, — хотя, в отличие от Керкиры, они сохранили добрые отношения с метрополией.
Первоначально коринфская колония в Сиракузах возникла на близлежащем островке Ортигия, населенном еще с эпохи палеолита. Ортигия располагалась прямо напротив сицилийского берега, образуя две отличные естественные бухты; одна из них, прозванная Большой гаванью, была удобнейшим портом на всем восточном побережье острова. На Орпгигии имелся и мощный ключ, носивший имя Аретусы (отождествлявшейся с Артемидой Ортигией). Согласно греческой мифологии, нимфа Аретуса бежала сюда из Греции, спасаясь от любовных преследований речного бога Алфея. Однако ей не удалось укрыться на Сицилии, так как хитрый бог проник сюда через Ионическое море и слился с предметом своей любви.
Недавно на Ортигии обнаружились следы прямоугольных домов, воздвигнутых первым поколением коринфских колонистов — прямо поверх той сикульской деревни, которая существовала здесь ранее. Сама малость этих ранних греческих жилищ — в них имелось лишь по одной небольшой комнате — говорит о том, что знаменитое богатство Сиракуз оставалось в ту пору еще за горами. Однако это поселение, как показали недавние раскопки, еще до конца VIII века до н. э. стало перекидываться и на материковую часть. Там, вокруг агоры, постепенно выросли главные кварталы Сиракуз: Ахра-дина (торгово-правительственная часть), Неаполис и Тихе (северо-западная и северо-восточные части, обе жилые) и, наконец, Эпиполы на всхолмье. В 3 км к юго-западу от Ахра-дины находился Олимпиейон — святилище Зевса Олимпийского, построенное в середине VI века до н. э… Храм стоял по другую сторону Анапа — реки, вокруг заболоченного устья которой простиралась равнина, дававшая обильные урожаи зерновых. Благодаря этим произведениям полей богатела правящая знать города, носившая общее название гаморов (уор6ро1 — «распределителей земли») и составлявшая народное собрание из 600 человек35.
Это правящее сословие завладело и окрестными землями, изгнав часть туземцев-сикулов (поэтому важнейшие места обитания сикулов — в Панталике и Финоккито — оказались покинуты примерно в пору основания колонии), остальных же низведя до положения крепостных вроде илотов (киХХоргсп) или зависимых данников3®. К тому же сиракузяне сами вывели несколько новых колоний — Гелор (Элоро), ниже вдоль того же восточного побережья острова (согласно традиции, ок. 700 г. до н. э.), Акры (Палаццо-Акреиде), на крутом, хорошо защищенном холме в глубине суши (ок. 663 г. до н. э.), и Кас-мены, на еще более возвышенном месте (ок. 643 г. до н. э.).
Эти два последних поселения, в гористой местности над долиной Анапа, были созданы в военных целях. Ибо здешние окрестности были густо населены сикулами, которые в этом краю острова оказались, по сути дела, загнаны в своего рода «резервацию» и, в целом, пребывали с коринфянами в отношениях куда менее дружеских, нежели с халкидскими колонистами (раздел 4, ниже). К западу же от Касмен находилось прибрежное сиракузское поселение — Камарина (ок. 598 г. до н. э.), — которое установило более добрые отношения с соседями-сикулами — и вскоре добилось независимости от Сиракуз, подняв восстание (ок. 550 г. до н. э.). Но, что нетипично, сиракузяне сумели удержать непосредственный контроль над прочими своими колониями, которые располагались в достаточной близости, чтобы такое было возможным. Таким образом, полис обзавелся немалой территорией и успешно подчинил себе почти всю юго-восточную область Сицилии.
В эту пору возросшее могущество Сиракуз было ознаменовано строительством на Ортигии храма, посвященного Аполлону \ок. 575 г.? до н. э.). Возможно, он был крупнее всех храмов, воздвигнутых ранее во всем греческом мире — из тех, что нам известны; и, насколько нам известно, он стал первым сооружением с каменным дорийским антаблементом (если только храм Артемиды на Керкире [Глава VIII, раздел 1], в другой коринфской колонии, не древнее)37. В конце VI века до н. э. многие, наверное, считали Сиракузы (вслед за Сибарисом) величайшим городом во всей греческой ойкумене. Примерно в ту же пору сиракузские властители начали чеканить собственную — долговечную и великолепную — монету, в которой ранее не было нужды, ибо здесь имели хождение деньги их торгового союзника Коринфа. Отныне же местные деньги — основанные, кстати, не на коринфском, а на эвбейско-аттическом весовом стандарте, — понадобились для содержания многочисленных наемных войск, необходимых сиракузскому правительству для поддержания государственной мощи. Серебро, которое шло на отливку монет, несомненно, поступало в казну от взимания податей и от продажи в рабство бесправных сикулов.
Однако в течение первого десятилетия V века до н. э. славу Сиракуз ненадолго затмил Гиппократ, диктатор Гелы (раздел 5, ниже) — западного соседа Камарины. Гиппократ, ок. 498 г. до н. э. прибрав к рукам власть в родном городе, шестью годами позже наголову разбил сиракузян в битве у реки Гелор. Лишь дипломатическое вмешательство Коринфа и Керкиры помешало ему захватить и сами Сиракузы. По всей видимости, именно тогда сиракузская правящая знать, покрывшая себя таким позором, оказалась низложена в результате демократического переворота. Если дело обстояло так, что это стало предвестием бесчисленных смут и неурядиц, которым предстояло растянуться здесь на века и которые, невзирая на богатство и могущество города, так никогда и не позволяли его правителям вознестись до незыблемых вершин непререкаемой власти, столь для них лакомой.
Одним из обстоятельств, в которых коренилась причина непрестанных раздоров, был сам порядок заселения. Ибо современные исследования местности заставляют предположить, что тучные равнинные земли находились в собственности у первых поселенцев и их потомков — гаморов, — тогда как «запоздалым» пришельцам и прочим колонистам, занимавшим низшее положение, приходилось довольствоваться остатками и, скрепя сердце, ютиться по окрестным нагорьям. Сиракузы, ощутившие на себе все издержки разноплеменного общества, разделили горькую участь Кротона и Кум: полис раздирали не только междоусобные «партийные» распри, но и настоящая сословная вражда, — и потому дни его славы предстают яркими вспышками на мрачном фоне почти непрерывных, чрезвычайно жестоких внутренних борений.
В Сиракузах жил — и, вероятно, родился — комический поэт и драматург Эпихарм (хотя местом его рождения провозглашались и другие города, в том числе, Кос). Очевидно, его творчество относится к концу VI века до н. э., так как Аристотель утверждал, что тот жил «гораздо раньше Хионида и Магнета»38, афинян, одержавших победы в 486 г. и 472 г. до н. э., соответственно. (В то же время, он дожил до правления Гиерона I [478–467/466 гг. до н. э.], с которым его связывает множество анекдотов.) Хотя от его драм сохранились лишь незначительные фрагменты, мы знаем, что он был выдающимся поэтом — как замечал Платон39, который и сам, уже в собственных целях, подражал Эпихармову изящно-остроумному мастерству вопросов-и-ответов.
До нас дошло тридцать семь названий его сочинений, написанных на сицилийской разновидности дорийского диалекта, и уже сами названия свидетельствуют о чрезвычайной пестроте его произведений. Наверное, эти пьесы ставились во время местных празднеств, посвященных Артемиде и Деметре — такому предположению нимало не противоречит шутовской характер мифологических сцен, проглядывающий в доброй половине известных нам драм Эпихарма, потому что греки любили мешать серьезное со смешным. Одним из его излюбленных персонажей был Одиссей — изображаемый то как моряк, потерпевший крушение (Ναυαγός), то как дезертир (Αύτόμολος), увиливающий от опасной вылазки лазутчиков в Трою. Другой видный «герой» — Геракл, представленный здесь как неуемный половой гигант и ненасытный шумливый обжора. Написал Эпихарм и комедию на мрачный сюжет о детоубийце Медее, и еще одну, которая — несмотря на свое «ученое» название («Логос и Логина»), — как показали недавно найденные фрагменты, трактовала другой мифологический сюжет.
Драма «Прометей и Пирра» представляла собой диалог между Пиррой и Девкалионом (четой, спасшейся во время всемирного потопа) об их ковчеге. Исследование этого диалога (в сопоставлении с фрагментом из другой пьесы) породило догадку, что Эпихарм ввел на сцену троих действующих лиц (как Эсхил [ум. в 456 г.] в своих поздних тра. гедиях, ставившихся в Афинах)40. Некоторые названия пьес сицилийского драматурга, возможно, указывающие и на участие хора, напоминают названия великих аттических трагедий; причем, надо полагать, он пародировал эти трагедии — или, скорее, в большинстве случаев, более ранние аттические действа (до нас не дошедшие), посвященные тем же предметам41. Присутствие собирательных персонажей — таких, как хвастун, парасит и деревенщина ("Αγροίκος) — являет параллель к Аристофановой аттической комедии V века до н. э., и, вероятно, следует считаться с мнением Аристотеля, который указывал на зависимость этой последней от Эпихармовых сюжетов42.
Что касается предшественников самого Эпихарма, здесь трудно что-либо сказать, потому что он использовал целый арсенал различных стилей и интонаций (а также размеров). Разумеется, здесь затрагиваются эпические темы, а его похабное изображение Геракла, вероятно, отчасти восходило к более ранним дорийско-сицилийским мимам и шуточным сценкам; Эпихарм и сам ссылается на опыт Аристоксена Селинунтского, который унаследовал подобные традиции от ме-гарян. Он также с удовольствием сочинял назидательные эпиграммы (позднее собранные воедино, наряду с позднейшими подделками). Они свидетельствуют о склонности Эпихарма к философии. Так, он соглашается с утверждением Гераклита о существовании вечного мирового порядка, — а Плутарх упоминал о том, что Эпихарм обратился в пифагорейство4, хотя, быть может, это лишь домыслы.
Глава 4. СЕВЕРНАЯ СИЦИЛИЯ: ЗАНКЛА И ГИМЕРА
Эвбейский город Халкида, сыгравший ведущую роль в основании торговых эмпориев в Питекуссах (ок. 775/7704 г. до н. э.) и Кумах (ок. 750 г. до н. э.) в Кампании (в последнем случае, эмпорий лет двадцать спустя превратился в полноценную колонию), — с той же энергией и с тем же успехом выводил поселения и на Сицилии. Собственно, хал-кидский Наксос на восточном побережье считался первой греческой колонией на этом острове (734 г. до н. э.), возникшей чуть раньше Сиракуз.
Поэтому неудивительно, что примерно в те же годы Халкида смело взялась и за колонизацию берегов несравненного в стратегическом отношении Сицилийского пролива, отделявшего остров от Италии. Именно там была основана Занкла (позднее Мессана, а ныне Мессина) — на месте прежнего поселения, восходившего к бронзовому веку (и более древней эпохе). Как позволяют установить археологические данные, город был основан в течение десятилетия между 730 и 720 гг. до н. э., — хотя при жизни следующих поколений его основание возводилось — из патриотических соображений — к еще более старинным временам и даже приписывалось мифической нимфе Пелории. В честь нее были названы Пело-рийскими горы, примыкавшие с одной стороны к здешней узкой равнине; а по другую сторону равнины тянулась длинная изогнутая коса, или песчаная гряда, носившая имя той же нимфы. Форма этой естественной отмели и дала Занкле ее название — от слова ^осук&оу, означавшего «серп» на языке сикулов, которых колонисты изгнали из родных мест.
Согласно Фукидиду44, этими колонистами были греческие разбойники (халкидского или иного эвбейского происхождения) из Кум, к которым присоединились другие переселенцы из тех же эвбейских городов. Колонизацию возглавили Пе-риер из Кум и Кратемен из Халкиды. Сохранившиеся участки первоначальной колонии — различимые у точки, где «серп» смыкается с основной частью суши, — говорят о неожиданно крупном размахе этого поселения. На краю самой Пелорий-ской косы были обнаружены развалины храма VIII или VII века до н. э..
Кому был посвящен этот храм, неизвестно, — но монета, выпускавшаяся в городе (ее чеканка началась не раньше конца VI века до н. э.), ясно говорит о том, что здешними главными божествами были Пан и Посейдон. Монеты увековечили также местного героя и легендарного правителя — Эолова сына Феремона. Кроме того, на них изображался вооруженный бог Адран, чей культ вершиться в храме на западных склонах горы Этны (возле сикульского поселения Адран [ныне Адерно], в пределах огороженного святилища, где содержалось более тысячи собак-поводырей). Нимфа-основательница, Пелория, тоже была удостоена изображения на местных деньгах. На отмели, носившей ее имя, имелось три вулканических озера, немало способствовавшие процветанию Занклы, ибо в их водах в изобилии водилась рыба (а по их берегам летала и бегала разная дичь). Это было весьма благоприятное обстоятельство, так как город не отличался избытком территории. Главным же источником мощи и богат-ства Занклы стало его ключевое положение у самой узкой части пролива: властители города контролировали все мимоходные суда и взимали пошлины.
Занкла также основала два единственных греческих города на северном побережье Сицилии. Вначале она выслала колонистов в плодородные Милы (Милаццо; ок. 717/716 г. до н. э.), дабы восполнить таким образом собственный недостаток в пригодной для обработки земле. Затем другая группа колонистов была отряжена еще дальше на запад, где они и основали Гимеру (Имера; ок. 648 г. до н. э.). Здесь тоже имелись плодородные земли, к тому же отсюда открывались пути к торговле как с внутренними областями острова, лежавшими за долиной реки Гимерас, так и с элимийцами и финикийцами, населявшими дальний запад. Гимера превратилась в крайний греческий аванпост на севере Сицилии, — каким на юге был Селинунт (раздел 5, ниже).
Фукидид писал, что здешние места заселили халкидяне из Занклы, связанные с Милетидами — родом, изгнанным из Сиракуз, — и что здешние жители говорили на смеси дорийского и халкидского наречий, а обычаи и законы блюли халкид-ские45. С другой стороны, Страбон называет основателями Ги-меры занклеян из Мил46. Возможно, род Милетидов получил свое имя от Мил, где они прожили некоторое время после изгнания из Сиракуз, прежде чем переселиться в Гимеру.
Гимера же, как показали недавние раскопки, состояла из укрепленного верхнего города на холмной кромке, возвышавшейся над устьем реки Гимерас, — и из нижнего города, простиравшегося у речного рукава и бухты. Если даже традиция, приписывавшая основание Регия (города по ту сторону Сицилийского пролива, напротив) Занкле, анахронична, то, вероятно, другой занклейской колонией было небольшое греческое поселение — Матавр, или Метавр {ок. 650 г.? до н. э.), лежавший чуть выше по Тирренскому побережью; на это указывает Солин47, хотя имеются и свидетельства того, что (как уже говорилось в разделе 2) к его основанию были причастны Локры Эпизефирийские — очевидно, столетием ранее.
Эту связь между Матавром и Занклой, видимо, подтверждает и предание, гласившее, что именно первый город был родиной поэта Стесихора, — хотя впоследствии он жил — когда не был занят странствиями (посетив Спарту, а изгнанником побывав в Аркадии) — в другой занклейской колонии, Гихересе. Вероятно, родился он в третьей четверти VII века до н. э., а умер, в преклонных летах, в середине VI века до н. э. Имя-прозвище, под которым он прославился, означало «устроитель хоров», — прежде же он носил имя Тисий.
Хотя до нашего времени сохранились лишь фрагменты Стесихоровых сочинений, в древности он пользовался широчайшей славой во всем греческом мире и считался одной из виднейших личностей, повлиявших на становление лирической поэзии. Более того, именно он «нанес» западные земли на греческую культурную карту — и отныне западные греки, перестав казаться просто захватчиками чужих просторов, осевшими по каким-то диким «медвежьим углам», заявили о своем полноправном участии — а в чем-то даже о главенстве — в великой эллинской традиции. Стесихор чтился как непререкаемый авторитет в области неохватной греческой мифологии, и многочисленным критикам было что сказать о поэте. Дионисий Галикарнасский хвалил за благородство избранные им сюжеты и обрисованные характеры; Квинтилиан тоже восхищался той dignitas — нравственным совершенством, — которой были облечены его герои и героини, и называл его преемником эпических поэтов, чьи мифы и легенды Стесихор продолжал всячески расцвечивать, перелагая героическое повествование на чарующий музыкальный язык лирических размеров4^. Собственно, большинство его сюжетов было заимствовано из «дополнений» к «Илиаде» и «Одиссее», известных под общим названием «эпического цикла» (или «киклических» поэм). Он и сам дополнил этот цикл, сочинив «Разрушение Трои» Ολιου πέρσις), куда вошел рассказ о деревянном коне, сооруженном Эпеем. Кроме того, он стал одним из авторов «Возвращений» (Νόστοι) — поэмы о возвращении греческих героев с Троянской войны.
В своей «Елене» Стесихор выбрал наиболее расхожую версию мифа, согласно которой героиня охотно поддалась на улещения Париса, — и описал ее отплытие в Трою. Зато в знаменитой «Палинодии», написанной вслед за тем, он отрекается от прежнего стихотворения, говоря, что сама Елена побудила его опровергнуть обман: она вовсе не была в Трое, а в том, что все верят обратному, виноват Гомер (во второй «Палинодии» Стесихор возложил вину на Гесиода). Такой попятный шаг Стесихора отражал чисто «мужской» взгляд: столь великая война не могла вспыхнуть из-за какой-то женщины, — но, возможно, им двигало и желание полнее развить тему, уже принесшую ему успех у публики.
А быть может, он надеялся унять обиду тех, кто чтил Елену как богиню: среди них были, например, граждане Спарты которым Стесихорова «Орестея», приписавшая смерть Агамемнона их городу, немало польстила. Возможно также, что это была первая попытка наполнить это событие тем трагичным нравственным значением, на которое затем сделает упор Эсхил. Наверное, стихотворение предназначалось доя исполнения на весенних празднествах — хотя ныне ведутся споры о том, действительно ли Стесихор сочинял стихи доя таких хоров, или — по одной высказанной догадке — декламировал их сам.
В «Европе» Стесихор обращается к фиванскому циклу эпических сказаний, описывая легендарное основание этого беотийского города и излагая миф об Эрифиле, неверной жене Амфиарая, которую затем умертвил их сын Алкмеон. Поэту удалось живописать трагические последствия любви с удивительной полнотой и убедительностью. И если, как сказано выше, он выступал продолжателем эпико-героической повествовательной традиции, то он вносил в эти старинные темы трепетную новизну и изобретательность, уже предвещавшие накал афинской трагедии, рожденной последующими поколениями греков.
Стесихоровы «Погребальные игры в честь Пелия» затрагивали историю об аргонавтах и обнаруживали знакомство с Черным морем, где совершалось их легендарное плавание, а также с морскими путешествиями современной поэту эпохи. Была у него и басня о коне, которого прогнал с пастбища олень: конь обратился за помощью к человеку, но потом уже не смог от него избавиться. Очевидно, за этой притчей скрывалась подоплека местных событий: говорили, что Стесихор таким образом остерегал гимерян, враждовавших с соседями-варварами, не обращаться за поддержкой к Фалариду, которому он уже пытался помешать самовластно водвориться в Акраганте (ок. 570–554/549 гг. до н. э.; примечание 64).
Поэт был наслышан и о серебряных копях в Тартессе, на юго-востоке Испании. Это явствует из некоторых строк Ге-риониды — одного из его стихотворений о Геракле, очевидно, представлявшего самый ранний подробный рассказ о мифическом посещении героем Северо-Западной Сицилии (где он совершил свой десятый подвиг, одолев чудовищного Герио-на). Возможно, внимание Стесихора к такой теме уже ознаменовало пробудившееся стремление греческих колонистов отторгнуть все здешние земли у финикийцев и карфагенян — стремление, которое в дальнейшем обернется непрестанными войнами (ср. примечание 63).
Ксенофан — философ-поэт, или чрезвычайно самобытный и придирчивый мудрец-богослов, — служит живым доводом против географического принципа, положенного в основу настоящей книги, потому что он непрестанно странствовал с места на место, из края в край (ср. Главу I, примечание 4). Диоген Лаэрций приводит слова самого Ксенофана:
Вот уже семь да еще шестьдесят годов миновало,
Как с моей думой ношусь я по элладской земле.
Отроду ж было тогда мне двадцать пять, если только
Я в состоянии еще верно об этом судить50.
Как добавляет Диоген Лаэрций, расцвет его пришелся на шестидесятую олимпиаду (540–537 гг. до н. э.); возможно, время его жизни — 570–475 гг. до н. э. Родился он в Ионии, в Колофоне, затем был изгнан из родного города (вероятно, в пору его захвата персами, ок. 546–545 гг. до н. э.), а позднее ♦жил в Занкле сицилийской, а также в Катане»51. Иными словами, хотя Ксенофан вел бродячий образ жизни, он все же проводил значительную — или большую — часть времени в этих сицилийских центрах, и поэтому его удостоил внимания сицилийский историк Тимей52. Ксенофан стал поэтом ионийского умственного просвещения на западе.
Одна из его элегий предписывала правила поведения во время пиршества53: верно, он был почетным завсегдатаем и в домах знати, и на совместных пирах гетерий, исполняя там свои стихи. Хотя вкусы поэта отличались простотой, он был довольно привередлив, призывая к умеренности в общественных развлечениях. В то же время, он порицал общепринятые нормы воинственного поведения среди старой знати, которая, вслед за славословиями прочих поэтов, сверх всякой справедливости благоволила к борцам, возницам и кулачным бойцам. По разумению Ксенофана, полису приносят куда больше пользы подвиги не телесные, а умственные — например, его собственная мудрость.
Большая часть сохранившихся фрагментов его поэзии написана элегическими дистихами или гекзаметрами, хотя порой попадаются и ямбы. Некоторые из таких стихотворений были отнесены к силлам (cnXXoi — «насмешки») — сатирическому жанру, обретшему известность тремя столетиями позже благодаря Тимону из Флиунта в Арголиде, признававшему Ксенофана своим литературным предшественником.
Что касается богословия, Ксенофан прославился прежде всего нещадным ниспровержением (при его-то ионийских корнях!) тех картин из жизни богов, что были представлены в гомеровском эпосе, а также в поэмах Гесиода. Во-первых, заявляет он, такое изображение богов существами вероломными и порочными не может быть истинным. Во-вторых, не менее нелепо представлять себе богов в людском обличье. Он предлагает такое толкование: они представлены в антропоморфном виде лишь потому, что такими их живописуют сами люди. В связи с этим, он развивает далее свою релятивистскую точку зрения, говоря, что каждый народ наделяет божества собственными этническими чертами: так, фракийцы воображают своих богов рыжеволосыми и голубоглазыми, а эфиопы — черными и с приплюснутыми носами. И продолжает:
Если бы руки имели быки и львы или кони,
Чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди,
Кони тогда б на коней, а быки на быков бы похожих
Образы рисовали богов и тела их ваяли,
Точно такими, каков у каждого собственный облик54.
Сам же Ксенофан не отрицает существования божественного начала. Только толкует он его совсем иначе, наделяя незнакомыми дотоле духовными свойствами: этот бог есть вечное и неподвижное сознание (здесь философ предвосхищает «неподвижный двигатель» Аристотеля), и «помышле-ньем ума он все потрясает»55. Иными словами, он правит миром одною силой духа и разума. Так, мыслитель ввел понятие о божественном разумении, пронизывающем все сущее и управляющее всеми делами. По словам Ксенофана, такой бог «не похож на смертных ни обликом, ни сознаньем»56. Правда, и сам он говорит о «богах», употребляя выражения, отдающие политеизмом5^. Но, быть может, это всего лишь дань поэтической условности — или уступка расхожей терминологии. Все же, представляется более вероятным, что Ксенофан мыслил в монотеистическом ключе — возможно, не без влияния персидских верований, которые проникли в Ионию еще прежде его переселения на запад.
Как бы то ни было, изощренное определение, которое Ксенофан дал божественному началу, ознаменовало шаг вперед в умственной истории Греции и, в частности, тех сицилийских полисов, где жительствовал сам мудрец. Вместе с тем это был лишь одиночный прорыв мысли, который не укладывался ни в какие мерки, ведомые той эпохе, — а потому воззрения Ксенофана неизбежно порождали множество кривотолков. Так, например, Платон (а вслед за ним и Аристо-даь) видел в нем основателя элейской философской школы следующего столетия58, потому что, как представлялось Платону, Ксенофаново вездесущее и неподвижное божество предвосхитило неподвижную шарообразную сущность универсума, описанную Парменидом Элейским5. На самом же деле воззрения этих двух мыслителей были совершенно несхожи, а предания, связывавшие имя Ксенофана с Элеей — будто бы он написал поэму о ее основании, и умер там, — вероятно, были просто выдуманы из-за стремления как-то оправдать ложную молву.
Ксенофан — на которого, как уже говорилось, могли оказать влияние персидские монотеистические учения, — не чуждался и интереса к природным явлениям, ранее проявленного ионийскими мыслителями (Фалесом, Анаксимандром и Анаксименом из Милета). И в этой области — несмотря на признание некоторых наивных представлений (например, что Земля имеет безграничную длину, ширину и глубину), — он обнаружил необычайный дар научных наблюдений — в противовес отвлеченным доводам, к которым были более всего склонны многие греческие мыслители (хотя милетянам порой удавалось эту склонность преодолевать). Так, раздумывая, отчего в глубине материка местами встречаются инородные вкрапления — ракушки и останки морских существ, — Ксенофан смело отмел мифологические толкования происхождения мира, а взамен предположил, что сушу некогда покрывало море. Такой вывод натолкнул его на следующую догадку — что земля возникала постепенно, проходя череду потопов и засух.
Но, пожалуй, наиболее ярким высказыванием Ксенофана было его предостережение о неизбежной ущербности всякого человеческого знания:
Истины точной никто не узрел и никто не узнает
Из людей о богах и о всем, что я только толкую:
Если кому и удастся вполне сказать то, что сбылось,
Сам все равно не знает, во всем лишь догадка бывает…
Примем это на веру как то, что похоже на правду…
Боги отнюдь не открыли смертным всего изначально,
Но постепенно, ища, лучшее изобретают61.
Возможно, Ксенофан изначально не вкладывал в эти слова того безоговорочного скептицизма, который впоследствии был в них усмотрен. Напротив, он, по-видимому, в очередной раз стремился подчеркнуть всемогущество бога (каким сам его понимал) и указать на его полную противоположность ограниченной природе человека.
Одновременно, он делает упор на разницу между тем, чт^ человек видел воочию или установил самолично, — и тем что является лишь предметом зыбких домыслов. Ибо, как бы ни обстояло с ущербностью человеческого знания, — Ксенофан верил, что пытливое исследование мира все же способно принести добрые плоды и даровать исследователю особую прозорливость — при том, разумеется, условии, что он умеет правильно подступиться к своей задаче. И Ксенофан ощущал, что таким человеком является он сам.
Что до разного рода фантастических, ничем не подкрепленных воззрений — например, учения о перевоплощении, которое проповедовал его соотечественник-иониец Пифагор, — то Ксенофан откровенно насмехался над ними (хотя и сам не чуждался причудливых верований), рассказывая нелепые анекдоты62. А жрецов-орфиков (Приложение 2) он почитал лгунами.
Глава 5. ЮЖНАЯ СИЦИЛИЯ: ГЕЛА И СЕЛИНУНТ
Важнейшими греческими городами на южном побережье были — с востока на запад — Камарина, Гела, Акрагант и Селинунт. Камарина уже упоминалась в связи с Сиракузами, основавшими ее. К западу от нее, сразу за священной рекой Гелас, лежала Гела (ныне Джела) — самая ранняя из колоний, выведенных на южные берега острова.
Гела располагалась на длинной, узкой, крутой песчаной возвышенности, которую ранее, в эпоху бронзы, заселяли си-каны. Основание здесь греческого города традиционно относили к 690/688 г. до н. э. (а найденная керамика VIII века до н. э. еще не говорит в пользу более ранней даты). Колонистами были выходцы с Родоса и Крита, предводимые Антифемом и Энтимом, соответственно. Прежде чем отправиться на выбранное место, они испросили совета в Дельфах (полученный благоприятный оракул сохранился и доныне). После длительной борьбы с горцами-сиканами за господство над внутренней равниной — которая представляла собой плодородные пахотные земли и годилась под пастбища для табунов пришлой знати, — жители Гелы проникли в глубь страны и там покорили ряд туземных поселений, в том числе Макторий (Монте-Буббона) и Омфаку (Бутера). Кроме того, распространив свое влияние еще километров на шестьдесят пять к западу, они основали — или сами, или сообща с родосцами, — Акрагант (Агридженто; ок. 580 г. до н. э.), который впоследствии, при злочестивом тиране Фалариде (ок. 570–554/549 гг. до н. э.), и сам достиг большого могущества и богатства63.
Примерно в ту же пору в Геле на акрополе был воздвигнут храм, посвященный Афине и отделанный полихромными терракотовыми орнаментами, которыми славилась Гела. Кроме того, в Биталеми, возле устья реки Гелас, стояло святилище Деметры Тесмофоры, где недавно было обнаружено множество вотивных предметов.
Но аристократическое правительство Гелы со временем погубила непомерная страсть к атлетическим состязаниям. В 512-м или 508 г. до н. э. один из почетнейших граждан Гелы, Пантар, одержал победу в колесничных ристаниях (возница правил сразу четверкой лошадей) на Олимпийских играх. (Так, насколько известно, он стал первым в нескончаемой цепочке сицилийских царевичей и прочих знатных мужей, успешно подвизавшихся на этом поприще, считавшемся наиболее почетным и дорогостоящим видом атлетических состязаний.) Воспользовавшись славой Пантара, которую принесла ему эта победа, его сын Клеандр захватил власть над городом. В Геле и раньше случались смуты — например, когда в результате «партийных» распрей (точная дата не известна) часть граждан была вынуждена искать прибежища в Мактории, в окрестных горах. Теперь же Клеандр начисто упразднил аристократические порядки и водворился самолично (505 г. до н. э.). Он продержался в качестве диктатора около семи лет, после чего его умертвили враги.
Затем власть досталась его брату Гиппократу, который за семь лет своего правления, преследуя прямолинейную и беспощадную политику, быстро превратил Гелу в величайшую сицилийскую державу. Раскопки наводят на мысль, что Гиппократ (быть может, следуя по стопам брата) загодя заручился народным доверием, возведя оборонительные укрепления у северной кромки холмов над Гелой. Он также позаботился о войске, особенно о всадниках, чьим лошадям было так вольготно пастись в окрестных равнинах. Затем, наведя порядок дома, он двинул рать на халкидские колонии на острове — Наксос, Занклу и Леонтины, — разграбил эти города и установил местные марионеточные деспотии64.
Немного погодя — уладив путаницу, возникшую в ходе такого передела власти, — Гиппократ снарядился для взятия следующей, самой крупной крепости, — а именно Сиракуз. Это была задача не из легких: ведь он не располагал флотом, так как Гела была лишена гавани, если не считать отлогой береговой полосы, — а следовательно, не имелось ни доков, ни прочих сооружений для кораблестроения. Собственно, этим в значительной мере и объяснялось желание тирана напасть на Сиракузы: он стремился не только завладеть несметными богатствами города, но и получить доступ к его прекрасному порту. Итак, собрав свои окрепшие войска, он двинулся на Сиракузы по суше, а когда сиракузяне попытались преградить ему путь, нанес их отрядам сокрушительное поражение в битве у реки Гелор (см. также выше, раздел 2).
Затем он подошел к храму Зевса — совсем вблизи Сиракуз. Но напасть на сам город и разграбить его Гиппократу помешало лишь доброе вмешательство коринфян и керкирян, которые взялись улаживать мирные переговоры. По условиям заключенного договора (если только это не произошло раньше) к Гиппократу перешла былая привилегия Сиракуз — повелевать сикулами, жившими в этих местах. Но он совершил промах, обойдясь с ними крайне грубо и попытавшись насильно навязать им эллинизацию. Последовали упорные сражения с непокорными сикулами, и в сражении при Гибле (ок. 491/490 г. до н. э.) самонадеянный тиран погиб. После этого Гелон, предводитель конницы, лишил власти сыновей покойного правителя (а до того он был назначен — или самовольно сделался — их опекуном) — и сам захватил диктаторские полномочия, став основателем весьма примечательной династии Диноменидов.
К западу от Гелы, за Акрагантом, находился Селинунт (ныне Селинунте). Он лежал неподалеку от юго-западной оконечности Сицилии, занимая мыс, вдававшийся в море между двумя реками — Селинунтом (Модионе) на западе и ОаЦа (?) (ныне впадина Горго-ди-Коттоне) на востоке. Устья обеих рек, хотя их обступали болота, образовывали удобные, пусть и небольшие, гавани, а из речных долин легко можно было добраться до плодородной срединной равнины. Селинунт был основан или ок. 650 г. до н. э. (Диодор, Евсевий), или, что более вероятно, ок. 628 г. до н. э. (Фукидид), выходцами из Мегары Гиблейской, что к северу от Сиракуз. Во главе колонизации встал Памилл, или Паммил, приплывший для этого из Мегар в Балканской Греции, которые приходились метрополией гиблейским мегарянам.
Селинунт стал самым западным из греческих городов на Сицилии. Он граничил с областью, где обитали элимийцы (туземное племя, сопротивлявшееся, как и сикулы, любым попыткам эллинизации), и непосредственно примыкал к землям, заселенным финикийцами, которые поддерживали тесные связи с Карфагеном, пересекая узкий пролив, который образовывало здесь Средиземное море. С обоими народами жителям Селинунта удавалось сохранять миролюбивые отношения, хотя ок. 580 г. до н. э. в них была пробита брешь: при подстрекательстве Селинунта, книдяне и родосцы безуспешно покусились на финикийские владения, дабы основать там Лилибей (ныне Марсала), причем эта попытка сопровождалась враждебными выпадами против элимийского города Сегесты6^.
Тем не менее Селинунту была подвластна территория, простиравшаяся на запад до реки Мазар (Мадзаро). К востоку же он расширил владения вплоть до Галика (Платани), служившего естественной границей с землями Акраганта. На дальнем берегу Галика Селинунт тоже основал свой пост — Миною (вероятно, это название сохранило отзвук тех дней, когда здесь существовало «минойское» поселение эпохи поздней бронзы, — но, быть может, то была просто пустая выдумка). Предположительно, создание этой колонии стало частью селинунтской политики, направленной против возможной экспансии Акраганта, — но ок. 500 г. до н. э. Миноя была захвачена спартанским колонистом Эврилеонтом (который дал городу добавочное имя — Гераклея), и господству Селинунта в этих краях пришел конец.
Между тем Селинунт достиг необычайного расцвета: его добрые отношения с финикийцами оказались для города поистине бесценными, так как основным источником селинунт-ских богатств был вывоз вина и оливкового масла в Карфаген66. И, как уже было ранее в Сиракузах, все эти богатства I обрели великолепное применение в создании подлинных шедевров зодчества и ваяния, какие только можно было сыскать I во всем греческом мире (Суинберн назвал их «изумительнейшим скоплением развалин в Европе»). На акрополе вслед за I грубоватым храмом (ныне известным как «мегарон») были возведены еще два святилища, относящиеся к VI веку до н. э. I Возможно, одно было посвящено Аполлону, а другое I Афине, — хотя до сих пор любые попытки связать эти сооружения с тем или иным божеством — не более чем догадки. Храм, будто бы посвященный Аполлону, украшали I скульптурные фризы (ок. 550–530 гг. до н. э.), изображавшие I Аполлона, Артемиду и Лето в колеснице с четверкой лошадей, борьбу Геракла с уродцами Керкопами и похищение Европы Зевсом в обличье быка. Эти фризы — которые, наряду с прочими селинунтскими изваяниями, ныне хранятся в музее в Палермо, — поистине уникальны, ибо ни в одном другом сицилийском городе, по-видимому, так и не появилось собственной школы ваяния. А сравнительно недавно, в 1925–1926 гг., на месте самого храма появилась его реконструкция в натуральную величину.
Еще одна группа священных построек располагалась на другом холме, к востоку от города и акрополя, за рекой ваМ Одно из этих святилищ — возможно, Диониса, — относящееся к середине VI века до н. э., украшали метопы с рельефами, изображавшими гигантомахию. Неподалеку стояло монументальное здание, вероятно, посвященное Зевсу Олимпийскому. Этот храм — один из крупнейших храмов во всем греческом мире — был настолько огромен, что над его центральным нефом физически невозможно было возвести кровлю. Сооружение этого Олимпиейона — если он был им, — началось в конце VI века до н. э., но в 409 г. до н. э., когда город разрушили карфагеняне, храм был все еще незавершен. А позднее — когда именно, неизвестно, — его уничтожило землетрясением, после чего окрестности были завалены колоссальными обломками.
Застройка Селинунта еще раз подтверждает, что в ту раннюю эпоху, на которую пришлось основание колоний, в градостроительстве уже применялась характерная прямоугольная, «решетчатая» планировка, впоследствии названная в честь архитектора V века до н. э. Гипподама Милетского. Жилой квартал, остатки которого видны сегодня на холме Мануцца, располагался за акрополем. Акрополь же защищали оборонительные сооружения, имевшие самые внушительные размеры во всей Греческой Сицилии; их начали возводить ок. 500 г. до н. э., а позднее многократно перестраивали и укрепляли.
В Гагтаре — к западу, за рекой Селинунт, — стояло святилище богини плодородия Деметры Малофоры — «яблоконосной». Его появление относится ко времени основания самой колонии; вначале это был алтарь под открытым небом, а в конце VII века до н. э. вокруг него вырос храм, обнесенный высокими стенами. Но и он был в дальнейшем подвергнут переделкам: сперва ок. 580 г. до н. э., а затем, еще не один раз — по мере того, как священный участок превращали в хитроумный архитектурный комплекс. На территории святилища, куда нередко наведывались жители других греческих и негреческих общин этой области, при раскопках было обнаружено множество образцов ранней коринфской керамики и более 12 тысяч терракотовых статуэток, изображавших то ли женщин-дарительниц, то ли богинь (зачастую отлитых из одной формы). К главному святилищу примыкали участки, посвященные трехглавой Гекате Триморфе (богине подземного мира и перепутий, покровительнице женщин) и Зевсу Милихию («милостивому» — защитнику всех, кто ему поклонялся): оба эти божества почитались в метрополии здешних колонистов — Мегарах в Балканской Греции. На обоих берегах Селинунта обнаружены большие некрополи, а в захоронениях найдено множество керамической утвари, восходящей к VII веку до н. э. и последующим периодам.
Глава 6. МАССАЛИЯ
Массалия (позднее Массилия, ныне Марсель) была портовым городом на южном, средиземноморском, побережье Трансальпийской Галлии, у Галльского (Лионского) залива. Возможно, уже в VII веке до н. э., до основания колонии, греки (быть может, из городов Родоса) разворачивали здесь торговую деятельность, — г хотя нельзя с уверенностью этого утверждать, потому что находок греческого происхождения этого периода немного. В то же время, сюда в большом количестве ввозили этрусскую керамику и вино (или масло) — должно бьггь, на кораблях, принадлежавших городам-государствам Этрурии (Приложение 3).
Греческая колония в Массалии была основана ок. 600 г. до н. э. выходцами из ионийской Фокеи. Другая традиция относит основание приблизительно к 545 г. до н. э., но археологические данные говорят в пользу более ранней датировки. Возможно, более поздняя дата соответствовала появлению второй волны колонистов, бежавших из родной Фокеи, когда на нее напали персы. Согласно одной поэтичной истории — возможно, почерпнутой Юстином у Тимея, — эта местность досталась грекам от Нанна — царя лигурийского племени сегобригиев67: его дочь Гиптида стала женой Фокида, вождя переселенцев68, — а затем последовали и другие смешанные браки.
Пришельцы расселились в пределах небольшой территории, имевшей лишь два с половиной километра в окружности, — на горном отроге, состоявшем из трех невысоких кряжей у моря. В современных городках Эглиз-де-ла-Мейор и Фор-Сен-Жан были обнаружены следы самого раннего по· селения; в последовательных археологических слоях были раскопаны коринфская и афинская керамика. Эта местность была защищена болотами и с обеих сторон ограждена реками. С тыла простиралась равнина, почва которой, как заметил Страбон, более годилась для зерновых, нежели для винограда и маслин*^, — которые в весьма раннюю эпоху были завезены греками из метрополий (или, быть может, этрусками, в свой черед, перенявшими эти культуры у греков) и впоследствии распространились из Массалии в остальные края Галлии.
Страбон добавляет, что такое место было выбрано не ради какой-то сельскохозяйственной выгоды, а из-за удобства для мореплавания: возникновение новой колонии было справедливо приписано торговым соображениям фокеян. Ибо здесь имелся укромный залив с просторной, хорошо защищенной гаванью Лакидоном (совр. Вьё-Пор), — достаточно близко от устья Родана (Роны), но достаточно далеко от его наносов. Располагая такой гаванью, город с легкостью завладел морскими путями, которые вели к западу.
Так, в VI веке до н. э. Массалия сама основала колонию Агате Тихе («Добрая Судьба»; ныне Агда) в Лангедоке, возле устья реки Арамис (Эро), на полпути к испанской границе70; а самые ранние археологические данные в Эмпориях (Ампу-рьяс), в конце залива Росас на каталонском побережье Коста-Брава (Северо-Восточная Испания), относятся примерно к 600–575 гг. до н. э. В эту пору греки-фокеяне заняли остров Палеа-Полис, или Палеаполь, — «Старый Город» (совр. Сан-Мартин-д’Ампурьяс; ныне соединен с материком), основали там торговый пост (эмпорий) и построили храм Артемиды Эфесской, которая и для Массалии, галльской колонии Фокеи, стала главным чтимым божеством. В том же VI веке до н. э., несколько позже, в Эмпории явилась новая группа мас-салийцев и колонизовала мыс на материке, на противоположном берегу пролива. Гаванью им стало служить устье реки, позднее известной как Клодиан (ныне Муга). Обретя доступ к главному пути вдоль испанского побережья, Эмпории вскоре и сами добились положения независимого города. Однако предположение о том, что в столь же древнюю эпоху фокейско-массалийские торговые посты возникли и еще дальше по средиземноморскому побережью Испании, представляются анахронизмом, — очевидно, проистекая из неверного мнения о том, что сочинение Авиена «Ora Maritima» («Морской берег») основывалось на руководстве VI века до н. э. для мореходов. Массалийские колонии к востоку от метрополии — на французской Ривьере, примыкающей к итальянской границе, — тоже были основаны существенно позднее.
Между тем массалийцы даже и без такого посредничества старательно поддерживали отношения не только с Фокеей, но и с прочими эгейскими и материковыми греческими центрами. Признав своими главными божествами Артемиду Эфесскую и Аполлона Дельфийского, они установили прочные связи с их основными святилищами в этих городах; в Дельфах массалийцы возвели собственную сокровищницу. Кроме того, они приняли участие в основании фокейской колонии Алалии на Корсике; когда же это поселение подверглось разрушению после битвы, впоследствии названной в честь него (ок. 540/535 г. до н. э.), — то влияние Массалии на острове заметно ослабло.
Прежде всего, этому способствовал союз между этрусским городом Цере (Приложение 3) и Карфагеном (примечание ЗЗ)71. Массалия в прежние годы уже выступала со своим флотом против карфагенян, но вместе с тем — невзирая на явное соперничество — сохраняла торговые связи с государствами Этрурии. Это подтверждают обнаруженные обломки этрусского судна, потерпевшего крушение ок. 570–560 гг. до н. э. близ Антиполя (впоследствии — массалийское поселение [ср. примечание 70]; ныне Антиб), а также многочисленные этрусские подражания коринфским сосудам в укрепленном центре на месте Сен-Блез (департамент Буш-дю-Рон). Но в течение VI века до н. э. в Массалии возрастает количество греческих ваз (вытесняя этрусские). Многие из них привозили с Хиоса и из других восточногреческих областей, а также из Афин: оттуда больше всего товаров поступило в здешние края примерно в 525 г. до н. э. Разумеется, немало керамической утвари производили и местные гончары.
Однако это отнюдь не означало, что массалийцы утратили всякий интерес к этрускам; возможно, они поддерживали связь и с Римом в раннюю эпоху его истории. А более поздние отношения Массалии с римлянами стали весьма знаменитыми (римляне даже хранили свои посвятительные дары в Дельфах в сокровищнице, принадлежавшей массалийцам); существовало даже предание, что эта дружба восходила еще к VI веку до н. э., когда в Риме правила этрусская династия царей. (Правда, подобные утверждения нередко делаются «задним числом».) Как бы то ни было, подобные ранние кон-такты представляются вполне правдоподобными, учитывая настойчивое внимание Массалии к Италии.
Со своей стороны, римляне впоследствии восхищались крепким государственным строем массалийцев. Строй этот поначалу опирался на узкий круг правящей аристократии. Но вскоре была совершена попытка ослабить влияние знатных родов: так, если некто входил в Совет, его сын уже не должен в него входить, или если членом Совета был старший брат, то младшему членство следует возбранить. Возможно, эти ограничительные меры все-таки не были приняты, зато в обществе заметно возобладали подобные настроения, — и постепенно здесь, как и во многих других краях, аристократическое правление сменилось олигархическим строем, основанным на богатстве. Согласно Страбону72, местную олигархию возглавлял Совет шестисот, куда могли входить лица, обладавшие гражданством не менее чем в третьем поколении — либо те, кто имел детей, — хотя из замечания Аристотеля73 следует, что состав этот время от времени пересматривался и обновлялся. Совет шестисот избирал из числа своих представителей «рабочую группу» — пятнадцать тимухов (тцюО%о0 под началом трех председателей. Массалийская законодательная система имела примечательную особенность: преступник, приговоренный к смерти, в течение года содержался за общественный счет, после чего его казнили как фосрцакод («козла отпущения») — в знак очищения города от скверны.
Фокеянин Мидакрит, который, отправившись за оловом, проплыл мимо Геракловых столпов (через Гибралтарский пролив), примерно в пору основания Массалии, проторил путь для всех прочих географических исследований греков, — начиная с самой Массалии. Ибо представляется (хотя свидетельства довольно темны), что в середине VI века до н. э. через тот же пролив проплыл Эвтимен Массалийский, затем направившись к югу вдоль африканского побережья. Там он увидел реку, чьи воды гнал вспять ветер с моря. Заметив в реке крокодилов, он решил, что это Нил — что было неудивительно для VI века до н. э., потому что в ту пору Нил часто упоминался в греческих землеописаниях. Но та река, которую видел Эвтимен, была отнюдь не Нилом (протекающим совсем с другой стороны континента), а Сенегалом. Такое морское путешествие, совершенное греком, — редкий случай на фоне куда более решительного освоения африканских берегов финикийцами. И все же, это плавание свидетельствовало о широте устремлений и смелости массалийцев.
Массалия установила беспримерные торговые связи и с кельтскими народами, обитавшими в глубине Галлии. Сама Рона выше дельты была не очень пригодна для навигации, зато огромный поток товаров везли по дороге, пролегавшей через речную долину и соединявшей Массилию с северными областями. Так массалийская соль и греческие предметы роскоши — особенно кубки и кратеры — достигли отдаленнейших поселений. Они были обнаружены в захоронениях, принадлежавших к поздним стадиям «гальштаттской культуры»74. Надо полагать, эти привозные сосуды ознаменовали настоящий переворот в питейных обычаях галльской высшей знати.
Наиболее яркие открытия были сделаны на кладбище в Виксе, на горе Мон-Лассуа, что над Сеной. Среди находок был очень большой бронзовый кратер середины VI века до н. э.75. Скорее всего, подобные сосуды подносились в качестве дружеских даров местным правителям. Кроме того, в Виксе было раскопано множество других предметов, в том числе кубков для вина и киликов из Массалии, — хотя сообщение Юстина об эллинизации Галлии76 нельзя без натяжки отнести именно к этому периоду. В могилах в Виксе обнаружены и изделия этрусского происхождения.
Высказывалось немало догадок относительно того, что же греки вывозили взамен. Быть может, зерно и янтарь, — а может быть, и рабов. Вероятно, из-за Ламанша поступало олово из Касситерид в Корнуолле (Глава V, примечание 51), которое затем переправлялось по сухопутным и речным дорогам Галлии (по Сомме, Уазе и Сене) стараниями массалийцев, в чьи руки и переходил металл.
Между тем, судя по археологическим данным, ок. 500 г. до н. э. эти контакты между кельтскими правителями и Средиземноморьем резко оборвались. Возможно, в ту пору Мас-салию постиг временный хозяйственный упадок: ее влияние ослабло из-за ухода фокеян с Корсики и, в целом, возросшего торгового успеха карфагенян — соперников массалийцев по торговле. Дело в том, что массалийцы преградили им сухопутный доступ к британским оловянным копям, и карфагеняне нашли собственный — целиком морской — путь к Британии через Гибралтар.
ЧАСТЬ VIII. СЕВЕР
Глава 1. АДРИАТИКА: КЕРКИРА, АТРИЯ, СПИНА
В древности названия Адриатического и Ионического морей, обозначавшие морское пространство между Апеннинским и Балканским полуостровами, которое образует вытянутое углубление шириной в среднем в 176 км, — оставались более или менее взаимозаменяемы. Позднее северная часть этого залива стала называться Адриатическим морем, а южная — Ионическим; за их границу был принят пролив Отранто, хотя суровое Адриатическое побережье севернее этой условной точки получило название Ионического залива. Первое греческое поселение, возникшее на этих берегах, должно было стать промежуточной остановкой на пути к эмпориям и колониям в Питекуссах и Кумах в Кампании для эвбейских купцов из Халкиды и Эретрии и для сицилийских — из Сиракуз.
Местом, которого в первую очередь коснулась колонизация здешних краев, стала Керкира (или Корцира, лат. Corcyra, прежде также Корфу). Это самый северный остров Ионического архипелага в одноименном море, лежащий неподалеку от северо-западного побережья Греции и отделяемый узким проливом от материка (ныне от Албании). Благодаря осадкам здесь более буйная растительность, нежели на соседних островах. У Фукидида записано предание о том, что Керкира — та самая гомеровская Схерия, где жили феаки1, — хотя сам поэт и не думал отождествлять свою сказочную Схерию с каким бы то ни было существующим в яви земным краем.
По-видимому, изначально Керкиру населяли племена, родственные эпиротам, что жили на материке напротив2, а среди прочих обитателей были апулийцы из Юго-Восточной Италии. Но в самом начале VIII века до н. э. эвбеяне из Эретрии заложили торговый пост на восточном побережье острова, где оно образовывало мыс. Этот эмпорий, поначалу звавшийся Дрепаной (Spexavn — «серп»: по преданию, именно на этом острове Деметра научила Титанов жатве), имел в своем распоряжении две гавани — одну на море, а другую — в глубоководной лагуне. Вдобавок, поселенцы или заезжие купцы прочно утвердились и на материке напротив, так что они господствовали над проливом целиком — а тем самым, и над торговыми судами, следовавшими к Италии и Сицилии.
Однако ок. 733 г. до н. э. (хотя называлась и более поздняя дата — ок. 706 г. до н. э.) на Керкиру явились коринфяне под началом некоего Херсикрата — и прогнали эретрийцев. Новые поселенцы основали колонию у порта — Па-яеаполь (чуть севернее нынешного города), защищенный акрополем (Аналепсис). Они заявляли, что название острова — Керкира- Корцира — имеет коринфское происхождение, что будто бы это искажение от «Горго» (горгоны): имелась в виду чудовищная горгона Медуза, которую сразил коринфский герой Персей, но которая в то же время олицетворяла оберег от зла. На самом же деле это название, быть может, имело негреческие истоки и восходило к иллирийцам, населявшим глубинные области Северо-Западных Балкан3.
Так как Коринф проявлял на редкость настойчивое желание удерживать свои колонии в подчиненном положении, — высказывалась догадка, что и Керкиру вначале постигла та же участь. Точно на сей счет ничего не известно, но в первое время два этих полиса действительно сохраняли тесные связи. Однако прошло не так много времени — и островная колония вступила в ожесточенную войну со своей метрополией, разгромив ее флот у Сиботских островов (это было первое морское сражение между греческими государствами). Битву относят примерно к 664 г. до н. э., хотя, возможно, она имела место несколько позднее.
Пока в Коринфе правил диктатор Кипсел, оба города участвовали в основании Эпидамна (позднее Диррахий, ныне Дуррес) на Иллирийском побережье. Главными колонистами стали керкиряне, хотя другие переселенцы, включая ойкиста, происходили из Коринфа (ок. 627 г. до н. э.; впоследствии фи-лархов, возглавлявших племенные объединения, вытеснил выборный Совет). Вероятно, Керкира принимала участие и в выведении Кипселовых колоний Амбракии (ныне Арта) и Анактория, а также поселения на острове Левкада. Первые монеты, выпущенные в Иллирийской Аполлонии, тоже наводят на мысль о ее совместном основании. Они восходят примерно к 600 г. до н. э.; а как раз в ту пору — хотя керкиряне и заручились помощью Книда (который, в свою очередь, колонизовал Черную Керкиру [ныне Корчула] — остров, названный так из-за своих темных сосновых лесов), — сын и преемник Кип-села Периандр (<ок. 625–585 гг. до н. э.) установил (или восстановил?) политический надзор над самой Керкирой, осуществляя свое господство через одного из сыновей4.
Однако позднее остров вновь обрел независимость. Когда именно это произошло — неясно, но зодчие и ваятели, которые работали над местным храмом Артемиды, возведенным ок, 580 г. до н. э. (или чуть позже?), по-видимому, еще были коринфянами. Считалось, что это первый греческий храм, построенный из камня (хотя в ту же пору камень уже использовался для антаблемента храма Аполлона в Сиракузах, другой коринфской колонии). Святилище на Керкире являло известняковый фронтон (самый ранний из известных образцов), который украшали изваяния: огромная Горгона — городская эмблема — с пантерами по бокам. К тому же, так как такому фронтону и прилегавшей к нему крыше требовалась более прочная опора, нежели деревянные столбы, — колонны тоже были сработаны из камня.
В следующем столетии, как мы узнаём из Геродота, Керки-ра была способна снарядить шестьдесят триер. Согласно Фукидиду, она стала первым греческим государством (не считая Сицилии), которое в VI веке до н. э. располагало такими военными судами в достаточном количестве5. Геродот упоминает об этом в связи с греко-персидскими войнами, во время которых керкиряне не согласились помочь греческому флоту в битве при Саламине, так как были убеждены в победе персов.
На противоположном берегу Адриатики, где не было удобных бухт и обитали воинственные племена, греческие полисы не пытались осуществить столь же деятельную экспансию. В самом деле, в отличие от южного и юго-западного побережий Апеннинского полуострова, — этих берегов греческая колонизация не коснулась. Правда, это не означало, что греков здесь не было вовсе, потому что к концу периода, рассматриваемого в настоящей книге, на северной оконечности Адриатического побережья выросли два поселения — Атрия и Спина, — где жили и торговали греки вперемешку с этрусками. Они передвигались по морю и по суше, плавали по реке Эридан (Пад, По), устанавливая обширные торговые контакты и с соотечественниками в прочих краях, и с негреческими народами в Центральной и Северной Европе.
Атрия (ныне Адрия) была торговым городом (эмпорием) севернее дельты По, между ним и рекой Атесис (Адидже). Значение города было таково, что в честь него получило имя и Адриатическое море, расстилавшееся всего в нескольких километрах отсюда. Одни мифы приписывали основание Атрии этрускам, другие — греческому герою Диомеду: после странствий по окончании Троянской войны он будто бы заложил множество италийских городов. Но мифы эти лишь сбивают с толку: в действительности древнейшими жителями Атрии следует признать совсем другой народ — иллирийское (?) племя венетов (энетов), прежде обитавшее к северу от излучины Адриатики6.
Но позднее эту местность поделили между собой греки и этруски — в то же время сохраняя связь с венетами (см. также о Спине, ниже). Они построили город, предварительно возведя сложнейшие сооружения на деревянных сваях. Какая из этих двух этнических составляющих господствовала среди поселенцев и торговцев, не совсем ясно. Однако раскопанные здесь греческие вазы — в частности, коринфские и восточногреческие изделия, — восходят к 560-м гг. до н. э., тогда как надписи и граффити, свидетельствущие об этрусском присутствии, относятся к сравнительно поздней эпохе. Поэтому с некоторой степенью вероятности можно предположить, что Атрия была портом, которым в первую очередь пользовались греки — дабы удобнее было связываться с Италией и более отдаленными краями Европы, — но в котором имелся и этрусский квартал. Нельзя точно сказать, из каких именно городов Этрурии происходили эти этруски. Зато эпиграфические данные говорят о том, что греческие колонисты были родом с острова Эгина (Глава II, раздел 6).
Спина, которую соединял с Атрией канал, лежала несколько южнее —* в 6,4 км к западу от современного города Комак-кьо, — где рукав дельты По впадал в морскую лагуну, служившую гаванью. Вначале здесь, как и в Атрии, были возведены поселки на сваях. Затем, в VI веке до н. э., эти разрозненные деревушки слились в единый город с портом — Спину. Она выросла вокруг длинного широкого канала (его очертания видны на снимках с воздуха), который служил и для расширения другого канала, соединявшего лагуну с морем. Спина, изрезанная вдоль и поперек каналами или канавами с мостами (как это будет потом в Венеции, недалеко отсюда), занимала площадь более чем в семьсот акров. Город был образован тщательно отмеренными кварталами, состоявшими из более или менее прямоугольных зданий. Дома были построены из кольев, глины и прутьев. К этому жилому району примыкали с обеих сторон пышные некрополи, лежавшие вдоль тогдашней береговой линии.
Считалось, что название «Спина» происходит из индоевропейского италийского диалекта умбров, чьи главные города лежали в Центральной Италии. Но впоследствии поселение было занято греками пополам с этрусками, о чем свидетельствует смещение мифов об основании Спины — не менее запутанное, нежели те, что окружали Атрию. И снова греческая версия связывает истоки поселения с именем героя Диомеда. (Другая же легенда глухо упоминает «пеласгов» — народ, явившийся из Додоны в Эпире и пробравшийся в Италию, а именно — в Умбрию, через Северную Адриатику.)
Очевидно, Спина возникла спустя одно-два поколения после основания Атрии, ок. 525/520 г. до н. э. На первый взгляд может показаться, что главенство и здесь оставалось за греками, потому что в трех тысячах местных могил было найдено огромное количество аттической керамики (с конца VI века до н. э. по вторую четверть V века до н. э.). К тому же были найдены надписи, сделанные ионийско-аттическим алфавитом и относящиеся к культам Аполлона, Диониса и Гермеса; а согласно Плинию Старшему7, Спина имела собственную сокровищницу в Дельфах (где хранила добычу, награбленную в морских походах). Однако другой италийский центр, Цере, обладавший теми же характеристиками, был не греческим, а этрусским городом (Приложение 3). Несмотря на находки греческой керамики в Спине, эпиграфические свидетельства — в частности, надписи-указатели территориальных границ, — и характер городской планировки, а также бронзовые изделия из Эрурии, — наводят на мысль, что Спина все-таки была городом этрусков, но имела и греческий торговый квартал. Тем самым, это была картина, обратная той, что наблюдалась в Атрии, но схожая в этом отношении с ситуацией в ряде других исконно этрусских городов (включая Цере). Оба эмпория были своего рода общими греко-этрусскими детищами, и если Атрия, видимо, служила важнейшим греческим портом в Верхней Адриатике, то в Спине главенствующая роль выпала этрускам.
Несомненно, этрусские купцы в Спине в первую очередь занимались тем, что переправляли заморские товары в главный этрусский город в Северной Италии — в Фельзину (Бонония, Болонья), — хотя, вполне вероятно, Спина не зависела в политическом отношении ни от Фельзины, ни от других центров, а оставалась самостоятельным поселением, подобно греческим эмпориям в Кампании, Сирии и Египте.
Вероятно, последовав примеру Атрии, Спина тоже завязала отношения с венетами, наладив путь для торговли ве-нетийскими лошадьми и балтийским янтарем в обмен на привозные товары (впоследствии обнаруженные при раскопках в германских землях), которые затем поступали в греческие и этрусские города-государства. Кроме того, I венеты сотрудничали с обоими эмпориями, возложив на I себя другую важную роль, а именно — охрану местных мор-1 ских просторов от соседей-соперников, которых они именовали пиратами, — хотя последние, в свой черед, тоже, наверное, не называли флот Спины и Атрии иначе как разбойничьим8.
Греки и этруски пришли к такому тесному взаимодействию в Атрии и Спине как раз в ту пору, когда соперничество I их соотечественников в Кампании вылилось в открытую | вражду, в которой главными противниками оказались Кумы I и Капуя. Возможно, и этруски из Атрии и Спины в конце I концов были втянуты в эти столкновения, ибо Дионисий Галикарнасский9, касаясь 525–524 гг. до н. э., упоминает о [ «долгом марше» против Кум, с которым выступили смешан-[ные войска под началом «тирренов (этрусков), населявших [земли у Ионического залива», — а так в ту пору назывался северный участок Адриатического моря.
Быть может, эти искатели приключений или наемники явились из Атрии и Спины, — а это означало бы, что к той поре мирное сотрудничество двух народов в этих городах уже дало трещину — во всяком случае временно. С другой же стороны, хронология Дионисия вызывает сомнение в силу его следующего заявления, что этих людей прогнали с насиженных мест галлы, — тогда как постепенное проникновение галлов в Италию, по-видимому, началось лишь ближе к 400 г. до н. э. (вопреки Ливию, утверждавшему иное10). В IV веке до н. э. над Атрией и Спиной, как и над остальной Северной Италией, утвердилось галльское владычество.
Глава 2. СЕВЕРНАЯ ЭГЕИДА И ПОДСТУПЫ К ЧЕРНОМУ МОРЮ
На севере Греции (в строгом смысле слова, имея в виду ее континентальную часть) лежало Македонское царство. Его ядро составляла плодородная Македонская равнина, по которой протекали Галиакмон, Лидий и Аксий — крупные, полноводные реки континентального типа, — впадавшие в Фермейский залив (залив Термаикос). Вокруг же двойной подковой раскинулись горы, где обитали дикие племена смешанного иллирийско-фракийско-греческого происхождения, жившие родовым строем под началом собственных вождей и владык. Южной границей Македонии служил Олимп — единственная гора Греции, высота которой превышает 3000 м.
Согласно Геродоту, в здешние края явились фригийцы (ок. 1150 г. до н. э.; Приложение 1), сменив и вытеснив культуру бронзового века11. Однако позднее эти племена переместились в ту область Малой Азии, которая впоследствии получила название Фригии. Их вынудила к переселению вторая волна пришельцев — возможно, дорян. Именно потомки этих дорян, смешавшиеся с различными другими народами, но говорившие на близком к греческому наречии (быть может, на примитивном эолийском диалекте), и образовали высшие сословия среди македонян последующих эпох. В гомеровских поэмах о них не сказано ни слова, зато Гесиод передает греческий миф, прослеживающий их родословие вплоть до Македона — сына Зевса и Тийи, дочери Девкалио-на, который пережил Всемирный потоп12.
Хотя касательно последующих колен македонских монархов ходили разноречивые предания, сами они возводили свой род к Гераклу, а имя своей династии — Аргеады — к Аргосу, похваляясь чистым греческим происхождением. Сталкиваясь с недоверием греков, обитавших в прочих краях, они со временем стали греками куда более истовыми, нежели их менее «сознательные» подданные. Так, их придворная религия носила подчеркнуто эллинские черты, включая культы Зевса Ге-тайрида (который «отвечал» за отношения царя с его знатным окружением) и Геракла Кинагида (покровителя охоты — этой излюбленной забавы правящего сословия).
Древнейшим македонским государством было небольшое воинственное царство в горах, над верхним и средним течением Галиакмона. Его главным городом, насколько известно, была Лебея, но местонахождение ее до сих пор не установлено. Но ок. 640 г. до н. э. царь Пердикка I — первый представитель династии Аргеадов, о ком что-либо достоверно известно, — двинулся на восток, занял Эордею западнее Ферцейского залива, выйдя за пределы Македонской (Эмафий-ской) равнины и ее прибрежной полосы. Он перенес столицу в Эги (Палатица, Вергина), хотя она и не стала полисом в подлинном греческом смысле слова, потому что Македония, как и некоторые другие политические объединения, оставалась этносом, не имевшим городского центра (ср. Главу I, примечание 11). Последующие поколения царей, воплощавшие государство собственной персоной и насаждавшие свою волю с помощью вымуштрованного пехотного войска, — богатея на скотоводстве, расширяли эти владения все дальше. Но ок. 512 г. до н. э., в результате балканского похода Дария I и захвата Фракии, Аминта I был вынужден признать персидское господство.
Однако еще до того, как в VII веке до н. э. властитель Пер-дикка I проник в прибрежные земли, этот край стал желанной целью для колонистов из греческих полисов. Прежде всего, предметом вожделения стали свободные земли в ближайшем негреческом (хотя частично эллинизированном) районе, доступном морякам-пришельцам. Вдобавок первые греческие поселенцы наживались на вывозе македонского скота и леса, потому что в ту пору само царство еще не отличалось достаточно высоко развитым устройством, чтобы самостоятельно наладить внешнюю торговлю или удерживать ее под своим надзором. Здесь, как и повсюду, тон задали эвбейские города; кроме того, рассказывали, что еще раньше семьсот эретрийцев, изгнанных с Керкиры вновь прибывшими коринфянами, приплыли сюда и основали Мефону на западном побережье Фермейского залива.
Еще более деятельными оказались эвбеяне из Халкиды, о чем говорит уже местное название Халкидики. Это полуостров к востоку от Фермейского залива, заканчивающийся на юге тремя вытянутыми зубцами — Палленой (ныне полуостров Касандра), Сифонией (Ситонья, или Лонгос) и Актой (Айон-Орос, или Атос). Халкидика весьма привлекала мореплавателей и своей изрезанной береговой линией, и близостью к золотым и серебряным копям на Пангее, — поэтому Халкида основала здесь множество колоний, главной из которых стала Торона у южной оконечности среднего полуострова-зубца (Сифонии). Торона, лежавшая на склоне скалистого мыса, располагала удобной гаванью (ныне Порто-Куфо).
О том, что это место было заселено с начала I тысячелетия до н. э., свидетельствовали захоронения кремированных и (в меньшем количестве) ингумированных останков. Халкидское поселение возникло здесь вскоре после 700 г. до н. э., а позднее получило и собственный правовой свод: законодатель Андродамант из Регия обнародовал законы касательно убийств и участи ЫкАлрог (женщин-наследниц, не имевших братьев)13. Ок. 655 г. до н. э. Андрос — остров, находившийся под эвбейским влиянием, — с помощью Халкиды и ее колоний основал Аканф на перешейке, соединявшем основную часть Халкидики с ее восточным мысом, Актой; поблизости же возникли еще три андросские колонии.
Исключением в этом районе, где хозяйничали эвбеяне и зависимые от них островитяне, стала Потидея, основанная ок. 600 г. до н. э. Коринфом на перешейке третьего, самого западного зубца Халкидики, то есть Паллены. Колонию в этом стратегически выгодном месте вывел коринфский диктатор Периандр, назначив ойкистом одного из своих сыновей. Он намеревался тем самым завладеть македонским участком трансбалканского торгового пути, который вел к Иллирии и Адриатике. А так как поселение расположилось на перепутье, это позволяло и подобраться к металлам на Пангее, и затеять торговлю с северо-восточными землями. Монету, которую Потидея начала чеканить ок. 500 г. до н. э., украшал Посейдон, давший городу название. Он был изображен с трезубцем — и на фракийском коне. Благодаря тесному общению с халкидскими колониями и Мефоной македоняне постепенно обратились к более «эллинскому» образу жизни.
Фасосу (ныне Тасос), что восточнее Халкидики, в 8 км от устья реки Нест, предстояло стать важнейшей греческой колонией в Северной Эгеиде. Этот гористый остров вытянут всего на 25,6 км в поперечнике, зато здесь имелись плодородные долины и источники пресной воды. До появления греков остров носил имя Одонис и был населен фракийским племенем синтов. Следы их обитания (а также других, более ранних, неолитических народов) были обнаружены на горе Кастри (где в Средние века находилась главная крепость, возле поселения Теологос, на юге острова), а также под пластами греческого города, на северном побережье. Основателями этого города были выходцы с острова Парос, а предводил ими аристократ Телесикл (ок. 650 г.? до н. э.), чье начинание заслужило одобрение в Дельфах (оракул этот сохранился доныне). Среди первых поселенцев на Фасосе был и паросский поэт Архилох.
Эти колонисты быстро завладели всем островом, и уже спустя двадцать — тридцать лет (как показывают находки керамики) они — или их сыновья — уже сами вывели поселения на материке напротив (Перея Фракийская) — Неаполь (Кавалла), Эсиму и Галепс. Опять-таки назначение этих колоний — очевидно, основанных совместно с дружественными местными племенами, — заключалось в том, чтобы завладеть соседними золотыми и серебряными рудниками на горе Пангей, куда прежде позволяло наведываться финикийцам фракийское племя сатров. Предание о том, что золотые жилы существовали и на самом Фасосе, подвергнуто сомнению, — зато подтверждено, что там действительно имелись месторождения серебра, железа и меди. А в более восточной части материкового приморья, напротив другого острова, Самофра-кии — заселенной самосцами и знаменитой своим культом близнецов Кабиров (богов подземного мира, впоследствии почитавшихся как покровители мореходов), — фасосцы спорили из-за господства над собственной колонией Стримой с Маронеей (основанной Хиосом до 650 г. до н. э.)14.
Фасос служил своеобразным оплотом эллинства против материковых фракийцев, чей город на самом острове, на горе Кастри, был покинут или разрушен, хотя одно захоронение на горе в греческом городе Фасосе, заложенном «сыновьями Бендида», свидетельствует о вторичном появлении фракийцев среди его жителей. Наивысший расцвет в жизни острова наступил в VI веке до н. э., когда Фасос вывозил древесину для кораблестроения и к тому же начал вывозить свои знаменитые вина. Разработка копей на материке, куда получили доступ фасосцы, оказалась делом чрезвычайно прибыльным, а приблизительно с 500 г. до н. э. добыча серебра на самом Фасосе позволила правительству чеканить собственные деньги. На монетах было выбито итифалличес-кое изображение сатира (Ционисова хмельного спутника), похищающего нимфу.
Главный храм Фасоса, под конец представлявший собой здание с пятью помещениями, был посвящен Гераклу, чей культ, возможно, вытеснил здесь культ финикийского Мель-карта. Храм этот стоял в нижней части города, где находились различные святилища других чужеземных богов (что отражало этническую пестроту обитателей), а также Диониса, Посейдона и Артемиды. Возле алтаря Артемиды были найдены вотивные предметы, относящиеся примерно к 500 г. до н. э. Раскопаны и жилые кварталы города.
У фасосцев имелся неплохой собственный флот, но в 491 г. до н. э. им пришлось предоставить его в распоряжение персов, вторгшихся в Европу (и направлявшихся для битвы в Марафон). При этом их городские укрепления, окружавшие одну из гаваней, подверглись разрушению; и прежде чем истекло столетие, та же беда успела обрушиться на них еще дважды.
9. Северная Эгеида
В материковой Фракии (Приложение 2) находился греческий город Абдеры — почти напротив Фасоса и в 18 км к северо-востоку от реки Нест15. Вопреки мифическим преданиям, относившим возникновение Абдер ко временам Геракла, — первая попытка основать здесь греческую колонию была предпринята ок. 654 г. до н. э. неким Тимесием (или Ти-нисием) из Клазомен в Ионии, — но она не удалась из-за сопротивления фракийцев. В 545 г. до н. э. здесь обосновались выходцы из другого ионийского города, Теоса, ибо персидское владычество казалось им невыносимым; среди этих поселенцев был поэт Анакреонт. Новоявленные абдериты, осмотрительно защищая свои земли от набегов фракийцев из внутренних областей, в то же время умудрялись успешно торговать с местным населением. На деле, в каждом из этих греческих центров господствующим фактором стали взаимоотношения с огромным скоплением фракийских племен. В результате таких связей в греческую религию постепенно проникли существенные элементы фракийской религии — в частности, культы Диониса и Орфея.
Сходная роль «передаточных звеньев» досталась и греческим городам, лежавшим несколько далее к востоку. Одним из них был Энос, основанный Лесбосом сообща с эолийской Кимой16; другим была Кардия, подобным же образом выведенная Милетом с Клазоменами. Кардия расположилась на перешейке Булаир, соединяющем материк с Херсонесом Фракийским (Галлипольский полуостров), который простирался к югу, к Геллеспонту (Дарданеллы) — первому из трех морских проходов (другими были Пропонтида [Мраморное море] и Боспор Фракийский [Босфор]) на пути к Черному морю, имевшему насущное значение для греческой торговли.
Геллеспонт получил свое название от имени мифической Геллы, дочери Афаманта и Нефелы: проносясь над проливом на золотом баране вместе с братом Фриксом (которого их мачеха Ино вздумала принести в жертву богам), она упала в море. Этот извилистый и неприветливый пролив, имеющий 64 км в длину и в среднем около 1,6 км в ширину, изобилует скалами и бурлящими течениями, которые врываются в него из Черного моря со скоростью в шесть — восемь километров в час и злобствуют здесь с возрастающей силой в течение девяти месяцев в году, пока дует нещадный северо-восточный ветер.
Поэтому греческие корабли, «натрудив полотно» в Эгейском море (а там им тоже приходилось плыть наперекор этим суровым ветрам), даже и не пытались зайти в пролив — не говоря уж о том, чтобы проплыть по нему дальше. Купцы были рады переправить груз на азиатский берег, где пролив только-только начинался, — а оттуда доставка товара в более удаленные края была уже не их заботой.
Зато южный — азиатский — берег Геллеспонта, с его приветливыми прибрежными мелкими водами, привлекал греков куда больше, нежели грозный северный — европейский — берег. Должно быть, этим отчасти и объяснялось то огромное значение, которое обрела на протяжении бронзового века Троя, господствовавшая над азиатским берегом. В историческую эпоху греки тоже основывали колонии на этом южном побережье: а именно, Абидос (ок. 680–652 гг. до н. э.), Лампсак (ок. 654 г. до н. э.) и Сигей (ок. 600/590 г. до н. э.), выведенные Милетом, Фокеей и Афинами, соответственно1^. Тем не менее и возле сурового северного берега, на южной оконечности Херсонеса Фракийского, ионийский город Теос дерзнул основать колонию Элейос (ок. 600 г. до н. э.), а лесбосцы основали Сеет.
Со временем предмет внимания Афин тоже переместился с юга на север пролива, и ок. 555 г. до н. э., получив одобрение дельфийского оракула, весь Херсонес занял Мильтиад Стариший — афинский аристократ из рода Филаидов. Он принялся править полуостровом как независимым государством — правда, с помощью Писистрата (который готовил свой второй переворот в Афинах — Глава I, раздел 4). Кроме того, Мильтиад заручился поддержкой соседей-фракийцев (дол он — ков), которым оказал услугу, разбив их соотечественников и врагов — апсинтиев18. Затем он принялся укреплять перешеек Булаир, соединявший Херсонес с материком, и прибрал к рукам афинскую колонию Сигей (ок. 546 г. до н. э.).
Ок. 516 г. до н. э. его племянник Мильтиад Младший, занимавший должность афинского архонта, был послан сыном и преемником Писистрата Гиппием поддерживать афинскую власть на полуострове19. Мильтиад Младший, чеканя собственную монету, в то же время счел благоразумным — или необходимым — впасть в подчинение к персидскому царю Дарию I, и сопровождал его в скифском походе 513–512 гг. до н. э. (Приложение 1). Но позднейшее заявление Мильтиада о том, что именно он предложил разрушить Дариев мост через Геллеспонт, чтобы воспрепятствовать возвращению персов (этот план был расстроен диктаторами других греческих городов поблизости), — не заслуживает доверия, так как Дарий оставил его у власти, чего бы не про. изошло, соверши его подданный столь вероломный шаг.
Этот второй Мильтиад властвовал над туземными фракийцами в Херсонесе; он взял в жены Гегесипилу, дочь фракийского (сапейского) царя Олора20, поэтому после кратковременного изгнания, к которому Мильтиад а вынудило скифское вторжение, именно фракийцы вернули его обратно (496 г. до н. э.). В дальнейшем он все-таки отважился выступить против царя Дария и, освободив от его засилья остров Лесбос, примкнул к Ионийскому восстанию. После провала этого мятежа (494 г. до н. э.) он вернулся в Афины, где подвергся суду за то, что учредил «тиранию» в Херсонесе, — а позднее прославился как главный творец исторической победы при Марафоне (490 г. до н. э.).
Через Геллеспонт путь лежал к более широким водным пространствам — к Пропонтиде, буквально «Предморыо». Ей было дано такое имя ввиду самого географического положения в качестве «преддверья» более просторного моря, Понта Эвксинского (Черного моря). Пропонтида, ныне называемая Мраморным морем, имеет 280 км в длину и 64 км в ширину в самом широком месте. Ее выгодное расположение породило жадное соревнование между морскими греческими державами, выводившими колонии, что явствует уже из перечня главнейших поселений, основанных ими по обоим берегам Пропонтиды21.
Как и в случае Геллеспонта, южное побережье было более гостеприимным, и именно здесь возник самый важный центр на Пропонтиде. Это была милетская колония Кизик (совр. Балкыз, Бел кис). Кизик занимал часть холмистого и широ-комысного прибрежного Арктоннеса («Медвежьего острова», напротив устья Эсепа). Затем он был превращен в полуостров: через морскую полосу пролегли две параллельные дамбы, укрепленные песчаными насыпями. Согласно греческой мифологии, царь Кизика оказал гостеприимство аргонавтам, которые чуть погодя его нечаянно умертвили. Если же обратиться к историческим событиям, то наиболее ранняя из двух дат основания, приводимых Евсевием (ок. 776 г. до н. э.), не поддается проверке (хотя нельзя напрочь отвергать возможность временного существования колонии, позднее, быть может, разрушенной вторгшимися из Фриши киммерийцами [ок. 695 г. до н. э.]). Но даже вторая предложенная историком дата — а именно, 679 г. до н. э., — не вызывающая подобных возражений, говорит о том, что Кизик был весьма ранним милетским поселением в здешних краях.
Кизик имел в своем распоряжении две главные линии сухопутного сообщения. Но эта местность была выбрана скорее по другим соображениям: из-за защищенного положения и доступа к двум прекрасным гаваням, простиравшимся по обеим сторонам и впоследствии соединенным искусственным каналом. Эти гавани превратили Кизик в порт, куда непременно заходили курсировавшие между двумя морями суда. Поэтому возникали всяческие истории, связывавшие этот город со скифами, жившими далеко за Черным морем (Приложение 2). Рассказывали, что один из скифов, Анахарсис, обучил свой народ кизикским обрядам (но сородичи его за это казнили); а другой полулегендарный персонаж, Аристей — грек с Проконнеса (принадлежавшего Кизику острова), якобы сверхъестественным образом объявившийся в этом городе после смерти, оставил сочинение о Скифии и ее обычаях.
Кизикское правительство, славившееся действенностью своих порядков, богатело за счет ловли тунца (а его обилие в здешних водах стало немаловажной причиной для возникновения многих греческих колоний), и изображение этой рыбы появилось в качестве городской эмблемы на кизикских монетах из электра (бледного золота). Возможно, их чеканка началась до 600 г. до н. э., а в течение следующего столетия кизикские деньги превратились в важнейшую единицу обмена в восточногреческих землях.
Однако Кизику не удалось сохранить политическую независимость на протяжении всего этого периода: вначале он попал под влияние лидийцев, а затем персов. Согласно рассказу Геродота, диктатор Кизика Аристагор отказался предать Дария I во время вторжения персов в Европу (ок. 513–512 гг.)22. Когда разразилось Ионийское восстание (499–494 гг. до н. э.), первое побуждение кизикских граждан присоединиться к восставшим было задушено в зародыше, так как сюда прибыл финикийский флот персов, и Кизику пришлось пойти на соглашение с Эбаром, персидским сатрапом в Даскилии.
Если на западе Пропонтида завершается Геллеспонтом, то на востоке ее сходным образом замыкает другой пролив — Бос-пор Фракийский (ныне Босфор). Течения, проходящие по Боспору, не менее прихотливы и коварны, чем в Геллеспонте: под напором ветра они зигзагами снуют от берега к берегу, семикратно меняя направление. И все же с ними приходилось бороться, ибо этот пролив был кратчайшей переправой между Европой и Азией — и вел к Черному морю. Кроме того, многих привлекало обилие рыбы, которая в период миграции устремлялась в это море или, наоборот, из него. Так, дельфины — во многих мифах действующих как друзья человека, — появляются на монетах двух важнейших городов на берегах Боспора — Калхедона (совр. Кадыкёй) на азиатском побережье, у южной оконечности пролива, и Византия (Константинополь, Стамбул) на европейском побережье, почти напротив. На калхедонской монете над дельфином изображен хлебный колос, а в Византии вместо колоса изображалась корова. Это вызывало в памяти скитания Ио — мифической дочери Инаха и жрицы Геры в Аргосе, — которую Зевс обратил в корову, чтобы спасти ее от ревности Геры; пролив же, который переплыла Ио, получил название Βόσπορος — «коровий брод».
Калхедон, где были обнаружены доисторические следы обитания, возможно, вначале был фракийским поселением, — но позднее его колонизовали мегаряне (согласно традиции, в 685 г. до н. э.). Геродот сообщает, что полководец Дария I Мегабиз называл основателей города слепцами — ибо они не заметили превосходного места по другую сторону пролива, где лишь семнадцать лет спустя был основан Византий23. Но, скорее всего, первые пришельцы из Мегар не чувствовали в себе смелости вывести поселение на европейском берегу Боспора, среди фракийцев (там они были куда многочисленней и грозней, чем их соплеменники на южном берегу). Кроме того, Калхедон — хотя его порт оставался беззащитен против бурных течений — располагал хорошими пахотными землями (о чем красноречиво свидетельствует колосок на местной монете) и получал прибыль от медных копей и добычи полудрагоценных камней на соседнем островке Халкитида (ныне Хейбелиада), название которого, происходившее от слова χαλκός («медь»), позднее привело к «превращению» Калхедона — в Халкедон (истинное же происхождение исконного названия города неизвестно).
Местный законник Фалей (V век до н. э.?) записал — или закрепил — правила, предписывавшие поддерживать ограниченный состав граждан. Он настаивал на имущественном равенстве среди них — во избежание внутренних распрей. Позднее Калхедон, примкнувший к Ионийскому восстанию, был разрушен персами (494 г. до н. э.). Те, кто уцелел, нашли пристанище в Месембрии (совр. Несебр) на Черноморском побережье, который примерно десятилетием раньше был сообща основан Мегарами, Калхедоном и Византием.
Даты основания Византия назывались различные — 668, 659 и 657 гг. до н. э. Основали его тоже выходцы из Мегар, хотя, наверное, с ними прибыли и переселенцы из других городов Средней Греции и Пелопоннеса. Они подчинили себе коренное фракийское население, низведя туземцев до положения «крепостных» (вроде илотов) под прозванием пруников (яробуион) — «вьючного скота».
Мегарское поселение Византий — которое средневековый хронист уподобил треугольному парусу, развевающемуся на ветру, — заняло большой мыс у западной оконечности Бос-пора, южной стороной обращенный к Пропонтиде, с продолговатой естественной гаванью Хрисокерас (Хргхюкерои;, Золотой Рог) с севера. Золотой Рог, лишенный речных стоков, представлял собой свободную от наносов заводь, защищенную от северного ветра холмами. Он служил переправой еще в более ранние века и был спасительной гаванью для судов, собиравшихся «штурмовать» опасные воды Босфора или только что это проделавших. К тому же ветры, чинившие столько препон, загоняли в Рог несметные косяки рыб, — из-за чего, может быть, он и был прозван «Золотым».
Когда персидский царь Дарий I возвращался из похода в Европу (ок. 513–512 гг. до н. э.), диктатор Византия Аристон, вслед за Аристагором Кизикским, отказался чинить ему зло. Однако во время Ионийского восстания многие византийцы покинули город, прежде чем прибыл финикийский флот персов, и вместе с калхедонянами бежали в Месембрию, основанную совместно с ними.
Между тем будущему Византия ничто не угрожало: его было легко защищать, а оборонительные стены города почитались крепчайшими во всех греческих землях. Кроме того, «с моря местность прилегает к устью Понта, — как позднее заметил Полибий, — и господствует над ним, так что ни одно торговое судно не может без соизволения византийцев ни войти в Понт, ни выйти из него. Понт обладает множеством предметов, весьма нужных для человека, и все это находится в руках византийцев»24. Полибий написал это во II веке до н. э. С той поры, на протяжении тысячи лет с лишним, дали о себе знать и многие другие преимущества Византия; будучи мостом между Европой и Азией, этот город стал, уже под именем Константинополя, столицей всего западного мира.
Глава 3. ПРИЧЕРНОМОРЬЕ: СИНОПА, ИСТРИЯ, ОЛЬВИЯ
Греки называли Черное море Понтом Эвксинским (Ей^тчх;), го есть «гостеприимным», хотя считалось, что это эвфемизм, заменивший более раннее название — Понт Аксинский СА£е-то есть «негостеприимный». Но не исключено, что новое название было искажением какого-то негреческого слова, означавшего «темный» или «северный». В мифологии море было знаменито благодаря истории об аргонавтах, изложенной в эллинистической эпической поэме Аполлония Родосского, но отражавшей морские географические исследования (в поисках меди?), которые восходили ко II тысячелетию до н. э.
К 800 г. до н. э. ионийцы и другие восточные греки уже знали кое-что об обычаях племен, населявших берега Понта, и гомеровские поэмы обнаруживают смутное знакомство с его южной кромкой. Но достоверные сведения об этих краях появились у греков лишь в VII веке до н. э… В ту пору милетяне настолько освоились в Черном море, что практически превратили его в «собственный водоем» (Глава V, раздел 2).
Войдя в море, они, по-видимому, в первую очередь обратились к его южному побережью: оно было доступнее остальных, потому что течение здесь устремляется вдоль берега на восток. За приморской полосой северной Малой Азии, которую они принялись заселять, начинались глубинные земли, тоже носившие название Понта. Там обитали разноязычные племена негреческого происхождения, объединявшиеся в крупные независимые храмовые сообщества, которыми управляли жрецы с помощью «священных рабов» (иеродулов). Понт, область плодородная и хорошо орошаемая, обладал мягким климатом в поймах Галиса (Кызыл-Ирмак) и Ириса (Ешиль-Ирмак) и в прибрежных равнинах. Здесь в изобилии произрастали зерновые культуры, разнообразные плоды и орехи, имелись и тучные пастбища. Ближайшая из параллельных горных цепей в глубине области одаряла поселенцев строевым лесом для кораблей. Кроме того, здешние склоны были богаты железом, которое добывали халибы — по преданиям, первый в мире народ, постигший обработку металлов25.
В срединной точке этого побережья милетяне основали Синопу (совр. Синоп). Имевшееся здесь ранее поселение занимало полуостров или мыс, а обитателями его были местные понтийцы — пафлагонцы, возможно, вперемешку с фригийцами (Приложение 1). Но в одном важном вопросе мнения античных авторов разделялись: пришли ли милетяне в Синопу — а иными словами, начали ли они колонизацию Причерноморья, — ок. 756 г. до н. э. или ок. 631 г. до н. э.? Имеющиеся свидетельства запутанны — Евсевий предлагает обе даты, — но вполне вероятно, что какие-то выходцы из Милета, а быть может, и из других мест, действительно учредили здесь торговый пост (вроде тех, что существовали в Кампании и Сирии) в период, соответствующий более ранней дате. Передавали, что они явились под началом некоего Габ-ронда. Но этот эмпорий — если он и вправду существовал — позднее разрушили киммерийцы (Приложение 1), а уже позднее, ок. 631 г. до н. э., группа милетян во главе с изгнанниками Коем и Кретином заново основала здесь колонию.
Синопа имела большие запасы пресной воды и могла выращивать собственные маслины — в отличие от прочих понтийских городов, кроме Амиса. Она располагала сельскими угодьями и лесом и имела доступ к серебряным и железным рудникам в глубинных областях. Местные находки — фригийские вазы — подтверждают такую связь с малоазий-скими внутренними районами. К тому же город прославился своим суриком, или рДтск; — иначе, «синопской глиной», рыжей охрой или бурой окисью железа, — который шел на покраску кораблей. Сюда же его доставляли из Каппадокии, хотя неясно, когда именно была налажена торговля этим красителем.
Но, в любом случае, всякое сухопутное сообщение было для Синопы нелегким, сильнейшей же опорой для нее служили две глубоководные гавани. Эти порты считались чуть ли не лучшими в округе на много километров, и синопиты богатели на ловле тунца. Кроме того, колония располагалась в такой точке, откуда лежит кратчайший путь до противоположного берега Черного моря, и поэтому ее граждане без труда контролировали движение судов через свои воды.
Судя по товарам, вывозившимся в самые разные края, в Синопе изготовляли множество амфор, которые недавно подверглись тщательному исследованию (как и местные надписи). Сосуды, найденные в местных захоронениях, происходили по большей части из восточногреческих городов, хотя попадалась и коринфская утварь начала VI века до н. э… В области словесности связи с греческой культурой тоже бережно сохранялись: известно, что здесь было в чести изучение гомеровских поэм — по крайней мере, в отдельные периоды синопской истории26.
Трапезунт (Требизонд, Трабзон), расположенный к востоку на том же побережье, возвышался на прибрежном горном отроге у подножья Париадр. Его основание — как и основание его метрополии Синопы, согласно одному из рассказов Евсевия, — возводят к 756 г. до н. э. Из этого следует вывод, что и здесь еще в VIII веке до н. э. мог возникнуть эмпорий, впоследствии превратившийся в самостоятельный город, — хотя в начале IV века до н. э. его граждане по-прежнему выплачивали дань городу-основателю Синопе27. Трапезунт, располагавшийся на плато столовой горы (по-гречески трйяе^а — «стол», откуда и название), был одинаково удален от Синопы и от дальнего края северного побережья. Окрестности его населяло варварское племя моссинэков, которые украшали свои тела татуировками в виде цветов, питались вареными каштанами и приторговывали чудовищно раскормленными мальчиками.
Так как в остальном их, должно быть, не подпускали к новой колонии, — моссинэки оставались недружелюбными соседями, а неудобная гавань Трапезунта оказалась еще одним препятствием для развития. В то же время, город был хорошо защищен: по обеим сторонам поднимались утесы, за которыми простирались лощины. Его расположение способствовало и торговле с халибами, обработчиками железа. И наконец, Трапезунт служил крайней северной точкой главной сухопутной дороги, которая затем, через Зиганский перевал, вела в Армению и Месопотамию.
Ок. 564 г. до н. э. милетяне и фокеяне сообща основали Амис (совр. Кара-Самсун). В окрестностях хорошо прижились маслины — что для прочих мест, кроме Синопы, было здесь редкостью. Амис, лежавший к востоку от Синопы и к западу от Трапезунта, между дельтами Ириса и Лика, — располагался, подобно Трапезунту, на торговом пути, ведшем во внутренние районы (об этом свидетельствуют фригийские вазы, найденные в Ак-Алане, километрах в шестнадцати в глубь страны), и, подобно Трапезунту, получал от халибов железо, которое затем развозил по греческому миру. Опять-таки, как Трапезунт, Амис занимал хорошо защищенное место — полуостров, с обеих сторон омываемый морем и почти отрезанный от суши глубоким ущельем, — так, что он более походил на остров.
Далее, ок. 560 558 гг. до н. э., на том же побережье, но значительно западнее этих трех городов, мегаряне под началом Гнесилоха основали еще одну новую колонию — пополнив свои ряды беотянами и, возможно, получив молчаливое согласие милетян. Эта колония была названа Гераклеей Пон-тийской (ныне Эрегли) — в честь Геракла, который, по преданию, спускался в подземное царство через Ахерусию — пещеру на одноименном соседнем полуострове (Баба-Бурун). Город располагался ступенчатыми террасами, наподобие театра; было подсчитано, что здесь могло проживать до десяти тысячи человек. Коренных обитателей-варваров, представителей племени мариандинов, колонисты поработили, но, в свой черед, обязались за пределы родины никого из них не продавать.
Аристотель упоминает о нетипично ранних политических новшествах в Гераклее28. Ее первые правители — γνώριμοι, то есть «знатные», — были низложены почти немедленно, взамен же был введен демократический строй. Но изгнанники возвратились, свергли этот режим и вновь учредили олигархию, которая опиралась на народное собрание из шестисот граждан.
Нажившись на тучных сельских угодьях и прибыльной рыбной ловле, Гераклея вскоре распростерла свое влияние на побережье вплоть до Китора (ныне Кидрос) — города, упомянутого в «Илиаде»2.
Весьма рано — согласно общепринятой датировке, в 657 г. до н. э., — милетяне добрались и до западного побережья Черного моря. Они основали колонию Истр (Истрия) в нынешней румынской Добрудже, чуть южнее дельты Дуная (Истра, который и дал этому месту название) и менее чем в 80 км от большой излучины, которую образует эта река, прежде чем впасть в море.
Новая колония расположилось на невысоком холме у оконечности острова или полуострова — внутри залива, позднее превратившегося в морскую лагуну, а ныне представляющего собой озеро Синое, со всех сторон окруженное сушей. Колонисты обосновались на месте бывшего поселения гетов (Приложение 2). По сообщению Аристотеля, правление осуществлял узкий круг знати, который со временем вытеснила группа богачей, дотоле не допускавшихся к власти30.
Поначалу Истрия оставалась скромным селением с каменными домами в одно помещение, построенным на сваях — для укрепления болотистых земель возле древней пристани. Жители довольствовались рыбной ловлей в дельте Дуная. Но со временем колония приобрела более внушительные размеры. Ибо раскопки возле лагуны, проводившиеся на глубине около 4 м ниже нынешнего уровня земной поверхности, обнаружили целое скопление культовых сооружений, в том числе ранний храм Афродиты. Кроме того, Истрия наладила торговлю с восточногреческими центрами. (Об этих связях свидетельствует хотя бы имя гончара, работавшего ок. 650 г. до н. э. в Смирне, — Истрокл.) Такой торговой деятельности способствовало и то, что Милет вывел и другие колонии на морском пути от Боспора Фракийского. Одной из них была Аполлония Понтийская (совр. Созопол), основанная, согласно традиции, ок. 610 г. до н. э., — своего рода греческий оазис в гуще враждебных фракийских племен (саму же ее постоянно раздирала междоусобная борьба олигархов-расхитите-лей)31. Примерно в ту же пору был основан Одесс (совр. Варна), а позднее, незадолго до 500 г. до н. э., — Томы (совр. Констанца), куда пятьсот с лишним лет спустя был сослан Овидий, к превеликому его отвращению. Истрийцы учредили ряд небольших эмпориев — в частности, Истрий-скую Гавань, значительно дальше по Черноморскому побережью, неподалеку от Ольвии (см. ниже).
В то же время Истрия поддерживала живейшие связи и с соседями-варварами. Обнаруженные в пригороде дома из сырцового кирпича — предположительно, жилища туземцев, — наводят на мысль, что колонисты жили бок о бок с коренными обитателями — гетами, — неплохо уживаясь с этими и другими племенами, населявшими богатые зерном внутренние земли. Такой вывод подтверждается археологическими данными: на месте, туземного поселения Тариверде, в 18 км к юго-западу, в начале VI века до н. э. существовал богатый эмпорий. Греческая торговля с окрестными народами приняла следующий оборот: внутрь Европы греки отправляли вино и масло (в сосудах местного изготовления), а также домашнюю утварь и оружие, — а взамен приобретали и везли в прибрежные земли рабов, шкуры и сельскохозяйственные продукты. Кроме того, близость к Дунаю — у излучины которого был создан эмпорий (возле современной Брэилы), — позволяла подобраться к залежам золота и серебра в горах на другом берегу.
Но этим поселениям не суждено было просуществовать долго: прежде чем наступил 500 г. до н. э., нагрянули скифы (Приложение 2) и разрушили Истрию. Правда, со временем город воспрянул, и даже значительно расширил свои торговые связи в последующем столетии, — но до заката античности ему предстояло еще трижды подвергнуться основательному разрушению.
Всего десять лет спустя после основания Истрии, как рассказывали — а недавние археологические открытия опровергают более позднюю датировку, — группа предприимчивых миле-тян, с примкнувшими к ним выходцами из других греческих городов, проделала изрядный путь к северу и основала Ольвию (близ современного села Парутина) у самой дальней точки Черного моря.
Новое поселение, основанное под покровительством Аполлона — с одобрения его дельфийского оракула, — расположилось на правом (восточном) берегу Гипаниса (Буга), возле входа в его большой залив, образованный его устьем, — лиман (от греческого λιμήν), в 37 км к западу от реки Бо-рисфен (позднее Данапр, ныне Днепр), который сперва и дал колонии свое имя (пока ее не назвали ^Ολβια — от слова όλβος «счастье»). Место, выбранное для колонии, хотя и не занятое прежде оседлыми жителями, отличалось выгодным расположением, потому что отсюда легко было контролировать движение торговых кораблей в глубь суши по обеим этим крупным судоходным рекам, составляющим типичную особенность южнорусского ландшафта.
Новое поселение состояло из нижнего города возле Гипа-нисского (Днепровско-Бугского) лимана и верхнего города на плато, поднимавшегося на 36,6 м над морем. Сейчас нижний город частично погружен в воду из-за поднятия уровня моря, но недавно были произведены раскопки в четырех зонах затопленного участка. Выяснилось, что численность населения быстро возросла с шести до десяти тысяч жителей. Общественные здания в верхнем городе восходят, очевидно, к 550–500 гг. до н. э. Рядом с агорой стояли священные участки Зевса и Аполлона Дельфиния, а к северу от нее располагались большие купеческие дома с закромами для припасов (причем подобный размах даже в Балканской Греции был еще в диковинку). Контраст им составляли хижины, числом около сорока, обнаруженные неподалеку и принадлежавшие людям более скромного достатка. Другой жилой квартал был выявлен у западного края города, над Заячьей Балкой; там же имеются следы ремесленных мастерских. Могильники вокруг города поражают разнообразием форм.
Стремясь подчеркнуть свою греческую принадлежность, колония поощряла изучение гомеровских поэм. Сходное явление наблюдалось и в Синопе, но родиной подобных штудий была, разумеется, Иония, — Ольвия особенно старалась во всем походить на свою ионийскую метрополию, Милет. Она заключила с Милетом договор об исополитии (совместном гражданстве) и, возможно, освобождала милетян от налогов32. Кроме того, в Ольвии соблюдали точную последовательность милетских месяцев года (и сохраняли их названия), а также предоставляли пристанище — временное или постоянное — милетским златокузнецам.
Но великолепные золотые изделия, которые они производили, предназначались главным образом для населявших внутренние области скифских племен, с которыми ольвиополиты тоже поддерживали тесные связи. Эти отношения были отражены в многочисленных рассказах Геродота (который самолично здесь побывал и знал о Гипанисе не понаслышке, проделав многодневное путешествие вверх по его течению)33. По-видимому, между колонистами и туземцами заключалось немало смешанных браков, и по меньшей мере один из скифских кочевых народов — каллипиды — под влиянием ольвиополитов перешел к оседлому образу жизни.
Такие отношения породили разумное предположение, что уже с самого начала Ольвия — хотя и обнесенная стенами, но достаточно уязвимая, — была обязана своим существованием защите соседей-скифов, — хотя теория о том, будто скифы составляли важную прослойку в ольвийском правящем сословии, якобы подкрепляемая рассказом Геродота о прогречески настроенном скифском царе С киле (Приложение 2, примечание 50), так и остается недоказанной. Археологические свидетельства выстраиваются в схожую историю о тесном этническом взаимодействии. Так, воинское погребение в Ма-рицыне (ок. 490 г. до н. э.) являет пример полного культурного смешения: в типично скифский могильник поместили множество греческих изделий. А в другом кургане было найдено 377 наконечников от стрел, причем все — той определенной формы с гнездышком, которую занесли к скифам греки.
В письменных источниках много говорится о торговле с Причерноморьем в позднейшие периоды, но о торговом обмене, происходившем до 500 г. до н. э., они ничего не сообщают. Зато о характере этого обмена позволяют судить археологические данные. Что касается сухопутного сообщения, то главный торговый путь Ольвии уходил прямо на север, по долине реки Ингул (впадавшей в тот же лиман, что и Гипанис), — туда, где сейчас находятся Смела и Черкассы. Оль-вийские купцы плавали и вверх по Гипанису, добираясь в края, удаленные от устья по меньшей мере на 320 км: ибо в ходе раскопок в Немирове были найдены восточногреческие вазы конца VII века до н. э.
Если обратиться к морским путям, то найденные в Ягор-лыке и на Березани (см. ниже) каменные глыбы эгейского происхождения явно были использованы как судовой балласт. Это означает, что сюда прибывали корабли со сравнительно легким грузом (вино, масло), так что им требовался дополнительный вес, — а отсюда они увозили груз более тяжелый (зерно), выбрасывая не нужный более балласт. В VI веке до н. э. Милет способствовал этим межгреческим контактам, выведя очередную колонию, Тиру (ныне Белгород-Днестровский), у лимана реки Тирас (Днестр), между Ольвией и Истрией, — а последняя, как уже говорилось выше, основала собственный эмпорий, Истрийскую Гавань близ Ольвии.
Ольвиополиты подчинили себе многие греческие причерноморские поселения и торговые посты, и в их владении находилась обширная территория — глубиной в тридцать и протяженностью в 64 км. И эта прибрежная полоса была густо населена: как показали недавние исследования, здесь обитало не менее семидесяти сообществ, объединенных продуманной системой связи. Досадным упущением является невнимание большинства книг по истории Греции к этому обширному участку эллинского мира (которое объясняется тем, что отнюдь не многим под силу одолеть отчеты российских археологических экспедиций, выходящие на русском языке) составляло ядро торговых отношений греков со скифами из внутренних районов. Античные авторы писали о несметных количествах зерна, привозившегося из плодородного черноземья украинских и молдаванских равнин; а о той роли, которая принадлежала Ольвии в этой хлебной торговле, можно судить по находке в Широкой Балке — урочище в полутора километрах к югу от городища: там были раскопаны двенадцать огромных зерновых ям, а вдобавок к ним и печь — вероятно, использовавшаяся для сушки зерна.
Но хлеб был не единственным богатством, каким могли похвастаться здешние глубинные земли. Полибий позднее упоминает скот, мед и воск35; к ним можно добавить мех, строевой лес, металлы (сплавлявшиеся сюда по реке из Трансильвании), а еще — массу рабов, которых вывозили из Ольвии и прочих причерноморских городов в другие греческие края; грузили же их, по большей части, на милетские суда. Взамен греческие корабли, заходившие в черноморские порты, привозили в изрядных количествах вино и оливковое масло — и не только для греческих поселенцев, желавших пировать не хуже своих соотечественников в дальних землях, но и для варваров, населявших необъятные просторы Северной и Центральной Европы и Средней Азии. Можно заключить, что уже в VI веке до н. э. эта торговля велась в обоих направлениях.
Важнейшим из соседних поселений, находившихся под влиянием Ольвии, была Березань (ее греческое название неизвестно). Располагалась она на островке (в древности, должно быть, являвшемся полуостровом), в устье Борисфена (с которым в этом месте сливается Ингул) и Гипаниса, впадающих здесь в море и образующих крупнейший из черноморских лиманов. Существует предположение, что Березанское поселение возникло раньше Ольвии, впрочем, оно труднодоказуемо. Вероятно, дело все-таки обстояло наоборот.
Дома на Березани представляли собой крытые соломой жилища в одно помещение, чаще всего прямоугольные, но иногда и круглые, величиной примерно 1,8 м на 2,8 м или 2,8 м на 3,7 м. Они были частично врыты в землю — для защиты от зимней стужи, — и снабжены очагами. Обнаружены здесь и ямы — для хранения запасов или для отбросов. Островок, на котором ныне находятся развалины Березани (в том числе пристань на восточном берегу), оказался богат находками самых разных периодов. В частности, недавно была найдена небольшая группа монет из Электра, относящихся к VI веку до н. э.
В трещине стены было обнаружено частное письмо (ок 500 г. до н. э.), написанное на свинцовой пластине и скатанное в свиток36. Этот ранний образец торговой переписки свидетельствует о существовании «профессионального» слоя купцов. Письмо, написанное на ионийском диалекте, изобилует неясностями и намеками, но, согласно одной версии истолкования, суть сводится к следующему. Автор послания, Ахиллодор, совершает деловое путешествие по поручению некоего Анаксагора, но тут вмешивается третье лицо — Мата-сий, — захватывает его груз, а его самого пытается обратить в рабство. Возможно, посягнув на товар Анаксагора, Матасий попытался воспользоваться правом личного захвата собственности: часто гражданин одного полиса, понеся обиду от гражданина другого города, пускал против него в ход это право. Ибо Матасий заявляет, что ранее лишился имущества по вине Анаксагора, — а потому Ахиллодор, будучи рабом Анаксагора, подлежит захвату, ради возмещения убытков. Ахиллодор же просит своего сына Протагора сообщить все эти новости Анаксагору и поясняет, что он свободный человек, а не раб и потому не подлежит захвату.
Скифский поход Дария I ок. 513–512 гг. до н. э. (Приложения 1 и 2), должно быть, посеял панику среди подобных купцов, да и среди всех жителей Ольвии и Березани. Вероятно, из-за него пресекся их доступ к одному из источников прибыли — рудникам в Трансильвании; кроме того, возникла угроза, что Причерноморье превратится в персидское озеро.
К юго-востоку от Ольвии находился Херсонес Таврический (Крымский полуостров), гористые области и свирепые жители которого внушали греческим морякам несказанный ужас. И все-таки восточная оконечность полуострова (Керченский полуостров), выходящая к Боспору Киммерийскому (Керченскому проливу), показалась колонистам — особенно милетя-нам — заманчивой, потому что этот пролив вел к озеру Меотиде (Азовскому морю) — пусть и бурному, зато буквально кишевшему рыбой.
Кроме того, через озеро путь на север лежал к Танаису (Дону), в устье которого милетяне (если это были они, что кажется весьма правдоподобным) основали самую дальнюю из всех своих колоний (ок. 625–600 гг. до н. э., или чуть раньше), названную по имени реки Танаисом; она открыла грекам доступ к скифским внутренним землям. Страбон писал о крупном греческом эмпории Танаис — общем торговом центре европейских и азиатских кочевников37, — в котором была опознана нынешняя Недвиговка, — но, очевидно, более древнее поселение находилось в каком-то ином месте. Возможно, оно было в Таганроге — где под водой обнаружилась греческая керамика VII века до н. э., — или в островной станице Елизаветинская (где, по другой версии, располагалась древняя Алопекия)., возле главного южного рукава дельты Танаиса.
У южного края Меотиды, по обоим берегам Боспора Киммерийского, выросли греческие колонии. Важнейшей из них стал Пантикапей (совр. Керчь) на западном побережье, основанный ок. 600 г. до н. э. милетянами. Он расположился на месте прежнего скифского поселения (Панти-Капа), ранее торговавшего с заезжими греческими купцами: в скифском царском кургане на Темир-Горе, в 3 км от городища, был найдена греческая энохоя 640–620 гг. до н. э.38 Пантикапей, явно поддерживавший тесные отношения с окрестными племенами, был обязан своей мощью выгодному расположению — под прикрытием хорошо защищенного акрополя (на горе Мигридат); а его граждане богатели благодаря соседству лучил их во всем Херсонесе Таврическом хлебородных земель.
Наследственными правителями (архонтами) Пантикапея были представители милетского рода Археанактидов. Спустя одно или два десятилетия после завершения периода, охваченного в настоящей книге, они упрочили свое могущество, образовав долговечное Боспорское царство, которому подчинялся ряд местных коренных народов, более или менее обратившихся в эллинство. К той поре рядом с Пантикапеем возникли и другие греческие колонии39.
Пантикапей не обошел вниманием и восточный (кубанский) берег Боспора Киммерийского (ныне Таманский полуостров, омываемый Таманским — в древности Корокондамским — заливом), стремясь подобраться к богатому залежами металла Кавказу. Насколько возможно судить, самое раннее греческое поселение на этом побережье было основано (как и сам Пантикапей) милетянами. Поселение это — Гермонасса (совр. Тамань). Находясь вблизи южного входа в пролив, Гермонасса пользовалась всеми возможными выгодами такого расположения. В ее распоряжении было и устье реки Антикит (ныне Кубань)40, главный рукав которой в древности впадал в Черное море чуть южнее этого города (а не в Азовское море как сейчас). В ходе недавних раскопок в Гермонассе был обнаружен ряд сооружений, улиц и захоронений начала VI века до н. э. — то есть эпохи основания города. Другие колонии по соседству восходят приблизительно к тому же периоду4!. По речной долине греки легко добирались до туземных центров в глубине полуострова, — среди которых было небольшое укрепленное поселение, позднее покинутое изгнанными киммерийцами (Приложения, примечание 2), — хотя иные из этих племен имели обыкновение захватывать ионийских моряков в плен и приносить их в жертву своей Великой Богине (Табити).
Но главной греческой колонией на восточной стороне пролива была Фанагория, лежавшая чуть к северу (возле нынешней станицы Сенная), на острове между Меотийским и Корокондамским озерами и протокой Антикита. В отличие от большинства причерноморских колоний, основали ее не милетяне, а выходцы из другого ионийского города — Теоса. Поселение занимало две террасы: одна из них служила акрополем, а вторая — нижним городом. Булыпая часть последнего в настоящее время погружена в воду (на расстоянии от 92 см до 92 м) в силу геологического явления, получившего название «фанагорийской регрессии». На верхней же террасе раскопаны остатки четырех ранних жилищ, одно из которых, видимо, относится к самой поре возникновения колонии. Находки в пригородном некрополе свидетельствуют о преобладании в тот период ионийской керамики, вслед за которой появились сосуды из аттических и фасосских мастерских; начиная же с VI века до н. э., греческим вазам стали подражать местные гончары. К юго-запашу и к западу от города были возведены пышные усыпальницы. Среди найденной в них погребальной утвари оказались роскошные дары, например, седла и упряжь из золота и позолоченной бронзы.
Так, минул всего век — и западное и северное Черноморские побережья оказались сплошь усеяны греческими городами, поначалу служившими как торговые посты или а1рарные селения. Кроме того, и на восточной стороне моря, неподалеку от Кавказских гор, раскинулось несколько милетских поселений VI века до н. э., хотя неясно, были ли они полноправными городами (πόλεις) или только рынками (έμπόρια), лишенными гражданского статуса.
Самым северным из них был Питиунт (совр. Пицунда, Бичвинт) в землях племени гениохов, от которых греческие поселенцы или торговцы, возможно, находились в некоторой зависимости. (Ныне это территория Абхазской Автономной республики, входящей в состав Грузии). Далее, возле устья речки Беслетки, располагала Диоскуриада (совр. Сухуми, столица Абхазии), вытеснившая туземное поселение, восходившее ко II тысячелетию до н. э. (или присоседившаяся к нему). Несмотря на свою удаленность, этот торговый городок постепенно стал ввозить товары из самых разных греческих краев, одновременно наладив вывоз местной соли и кавказской древесины, льна и конопли. Рассказывали, что на торговых площадях Диоскуриады раздавалась речь на семидесяти языках — а по словам иных, на трехстах наречиях, — хотя Страбон подвергал последнюю цифру сомнениям42.
Еще южнее находился третий милетский эмпорий — Фасис, где-то возле устья реки с тем же названием (ныне — Риони в Грузии). Из-за речных наносов его точное местонахождение определить трудно, но, возможно, это было в Симагре, в 18 км вверх по течению: там, на холме, были раскопаны руины строений VI века до н. э… Верхняя долина реки Фасис (прежде чем перейти в гнилостную болотистую низину) снабжала эмпорий теми же дарами земли, что продавались в Диоскуриаде; к тому же сюда поступало железо из страны халибов (примечание 25). Эта плодородная область составляла ядро Колхидского царства, которое, возможно, возникло в течение VI века до н. э., придя на смену разрушенному ок. 720 г. до н. э. государству Колха, или Кулха43, — хотя, согласно другой точке зрения, Колхида обрела черты государственного строя не раньше 300 г. до н. э.
Как бы то ни было, в греческой мифологии Колхида занимала видное место уже с весьма древних времен — быть может, со II тысячелетия до н. э., или, во всяком случае, с самых ранних лет милетских географических исследований. Земля колхов была той самой сказочно богатой страной, куда плавали аргонавты за золотым руном. Там правил царь Эет, чье имя происходило от названия его царства — Эя, то есть страна восходящего солнца. Эю обычно отождествляли с Колхидой, хотя в качестве другой возможности порой указывают Таманский полуостров.
Во главе аргонавтов стоял Ясон, которого Пелий, захвативший власть в Фессалийском Иолке, хитростью услал добывать золотое руно, прежде чем юноша заявит о своих законных правах на престол Иолка. Войдя через Боспор Фракийский в Понт Эвксинский, благополучно миновав «сдвигающиеся скалы» Симплегады (пустив впереди Арго голубку), моряки встретили радушный прием у мариандинов. Затем, после недолгой остановки в Синопе, они приплыли в Эю, или Колхиду, высадившись в устье Фасиса, возле которого и стоял царский город. Благодаря помощи царевны Медеи Ясон справился с заданиями, порученными ему Эетом, а именно — впрячь в ярмо пару огнедышащих быков, вспахать на них поле, засеять его зубами дракона или змея (убитого некогда Кадмом) и перебить вооруженных воинов, которые вырастут из посеянных зубов. После этого, опять-таки с помощью Медеи, Ясон завладел руном и пустился в бегство. О его возвращении в Грецию ходило немало противоречивых рассказов, да и вся эта история являет целое нагромождение легенд и элементов волшебной сказки. Вместе с тем в мифологической форме она отразила подлинные ранние странствия греков, отважно исследовавших опасное Черноморское побережье.
С дальними берегами Черного моря, или даже с областями, лежащими в стороне от моря, связан и другой известнейший греческий миф, а именно — миф о племени амазонок. Они обитали в Темискире на реке Термодонт на севере Малой Азии, к востоку от Амиса и от реки Ирис44 (откуда, впрочем, по словам Страбона, их изгнали45; возможно, такое утверждение основывалось на полном отсутствии следов их пребывания здесь). Иные же рассказывали, что амазонки жили далеко на северо-востоке — возле устья Танаиса46, а то и еще восточнее, у Каспийских ворот, к югу от одноименного моря47.
Здесь важно одно: греки «поселяли» их у самого края ведомого мира, потому что их жизнь представляла обратный — по сравнению с «обычным» — ход вещей (являя образец известного типа народных сказаний: со сходными мерками Геродот, например, подходил к египетским обычаям)48. Ибо амазонки — женщины и вместе с тем воительницы не хуже мужчин: так, Гомер дважды награждает их эпитетом аупбуецхп49. Так, среди них царил «порядок наоборот» — потому что война почиталась исключительно мужским уделом. А греки — пожалуй, как никто еще — были убеждены (за исключением очень немногих), что женщины стоят на другой (гораздо более низшей) ступени, нежели мужчины.
Амазонки же не только были «мужеподобны» — они еще и сражались против мужчин. Так, Арктин — милетянин, живший в VIII веке до н. э., — повествовал в своей «Эфиопиде» (или «Амазониде»), как во время Троянской войны царица амазонок Пентесилея явилась на помощь осажденной Трое50 (тогда как в «Илиаде», напротив, она изображалась врагиней троянцев51) и вступила в единоборство с Ахиллом. Он поверг ее наземь и убил: амазонки во всех мифах погибали, сражаясь с мужчинами (прежде Ахилла амазоноубийцами стали Геракл, Тесей и Беллерофонт). Ибо их чудовищную гордыню — соперничество с мужской воинской доблестью — требовалось покарать. Но о том значении, которым греки наделяли этот миф, говорят сцены амазономахии, часто сопоставляемые в искусстве со сценами кентавромахии, — а такое подразумевающееся сравнение должно было подчеркнуть сходство обоих этих вымышленных народов. Пусть одно племя — похотливые самцы, а второе — целомудренные женщины: обе стихии одинаково враждебны «правильному» строю людских отношений, в котором царят мера и лад. Такие изображения амазонок появляются начиная с VII века до н. э.: воительницы облачены в короткие туники, а иногда — в скифские или восточные штаны.
Но исключительная дерзость и отвага, которой наделялись в мифах эти грозные женщины, настолько захватила воображение греков, что амазонки фигурируют в самых различных ролях и местах, — причем не только в качестве вопиющего примера, оправдывающего расхожие взгляды на различие полов и засилье «мужского шовинизма» (пользуясь бытующим ныне выражением), но и в качестве основательниц важных городов на западе Малой Азии, в том числе Кимы и Эфеса (ибо Артемида Эфесская далеко не всегда сохраняла неподвижный облик изваяния в своем главном храме, но порой принимала амазоноподобный образ). Голос Геродота явно выпал из общего хора, когда он предположил относительное равенство между полами, а именно — «выдал» амазонок замуж за родственное скифам племя савроматов или сарматов, живших к северу от Танаиса52. В описанном им вымышленном обществе отношения между мужчинами и женщинами были установлены, а их роли распределены, таким образом, что ни одна из сторон не могла похвалиться полным господством над другой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанный в настоящей книге пятивековой период начался с почти полного упадка, сопутствовавшего гибели микенских дворцов и воцарившегося после их окончательного краха. Мы предприняли попытку проследить за тем, как греки постепенно преодолевали этот упадок, — поочередно рассмотрев различные географические районы и множество городов. Во всех областях греческой жизни — государственном устройстве, хозяйстве, общественном строе, поэзии, философии, науке, искусстве — в многочисленных полисах и районах произошли глубокие и значительные сдвиги.
Все эти достижения явились залогом блестящего будущего. В области политики граница между предыдущим этапом и последующим — то есть «классическим» — ясна. Ибо вскоре после событий, составивших предмет нашего изложения, начались греко-персидские войны. Они ознаменовали поворотный период, обозначенный такими вехами, как сражения при Марафоне (490 г. до н. э.), Фермопилах, Артемисии и Сала-мине (480 г. до н. э.), Платеях и Микале (479 г. до н. э.). Греки одержали победу, которая не только позволила их независимым городам-государствам процветать дальше, но и превратилась в неиссякаемый источник гордости для грядущих поколений.
Но не все было так просто. На протяжении всего нашего исследования мы наблюдали непрестанное противоборство между панэллинским духом, воплощенным в единстве крови, языка и религии, — и центробежной тягой, выливавшейся в межполисное соперничество. Когда же надо всеми нависла персидская угроза, единству все-таки удалось возобладать над разобщенностью. Но это отнюдь не означает, что против персов выступили все до одного государства Балканской Греции: иные, напротив, сочли нужным встать на их сторону, а иные предпочли сохранить нейтралитет, — но те, что взялись защищать свою свободу, выстояли и восторжествовали. Главенство в борьбе против персов принадлежало Спарте и Афинам (несмотря на их взаимные трения и вражду); однако о том, какое из этих государств в большей степени способствовало победе, — споры велись еще долгие годы.
По окончании греко-персидских войн повсюду осознали, что ту сплоченность, которая сделала возможным их успешный исход, следует каким-то образом сохранить. На деле же это сводилось к тому, чтобы признать главенство за Афинами или Спартой. Однако вскоре выяснилось, что Спарте недостает умения или желания — а может быть, и того и другого, — для того чтобы взять на себя такую роль. Поэтому Афины возглавили созданную ими Делосскую симмашю, превратившуюся в мощный военно-морской союз (под началом Перикла). Но такой рост афинского могущества не замедлил вызвать ревниво-враждебные настроения в спартанском* Пелопоннесском союзе, поддерживаемом также Коринфом и Фивами.
Исходом этой вражды (по чьей именно вине — до сих пор ведутся нескончаемые споры) стала Пелопоннесская война — точнее, войны (431–421 гг. до н. э., 416–404 гг. до н. э.), обретшие бессмертие благодаря Фукидиду. В конце концов побежденными оказались афиняне — прежде всего потому, что ранее они бескорыстно вмешались в антиперсид-ское повстанческое движение в Малой Азии. Кроме того, они выступали с походом против Сиракуз на отдаленной Сицилии, завершившимся полным крахом; позднее же афиняне казнили ряд своих полководцев, одержавших победу (при Ар-гинусских островах), за то что в буре после сражения погибло много людей.
Победа Сиракуз послужила напоминанием о том, что, хотя за Афинами и Спартой оставалось безусловное могущество, неведомое предыдущим эпохам, другие города, греческого мира тоже переживали подъем, о чем немудрено позабыть в перипетиях греко-персидских и Пелопоннесской войн. В пору битвы при Саламине Сиракузы и Гела нанесли поражение карфагенянам — и с тех пор Сиракузы оставались крупнейшей державой. Но об истории этого города в V веке до н. э. нам известно почти чудом — в силу того, что она наслоилась на афинские события, столь подробно изложенные Фукидидом. На дальнем западе была по-прежнему могущественна Массалия; сохраняли значимость и греческие города на северных берегах Черного моря — хотя уже не столько самостоятельные полисы, как прежде, сколько мощное царство Археанактидов на Боспоре Киммерийском (Крымском): <уг зерна, вывозившегося из этих краев, всецело зависело афинское благополучие.
На тот же V век до н. э. — век греко-персидских и Пелопоннесской, войн — пришелся беспримерный интеллектуальный и культурный взрыв. Все течения в греческом мышлении и искусстве, описанные в этой книге, почти одновременно достигли той вершины, которая и претворилась в сложнейший скоротечный «классический» феномен, давший название целой эпохе и не знавший себе равных в дальнейшей мировой истории.
Но если различные достижения более раннего периода были рассредоточены по всему обширному пространству греческой ойкумены, и если это рассредоточение в известной мере сохранялось, — то расцвет «классической» культуры имел место прежде всего в Афинах. И такое утверждение не просто основывается на явном перевесе доступных нам афинских источников, уделявших недостаточно внимания политической истории других государств, — греческая культурная жизнь в эту пору действительно сосредоточилась в Афинах. Отныне сюда стекалось гораздо больше мыслителей и сочинителей, чем прежде: здесь обретались и «модные» философы — софисты, — и историк Геродот. Афинянином был и его преемник Фукидид; Афины стали родиной многих других литературных жанров — таких, как трагедия, комедия, — а также той разновидности диалектической, обращенной вовнутрь человека философии, которую Сократ (насколько мы способны воссоздать его образ суждений) довел до немыслимой дотоле глубины. Что касается изобразительных искусств, то стенная живопись той эпохи (как и более ранних) полностью утрачена, зато сохранилось множество образцов афинской краснофигурной вазописи, которые позволяют судить о смелых поисках в области натурализма и иных художественных задач. Возведенный в ту же пору Парфенон (ок. 447 г. до н. э.) и его статуи и рельефы, изваянные Фидием, заявили о первенстве Афин в архитектуре и скульптуре.
И тут встает неизбежный вопрос: почему в V веке до н. э. такой культурный взрыв произошел именно в Афинах? Если ответить: потому, что афиняне к тому времени усовершенствовали систему, унаследованную от Клисфена (Глава II, раздел 5), доведя ее до зрелой демократии, — то подобное объяснение едва ли покажется исчерпывающим, по той причине, что, как мы видели, греки умели создавать удивительные творения, когда демократии еще и в помине не было. Скорее напрашивается иной ответ (и Фукидид склонялся к подобному же мнению): созданная афинянами морская держава принесла им столько денег, что они смогли платить за досуг, позволивший исключительно даровитым людям без помех доводить свои творения до совершенства, а также платить зодчим и ваятелям за шедевры столь же исключительной красоты.
Велось немало споров о том, стоит ли считать успешной демократию, введенную Клисфеном в Афинах и привившуюся в том или ином виде во многих других греческих государствах. В ее пользу говорит то, что демократические установления позволили гражданам лично участвовать в жизни собственных государств — и подобного полноправного соучастия мир не видел ни прежде, ни позднее. Оборотной же стороной такой массовой деятельности, усугубленной к тому же жеребьевкой на равных основаниях, явилось множество серьезных просчетов.
В самом деле, те ошибки, из-за которых Афины проиграли Пелопоннесскую войну, допускались и на протяжении IV века до н. э., когда они пытались возродить былую морскую державу — в то время как Платон, величайший из когда-либо живших греческих мыслителей, по иронии судьбы, как раз сурово порицал демократию (впрочем, осуждая диктаторский режим в Сиракузах). Однако винить следовало не одних только демократов. Ведь и правительство Спарты которая, пусть теоретически управляя «равноправными» гражданами, не была демократией в том смысле слова, какое хоть сколько-нибудь отвечало бы нынешним понятиям, — уже к той самой поре, когда над Элладой сгустились персидские тучи, выказало явную неспособность сплотить под своим началом группу греческих государств, — предоставив затем Фивам совершить ту же попытку, впрочем, краткую и неудачную.
Филипп II Македонский (361–336 гг. до н. э.) положил конец всем подобным дерзаниям. До того его самодержавная и отсталая страна (Глава VIII, раздел 1) ничем особенно не славилась. Но, несмотря на старания талантливого афинского оратора Демосфена создать против Филиппа прочный союз, — последний, опираясь на свое царство, сделал его более могущественным, нежели вся Балканская Греция, а после битвы при Херонее (338 г. до н. э.) обратил былую независимость греческих полисов в пустой звук. А затем его сын, Александр III Великий (336–323 гг. до н. э.), совершив один из ярчайших в истории воинских подвигов и разгромив Персидскую державу, расширил греческий мир до границ, сравнимых только с великой колонизацией, происходившей за триста — четыреста лет до того.
«Эллинистический» мир, оставшийся в наследство от Александра после смутного периода (века диадохов, или преемников), представлял собой преимущественно мир отдельных царств: это были сама Македония (позднее переустроенная Антигонидами), Египет Птолемеев (со столицей в Александрии, основанной самим завоевателем), и необъятные владения Селевкидов на Ближнем и Среднем Востоке (в которых правление осуществлялось из новых больших городов — Антиохии в Сирии и С ел ев кии у Тигра). Кроме того, были созданы или возродились заново другие царства — в частности, в Спарте (где появился ряд монархов-реформаторов или новаторов), в Сиракузах (которые по-прежнему раздирали политические разногласия), на Боспоре Киммерийском (теперь уже под властью новой династии Спартокидов), на важнейших путях через Малую Азию (уже ранее в Галикарнассе, а теперь еще и в Понте, Вифинии, Каппадокии и Пергаме), и даже на отдаленном Востоке, в Индии (Бактрия и Индо-греческое царство, а также негреческая Парфия).
Но и в эллинистическую эпоху продолжали существовать города-государства, не подчинявшиеся монархическому правлению: среди них особенно процветали Афины, Родос (где три полиса еще в V веке до н. э. слились в один) и Тарент в Южной Италии. Кроме того, был подхвачен опыт федеральных объединений, на более раннем этапе уже наблюдавшийся в Беотии (Глава IV, раздел 4): возникли Ахейский и Этолийский союзы, причем оба охватили территории, где прежде полисное устройство и городская жизнь не отличались высоким развитием.
В Афинах расцвела «новоаттическая» комедия Менандра (ум. в 293/289 г. до н. э.); этот же город оставался философским средоточием греческого мира: здесь учили Аристотель из Стагира во Фракии (ум. в 322 г. до н. э.) и его последователи — Зенон (из Китиона на Кипре) и Эпикур (с Самоса), основавшие стоическую и эпикурейскую школы, соответственно. Зато Александрия стала удачливой соперницей Афин в области поэзии: она заманила Каллимаха из Кирены, Аполлония с Родоса и Феокрита из Сиракуз. Вдобавок, Александрия превратилась в очаг науки и медицины, хотя виднейший ученый того века, Архимед, жил в Сиракузах. Во многих городах, особенно же в Пергаме и на Родосе, появлялись подлинные чудеса эллинистической скульптуры, причудливо соединившей новые — «барочные» — черты с многовековыми традициями ваяния.
Но эллинистические царства не поладили с поднявшейся новой державой — республиканским Римом (уже поглотившим этрусские города-государства, испытавшие греческое влияние — Приложение 3), то ли из-за собственной недальновидности, то ли из-за враждебных намерений некоторых римлян, а может быть, в силу обеих причин. Греки не объединили своих сил против Рима, как несколькими веками ранее несколько полисов столь успешно сплотились против персов, — и эллинистические царства гибли одно за другим, пока наконец Октавиан (Август), присоединив к римским владениям Египет Клеопатры VII (в 30 г. до н. э.), не положил мирного, хотя излишне «романтически» представленного, завершения этому затянувшемуся завоеванию. Индо-греческое царство, по-видимому, продержалось еще несколько лет, но о последнем периоде его существования известно мало.
Его покорили не римляне; зато остальной греческий мир к той поре составлял уже более половины Римской империи — правда, его политическое значение в эпоху римского владычества оставалось ничтожным. Ему предстояло «отыграться» уже позднее — когда Константин I Великий (306–337 гг. н. э.) преобразил древнегреческий Византий (Глава VIII, раздел 1) в совсем новый город, Константинополь, который сперва ненадолго превратился в столицу Римской империи, а затем, на целое тысячелетие, — в столицу сменившей ее Восточной Римской, или Византийской, империи. А по прошествии времени греческий вытеснил латынь в качестве официального языка Византийского государства.
ПРИЛОЖЕНИЯ: СВЯЗИ С ДРУГИМИ НАРОДАМИ
НАРОДЫ, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ГРЕКОВ: БЛИЖНИЙ И СРЕДНИЙ ВОСТОК
Фригия занимала значительную часть центрального плато и внутренней западной части Малой Азии. Во время повсеместных бурных переселений XIII–XII веков до н. э. эту страну населяли фригийцы, говорившие на индоевропейском языке, но не родственные грекам, — коневодческая племенная знать. Согласно общепринятому мнению, фригийцы явились сюда из Фракии, где их знали под именем бригов. Возможно, им пришлось переселиться в Малую Азию под давлением прибрежных микенских поселений в Южной Македонии.
Прибыв же сюда, они одолели хеттов (примечание 19) и основали обширное царство, которое греческие легенды связывали с преданиями о царях Мидасе и Гордии. В честь последнего была названа столица Фригии Гордион в долине реки Сангарий (Сакарья), где, по словам Гомера, еще в древности собирались большие воинства1. Сохранились некоторые следы фригийской архитектуры, скульптуры, образцы металлических и деревянных предметов (по меньшей мере из восьми сортов древесины); кроме того, фригийцы считались изобретателями басен о животных.
Примерно с 738 по 696 г. до н. э. здесь правил другой — уже исторический — царь Мидас. В ассирийских записях он фигурирует как Мита из Мускй, который присоединился к союзу против царя Саргона II (715 г. до н. э.) и вскоре после 700 г. до н. э. захватил Киликию (Хилакку) на юго-востоке Малой Азии (возможно, с помощью греческих отрядов из Ионии)2, но затем был изгнан обратно и стал ассирийским подданным. Но ок. 676 г. до н. э. (?) он будто бы покончил с собой, когда Фригийское царство было разрушено (и при этом несколько греческих городов у его западных пределов разграблены) переселившимися из-за Кавказа киммерийцами во главе с царем, которого греки звали Лигдамидом, а ассирийцы — Дугдамме3.
Хотя фригийцы препятствовали продвижению греков из ионийских полисов — в частности, из Милета, — на восток, они быстро переняли греческий алфавит (если только сходство обеих письменностей не объясняется общим источником заимствования). Раскопанные в Гордионе бронзовые пояса и броши, а также расписная керамика имеют весьма греческий вид; а царь Мидас не только стал первым негреческим монархом, приславшим в Дельфы дары (где они хранились в сокровищнице коринфян), но и взял в жены дочь Агамемнона, царя греческой Кимы в Эолиде. Греки, в свой черед, покупали фригийские ткани и фригийских рабов.
Но наиболее значительное влияние фригийцы оказали на греческую религию. Античные авторы сообщали, что культ Диониса (Приложение 2) пришел к грекам из Фракии или Фригии — которая, как мы уже упоминали, была обязана своим возникновением фракийским племена. Фригийцы почитали его под именем Диунсиса — бога растительности. К VIII или VII веку до н. э. малоазийская великая богиня-мать, чье главное святилище находилось в Пессинунте, у границы Фригии, тоже проникла в Грецию — под именем Кибелы (Кубила и Агдистида у фригийцев). «Великие боги» (Кабиры) с острова Самофракия на севере Эгеиды (колонизованного самосцами — Глава VIII, раздел 2), первоначально являвшиеся божествами подземного мира (и плодородия), — по-види-мому, тоже имели фригийское происхождение.
Музыканты из этих краев тоже оказали немалое влияние на греков, приписывавших им изобретение кимвалов, флейт, тригононов, Пановой свирели и «фригийского» лада (ср. примечание 40 к Главе I), — который Платон признавал за бодрую и мужественную разновидность музыки, Аристотель же бранил4.
Лидия представляла собой внутреннюю область на западе Малой Азии, занимавшую долину в низовьях Герма и Каи-стра. Согласно более или менее легендарным рассказам, в древнейшие времена здесь правили цари, которые, не будучи греками, все же называли себя (или слыли) потомками мифического грека Атиса (чье семейство, как ошибочно полагали, колонизовало Этрурию — Приложение 3) и Геракла (быть может, отождествлявшегося с лидийским Сандоном — богом, тоже укрощавшим львов).
Последний лидийский монарх из рода так называемых Гераклидов, Кандавл, был убит Гигом (ок. 685–657 гг. до н. э.), основателем династии Мермнадов («Ястребиного Дома»), сделавшей своей столицей Сарды на реке Герм, у края орошаемой равнины. Гиг женился на вдове своего предшественника и первым в истории (насколько известно) удостоился — у Архилоха — прозвания τύραννος («диктатор»), хотя неясно, лидийское ли это слово, или нет (ср. Главу I и примечание 48).
Гиг, как до него Мидас Фригийский, искал дружбы греков и даже пожертвовал пять золотых чаш в Дельфы (где и они тоже попали в сокровищницу коринфян), — что не помешало ему и его коннице сломить Колофон, мощнейшую ионийскую державу той поры (Глава V, примечание 31). Милетская колония Абидос на Геллеспонте, очевидно, была основана с согласия Гига. Позднее же он рассорился с Милетом, но, несмотря на ряд военных побед, ему не удалось одолеть этот город — и пришлось взять его в союзники. Тем не менее ионийцы тяготились Лидией, которая мешала их дальнейшему продвижению в глубь страны, и это усугубляло их желание вывести колонии куда-нибудь еще. Гиг обратился к ассирийцам (чей монарх Ашшурбанапал признавал себя его подданным) за помощью против киммерийских набегов (примечание 3), но сам расстроил дело, поддержав их противника Псамметиха I Египетского, — и киммерийцы убили Гига.
Однако его правнук Алиатт (ок. 617–560 гг. до н. э.), сын Садиатга (625–615 гг. до н. э.), сына Ардиса (652–625 гг. до н. э.), прогнал последних киммерийцев. Расширив свои владения на восток до Галиса и основав тем самым Лидийскую державу — невзирая на вражду с Киаксаром Мидийским, — он продвинулся и на запад, захватив Смирну и выдав свою дочь замуж за Мелана, диктатора Эфеса. Клазомены и Милет отразили его нападки, но Алиатт (как прежде Гиг) сумел умаслить милетян, восстановив их святилище в Дидимах. И опять-таки, по примеру Гига, он посвятил в Дельфы дары — в том числе золотые изделия и железную подставку работы Главка Хиосского. Периандр Коринфский выслал ему в дар триста знатных юношей с Керкиры — для оскопления.
Сын Алиатта Крез (ок. 560–546 гг. до н. э.), чье богатство вошло в поговорку, тоже щедро одарил Дельфы5, и при нем лидийско-греческие связи стали еще крепче и теснее. Это относилось, в частности, к Эфесу, которому Крез помог восстановить храм Артемиды (при этом заняв денег у его жрецов). По сути дела, Эфес превратился в зависимое владение Креза, а с течением времени он подчинил себе и другие греческие прибрежные города. Таким образом, их худшие опасения касательно лидийского засилья подтвердились сполна, — и ионийские города первыми познали горечь покорст-ва другому, негреческому, государству.
Двор Креза посещали многие греческие мудрецы (следуя примеру Солона Афинского), а также инженеры, менялы и ростовщики, торговцы и политические беженцы; и вскоре Сарды стали финансовой столицей ближневосточного мира. Но рост Персидской державы привел к падению Креза. Ибо в 546 г. до н. э., невзирая на призывы о помощи к греческим городам и Египту, Сарды были захвачены персидским властителем Киром II Великим. Лидийское царство прекратило свое существование, а Сарды превратились в столицу персидской сатрапии (и затем были ненадолго разрушены мятежниками в ходе Ионийского восстания [в 498 г. до н. э.]).
Лидийцы переняли — и развили на свой лад — фригийские религиозные обряды (особенно обряды в честь Великой Матери — Кибелы, — которые они перенесли в Грецию). Кроме того, они унаследовали от фригийцев ткаческое искусство, и изготовляли пестрые узорчатые ткани, пурпурные коврики и изящные шапочки (ц1траг). Славилась Лидия своими отличными поварами и ювелирами. Поэтому греки считали лидийцев погрязшими в роскоши неженками. Впрочем, Геродот замечает, что обычаи их не слишком отличались от греческих, — «за исключением того, что лидийцы разрешают своим девушкам заниматься развратом»^. Он же говорит о лидийцах как о первых мелких продавцах (юЗячАог), — а это означало, что греки впервые увидели постоянные торговые лавки в Сардах.
Историк добавляет (подтверждая более раннее свидетельство, приписываемое Ксенофану), что лидийцы первыми стали чеканить и ввели в употребление золотую и серебряную монету7. Такое мнение подтвердили продолжительные современные исследования — правда, в действительности материалом для этих монет поначалу служил электр, вымывавшийся водами Пактола и Герма. Что касается рисунков, выбитых на этих первых монетах и ставших их неотъемлемой принадлежностью, — то лев с разинутой пастью, изображенный на лидийских монетах, не может с полной достоверностью считаться более древним, чем головы других животных на греческих (ионийских) монетах.
Однако именно лидийцы ввели само это новшество — выпускать такие кружочки определенного веса с выбитым на них значком, удостоверяющим качество, — вместо разного рода комочков, пластин и стержней из металла, которые служили сходным целям прежде. Сейчас это нововведение относят — опираясь на такие свидетельства, как находки в Эфесском храме Артемиды и других местах, — приблизительно к 625–610 гг. до н. э., то есть к правлению Садиатта, или Али-атта. Основные денежные единицы имели слишком высокую ценность и едва ли годились для обычной купли-продажи или для мелкой торговли, о которой упоминал Геродот: самая расхожая лидийская монета оценивалась в двенадцать баранов — то есть в годовое или полугодовое жалованье, — и, должно быть, служила в первую очередь единицей расчета. Вероятно, первоначально эти деньги предназначались для оплаты наемных войск8.
Но уже в скором времени монеты, столь долговечные и удобные в обращении, были приспособлены под любые торговые нужды и проникли в греческие города в прибрежных областях и на островах, а оттуда распространились и в Балканскую Грецию (Глава I), явившись важнейшим вкладом Лидии в греческую цивилизацию.
В области музыки лидийцы, как и их наставники фригийцы, тоже многому научили греков. Так, рассказывали, что семиструнную лиру привез из Лидии поэт Терпандр из лесбосской Антиссы, и греческая элегия сложилась, вероятно, под лидийским (а быть может, еще и фригийским) влиянием. Платон, одобрявший, как уже говорилось, фригийские музыкальные лады, осуждал лидийские напевы, находя их изнеженными (как и ионийские) и жалобными10. О возможной роли Сард в распространении вавилонской космогонии и астрономии будет сказано далее в этом же Приложении (ср. примечание 15).
На греческое мышление и искусство не могла не повлиять древнейшая тысячелетняя культура Месопотамии, или Междуречья (Ирак), охватывавшей земли вокруг Тигра и Евфрата. Но влияние это оставалось в значительной мере косвенным и объяснялось имевшими временный успех попытками двух держав· — Вавилонии (занимавшей южную равнину между Багдадом и Персидским заливом) и Ассирии (область вокруг Мосула) — установить контроль над Северной Сирией и Финикией — восточными странами, оказывавшими наиболее ощутимое воздействие на греческий мир (см. ниже). В целом, культурным очагом Двуречья вплоть до его завоевания пер-сами в 539 г. до н. э. оставалась Вавилония с ее главным городом Вавилоном. Но политическая власть, при всех перестановках и перетасовках, часто оказывалась в руках ассирийцев, весьма искусных в ведении войн и управлении государством.
Маленьким государствам северной Сирии повезло: после смерти неуемного завоевателя Тиглатпаласара I (ок. 1116–1076 гг. до н. э.) Ассирийская держава поверглась в упадок, да и Вавилония к той поре тоже утратила былую мощь. Но ассирийская воля к власти вновь возросла при Ашшурнаци-рапале II (884–859 гг. до н. э.), обложившем сирийских правителей данью, а его сын и преемник Салманасар (859–824 гг. до н. э.) сокрушил их новый союз (куда вошел и Израиль) в походе, в котором произошла знаменитая, но очевидно не очень значительная, битва при Каркаре (853 г. до н. э.). После временного упадка, последовавшего за этим, узурпатор Тиглатпаласар III (745–727 гг. до н. э.) создал новую Ассирийскую державу. Очередной союз северносирийских правителей, во главе с царем Урарту п, был снова разгромлен, а все их земли обращены в подчиненные владения, — так что греческим торговым городам в северной Сирии отныне пришлось примириться с влиянием более сильной державы.
Саргон II (722–705 гг. до н. э.), правивший Вавилонией и Ассирией одновременно, вел бесчисленные войны, в ходе которых большинство мелких северносирийских государств, уже изрядно расшатанных, вовсе перестали существовать; признали ассирийское владычество и греческие города Кипра. Во время киликийского мятежа Саргону II пришлось столкнуться с греческими (ионийскими) наемными войсками, — как и Синаххерибу, когда киликийцы взбунтовались вновь (примечание 2). В его же царствие восстание эламитов (на юго-западе Ирана) кончилось разрушением Вавилона (689 г. до н. э.). Асархаддону (681–669 гг. до н. э.) всерьез грозили набеги киммерийцев (примечание 3), и чтобы заручиться поддержкой против них, он выдал дочь замуж за скифского царя Бартатуа (Протофия).
Египет покорился ассирийцам (671 г. до н. э.), но при Ашшурбанапале вновь обрел независимость под властью фараона Псамметиха I. Затем, в 612 г. до н. э., халдейский владыка Набопаласар, десятилетием ранее захвативший Вавилон, разрушил Ниневию (в союзе с мидийцами), тем самым унаследовав Ассирийскую державу и основав вместо нее Нововавилонскую державу. Навуходоносор II, немало способствовавший этим победам, завоевал «всю страну Хатти», то есть Сирию, — которую он продожал «усмирять» в течение раннего периода своего правления (605–562 гг. до н. э.)12.
Вероятно, это принесло временное облегчение греческим эмпориям вроде Аль-Мины — хотя, возможно, дело обстояло совсем наоборот, и вавилонское влияние имело разрушительное действие. Как бы то ни было, при Набониде (556–539 гг. до н. э.) Нововавилонское государство покорилось персидскому царю Киру И Великому. Затем Кир завладел Вавилонией и Сирией, слив их в единую «провинцию»-сатрапию, — где, несмотря на подавление мятежей, завоеватели нисколько не притесняли местных обычаев и культуры.
На протяжении первых веков этого смутного периода в греческое искусство просочилось множество ассирийских мотивов и стилистических черт — через косвенное посредничество Северной Сирии и Финикии (см. ниже). Так, критские гравированные пластины были созданы по ассирийским образцам, а свинцовые диски из Спарты и с Хиоса напоминают ассирийские подвески. Львы на коринфских вазах, поначалу имевшие сирийское обличье, затем принимают ассирийский вид13; в Гомеровой «Илиаде» Гера надевает серьги в форме ягод, с тройными подвесками — то есть ассирийского типа14; а тяжелый шлем (ок. 725–700 гг. до н. э.) из гробницы воина в Аргосе отражает сходное происхождение. Цилиндрическая форма одной из самых ранних крупномасштабных греческих статуй — самосского изваяния Геры, посвященного богине неким Херамием (ок. 575–570 гг. до н. э.), также восходит к месопотамским образцам.
Вавилонская литература и строй мысли тоже повлияли на греков. Это влияние легче всего проследить на примере Гесиода. Помимо того, что в его поэме «Труды и дни» слышны отзвуки месопотамских Книг премудрости, Теогония обнаруживает явное сходство с вавилонским эпосом о сотворени мира Энума Элиш (зародившимся среди аккадцев, названных так по имени месопотамского города Агады), который, по сути, и стал одним из основных источников этой поэмы (уступая первенство лишь хуррито-хеттскому Эпосу о Кумарби — примечание 19). Энума Элиш — хотя и сохранился на клинописных табличках VII века до н. э. (само существование которых говорит о том, как заботливо переписывали и собирали при Ашшурбанапале произведения древневавилонской словесности), — восходит к шумерским сказаниям ок. 3000 г. до 1 н. э. В этих сказаниях о сотрясающих мир битвах богов отразился непредсказуемый и коварный нрав природных стихий и речных разливов в Месопотамской равнине. Каким образом содержание эпоса Энума Элит стало известно Гесиоду, остается только гадать. Вероятно, «передаточными звеньями» вновь послужили северносирийские и финикийские центры.
Другие черты греческой религии и мифологии тоже несут отпечаток месопотамского происхождения. Чтившаяся в кипрском Пафосе богиня Афродита близка шумерской Инан-не, которая у превратилась в аккадскую Иштар, а затем в левантийскую Ашторет-Астарту. Гомеровские «советы богов» отражают месопотамские представления. У Гомера также слы- | шится немало отголосков Эпоса о Гилъгамеше. Как и Гильга-меш, Ахилл — потомок богов, обреченный на смерть; он J скорбит о гибели Патрокла, как и Гильгамеш оплакивал Энкиду. Примеру Гильгамеша следует и Одиссей, спускаясь в царство мертвых; Калипсо напоминает Сидури, у которой на- Г ходит пристанище Гильгамеш; а встреча Одиссея с Киркой вызывает в памяти приводимый Гильгамешем перечень любовников Иштар, обращенных ею в животных. Представление же Гомера об Океане-реке, опоясывающей мир, — имеет, скорее всего, вавилонские или египетские корни. В мифе о Деметре и Персефоне (Глава II, раздел 2) нашли отражение многие месопотамские и иные ближневосточные сказания об исчезающих божествах плодородия. Рассказ о чудесном рождении Кипсела Коринфского вторит подобным преданиям о Саргоне — легендарном основателе Агады, жившем в III ты- $ сячелетии до н. э. А миф о Девкалионе, спасшемся от всемирного потопа — как и ветхозаветный рассказ о Ное, — | созвучен месопотамским преданиям и событиям.
Милетский космолог Фалес, известный как первый фило-соф-досократик, почерпнул многие астрономические познания из вавилонских записей. Согласно Геродоту, «полос» и «гномон» (вертикальный прут, тень которого указывает направление солнца или высоту), так же как и деление дня на двенадцать частей, эллины заимствовали у вавилонян»; от них же узнали и о небесной сфере15. Вероятно, эти сведения историк мог почерпнуть в Сардах.
И все же, как явствует из вышеизложенного, важнейшими передаточными звеньями между ближневосточной и греческой культурами были портовые города в Северной Сирии, вклю- \ чая Финикию16. По происхождению финикийцы были ханаанеями17 которые избежали подчинения арамеям18, хотя последние (а вслед за ними — филистимляне и израильтяне) заняли остальные три четверти прежде единой Ханаанской земли. Финикийские приморские города-государства, среди которых главенствовали Сидон и его колония Тир (впоследствии затмившая его), на рубеже нового тысячелетия начали заполнять брешь, образовавшуюся после краха микенского мира. Они возобновили торговые связи, охватывавшие Средиземноморье, и сохраняли, пока могли, собственную политическую свободу.
Финикийцы добывали пурпурную краску из местных морских улиток-багрянок murex (ныне этот вид почти полностью перевелся в здешних водах); дохлая багрянка, смердя и разлагаясь, выделяла желтоватую жидкость, из которой получались цветовые оттенки от розового до темно-фиолетового. Кроме того, используя в качестве топлива лес с Ливанских гор, финикийцы плавили и вывозили серебро из Киликии (примечание 2) и золото с Кипра и, вероятно, из Нубии и прочих ближневосточных и средневосточных стран, к которым еще микенцы имели некогда косвенный доступ. На Кипре существовали финикийские поселения — в частности, Китион (Карт-Хадашт — Глава VI, раздел 2). Другие же находились в Северной Африке (первым стал Карфаген, основанный, согласно традиции, в 814 г. до н. э.), в Западной Сицилии (Мотия, Панорм — Глава VII, разделы 3–5) и на Сардинии (Нора, Таррос).
Между тем на сирийском побережье — несколько севернее финикийских городов-государств — греки основали собственные торговые посты, или эмпории, — Аль-Мину, Посидейон и Палт (Глава VI, раздел 4). Эти эмпории, выгодно расположенные у дорог к внутренним долинам рек Оронта (Эль-Аси) и Леонта (Литани), граничили с маленькими негреческими государствами: Унки (или Паттином) — господствовавшим над плодородной Амикской равниной и имевшим центр в Кунулуа, или Калехе (Телль-Тайинат?), — ГУзаной (Телль-Халаф) и Хаматом. Это были лишь три из многочисленных северносирийских царств, всячески ограждавших свою шаткую независимость от алчных крупных держав, которые рвались завладеть Средиземноморским побережьем и испытывали беспокойство ввиду возможных последствий, какие могла возыметь столь взрывоопасная этническая смесь, бурлившая вблизи их собственных границ.
Ибо эти мелкие северносирийские государства являли собой необычайный сплав народов, культур и религий. Сильно ощущалось арамейское влияние (примечание 18), но в ю же время, особенно на севере, наблюдалось «неохеггское» возрождение — иначе говоря, оживало наследие хеттской цивилизации II тысячелетия до н. э.19, которая, в свой черед, сохранила традиции другого народа, переживавшего расцвет в II тысячелетии — хурритов20. Поэтому такие эпизоды в Гомеровой «Одиссее», как нисхождение в подземное царство — напоминающее сходное деяние в Эпосе о Гилъгамеше (имевшем вавилонское происхождение, но бытовавшем на хеттском и хурритском языках), — и избиение женихов (вторящее подобному подвигу хеттского царя Гурпанзаха), — вероятно, были навеяны мотивами, пришедшими к грекам из тех же северносирийских земель.
В еще большей степени это относится к мифам о сотворении мира в Гесиодовой «Теогонии», главными источниками для которой послужили Эпос о Кумарби и Песнь об Умикумми (имевшие хурритское происхождение, но обнаруженные в царских архивах хеттского Хаттусаса [совр. Богазкале, Бо-газкёй]). Так, в этих сказаниях одному божеству приходит на смену другое: Ану — бог-громовник Кумарби; Кроносу — Зевс21. К тому же одним из Зевсовых врагов, согласно рассказу Гесиода, был чудовищный Тифон, которого иногда связывали с горой Касий (Акра) в Северной Сирии; следовательно, и этот образ, возможно, стал известен поэту благодаря греческим эмпориям на сирийском побережье. Ведь эти эмпории поддерживали тесные связи с Грецией и в особенности с городами Эвбеи, где бывал Гесиод и откуда недалеко было до его беотийской родины; с другой же стороны, Гесиод мог почерпнуть свои познания из малоазийской Кимы — родного города его отца, — где вполне могли сохраниться предания малоазийских хеттов.
Как бы то ни было, именно из греческих городов-рынков на сирийском берегу — Апь-Мины, Посидейона и Палта (безусловно, наряду с греческими торговыми кварталами — о которых нам известно так мало — в Тире и других финикийских центрах), — шел к грекам мощный поток восточных культурных влияний. Греки же, впитав эти чужеземные влияния, подвергли их такому творческому переосмыслению, что за VIII и VII века до н. э. вся их цивилизация совершила огромный рывок (сам же процесс сближения начался гораздо раньше: около 1000 г. до н. э. на Эвбею уже стали проникать изделия из фаянса [голубоватого или зеленоватого стекла, на манер египетского], ввозившиеся через Сирию, и золото из различных ближневосточных стран).
Бронзовые «арголийские» котлы, которые тоже распространились по многим греческим землям и нередко посвящались в дар в Дельфах и Олимпии, — сейчас признаны скорее северносирийскими, нежели урартскими по происхождению (примечание 11). «Дедаловские» греческие статуэтки с парикообразными прическами также созвучны художественным стилям Сирии (с типично греческими усовершенствованиями); и именно из этой страны греки позаимствовали умение отливать такие фигурки из мелких цельных форм.
Но наиболее ярким примером сиро-финикийского влияния стало целое «ориентализирующее» течение в искусстве, начало которому положил Коринф. В протокоринфской и коринфской вазописи ясно прослеживаются прямые заимствования (опять-таки с привнесением чисто греческих элементов) различных изобразительных мотивов — зверей, чудовищ, растений, — которые занимали весьма заметное место в северносирийских и финикийских рельефах, статуэтках и тканевых рисунках. На раннегреческом искусстве сказались и многие другие влияния этих стран22. Кроме того, коринфские и иные кораблестроители были многим обязаны опытным финикийским мастерам.
Установить, из какой именно области или города в этих обширных левантийских пределах стало распространяться то или иное влияние, — невозможно, ибо искусство самого этого региона являло собой хитрый сплав арамейских, не-охеттских, месопотамских, ассирийских, урартских и египетских (а позднее и персидских) элементов, причем различия между отдельными сирийскими и финикийскими областями (а надо полагать, что они имелись) чаще всего от нас ускользают — тем более что со всех краев Леванта народы продолжали перебираться на запад, спасаясь от гнета могучих держав, а потому разнородные вкрапления их культур ложились последовательными, но неуловимыми мазками на без того уже пеструю картину ориентализирующего воздействия на Грецию.
Поэтому лишь предположительно мы можем сказать, например, что резьба по слоновой кости, занимавшая видное место в художественных ремеслах (особенно на Самосе, Родосе и Крите, а также у афинян) пришла к грекам из сирийского города Хамата, который славился своими статуэтками Ашторет-Астарты из лучшего материала — бивней сирийских слонов (кстати сказать, еще микенцы разживались слоновой костью из Угарита [Рас-Шамра] на этом же побережье). Что касается золота, которое тоже вывозилось от здешних берегов и достигало отдаленнейших пределов — чтобы украсить, например, пышные этрусские гробницы (Глава VII, раздел 1, и Приложение 3), — то оно прибывало в Северную Сирию и Финикию из различных ближневосточных и средне-восточных копей, откуда его стремились заполучить богатейшие государства той эпохи.
Возможно, финикийцы — с их независимым устройством городов-государств — вызывали у греков, державшихся сходного государственного строя, куда более дружественные чувства, нежели можно предположить, исходя из частых упоминаний о финикийском «пиратстве», вызванных ревностью соперников по торговле. Так, появлением финикийских ремесленников на Крите (Глава VI, раздел 1), возможно, объясняется и появление в городах этого острова самых ранних из известных греческих правовых сводов: ведь семитоязычные народы давно уже были знакомы с подобной кодификацией права.
Свести же воедино эти законы стало возможно благодаря письменности — и наиболее всего и греки (а тем самым и весь западный мир) были обязаны левантийскому побережью именно алфавитом, который они переняли ок. 750 г. до н. э. — спустя полтысячелетия после того, как их собственное (микенское) линейное письмо Б (Глава I, примечание 2) навсегда вышло из употребления. Финикийцы чрезвычайно ловко преобразовали и упростили существовавшие прежде системы слогового письма (например, в аккадском насчитывалось 285 знаков, в линейном письме Б — 88, в кипрском — 56), сведя количество алфавитных обозначений всего до 22 букв (надписи на этом алфавите были высечены, например, на саркофаге царя Ахирама в финикийском городе Библе). Поэтому, как утверждает Иосиф Флавий23, они стали гораздо чаще пользоваться письменностью, чем это делали другие народы до них, — хотя остается неясным, в какой мере письмо оставалось преимущественно уделом сословия писцов.
Греки ограничились двадцатью двумя знаками, но в то же время попытались ввести несколько собственных новых букв и, самое главное, изменили четыре (с добавлением еще одной), чтобы можно было самостоятельно обозначать гласные звуки, для которых в финикийском алфавите, приспособленном для афразийского (семитского) языка, отдельных обозначений не предусматривалось. Опять-таки нам неизвестен точный характер и канал этого заимствования. Согласно одной точке зрения, первоначально греки переняли не финикийскую, а северно-сирийскую (раннеханаанскую) письменность, а финикийское влияние появилось лишь несколько позже, — хотя сами греки называли свой новообретенный алфавит словом «ротта, и его финикийские корни несомненны.
Если обратиться к грекам, которые первыми заимствовали этот алфавит, — то, как представляется, это судьбоносное событие произошло в каком-то одном греческом центре, потому что принятый ими алфавит, несмотря на региональные различия, повсюду обнаруживал коренное и зрелое единообразие (например, включение четырех или более гласных), — что, по-видимому, исключает процесс множественного проникновения. Греки считали, что письменность в Грецию занес финикиец Кадм, легендарный основатель Фив24, — Но, возможно, такой рассказ просто объяснялся тем, что в этом городе сохранялись, на протяжении раннего железного века, микенские таблички, надписи на которых уже никто не мог разобрать (в Фивах же были найдены и месопотамские цилиндрические печатки). Поэтому необходимо отыскать какую-то иную область, где греки, достаточно тесно общались с сирийцами, чтобы заимствование быстро привилось и немедленно подверглось усовершенствованию.
Исходя из подобных соображений, заслугу в передаче финикийского письма грекам можно приписать целому ряду греческих центров (Глава I, примечание 35). В целом же, на основании как эпиграфических, так и исторических данных, наиболее вероятным представляется, что эта роль выпала эв-беянам, которые основали греческие рынки в Аль-Мине, По-сидейоне и Палте. Согласно этой гипотезе, именно они освоили финикийский алфавит, приспособили его к своим нуждам — и занесли в ведущие купеческие города на своем родном острове (Глава IV, раздел 1).
А там уже быстро разглядели преимущества этого средства общения, культуры и торговли, незаменимого практически во всех областях жизни, — и вскоре применение алфавита распространилось по всем греческим землям, что в огромной степени способствовало их развитию. А далее сходные системы письма стали использовать для собственных языков и другие народы — фригийцы (если только, как уже говорилось, сходство между обоими алфавитами не объяснялось скорее общностью источника, нежели заимствованием у греков), этруски, и затем — римляне. Римский вариант письменности используется в западном мире и поныне — за исключением многих славянских стран, где в дальнейшем была выработана своя азбука — кириллица, — и за исключением самих современных греков, до сего дня пользующихся алфавитом, который их далекие предки заимствовали у финикийцев два с половиной тысячелетия назад.
Впоследствии, когда лидийский обычай чеканить монету проник через греческие полисы Ионии на Балканы и в прочие греческие края, — обе главные системы, принятые там, — эгинский и эвбейско-аттический весовые стандарты — опирались на сирийское соотношение мер: пятьдесят сиклей в одной мине.
Мощные исторические потрясения, сметшие с лица земли державу хеттов и микенскую цивилизацию, не обошли стороной и Египет: ему угрожали союзы ливийских племен и набеги морских захватчиков с севера (так называемых «народов моря»). Эти нападения были отражены (ок. 1218 г. до н. э., ок. 1182 г. до н. э.), но Египет так и не смог полностью воспрянуть, и единство его пошатнулось, ок. 1080 г. до н. э., к концу правления 20-й династии, эта раздробленность обрела форму официального раздела власти, и в течение последующих четырех веков правление страной частично осуществляли ливийцы (или потомки ливийцев), а затем нубийцы и ассирийцы, ок. 734 г. до н. э. и ок. 720 г. до н. э. в Египет нагрянули ассирийские войска^, а ассирийские цари Асархаддон и Ашшурбанапал разграбили, соответственно, Мемфис (ок. 671 г. до н. э.) и верхнеегипетский город Фивы (ок. 663/661 г. до н. э.), посадив затем на трон своих ставленников.
Во времена Ашшурбанапала над этими наместниками стоял Нехо II — властитель Саиса и Мемфиса. Затем он добился для себя независимости (610–575 гг. до н. э.); его принято считать основателем 26-й, или саисской, династии, в которой всего было шесть правителей. В 600 г. до н. э. Нехо прислал в дар в дидимское святилище Аполлона доспехи, в которых одержал победу в сирийском походе, — тем самым высоко оценив помощь греческих наемников; вероятно, и триеры, служившие фараону военным флотом, построили ему греки. Его сын Псамметих (Псамтик) I изгнал из своих пределов последний отряд ассирийских воинов и провозгласил себя фараоном всего Египта. Сансскую эпоху иногда называют «египетским Возрождением», хотя эта династия по-прежнему во многом опиралась на греческих наемников и купцов. Коринфский диктатор Периандр назвал своего племянника и преемника Псамметихом — в честь своего египетского союзника Псамметиха II.
Эти связи с Египтом, в которых роль посредника играл Навкратис (Глава VI, раздел 4), оказали решающее воздействие на искусство греков, сразу в нескольких отношениях. Прежде всего, под египетским влиянием у греков появилась крупномасштабное, монументальное каменное зодчество, примером которого могут служить самосский храм Геры и эфесский храм Артемиды с его тесно пригнанными колоннами, напоминающими египетские сооружения. Капители в форме пальм и орнаменты из чередующихся цветков и бутонов лотоса тоже имеют египетское происхождение. Кроме того, греки научились у египтян сооружать целые архитектурные комплексы — например, как группа зданий вокруг «львиной» дороги на Делосе.
Кроме того, в Египте греки познакомились со стенной живописью, и она повлияла на искусство греческих художников — как на стенопись, так и на вазопись. Египетские бронзовые изделия имели хождение среди критян и самосцев — и те сами научились отливать из полых форм бронзовых грифонов. Возможно, Теодор Самосский — если довериться сомнительному указанию Диодора Сицилийского, — заимствовал свой канон пропорций человеческого тела из того же источника26. Быть может, и полномасштабные каменные изваяния куросов и кор — впервые появившиеся, по-видимому, на островах Наксос и Парос, где велась добыча мрамора, — греки тоже стали создавать под влиянием египетских статуй. Правда, такое мнение оспаривалось, — но уж в одном не может быть никаких сомнений: знакомство с египетским искусством внушило грекам понятие о крупномасштабной скульптуре.
К тому же некоторые доказывали, что фракийские и греческие мистерии Диониса в действительности основывались на мистериях египетского бога Осириса. А старинное гомеровское представление о том, что мир опоясывает река Океан, тоже могло иметь египетские корни — если только не вавилонские. Гесиодова Теогония несет некоторый отпечаток египетских гимнов на вступление царей на престол, в которых чудо сотворения повторялось заново с появлением каждого нового монарха; его же бранные речения в адрес женщин косвенным образом происходят из древнеегипетского фольклора. Рассказы о том, будто бы Фалес Милетский побывал в Египте и оттуда занес в греческие земли геометрию, не заслуживают чрезмерного доверия. Однако его учение о том, что Земля покоится на воде, и вправду перекликалось с египетскими воззрениями27.
Когда Априй (Хофра, 588–569 гг. до н. э.) выслал свои войска в помощь ливийцам, враждовавшим с греческой колонией Киреной, этот поход завершился крахом, что возбудило гнев египетских воинов: они сочли, что греческие наемники находятся у монарха на особом положении, — и Априй погиб от рук собственных же подданных28. Тем не менее и Амасис II (569–526 гг. до н. э.) продолжал содержать у себя на службе множество греков и заключал союзы с диктаторами греческих полисов. Однако возросшее могущество Персии внушало ему тревогу; и в самом деле, его сын Псам-метих III был низложен персидским царем Камбисом II, который покорил Египет и Киренаику (525 г. до н. э.). Камбис и его преемники сделались египетскими фараонами, и правление их было куда мягче, чем предполагал Геродот29 (Дарий I [522–486 гг. до н. э.], самолично посетивший Египет, поощрял местную религию). Они позволили грекам и ка-рийцам сохранить свое этническое единство, но обложили всех жителей тяжкой данью и завербовали многих египтян (а также финикийцев и киприотов) в моряки.
В течение первой половины I тысячелетия до н. э. мидийцы, персы и другие иранские племена, говорившие на языках индоевропейской семьи, постепенно переселились в западную часть Иранского нагорья и образовали господствующие державы этих областей. Мидийцы были сильнее всех при царе Киаксаре (ок. 625–585 гг. до н. э.); они прогнали скифских захватчиков или переселенцев обратно, в степи Южной России. Дойдя до Ассирийской державы, Киаксар заключил союз с Набопаласаром Вавилонским, — и, двинув единой ратью на Ниневию, они разграбили этот город (612 г. до н. э.). В 580-е годы Киаксар воевал с Алиаттом Лидийским.
Однако в 550 г. его сын Астиаг был захвачен Киром II Великим (559–530 гг. до н. э.), который повсеместно заменил мидийское господство персидским и заложил основу грознейшей державы, когда-либо владычившей в ближневосточных пределах. После его завоевания Лидии в 546 г. до н. э. Сарды превратились в крупнейший персидский «перевалочный пункт» посреди «царской дороги» от Суз к Средиземному морю. Этот древний путь отныне приобрел новую стратегическую значимость, потому что Гарпаг — персидский сатрап, назначенный править в Сардах, — начал использовать этот город в качестве плацдарма, откуда легко было покорять греческие полисы, рассредоточенные по западному побережью Малой Азии (за исключением Милета, пользовавшегося у персов особой благосклонностью). Как следствие, большинство жителей Фокеи и Теоса, а также многие художники, поэты и музыканты из других ионийских городов, бежали на запад. Кипрские и сиро-финикийские города-государства тоже были низведены до зависимого положения. Вавилон попал в руки персов в 539 г. до н. э., а в 525 г. до н. э. Камбис II покорил Египет. Персидский сатрап Орет заманил и коварно погубил Поликрата Самосского (ок. 522 г. до н. э.), но Дарий I казнил сатрапа за излишнюю самостоятельность в действиях.
На протяжении этого периода, благодаря выпуску знаменитых персидских золотых монет, названных «дариками» (барешн) в честь Дария, который первым стал чеканить их в Малой Азии, — значительно расширились греко-персидские связи. Так, в Сирии было позволено возродить греческий эмпорий в Аль-Мине (туда стали ввозить множество товаров из Афин). Однако персидское вторжение в Кирену (ок. 515 г. до н. э.) привело к разрушению местного храма Зевса. Далее, поход Дария против Фракии (которую он присоединил к своим владениям) и Скифии (которую ему покорить не удалось), предпринятый ок. 513–512 гг. до н. э., перенес границы Персидской державы в Европу, что неотвязной угрозой нависло над Балканской Грецией (Приложение 2).
Вспыхнувшее в скором времени массовое восстание ионийских городов против Персии (499 г. до н. э.) потерпело крах в битве при Ладе (495 г. до н. э.). Утешением для греков явилось то, что сатрап Мардоний назначал в разгромленных материковых городах не диктаторские, а скорее демократические режимы. Тем не менее участь разрушенного персами Милета повергла в ужас весь греческий мир, и недаром: так как Дарий, ранее приютивший у себя изгнанного из Афин самодержца Гиппия, вознамерился воспользоватьеся тем обстоятельством, что Афины и Эретрия выслали в помощь мя-тежникам-ионийцам корабли и воинов, как оправданием для своего будущего нападения на Грецию (в 490 и 480 гг. до н. э.)1
Главнейшими персидскими столицами имперской эпохи были: Пасаргады, строительство которых начал Кир II Великий, приглашавший лидийских и греческих каменщиков (559–550 гг. до н. э.); Персеполь, «весенняя» столица Дария I, в создании которой роль греческих зодчих и ваятелей оспаривается; и Сузы, «зимняя» столица и административный центр Персидской державы, куда, как гласит табличка об основании города, Дарий созвал искусных мастеров из числа самых разных народов — в том числе и греков. Хотя эти здания сохраняли преимущественно ассирийский и вавилонский характер (и обнаруживали следы египетского влияния), в их устройстве можно распознать множество греческих черт. При дворе Дария I и Ксеркса I работал знаменитый ваятель Телефан из Фокиды (или из Фокеи, или из Сикиона?).
С другой же стороны — что более важно, — монотеистическая зороастрийская религия персов постепенно оказывала влияние на греческую мысль. Оно ощущается, в частности, в богословской поэзии Ферекида Сиросского (ок. 550 г. до н. э.); про Пифагора же ходили слухи, будто он встречался в Вавилоне с самим Зороастром. Это была всего лишь выдумка, зато его учение о перевоплощении душ явно вторит похожим верованиям, изложенным в индийских Упанишадах, знание которых тоже вполне могло просочиться к греческим мыслителям благодаря персам-зороастрийцам. Тяга самого Пифагора к этим восточным влияниям восходила, вероятно, еще к ранней поре его жизни на Самосе.
Гераклитово представление о том, что души воспаряют в воздух после смерти, обнаруживает сходное индийское или персидское происхождение; и милетские мыслители — в частности, Анаксимандр и Анаксимен30, — высказывали воззрения, близкие учениям Упанишад и зороастрийства. Однако такие религиозные взгляды обрели по-настоящему широкую известность в Греции — из персидских источников — не раньше V века до н. э..
ВСТРЕЧНЫЕ ВЛИЯНИЯ: ФРАКИЙЦЫ И СКИФЫ
фракийцы были носителями индоевропейского языка. Но при этом — хотя и сочинялись истории о том, что их мифический фракийский царь Терей (в иных версиях он назывался правителем Давлиды в Фокиде) взял в жены Прокну, дочь афинского царя Пандиона, — они не были греками. У них не имелось собственной письменности или литературы, поэтому нам известно о них только благодаря греческим авторам. А их описания отрывочны, уничижительны и к тому же ограничены исключительно сведениями, имевшими непосредственное касательство к греческим делам. Правда, теперь к ним прибавились еще и данные археологии, хоть и не очень обильные.
Позднее во Фракии насчитывалось более пятидесяти разных племен. Из них три поименованы еще в «Илиаде» (там, где перечисляются союзники троянцев)31: «фракияне», обитавшие у Геллеспонта; киконы, жившие между устьями Гебра (ныне Марица) и Неста (ныне Места); и пеоны — изначально иллирийское (?) племя, затем частично смешавшееся с фракийцами и заселившее земли будущей Македонии в среднем течении Стримона (ныне Стрима) и Аксия (ныне Вардар). Гомер упоминает и жителей Сеста в Херсонесе Фракийском (ныне Галлипольский полуостров).
Находки в Вулчитруне, на севере Фракии (Северная Болгария) подтверждают, что в эпоху поздней бронзы фракийцы уже достигли значительного уровня развития. И в юго-восточной части страны мегалитические захоронения и дольмены, восходящие к периодам от XII до VI века до н. э., свидетельствуют о развитой материальной культуре фракийцев. Кроме того, фракийцы опередили греков, заняв несколько важнейших островов в Северной, Средней, Западной и Восточной Эгеиде (Фасос, Самофракию, Имброс, Лемнос; Эвбею; Наксос; Лесбос, Хиос)32.
VI век до н. э. открыл новую эпоху — эпоху расцвета: фракийские племена дружно сплотились, и заметно оживи- | лись их искусства и ремесла. Несколько юго-западных племен (населявших территорию будущей Македонии), в том числе эдоны, начали чеканить монету. Их царь звался Гета: таков был царский титул и одновременно собирательное имя гетов — самого северного племени фракийской группы, обитавшего в «тылу греческих колоний на западном побережье Черного моря. Греческие авторы нередко путали гетов с родственными им даками, но Геродот, очевидно, сознавал их фракийское происхождение — когда, дополняя почерпнутые из ионийских географов сведения, он «расширил границы обитания фракийцев на север вплоть до реки Истра (Дуная)33. Всего он упоминает двенадцать племен, в том числе — долонков из Херсонеса Фракийского. Ок. 560/555 г. до н. э. этот народ рассорился со своими соседями апсинтиями и обратился за помощью к афинянину Мильтиаду Старшему, который в ту | пору занял полуостров.
Геродот отмечал многочисленность населения этой страны, а также таившуюся в ней грозную, но неумело востребуе-мую мощь. «Народ фракийский, — писал он, — после индийцев — самый многочисленный на земле. Будь фракийцы только единодушны и под властью одного владыки, то, я думаю, они были бы непобедимы и куда могущественнее всех народов. Но так как они никогда не могли прийти к единодушию, то в этом-то и коренилась их слабость34.
Должно быть, Геродот преувеличивал численность фракийского населения (Фукидид, например, сообщал, что фракийская конница не столь многочисленна, как скифская). Однако в его словах содержатся немаловажные сведения — верные не только для современных историков, изучающих V век до н. э., но и для историков более ранних периодов. Фракийские правители, получавшие множество даров от дружественных греческих государств, были неслыханно богаты. Им подчинялся воинственный народ, войска их отличались величиной и мощью; южная прибрежная равнина прекрасно подходила для коневодства. Но они не заключали между собой союзов и не воевали сообща. Отдельные царства пока еще не действовали совместно. Правда, фракийцев роднило единство крови, религии и культуры, и некоторые их поселения были особенно богаты — о чем свидетельствуют, например, пятьдесят могильных курганов в Дуванлии (близ Пловдива) VI и V веков до н. э. Но в политическом отношении они еще не преодолели стадии племенной разробленности, а в наиболее глухих областях не достигли еще и племенного единства и обитали разрозненными хаотичными селениями35.
Несмотря на воинственный нрав этих жителей внутренних земель, фракийское побережье оказалось сплошь усеяно греческими колониями: на севере Эгеиды; на Херсонесе Фракийском; вдоль северных берегов Пропонтиды (Мраморного моря) и Боспора Фракийского; на западном побережье Черного моря (Глава II, раздел 2). Помимо неизбежных столкновений, между греческими поселенцами и местными фракийскими племенами наблюдалось мирное взаимодействие и сосуществование. А это означало, в свою очередь, появление в греческих полисах немалого числа фракийцев — главным образом, лучников и рабов3^.
Однако важнейшим следствием этих связей явилось проникновение религиозных воззрений фракийцев в греческие земли. К фракийским божествам относились: Великая Матерь богов, от которой вели свой род цари; Бендида, богиня охоты и плодородия, отождествляемая с греческой Артемидой; бог войны, соответствующий Аресу; Залмоксид, повелитель мертвых — особенно чтившийся гетами, — к которому, по слухам, имели отношение верования пифагорейского братства в Кротоне; Великие боги, или Кабиры, — тоже божества подземного мира, чье знаменитое святилище находилось на острове Самофракия (Глава VIII, раздел 2); широко почитавшийся Бог-Всадник, сродни Диоскурам (Кастору с Полидевком), иногда называемый «Героем-повелителем»; и многие другие.
Но наибольшее значение обрел для греков другой фракийский бог, которого они стали называть Дионисом. В своей родной Фракии он покровительствовал растительности и плодородию, и его культу сопутствовали буйные оргиастические обряды — с разрыванием на части и поеданием сырого мяса затравленных на охоте зверей. Его почитали под именем Ди-унсис (связанным с именем небесного бога Дио[са]) не только в самой Фракии, но и в Малой Азии, куда переселились фригийцы из Фракии (Приложение 1).
Вероятно, фракийцы занесли культ Диониса в Грецию в начале I тысячелетия до н. э., хотя он был там известен и ранее: его имя встречается в текстах, записанных линейным письмом Б, на табличках эпохи поздней бронзы из микенского Пилоса. Гомер был наслышан о кровавых обрядах Диониса и о том, как был покаран безумием царь Ликург, противившийся его культу37. В «Илиаде» говорится, что это произошло на легендарной горе Нисе, которую древние авторы помещали в самые разные страны, — но позднее Ликург был отнесен к фракийцам (эдонам).
Хотя Дионис был известен уже грекам бронзового века, их потомки еще долгое время не переставали отмечать его чужеземную природу. Отчасти это объяснялось яростной разнузданностью, подобавшей его спутницам менадам (вакханкам), ибо такое дионисийское освобождение от привычных покровов благопристойности было совершенно чуждо исконной греческой религии — да и жизни в целом — и по-прежнему стояло особняком. Согласно знаменитому мифу (изложенному в душераздирающих Вакханках Еврипида), фиванского царя Пенфея, не желавшего признавать Диониса, постигла ужасная кара: он был растерзан в куски этими исступленными женщинами. Подобные легенды ясно свидетельствуют о том, как захватывал воображение греков этот экстатический культ, полный мрачных чудес.
В историческую эпоху «оргии» продолжали справлять на склонах Парнаса вакханки, узаконенно представлявшие различные греческие государства, — позднее же дельфийский оракул несколько поунял неуправляемый разгул древних чествований, поместив Диониса наравне с блистательным Аполлоном (отныне оба взаимно уравновешивали друг друга). Впервые изображения Диониса в греческом искусстве появляются в начале VI века до н. э., а в дальнейшем он встречается все чаще, в самых разных обличьях — особенно в вазописи; не обойдены вниманием художников и его верные служительницы менады. В Афинах празднествами Диониса были Леней и Анфестерии, а в Элевсине (Глава II, примечание 12) почитали Иакха, порой считавшегося его сыном. Диониса окружали Силены и сатиры — низшие божества, или демоны, плодородия, а в праздничных хороводах мужчины рядились в животных, чтобы уподобиться богу и тем заполучить часть его мощи. Участники дионисийских шествий несли огромное изображение фалла — как символа плодородия; зато, если в позднейшую эпоху Дионис повсеместно считался богом виноделия и опьянения, то в его раннем культе вину отводилась весьма незначительное место.
Сейчас трудно установить, какие именно из многочисленных сторон дионисийского культа напрямую восходят к фракийским корням, а какие являются местными наслоениями. Однако большинство этих разнообразных форм поклонения — по крайней мере, самые примитивные из них, — очевидно, выводимы из фракийского источника, и перекочевали они в собственно Грецию из греческих колоний на фракийских берегах.
Второй важнейшей составляющей греческой религии, тоже, по-видимому, занесенной в Грецию фракийцами, стал культ певца Орфея — сына фракийского речного бога Эагра (если только его отцом был не Аполлон) и одной из Муз, которая научила его пению. Об Орфее ходило множество разных легенд; в частности, рассказывали, что его, как и Пен-фея, растерзали на части менады-фракиянки (эту сцену любили изображать аттические вазописцы).
Существовали стойкие, хотя и противоречивые, традиции, помещавшие родину Орфея в Южной Фракии: там он жил у Геллеспонта — или (согласно более расхожей версии) в земле киконов (где в его честь справлялись мистерии — только для воинов, — объединенные с мистериями Диониса38, будто бы и основанными самим Орфеем)39. По другим источникам, певец родился в более западных краях Фракии — между реками Аксий (Вардар) и Стримон (Струма). Рассказывали, будто Орфей оставил таблички с перечнем целебных снадобий, ибо здешняя область славилась своими врачевателями. И, что удивительнее всего, Орфей зачаровывал своим пением деревья, диких зверей и даже камни.
Но для греков важнейший смысл этого культа заключался в его подспудном или явном обетовании бессмертия. Вероятно, именно это способствовало в дальнейшем развитию сходных идей в греческих землях — например, вдохновив учения Пифагора, который ссылался на Орфея и даже, как утверждали (хотя, возможно, ошибочно), распространял собственные поэмы под именем Орфея.
Это учение о бессмертии связывалось с именем Орфея не только потому, что его рассматривали как бога подземных сил, но и потому, что он якобы умел отделять душу от тела. Такие шаманские представления о билокации, или раздвоении, пришли в южные края из Скифии (см. ниже) и привились во Фракии, где они связывались, помимо Орфея, с Зал-моксидом — еще одним фракийским божеством подземного мира. Геродот передавал легенду о том, будто Залмоксид был Пифагоровым рабом*®. Однако греческие представления о бессмертии были неотрывны прежде всего от Орфея. Это вылилось и в ряд рассказов о его «нисхождениях в Аид», которые вошли в знаменитый миф о том, как певцу не удалось вернуть любимую жену Евридику из царства мертвых на землю.
Однако становление фракийского и греческого культов Орфея проследить трудно в силу того, что уже в раннюю эпоху возникло «орфическое» религиозное течение. О необычайной широте его распространения свидетельствуют золотые пластинки с записью орфических учений, обнаруженные в столь разных краях, как Южная Италия, Крит и Фессалия. Главным вкладом орфизма в религиозную мысль был рассказ о появлении человечества, стремившийся, подобно ветхозаветной Книге Иова, объяснить загадку зла. Согласно этим учениям, оно возникло оттого, что злобные титаны пожрали младенца Диониса, и их спалил перун Зевса; из этого дыма родились люди — которые, таким образом, злы по своей природе, однако несут в себе крошечную частицу божественного вещества, то есть души41. Зародились ли подобные верования в самой Фракии, или же появились в ходе дальнейшего распространения орфизма по греческому миру, — установить невозможно.
То же самое можно сказать и о так называемых орфических поэмах. Некоторые из них были собраны, а в иных случаях и явно подделаны, афинянином Ономакритом — «окололитературной» фигурой при дворе Писистрата42. В этих стихах повторялась мысль о том, что человечество греховно и осквернено титанической злобой, что оно должно пройти очищение от этой вины, чтобы сподобиться избавления в загробной жизни. (Вазописец V века до н. э. Полигнот изобразил Орфея в окружении умерших — и счастливых, и тех, кто претерпевает муки, ибо не заслужил спасения.)
В целом такие взгляды являли мощную орфическую «контркультуру» — течение, устремленное в противную сторону, нежели главные направления гражданской греческой религии: ибо она обращалась к неподвластным разуму, стихийным глубинам человеческой личности и предлагала избавление от душевных тягот и метаний, — что было не под стать более уравновешенной олимпийской религии.
Беспорядочному миру мелких фракийских царств настал конец, когда персидский властелин Дарий I ок. 513–512 гг. до н. э. затеял свой первый поход в Европу — и прежде всего нагрянул в их земли (с помощью флота, набранного среди восточных Греков). Переправившись через Боспор Фракийский по понтонному мосту, сооруженному самосским инженером Мандроклом, Дарий добился покорства от множества фракийских племен и превратил их земли в персидскую сатрапию, которая располагалась в удобном соседстве с золотыми и серебряными пангейскими рудниками и оказывала влияние на Македонское царство, лежавшее по ту сторону от Пангея.
Поход же Дария на север, в Скифию, оказался не столь успешен (как об этом будет сказано ниже), но, во всяком случае, его новая фракийская «провинция» помогала поддерживать связи с рядом племенных объединений, живших севернее Дуная. Кроме того, ее возникновение стало грозной вехой для греков, потому что этот кусок европейской прибрежной земли, оказавшись в руках персов, превратился в удобный плацдарм для нападения на Балканскую Грецию — и это значительно приблизило начало греко-персидских войн.
Когда эта угроза сделалась совсем неминуемой, ок. 492/491 г. до н. э., Мардоний взялся за переустройство фракийской сатрапии (расшатанной скифскими набегами, которые, возможно, имели место тремя годами ранее). Он низвел до подчиненного положения здешние греческие поселения (которым было суждено вновь обрести свободу по окончании греко-персидских войн) и передал власть над ними избранным дружественным племенам фракийцев — в частности, одрисам, которые достигли вершины могущества в более поздние годы того же столетия (примечание 35).
«Скифия» была несколько туманным греческим обозначением для всей той огромной восточной территории Европы, что простиралась от Карпатских гор до Танаиса (Дона). Населяло эти земли весьма пестрое скопище народов (или групп народов), изначально кочевников из Средней Азии, которые постепенно стали проникать на запад в начале II тысячелетия до н. э. Об этнической принадлежности столь различных племен остается лишь гадать, но, вероятно, большинство этих народов говорило на индоевропейском, преимущественно иранском языке, хотя не следует исключать и вкрапления угро-алтайских (урало-алтайских) элементов. Нам тоже придется пользоваться понятиями «Скифия» и «скифы» достаточно вольно, причем не только ввиду расплывчатости географических определений у Геродота и прочих авторов, но и ввиду того, что они явно смешивали правящие сословия (которые были немногочисленны и состояли из людей, которых строго говоря, нельзя отнести к скифам) и подвластные им племена (которых было огромное количество, причем весьма разнородных по составу).
Придя из Средней Азии в восточную часть Европы и на Кавказ, скифы и зависимые от них народы столкнулись с киммерийцами (примечание 2), после чего многие скифы перебрались к югу — по ту сторону Кавказа, в Северо-Западную Персию и ее побережье. Оттуда они совершили первый набег на Ассирийскую державу (Приложение 1), но впоследствии заключили союз с ассирийскими властителями, один из которых, Асархаддон (ок. 681–669 гг. до н. э.), выдал свою дочь за скифского царя Бартатуа (Протофия). Вскоре скифские переселенцы уже господствовали над среднеазиатскими землями, куда они перебрались. Но спустя двадцать восемь лет после падения ассирийского владычества их изгнал царь мидийцев Киаксар (Приложение 1). Скифы снова принялись постепенно возвращаться через Кавказ на север, и вновь заселили южные районы ныне бывшего Советского Союза.
Родственные им племена переселились на запад — вплоть до Пруссии и Венгрии, — а также перебрались на территорию Румынии и Болгарии (эта область, Добруджа, была известна под названием «Малой Скифии»). Другие же устремились на восток, дойдя до Алтая (местом находок V века до н. э. стал Пазырыкский курган в Горном Алтае). Однако сердцевиной Скифии была область, лежавшая в глубь от северного (украинского) побережья Черного моря — от низовий Борисфена (Днепра) до Танаиса (Дона), а также земли на Кубани и север Херсонеса Таврического (Крыма).
В глубине, между течениями двух крупных рек, находились «царские владения самого доблестного и наиболее многочисленного скифского племени», по словам Геродота43. Их государство подразделялось на четыре части (или на три, с военными целями), и в каждой имелся наместник; так осуществлялось правление, или надзор за огромным, хотя достаточно свободным, объединением племен.
Многие их подданные занимались земледелием, остальные же — как и сами предводители «царских скифов» — придерживались традиционных кочевнических обычаев, «промышляли не земледелием, а скотоводством; их жилища — в кибитках», — хотя раскопки в Каменском, на месте торгового поста у Борисфена, заставляют усомниться в дальнейшем утверждении Геродота, будто скифы не знали ни городов, ни укреплений44. Однако он справедливо отмечал, что сила их заключалась в способности к быстрому передвижению, что позволяло им блюсти надзор над своими необъятными просторами45. Несмотря на природное беспокойство характера, они успешно осуществляли этот надзор благодаря отлаженному порядку, а также многочисленным лошадям (скифы были одним из первых народов, приручивших и объездивших лошадь); количество лошадей, которых погребали в скифских могильниках вместе с покойником, доходило со сотен. Славились они и искусными лучниками — чьи изображения появляются на афинских вазах ок. 570 г. до н. э. («кратер Франсуа») и ок. 540 г. до н. э. (работа Эксекия), — которые в последующем столетии служили в Афинах в наемных войсках и городской страже.
Геродот, описывая причудливые обычаи скифов (подчас неожиданно подтверждаемые археологией), замечал, что во многих отношениях они являют полную противоположность обыкновениям греков4**. Аттические вазописцы тщательно изображали их негреческого вида бороды и длинные космы, откинутые назад ото лба, их глубоко посаженные глаза, крупные носы и тяжелые надбровные дуги47.
Столь же негреческим по духу был и «звериный» стиль в скифском искусстве, навеянный ассирийскими, иранскими и степными мотивами. Такие орнаменты украшали разные носильные предметы (обычные для кочевого народа); они были обнаружены в большом количестве в южнорусских землях — в могильниках, относящихся к концу VII века до н. э. и позднейшим эпохам, — а также во многих других краях тех обширных территорий, что некогда были охвачены скифским влиянием. Изображавшиеся животные — в первую очередь олени (вероятно, слово «сака», то есть иранское название скифов, и обозначало «олень»), а также лошади, каменные козлы, вепри, волки, сибирские снежные барсы, орлы и различные рыбы, — были наделены религиозным смыслом и, скорее всего, имели отношение к духам животных-предков, потому что в Скифии был силен культ предков во главе с Великой богиней Табити, покровительницей зверей и огня. Кроме того, такие «духовно заряженные» изображения животных служили и эмблемами отдельных племен и родов воинов-конников4®.
Лучшие образцы скифского искусства поражают ритмичным равновесием орнамента, в котором из кажущегося хаоса рождаются изящные криволинейные узоры. У скифов существовала передовая общинная культура, а за отсутствием у них письменности мы полагаемся именно на искусство скифов (наряду с писаниями чужеземных гостей — таких, как Геродот), пытаясь составить о ней представление. В ней различимо господство иранских и среднеазиатских мотивов, но что более важно для нас в настоящей книге — это пусть вторичное, но заметно растущее влияние греческих художественных течений.
Даже вначале наблюдался явный параллелизм между скифским искусством и звериными орнаментами ориентализирую-щего стиля в греческой вазописи. Но на этом раннем этапе сходство носило лишь случайный характер и свидетельствовало не о взаимном влиянии двух народов, а о независимых влияниях древнейших восточных традиций на обе школы. Но уже с конца VII века до н. э. греческие ремесленники изготовляли различные предметы, предназначавшиеся для скифской знати, — вероятно, по большей части это происходило в колониях на Черноморском побережье. В течение VI и V веков до н. э. такое производство значительно возросло. Сперва на эти дальние берега переселилась горстка ионийских мастеров (особенно работавших по металлу), бежавших от лидийского и персидского засилья, — а затем они и их дети нашли огромный сбыт для своих изделий среди скифов, живших в глубинных областях. Помимо привычных сюжетов, художники наловчились изображать, например, сцены кочевой жизни — выполненные в греческой манере, но представлявшие интерес исключительно для местных племенных вождей.
Этих греческих художников привлекала, прежде всего, возможность получить долю скифских богатств, о которых справедливо писали Геродот и другие. Скифское зерно, а также другие вывозные товары — рыба, соль, шкуры, пушнина, лес, рабы, скот, лошади — постепенно обретали все большее значение для греков (Глава VIII, раздел 3); а богатство, стекавшееся благодаря столь обширной торговле к скифским вождям, позволяло им разживаться золотом в огромных количествах — вероятно, добывавшимся на северо-востоке, в уральских и алтайских копях. Что они сами давали взамен золота (если только не захватывали его силой), мы не знаем. Но о том, что они его заполучали, свидетельствует несметное изобилие золотых украшений для сбруи, золотых блях на щитах и доспехах и прочем снаряжении, которое было найдено в скифских захоронениях. Греческие мастера из Ольвии и других причерноморских колоний — скорее всего, во мно-! гих случаях уроженцы Милета, — украшали подобные изделия рельефами; таким образом, производя прекраснейшие образцы золотого литья и чеканки, когда-либо созданные греками — потому что на их собственной родине золото было в редкость (ср. примечание 50 к Главе I).
Большинство этих греко-скифских золотых изделий относилось к V и более поздним векам до н. э., но некоторые предметы принадлежат и более ранним эпохам. Так, самые пышные захоронения на Кубани восходят примерно к 600 или 550 гг. до н. э.; в них были погребены те представители скифской знати, кто раньше других смог дать волю своему вкусу к роскоши. Позолоченное серебряное зеркало из Ке-лермесского кургана, что в Краснодарском крае, несет в себе отпечатки сразу многих культур, ибо в его рельефах дальневосточная (сибирская или китайская) форма сочетается с ближневосточными, скифскими и греческими мотивами; изображенная на нем Великая богиня (Табити) напоминает малоазийскую Кибелу, борющиеся с грифоном люди — это скифы, а крылатая Артемида наделена эллинским (ионийским) обличьем — и не только она, потому что у этих фигур имелось куда более одного ионийского прототипа.
В другом могильнике из того же района (станица Костромская), принадлежащем несколько более позднему времени, была обнаружена гравированная золотая фигурка лежащего оленя. Ее нашли поверх железного щита, к которому она, должно быть, некогда крепилась; скошенная поверхность указывает на деревянную или костяную тесаную модель, с которой делали статуэтку. Этот живой пример того, как греки работали в скифском зверином стиле; оленье туловище покрыто мелкими рельефами животных, опять-таки имеющих греческий вид. Так прослеживается становление классического эллино-скифского искусства. Подобное же переплетение стилей наблюдается и в предметах из других погребений VII или VI веков до н. э. по обе стороны Боспора Киммерийского (Керченского пролива), а также в окрестностях Ююва и даже в бывших прусских землях49.
Геродот рассказывает о своем современнике — скифском царе Скиле, который был филэллином до мозга костей50. Однако в более раннюю пору, если не считать пристрастия скифов к греческим художественным ремеслам, прямые культурные (или матримониальные) обмены между двумя народами были, по-видимому, еще редки. Исключение составлял Анахарсис (брат другого скифского монарха, Савлия), побывавший ок. 592/589 г. до н. э. в Афинах (в гостях у Солона) и прославившийся своим «скифским красноречием»51. Рассказывали, что Анахарсис не питал особой любви к грекам — и все же, эти связи стоили ему жизни: когда он вернулся на родину, соотечественники казнили за то, что он пытался 1 ввести эллинские обряды (перенятые в Кизике) в скифский культ Великой богини Табити. Анахарсис превратился в ле- | гендарную фигуру, став одним из «семи мудрецов» и своего рода примером «благородного дикаря».
Другим следом, оставленным скифами в жизни греков — несомненно, благодаря посредничеству греческих причерноморских колоний, — стал ряд верований и представлений, которые охватывает понятие шаманизм. Хотя это слово (тунгусского происхождения52) было неведомо самим грекам, они весьма рано приобщились к таким идеям. Суть подобных учений сводилась к убеждению, что души некоторых людей способны покидать тела и совершать дальние странствия и даже воспарять к обителям духов; и благодаря такой способности к раздвоению (билокации), о которой уже говорилось в связи с фракийцами, занесшими эти верования к грекам, шаман — певец, вещун и целитель в одном лице — преисполнялся чудодейственным даром врачевания и властью провожать души умерших в загробный мир.
Представления подобного рода, весьма распространенные, вовсю господствовали в Сибири, но также пустили глубокие корни в Скифии, где с ними и познакомились греки. Как следствие, среди греков появились иатроманты Оатрор&утец) — провидцы-шаманы, кудесники-целители и религиозные проповедники; иные из них были тесно связаны с этими северными землями. Одной из таких полулегендарных фигур был Абарис, живший предположительно в третьей четверти VI века до н. э. и будто бы прилетевший с севера верхом на стреле. Рассказывали, что Абарис унимал свирепый мор, предсказывал землетрясения, сочинял религиозные стихи, проповедовал культ своего северного божества (которого греки «переделали» в Аполлона Гиперборейского) и настолько успешно отрешался от собственного тела, что мог вовсе обходиться без людской пищи.
Другого чудотворца, Аристея — жившего в середине того же VI века до н. э. (если не раньше), — молва тоже наделяла способностью разлучать свою душу с телом: так, он будто бы умер на своем родном Проконнесе (в Мраморном море) — и одновременно объявился в Кизике, а много лет спустя оказался еще и в Метапонте. Имя Аристея тоже связывали со скифскими делами, приписывая ему поэму о легендарных одноглазых северянах — аримаспах; в ней содержались обширные сведения о диких племенах, обитавших к северу и востоку от Каспия, основанные на рассказах путешественников (бьггь может, на его собственных странствиях?) вперемешку с народными преданиями. Описаны и другие схожие примеры психических сдвигов; к тому же высказывалось предположение, что вера Пифагора в переселение душ и билокацию (а также его отождествление с Аполлоном Гиперборейским — Глава VII, раздел 2) уходила корнями к тем же дальним землям, с которыми были связаны остальные чародеи, — потому что людская молва называла его не только господином фракийца Залмоксида, но и учителем или учеником скифа Абариса (правда, трудно сказать, в какую эпоху возникло последнее мнение).
Более достоверными свидетельствами греко-скифских связей служат находки из Марицынского могильника в окрестностях Ольвии (являющие неразрывный сплав этих двух культур — Глава VIII, раздел 3) и различные предметы торговли53 в том числе афинские вазы с изображениями рабов-скифов в качестве лучников (и стражников). Скифам отводилась и немаловажная политическая роль — защита греческих причерноморских колоний. Существовали смешанные племена — такие, как каллипиды, обитавшие за Ольвией: они вели все более оседлый образ жизни, занимались земледелием и торговали зерном; Геродот называет их «эллиноскифами». А гелоны, жившие вокруг нынешнего Бельского в Будинах (лесостепная полоса к северу от Полтавы), изначально были греками из торговых постов (эмпориев) и говорили на полу-скифском-полугреческом наречии54. В более поздний период народы такого двойственного происхождения называли мик-сэллинами, то есть полугреками55. Однако не следует думать, что все шло как по маслу — ибо, как уже говорилось выше, иные из скифов (особенно на Таманском полуострове) имели обыкновение захватывать в плен моряков-ионийцев и приносить их в жертву своей кровожадной богине Табити.
Ок. 513–512 гг. до н. э. персидский царь Дарий I предпринял крупный поход в Скифию. Его первоначальной целью (как уже говорилось, успешно достигнутой) было завоевание Фракии, которое значительно приблизило к нему Грецию, а заодно ускорило греко-персидские войны. Но о причинах, за. ставивших его двинуться дальше и перебраться за Дунай, чтобы напасть на скифов, — одновременно велев своему сатрапу в Каппадокии (Малая Азия) привести через Черное море флот ему на подмогу, — остается лишь гадать. Возможно, Дария прельщали рудники Трансильвании, и ему представлялось удобным завладеть устьем Дуная, откуда лежал прямой путь к вожделенным копям. Вполне вероятно, что ему не давало покоя и хлебное изобилие южнорусских равнин: должно быть, он подумывал и о том, не перекрыть ли грекам доступ к этой житнице. А может быть, он полагал, что скифы, их соседи и сородичи-кочевники представляют угрозу для северных — причерноморских и каспийских — границ его державы: его могли сбить с толку неверные сведения географов об этих самых границах (путавших Танаис [Дон] с Яксартом [Сыр-Дарьей]). Кроме того, Дарию, очевидно, уже трудно было унять набранное ускорение — неудержимую страсть к расширению державных владений, которая оказалась определяющей чертой его правления.
Так или иначе, Дарий двинул свои войска от Дуная и проник в глубь Украины, но так и не сумел вынудить Идиан-фирса — полководца, возглавлявшего одно из трех скифских войск, — вступить с ним в сражение. Повсюду Дарий встречал на своем пути лишь спаленную землю — и ему ничего не оставалось, как отступить. Итак, если его вторжение во Фракию принесло ощутимые плоды и в силу овладения фракийскими землями приблизило греко-персидские войны, то его неудача со Скифией, напротив, на несколько лет отдалила их.
Более того, скифы — как рассказывали (хотя не все принимали эти рассказы на веру) — замышляли мощный ответный удар и даже обратились за помощью к спартанцам, намереваясь устроить согласованное нападение на владения Дария. Скифы должны были вторгнуться в Мидию со стороны Кавказа, из-за реки Фасис, — а спартанцам тем временем следовало высадиться в Эфесе и напасть на малоазийские территории Персии. Однако Спарта воздержалась от такого союза (хотя ходили слухи, будто спартанский царь Клеомен I в ходе переговоров настолько пристрастился к скифскому обычаю пить неразбавленное вино, что лишился рассудка), и скифам пришлось довольствоваться разграблением греческого причерноморского порта Истрии (незадолго до 500 г. до н. э.) и набегом на Херсонес Фракийский (ок. 495 г. до н. э.?).
НАРОДЫ, ИСПЫТАВШИЕ ВЛИЯНИЕ ГРЕКОВ: ЭТРУССКИЕ ГОРОДА-ГОСУДАРСТВА
Этрурия — земля этрусков (по-гречески, тирренов, или тирсенов; по-латински, этрусков, или тусков) — занимала территорию современной Тосканы в Западной Италии, а также захватывала северный участок Лацио вплоть до Тибра. Путем сравнения и дедукции расшифровано порядочное количество этрусских слов, однако грамматический строй этого языка до сих пор не поддается определению. Все же представляется, что он не относился к индоевропейской семье (как и некоторые другие языки Италии и ее островов56), хотя этрусский алфавит возник по образцу греческого — а именно, письма, которое занесли сюда через кампанские порты в Пите куссах и Кумах купцы из эвбейской Халкиды (Глава VII, раздел 1).
Сведения об этрусках — помимо обширных свидетельств археологии и произведений искусства — скудны, так как они не оставили собственной литературы (в настоящее время известно лишь 13 тысяч этрусских надписей, большей частью кратких и деловых)57. Поэтому мы вынуждены полагаться на сохранившиеся греческие и латинские литературные источники, каковые страдают отрывочностью и предвзятостью, ибо уделяют внимание в основном взаимоотношениям римлян с этрусками и чаще всего выказывают враждебность к этрускам. Объемистое сочинение императора Клавдия (41–54 гг. н. э.) об этрусках, написанное по-гречески, не сохранилось.
Предание о том, будто они пришли из Лидии (приводимое Геродотом в рассказе о Лидии58), основано на ложной этимологии, как и многие другие предания об истоках разных "пограничных" по отношению к греческому миру народов. Несмотря на то, что ранние массовые переселения племен в пределах Италии (как в нее, так и из нее) — несомненно, КЖ., - шши воссоздать, — этрусков вд$а тешь 1 тайш народам. Археологи- I йжеж, шщятш'рвя о существовании длительно! #а.%5с®аж пуеддаярта эдогао до проникновения гре-ж ъ *>дамиь Трета же начали селиться ч. та^тестае, уш с VIII века до н. э. т&шъ вто, выращивать маслины и чаашв жаклй, в ’к$ввы в велллйивы иа Питекусс и Кум снаб-уит Жк аимглйи в врочввв аратовенностями (привозивши· \юкк жь чак*ж5кикк вортов в Сирии, таких, как Аль-Мина, Посидейон и Палт) в обмен на железо, которое имелось в Этрурии в необычайном изобилии по сравнению с остальными средиземноморскими землями.
О богатстве этрусков, накопленном благодаря такой тор-говле, свидетельствуют их пышные гробницы, которые относятся к той эпохе, когда их поселения превратились в самостоятельные города-государства («этрусский союз», о котором упоминают античные авторы, ограничивался преимущественно религиозными целями и собраниями; едва ли он представлял собой политическое единство, предусматривавшее какие-либо совместные действия).
Со временем халкидское влияние сменилось коринфским (как и в прочих краях, включая восточногреческие полисы), и именно буйное, яркое ориентализирующее искусство коринфян (а затем ионийцев) определило то своеобразное смешение греческого и местного стилей, которое характерно для зрелого этрусского искусства VI века до н. э. (С другой стороны, к более поздним художественным достижениям классической Греции этруски — с их склонностью ко всему причудливому — оказались равнодушны.)
Тарквинии (лат. Tarquinii, по-этрусски Тархнал [тархуаХ-], ныне Таркуиния), находившиеся в Юго-Западной Этрурии (ныне Лацио) — на горных отрогах в 8 км от Тирренского моря, — по легенде, были основаны Тархоном, братом Тир-сена (а неподалеку был выпахан из земли Таг, наставивший этрусков в религии). Согласно позднейшим преданиям, Тарквинии раньше других этрусских поселений превратились в единый процветающий центр. А в догородскую эпоху, до и после 900 г. до н. э., здесь существовали деревни, жители которых уже начали разрабатывать металлическую руду в горном массиве Тольфа. В VIII веке до н. э. эти селения слились в новый город — Тарквинии, чему способствовал возросший спрос на железо среди кампанских греков. Как следствие, вскоре после 700 г. до н. э. здесь стали появляться большие могильники с земляными курганами.
Один из погребенных в них людей звался Рутил Хипукра-тес (rutile hipukrates): его первое имя было этрусским, а второе греческим (=Гиппократ) — вероятно, по матери и по отцу. Другой житель Тарквиниев, Ларе Пулена (lars pulenas), называет своего прадеда Креикес (creices) — «греком»59. Роспись на местной керамике VII века до н. э. выдает влияние коринфского стиля, с которым тарквинские вазописцы познакомились, очевидно, в Кумах; поэтому такая утварь известна под названием кумско-этрусской.
В ту же пору в Тарквиниях, как передавали, поселился грек Демарат, оставивший родной Коринф (Глава III, раздел 2). Он прибыл сюда в сопровождении трех fictores (лепщиков), а также своего семейства в полном составе — в том числе двоих сыновей, одного из которых он воспитал по греческим, а другого — по этрусским обычаям. Последний позднее перебрался в Рим и стал одним из его царей, войдя в историю под именем Тарквиния Древнего (ок. 616–579 гг. до н. э.).
Эллинизация Тарквиниев отныне обрела более четкие черты; а с середины VI века до н. э. многие гробницы, лежавшие неподалеку от города, украшаются удивительной стенописью. Греция не знала ничего подобного: самые ранние из сохранившихся образцов такой живописи в греческих землях — в Эгах (совр. Вергина) в Македонии — датируются двумя веками позднее. И все же эти фрески отражают последовательные стадии греческого влияния на этрусское искусство, одновременно являя унаследованные от коренной культуры италийские элементы (в религии ощутимо то же смешение, причем главенство оставлено за традициями Этрурии). Так, гробница Быков (ок. 550–540 гг. до н. э.), наиболее ранняя в этом ряду, обнаруживает любопытный сплав местных мотивов с коринфскими и иными греческими и ближневосточными мотивами. В гробнице Авгуров (ок. 530 г. до н. э.) господствует ионический стиль, а гробница Барона (ок. 500 г. до н. э.) свидетельствует о начавшемся влиянии аттической вазописи (в пору перехода от чернофигурного стиля к краснофигурному), в сочетании с цветистым ионическим буйством и исконными италийскими традициями.
Несмотря на исчезновение некоторых городов-спутников, Тарквинии держали в подчинении ряд других центров в различных уголках прилегающей внутренней территории. Они имели и три морских порта; в них стоял флот, который и положил начало этрусской морской державе, как можно предположить, исходя из ряда надписей (elogia), касающихся семейства Спуринны60. Приблизительно с 600–580 гг. до н. э. в одном из этих портов, в Грависках (лат. Grauiscae, совр. Порто-Сан-Клементино), появился квартал греческих купцов. Они возвели святилище Афродиты (этрусской Туран), а впоследствии, лет сорок спустя, построили храмы Геры (Уни) и Деметры. В первом были обнаружены греческие надписи, а во втором — греческие культовые светильники.
Одна из найденных в Грависках надписей, выполненная ок. 570 г. до н. э. эгинским алфавитом (Глава II, раздел 6), гласит: «Я принадлежу Аполлону Эгинскому; меня сделал Со-страт» (имя известного купца, упомянутого у Геродота, — хотя это вовсе не означает, что здесь идет речь о том самом Сострате)61.
Цере (лат. Caere, этрусское название — Кисра [Cisra], или Хайср[и]е [caisr[i]e]), ныне Черветери, раскинувшийся на горных отрогах в 6 км от Тирренского моря, превратился в полноценный город чуть позднее, чем его юго-восточный сосед — Тарквинии, — но вскоре уже сравнялся с ним по экономическому и политическому могуществу и, очевидно, в значительной мере присвоил право разрабатывать рудные жилы в недрах Тольфы. Огромные церетанские могильники (относящиеся к периоду до 600 г. до н. э.) с усыпальницами, устроенными на манер жилых покоев, украшались драгоценностями из Питекусс и Кум, которые, в свой черед, ввозили золото для изготовления этих изделий из Сирии. Вероятно, и этрусский алфавит впервые возник в Цере, где был переиначен из письма, бытовавшего в Кумах. Керамику из Коринфа Цере ввозил в таких количествах, что поспорить с ним в этом мог бы только Вульчи (см. ниже); да и в самом Цере прекрасные вазы изготавливали и расписывали греческие переселенцы (особенно эвбеянин Аристонот в конце VII века до н. э.; а также коринфские мастера) и их этрусские ученики. Цере стал также главным очагом производства специфически этрусского типа керамики — буккеронеро («черная земля» по-итальянски), — тонкостенных сосудов изящной формы (начиная примерно с 650 г. до н. э.)62.
Кроме Тольфы, церетане прибрали к рукам и значительную часть внутренних земель, где остались их живописные скальные гробницы. Цере сменил Тарквинии в роли морской державы и объединился с Карфагеном, дабы пресечь ставшую угрожающей активность греческих колонистов из Фокеи, Массалии и Алалии (Алерия на Корсике). Ок. 540/535 г. до н. э. противники встретились в морском «сражении при Алалии», и хотя фокеяне вышли из него победителями, они понесли слишком тяжелые потери, чтобы поддерживать свою алалийскую колонию и дальше53.
На принадлежавшем Цере побережье имелось пять или более портов, Одним из этих приморских городов был Пуник (Punicum) названный так позднее римлянами, предположительно из-за того, что прежде здесь было поселение карфагенских (пунийских) купцов. Другим церетан-ским портом были Пирги (лат. Pyrgi, ныне Санта-Севера), где имелось святилище Геры. Сохранилась надпись, из которой явствует, что некий самосец почитал ее под этим греческим именем — именем главной покровительницы своего родного города, — а не под именем Уни, «тождественного» этрусского божества. Спасаясь от персидской угрозы на родине, в Цере и его портовые города стекались ионийские художники. Одна из ионийских гончарных мастерских, где, помимо собственного, мастера были знакомы и с коринфским вазописным стилем, производила гидрии (Ъбр'юа, большие кувшины с тремя ручками, с которыми ходили по воду). Их покрывали полихромные росписи, выполненные двумя (?) даровитыми вазописцами в колоритной и остроумной манере; эти художники уделяли чрезвычайное внимание выразительности человеческих лиц (ок. 525–505 гг. до н. э.).
И что самое главное, под воздействием греческого искусства в Цере появилась собственная школа терракотовой скульптуры, равная которой существовала в ту эпоху лишь в Вейях. Изображение возлежащей семейной пары на крышке саркофага, хранящееся в римском музее Виллы Джулиа, является шедевром этрусского искусства с характерным для него сплавом исконно италийских и ионийских черт и особенностей. Местные ваятели той поры создавали превосходные рельефы; особого внимания заслуживает фриз (ок. 525–485 гг. до н. э.) из святилища в Пиргах, изображающий ги-гантомахию: стиль его чем-то напоминает росписи на аттических вазах.
Однако правители Цере отнюдь не были единственно сосредоточены на всем греческом: среди находок из Пирг оказались три золотые пластинки с двуязычными надписями — на пунийском и этрусском наречиях (ок. 500 г. до н. э.), — увековечившими посвящение даров церетанским правителем Тефарием Велианой (qefarie velianas) карфагенской (финикийско-сирийской) богине Астарте64. Его преемники, вследствие вражды с Вейями, обратились за помощью к Риму (см. ниже), и дружба римлян позволила им значительно расширить сферы влиянии в Нации и Кампании65.
Вульчи (этрусское название Велха [velca]) лежал к северо-западу от Цере, на холме, защищенном крутыми утесами, и располагался над «петлей», которую делали в 10 км от моря река Армента (совр. Фьора) и ее два притока, ок. 700 г. до н. э. существовавшие здесь порознь селения слились в единый город. Через долину Арменты пролегал путь к горе дмиате и ее рудным месторождениям, которые и служили для Вульчи основным источником богатств.
О размахе же этих богатств позволяет судить обильный и продолжительный приток греческих ваз, в том числе — огромного количества протокоринфской и коринфской утвари, с каким среди других городов мог поспорить только Цере. Производилось множество местных сосудов в подражание привозным, а в конце VI века до н. э. здесь зародилась и самобытная школа церетанской керамики (ошибочно получившей название «понтийской»): ионийские вазописцы, бежавшие в эти края от персидского ига, расписывали сосуды сценами из греческой мифологии. Вульчи производил скульптуру в камне — что было скорее исключением для Этрурии, где подходящие сорта камня отнюдь не в изобилии, — и разрабатывал копи на Амиате. Здесь не покладая рук трудились литейщики-бронзовщики, и поэтому Цере вывозил в адриатическую Спину гораздо больше своих бронзовых изделий, чем какой-либо другой этрусский город (Глава VIII, раздел 1). Благополучные города в глубинных областях, зависимые от Вульчи, просуществовали недолго, но у них имелся морской порт — Реги (11е§ае)7 или Регисвилла (1^18иШа, совр. Ле-Мурелле) — неподалеку от устья Арменты; предположительно, он контролировал укрепленную торговую гавань возле Орбетелло, которую недавно удалось отождествить с древним Калузием (Са1шшт).
О величии города свидетельствует крупнейшая в Этрурии гробница курганного типа (более 60 м в диаметре) — Куку-мелла в окрестностях Вульчи {ок. 560–550 гг. до н. э.); а стенные росписи из гробницы Франсуа {ок. 300 г. до н. э.), ныне хранящиеся в римском музее Торлония, дают представление о целой героической традиции, затрагивающей давнюю историю города. Изображенная на этом настенном фризе сцена — убийство одного из Тарквиниев воином из Вульчи — даже проливает свет на время действия: возможно, конец VI века до н. э., когда воины или просто самозванцы из этого города, возможно, временно захватили власть над Римом. Кроме того, Вульчи, по-видимому, был главным очагом культа Энея, который затем перешел — напрямую или косвенно к римлянам (так что Эней в конце концов сделался героем вергилиева «национального» эпоса). Граждане Вульчи также сыграли видную роль в присоединении кампанских земель к этрусским владениям; возможно, Рим в ту пору служил для них перевалочным пунктом. Когда же в конце V века до н. э. самниты положили конец этрусскому влиянию в Кампании, — такая неудача отнюдь не отбила у жителей Вульчи охоту к расширению своего владычества: они лишь обратили взоры на север Италии. Там было найдено множество бронзовых предметов и драгоценностей, относящихся к более поздним периодам существования Спины; они либо происходили из Вульчи, либо были выполнены в технике, использовавшейся тамошними мастерами.
Вейи (лат. Veii, совр. Вейо) находились в Южной Этрурии (ныне Лацио) и занимали просторное горное плато, состоявшее из двух кряжей и южной возвышенности (акрополя). Защищали город крутые утесы, высящиеся над рекой Кремерой (Cremera, совр. Валькетта) и одним из ее притоков. Кремера, впадающая в Тибр, в древности была судоходной. В начале I тысячелетия до н. э. на этом месте существовало несколько деревушек, а во второй половине VIII века до н. э. они слились в единый город, затем превратившийся в самостоятельное государство. Расположение Веий в крайней южной точке у подступов к Этрурии, — вдвойне привлекательное ввиду того, что из семи городских ворот лучами расходились дороги в прочие города, — побудило греческих купцов из кампан-ских центров вроде Питекусс и Кум использовать этот город в качестве посредника в торговле с другими, более северными, этрусскими городами, от которых грекам нужны были металлические руды66. Сами вейенты не вели добычи руды, но, несомненно, извлекали выгоду из своей роли посредников. Немалую прибыль приносило и сельское хозяйство, которое процветало еще и благодаря гидротехническим сооружениям — разветвленной системе искусственных каналов (ку-никулов). Кроме того, источником доходов служили и залежи соли в устье Тибра (что для остальных краев Этрурии было редкостью).
Опираясь на эти запасы, Вейи превратились в течение VI века до н. э. в один из важнейших негреческих центров Италии. Помимо некрополя67, раскопана значительная часть жилых кварталов города (в том числе кварталы бедноты). Выявлены руины пяти храмов; наиболее внушительный из них — трехчастный храм Менрвы (Афины, Минервы) в святилище Портоначчо (ок. 520–500 гг. до н. э.), за городскими стенами. На центральный конек крыши были водружены крупные терракотовые статуи, в числе прочих — знаменитое изваяние Аллу, или Апулу (так называемый Аполлон из Веий, ныне хранимый в музее Виллы Джулиа в Риме). Этот шедевр был создан с оглядкой на ионийско-аттические художественные образцы68. Однако, как и все лучшие этрусские статуи, в нем содержатся самородные, чуждые эллинской традиции элементы: напористо-драматичное чувство движения, характерное для этрусского искусства вообще, и грубовато-мощная напряженность позы, привнесенная уже самим ваятелем. Возможно, статуя Аллу была творением рук прославленного вей-ского ваятеля Вулки — или мастеров его круга.
Не исключено, что Вулка (Vulca) работал и в Риме; ведь на протяжении «эпохи царей» отношения римлян с Вейями оставались дружескими — хотя эти два города разделяло всего 19 км. Но после того, как династия этрусских царей в Риме пала (ок. 510–507 гг. до н. э.), спор из-за владения соляными залежами и торговыми постами вскоре привел к открытой вражде. Ее усугубляло еще и то, что Вейи вывели новое поселение — Фидены (лат. Fidenae) — на левом берегу Тибра, то есть под самым носом у Рима.
Так мы понемногу добрались до северных областей Этрурии. Ветулония (Vetulonia, этрусская Ветлуна [vetluna], или Ватлуна [vatluna]), находившаяся в 72 км к северо-западу от Вульчи, располагалась на горных отрогах на высоте 345 м над уровнем моря. Город с трех сторон защищали неприступные скалы, внизу же виднелась излучина Вруны с притоками. В древности у самых стен Ветулонии расстилалось озеро Прелий (или Прилий, лат. Prelius lacus или Prilius lacus); ныне оно осушено, а в ту пору представляло собой судоходную лагуну, куда впадали Вруна и Умброн (Омброне). Вначале на этом месте стояли два селения, богатевшие за счет плодородия здешней земли и, что самое главное, за счет добычи меди и железа в рудной полосе (Массетано). В VII веке до н. э., когда богатства обеих деревень возросли во много крат, они слились в единый город. К тому времени, когда сюда стали стекаться товары из греческих эмпориев и колоний в Кампании, в Ветулонии появился собственный тип круговых погребений: захоронения производились внутри круга, выложенного каменными глыбами, а затем поверх них насыпался земляной холм. Обнаружены остатки жилых построек, в том числе — терракотовые фрагменты фриза или фронтона VI века до н. э.
Как и в Вульчи, в Ветулонии производили каменную скульптуру. Но более всего город славился золотыми изделиями (с особой зернью); возможно, их привозили из Питекусс и Кум — но иные украшения были явно местной работы.
Став сильным государством, Ветулония не только держала в подчинении несколько городов в глубинных районах (например, поселения на месте Марсилианы и Гьяччо-Форте, которые, впрочем, просуществовали лишь до VI века до н. э.), но и проявляла себя как мощная морская держава — в частности, довольно рано наладив связи с Сардинией благодаря ряду гаваней на своем озере Прелии. Однако незадолго до 500 г. до н. э. город уже частично уступил свое могущество Рузеллам.
Рузеллы (Rusellae, по-умбрски Резала (‘Rsala), ныне Розелле) возвышались на плато, откуда некогда открывался вид на Прелий, — в 14 км от Ветулонии, на противоположном берегу озера. Внизу простиралась плодородная долина реки Умброн (Омброне), впадавшей в лагуну. Отдельные деревни, прежде разбросанные по отрогам, до 600 г. до н. э. объединились в другом месте. Новое поселение окружала каменная стена — одна из древнейших в Этрурии, — но вскоре ее сначала дополнили, а потом заменили более мощными укреплениями. Здесь обнаружены следы жилых кварталов — необычайно обширных, по меркам этрусских городов, — в том числе остатки жилищ, которые повествуют о жизни городской бедноты еще полнее, чем такие же развалины в Вейях.
Должно быть, поначалу Рузеллы превращались в город при содействии не Вульчи (вопреки таковым предположениям), а Ветулонии, лежавшей по ту сторону лагуны, в 14 км. Но, как уже говорилось, к VI веку до н. э. этот город, возможно, уже потеснили (а быть может, частично разрушили?) жители Рузеллы. Вне сомнения, они уже и до этого принялись разрабатывать месторождения в Массетано, а с закатом Ветулонии в их руках, наверное, оказалась и рудоносная зона Кампи-льезе69. Рузеллы имели в своем распоряжении самое меньшее одну гавань на Прелии, на месте (или возле) нынешних Терме-ди-Розелле, — вдобавок к другим портам (в числе которых, возможно, был Теламон [лат. Telamon, совр. Таламо-не]) и нескольким удаленным зависимым поселениям.
Популония (лат. Populonia или Populonium, по-этрусски Пуф-луна [pufluna], или Пуплуна [pupluna]) — приморский город севернее Ветулонии — занимала хорошо защищенный акрополь-мыс (с окрестностями), который в ту пору представлял собой полуостров, окруженный водой практически со всех сторон. Два ранних поселения, до 700 г. до н. э. слившихся в одно, устроили в широком заливе удобную гавань (совр. Порто-Баратти).
К 800 г. до н. э. или даже раньше здесь сооружали усыпальницы разных типов, по образцу сардинских погребальных камер. Позднее, после 600 г. до н. э., появились большие могильники с земляными курганами. Со временем в них клали все более богатые дары — предметы, которые привозили греческие купцы из Питекусс и Кум в обмен на металлы, в изобилии залегавшие в сопредельной зоне Кампильезе и на острове Ильва (лат. Ilua или Aethalia, греч. Эталия [АЮсШа], совр. Эльба; по-этрусски, возможно, Веталу [vetalu] или Айта-ле [aitale]) и плавившиеся в Популонии начиная примерно с 750 г. до н. э. Спрос на руду среди этих торговцев вскоре привел к тому, что к жителям Популонии стало поступать наибольшее количество греческих товаров в области. При этом этрусский бог Фуфлунс (fufluns), отождествлявшийся с Дионисом, давший имя самому городу, по-видимому, имел родиной город Библ в Финикии, с которой у Популонии явно сохранялись прямые или косвенные связи.
Долгое время Популония не становилась самостоятельным городом-государством, пребывая в зависимости не у Волатерр (см. ниже), как явствует из Сервия70, а у соседней (и близкой в культурном отношении) Ветулонии. Зато Популония стала одним из первых этрусских городов, начавших чеканить собственную монету — хотя не ранее 500 г. до н. э.
Волатерры (Volaterrae, по-этрусски Велатри [velaqri], ныне Вольтерра) лежали далее к северу и вглубь, занимая вершину отвесного холма между реками Эрой — южным притоком Арна (Арно) — и Цециной (Caecina, по-этрусски Кеикна [ceicna], ныне Чечина). Долина Цецины была богата рудными залежами; несомненно, именно близость этого источника богатства и побудила группу деревень (уже славившихся своим мелким бронзовым литьем) сплотиться, незадолго до 600 г. до н. э., в единый город. Мощный оползень (в районе Ле-Бальце) уничтожил почти все ранние следы обитания в этом городе. Остался лишь рельеф на могильной плите (ок. 500 г. до н. э.?), изображающий война-вождя по имени Авл Тит (avie tite) с хитроумной прической ближневосточного типа; в руках у него длинное копье, лук и короткий меч.
Среди нескольких других гаваней, Волатерры, вероятно владели портом в устье Цецины или поблизости от него. Вместе с тем они более остальных этрусских городов устремлялись в глубь страны, расширяя свои владения в долине Эры и другого притока Арна — Эльсы, — также вдоль самого Арна (вплоть до Фезул — этрусского Визула, современного Фьезо-ле), а по другую сторону Арна, на север, — до бассейна Эри-дана (река Пад, По) и Фельзины (римская Бонония, современная Болонья). На фельзинских надгробных плитах в форме подковы высечено родовое имя Кеикна (Цецина); вероятно, этот род происходил из Волатерр, ибо его имя образовано от названия волатеррской реки; к тому же известно, что ему принадлежали глиноземные участки и соляные залежи неподалеку.
Клузий (Clusium, этрусский Клевсин [clevsin-], совр. Кьюзи) лежал глубоко внутри Северо-Восточной Этрурии и занимал вулканическое плато над рекой Кланис (Clanis, совр. Кьяна; ныне обмелела), долину которой этруски подвергали очистке и мощному дренажу. Ок. 700 г. до н. э. местные высокогорные селения, а также соседние деревни (населенные умбрами — другим италийским народом), слились в один крупный город. Хотя Клузия, в силу самой его удаленности, почти не коснулось греческое влияние (своим процветанием город был обязан скорее сельскому хозяйству, чем металлургии), — по прошествии века он превратился в богатейшее и могущественнейшее государство этой области.
Клузийские гончары изобрели особую разновидность сосудов — большие терракотовые погребальные урны-цисты с крышками, которые венчали обобщенные и вместе с тем поразительные изображения человеческих голов. Относящийся к ранней эпохе женский бюст обнаруживает причудливую смесь греческих мотивов, навеянных сирийскими образцами. В конце VI века до н. э. до н. э. в Клузии создавали и самобытные погребальные рельефы, отчасти вдохновленные ионийскими и аттическими прообразами. Кроме того, здесь зародилась собственная школа керамики буккеро — толстостенной или «тяжелой», в отличие от тонкостенных церетанских сосудов сходной техники.
Клузийцы достигли вершины величия и могущества в конце VI века до н. э., при Ларсе Порсенне, чья гробница (пространно описанная Варроном71) была найдена неподалеку. Ларе Порсенна (его подлинное имя неизвестно; очевидно, и «Ларе» и «Порсенна» являются апеллятивами-титулами; лат. Porsenna, Porsena, Porsina) величался «царем Клузия и Вольсиний»; такое прозвание указывало на его власть над святилищем в Вольтумне, которое было религиозным средоточием этрусского союза.
Вольсинии (Volsinii, по-этрусски Велсу [velsu], ныне Боль-сена), Арреций (Arretium, современный Ареццо), Кортона (Cortona, по-этрусски Куртун) и Перузия (Perusia, нынешняя Перуджа), по-видимому, были основаны колонистами из Клу-зия, — хотя позднее, когда все эти города превратились в цветущие государства с независимым сельским хозяйством, каждое придумало себе пышные — впрочем, противоречивые — легенды, связывавшие их основание с героическим греческим прошлым72. Возможно, некоторые из этих колоний были выведены Ларсом Порсенной, который, должно быть, первым из этрусских правителей поощрил ввоз или производство гоплитского оружия и снаряжения (по греческим образцам): археологические данные свидетельствуют об их появлении в Этрурии начиная с VI века.
Вероятно, благодаря стараниям того же Ларса Порсенны влияние Клузия обрело небывалый размах: на севере оно простерлось за Апеннины, а на юге затронуло Кампанию и Лаций.
Уже в раннюю эпоху несколько этрусских городов-государств (трудно сказать, какие именно), а может быть, отдельные граждане или группы граждан — действовавшие либо по их распоряжению, либо самовольно, — навязали этим плодородным и богатым италийским областям свое господство в делах торговли, искусств и, наверное, в некоторых случаях — политики. На севере же с давних пор очагом деятельного этрусского обитания была Фельзина (лат. Felsina, впоследствии Бонония [Bononia], ныне Болонья), где еще с конца X века до н. э. существовала кучка деревень. Они благоденствовали за счет запасов железа, а также извлекали прибыль из связей с заальпийскими областями, жители которых обрабатывали бронзу, — вплоть до территории современной Словении.
В Фельзине этрусское влияние стало заметным еще до 700 г. до н. э., и окончательно возобладало к той поре, когда отдельные селения слились в город, затем предположительно переросший в независимое государство. Фельзина господствовала над долиной Рена (лат. Rhenus, совр. Рено), а подвластное ей поселение в Казалеккьо возвышалось над тем местом, где долина переходила в открытую равнину. В конце VI века до н. э. у дороги, уводившей отсюда в Этрурию, был создан еще один эмпорий в Мисс (Misa, Марцаботго): так было легче управлять потоком товаров, проходившим через апеннинские перевалы. Из других городов, где этруски играли важную роль, следует особо выделить Мантую, о смешанном народонаселении которой внятно сказано в Вергилиевой «Энеиде»73. Все эти общины вели торговлю с двумя эмпориями на адриатическом побережье — Атрией и Спиной, выведенными этрусками сообща с греками (Глава VIII, раздел I).
И торговля и владычество этрусских городов-государств коснулись также земель, лежавших по ту сторону Тибра — естественной южной границы их страны.
В плодородной Кампании главным очагом этрусского влияния стала Капуя (лат. Capua; ее этрусское название римляне переиначили на латинский лад как Вольтурн (Volturnum); ныне это Санта-Мария-ди-Капуа-Ветере), занимавшая стратегически выгодное расположение — у переправы через реку Вольтурн. Этрусские имена в капуанских надписях указывают на возможное участие Вольсиний в торговых делах города или даже в его основании, — хотя совершенно очевидно, что Капуя сделалась самостоятельным государством. Недавние раскопки подтвердили и важность другого кампанского центра — Кал (по-латыни Cales [род. пад. Calium], Calentum, или Cale, совр. Кальви), где первый из известных этрусских правителей водворился, как установлено, примерно в 640–620 гг. до н. э. Еще южнее центр этрусской деятельности находился у Салернского залива (sinus Paestanus), во Фратте-ди-Салерно и Пицен-ции (лат. Picentia, совр. Понтеканьяно). Другой древний город, к востоку от Салерна (Salernum, совр. Салерно), по-видимому, обязан своим названием — Вольки, — под которым его знали римляне, посетителям или колонистам из Вульчи74. Дионисий Галикарнасский упоминал об этрусках, живших «у Ионического залива» (в Атрии, Спине?), которые в 525/524 г. до н. э. вторглись в греческую Кампанию75.
Чтобы сохранить как сухопутные, так и морские связи с Кампанией, этрускам понадобилось установить известную меру влияния и над территорией, разделявшей их земли, — то есть над Лацием. Собственно говоря, между культурами правящих сословий Этрурии и Лация в определенные периоды и в определенных краях было практически невозможно провести различия — за тем разве что исключением, что латины, в большинстве своем, и во времена этрусского владычества продолжали говорить на собственном, индоевропейском языке.
Такое же положение наблюдалось, например, и в Риме — который тем не менее подпал под власть этрусков на часть VII века до н. э. и почти на весь VI век до н. э. и изрядно пропитался этрусской культурой. Царь Тарквиний Древний (по принятой хронологии, 616–579 гг. до н. э.), по-видимо-му, происходил из Тарквиний, где поселился его отец — грек Демарат, бежавший по политическим соображениям из Коринфа76. Он явно правил Римом в качестве независимого государства. Изгнание его сына или внука Тарквиния Гордого считается важнейшим историческим событием, ознаменовавшим рождение Римской республики (ок. 510/507 г. до н. э.), хотя не исключено, что и после этого над Римом непродолжительное время тяготело господство Вульчи и Клузия.
Однако и на протяжении республиканского периода Рима по-прежнему достигала греческая и этрусская керамика, наряду с прочими художественными влияниями — скорее всего, отчасти благодаря посредничеству этрусков (а быть может, еще и латинов и финикийцев), помимо прямых торговых связей. Так, при раскопках святилищ (восходящих примерно к 600–575 гг. до н. э., но перестроенных ок. 500 г. до н. э.) в Сант’О-мобоно, у Тибра, были найдены образцы эвбейской, питекус-ской, коринфской и кикладской керамики VIII века до н. э.77. Терракотовые архитектурные детали этих храмов — посвященных (по крайней мере позже) Фортуне и Матери Матуте, — выполнены в восточногреческом стиле; вероятно, греческие художники, купцы и ремесленники селились вокруг городского речного порта. Кроме того, храм Дианы на Авентинском холме, возвышавшийся над пристанью и, по преданию, возведенный царем Сервием Туллием (ок. 578–535 гг. до н. э.), был, очевидно, построен под влиянием Массалии; внутри храма стояло (неизвестно, с какого времени) изваяние, весьма схожее со статуей Артемиды Эфесской, которую почитали мас-салийцы. Вдобавок, Геркулес Победитель (Hercules Victor), которого чтили на его древнейшем Большом алтаре (лат. Ага maxima) ниже северной оконечности Авентина, представлял собой италийский вариант греческого Геракла, покровителя купцов, чей культ мог просочиться сюда через латинский город Тибур (Tibur, ныне римское предместье Тиволи).
Есть веские основания предполагать, что после падения этрусской династии монархов в Риме, в течение первого десятилетия V века до н. э. был заимствован у греков — напрямую либо косвенно — ряд новых культов, на сей раз уже без этрусского участия. Так, рассказывали, что храм Цереры, Либера и Либеры (ок. 493 г. до н. э.) украшали греческие ваятели и живописцы — Дамофил и Горгас78, — а сама божественная триада изображала вовсе не этрусскую троицу, а греческих богов — Деметру, Иакха и Кору. Среди прочих греческих богов, проникших в Рим, были Меркурий (Гермес — покровитель купцов, как и Геркулес; его культ был введен в срочном порядке в пору бесхлебья) и Сатурн (почитавшийся с непокрытой головой, как и греческий Крон). А Кастор и i Поллукс (Полидевк), чей культ, согласно традиции, был вве- j ден (с 484 г. до н. э.?) в знак благодарности за победу (ок. 496 г.) над латинами при Регилльском озере (Regillus lacus), — в надписи примерно той же эпохи из Лавиния (Lauinium) фигурируют под своим греческим названием — quroi (koaroi, то есть Ai6$ Kofipoi «Зевсовы сыновья»)79.
Сходные связи с Грецией просматриваются и в других городах Лация. Вместе с тем в этих центрах, как и в Риме, еще долгое время сохранялось сильное влияние Этрурии. Из довольно большого числа таких городов можно назвать преж- 1 де всего Альбу-Лонгу, Ардею и Политорий (Politorium). А в Пренесте (Praeneste, совр. Палестрина), где к 700 г. до н. э. скопились огромные богатства, в последующем веке появи-,1 лись гробницы с заупокойной утварью, практически неотли- Я чимой по стилю от аналогичных находок из погребений в городах-государствах самой Этрурии.
Среди этрусских государств, расширявших торговые и культурные связи с этими и другими поселениями Лация, а I быть может, и выводившими там настоящие колонии, — ве- I дущую роль играл, по-видимому, Цере. По преданию, цере- 1 танский царь Мезенций (Mezentius) сделал латинов своими данниками80; хотя не исключено, что и Ларе Порсенна, пра- 1 витель Клузия, — коль скоро он захватил Рим, — мог распространить свое господство и на другие города Лация.
Этрусские города-государства, каждое из которых представляло собой независимую державу, начали клониться к закату уже в конце VI века до н. э. После того, как Аристодем Кум-ский разбил этрусков, вторгшихся в Кампанию ок. 525/524 г. до н. э., сын Ларса Порсенны Аррунс (Arruns) был убит в Ариции (лат. Aricia, ныне Аричча) в сражении с союзом латинов и кампанских греков (ок. 505 г. до н. э.). А в V и IV веках до н. э. былые цитадели этрусского могущества стали гибнуть одна за другой81.
ПРИМЕЧАНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1 Авл Геллий, Аттические ночи, XIX, 816, 5.
2 Геродот, VIII, 144.
3 Сегодня проводятся разграничения между полностью греческими землями, то есть собственно греческими землями, — и «изолированными греческими точками в чужих пределах». Между тем: (1) во многих землях, которые, следуя такому разграничению, следует считать «полностью» греческими, — т. е. на территории материковой Греции, — существовал обширный субстрат догре-ческого, негреческого населения; и (2) «изолированные точки» порой представляли собой важнейшие греческие центры (и были не такими уж «изолированными» — к ним всегда имелся доступ если не по суше, то по морю). В эту категорию попадают города-государства Северного Причерноморья, о которых теперь становится известно все больше благодаря отчетам советских археологов о своих раскопках. Значимость этих городов, наряду с городами «Великой Греции» (Южной Италии) и Сицилии, опровергает любые доводы, будто следы греческого гения можно обрести лишь в «землях, омываемых Эгейским морем».
^ Классификационные трудности вызваны тем, что неизвестно происхождение некоторых авторов — прежде всего, Гомера. Как представляется вопреки знаменитым спорам древних, он творил главным образом на острове Хиосе, и его, безусловно, следует отнести к этому району. Вторую трудность для исследователя, взявшегося упорядочить древнейшую историю греков исходя из географии, представляют те писатели и художники, кто странствовал с места на место. В более поздний, «классический», период, это станет настолько распространенным обычаем, что материал пришлось бы располагать иначе. Однако для нашей ранней эпохи эта трудность возникает лишь в случае нескольких наиболее значительных авторов. Я «приписал» их к тем местам, где их творчество достигло наибольшего расцвета (например, Пифагора с Самоса — к Кротону; Анакреонта из Теоса и Ивика из Регия — к Самосу; Алкмана из Лидии (?) — к Спарте; Ксенофана из Колофона к Занкле). Что касается скульпторов, они порой отправлялись в места, откуда получали заказы, захватывая с собой мраморную глыбу или даже грубые заготовки изваяний, но, как правило, в рассматриваемую эпоху их творчество отражало стиль тех городов, откуда они сами были родом.
ЧАСТЬ I ДРЕВНИЕ ГРЕКИ
1 Эти «протогреческие» народы, говорившие на индоевропейских языках, покинув прежние места обитания, за многие века рассеялись по землям от Каспия и низовий Борисфена (Днепра) до Индии, Персии и Европы. К тому времени, когда они достигли Греции, к ним, вероятно, примкнули другие переселенцы с Балкан.
2 Линейное письмо Б включало 88 символов для обозначения различных сочетаний согласных с гласными, существовавших в микенском языке, из которого впоследствии произошел греческий язык. Кроме того, существовали идеограммы, с помощью которых уточнялся смысл слова.
3 С падением Микен были заброшены общие захоронения и большие гробницы с погребальными камерами. Вместо них стали появляться простые индивидуальные могилы (в цистах, ямах или сосудах), а на смену погребению (ингумации) постепенно пришла кремация.
4 Сами греки, жившие позднее, не сохранили воспоминаний о «трещине» темных веков (или о существовании микенской цивилизации, отличавшейся от их собственной); в их воображении рисовался единый героический век греков, олицетворявшийся Микенами и Пилосом и предварявший их собственную эпоху.
5 Например, одна недавняя теория гласит, что, так как различные тексты линейного письма Б, возможно, указывают на существование наречий высшего и низшего сословий, — доряне уже давно жили в Греции, будучи рабами у микенцев. А следовательно, дорийское вторжение вовсе не имело места.
6 Говорилось, что они переплыли Коринфский залив, переправившись из Навпакга в Рион в Ахайе (на севере Пелопоннеса), а затем разделились на группы. В частности, одна из них поселилась в Арголиде (Аргос), а другая в Лаконии (Спарта).
7 Одна из трех дорийских фил (племен) называлась гиллеями (в честь Гилла, сына Геракла). Две других звались диманами (северо-западное племенное имя) и памфилами (что значит «из смешанных племен»).
8 Старая классификация, согласно которой в греческом языке выделялись ионийский, эолийский и дорийский диалекты, ныне нуждается в поправках. Она вводит в заблуждение, заставляя предположить существование неких подразделений внутри греческой «расы», тогда как в действительности изначальные расовые различия доказать невозможно: разница диалектов становится заметной лишь после 1200 г., когда ее породила разобщенность небольших поселений, разделенных горами и морем. (В V и VI веках искусственно зародилось нечто вроде «расового сознания», разделявшего дорян и ионийцев в силу политических, религиозных и языковых различий.)
9 Керамике уделяется много внимания во всех книгах, посвященных развитию греческого искусства. Это объясняется тем, что: (1) ее сохранилось очень много — в отличие, например, от скульптуры (большинство образцов которой принадлежат к более позднему периоду); (2) греческая керамика в ту пору играла роль гораздо более важную, нежели ее аналоги сегодня: она одновременно выполняла все те назначения, которым служат теперь фарфор, стекло, дерево, кожа и плетеные корзины; (3) следственно, она нуждалась в услугах виднейших художников — а от древнейшей настенной живописи ничего не сохранилось, за исключением некоторых образцов из пропитанной греческим влиянием, но все же инакой Этрурии (Приложение 3). Так как Греция не была страной роскоши, эти художники применяли свое мастерство в украшении ваз, в котором не было бы такой нужды, будь в ходу золотые или серебряные сосуды (исключение составляют негре-ческие Фракия и Скифия — Приложение 2). Вазописцы наслаждались такой художественной свободой, какая и не снилась скованным традицией ваятелям, а сам выбор тем отражал то общее, что объединяло разные слои греческого общества.
10 Фукидид, III, 3. Аристотель (Политика, I, 7, 1252b) отмечает, сколь важную роль играли селения в образовании этих новых объединений.
11 также македонцы, фокеяне, локры, этолийцы, акарнаняне, ахейцы, аркадцы.
12 Всего в 1реческом мире образовалось около полутора тысяч городов-государств, из них известно более шестисот. О том, сколь малы были некоторые из них, можно судить на примере острова Кеос (совр. Кея). При том, что остров занимал двадцать четыре километра в длину и тринадцать в ширину, на нем умещалось четыре таких государства (три из них впоследствии чеканили собственные монеты). Три отдельных государства существовали и на другом маленьком острове, Аморгосе. Нескольких десятков полисов, должно быть, имели более чем десятитысячное население.
13 До сих пор не установлено, были ли у микенцев настоящие города-государства (как это доказывали некоторые), и распространяли ли сирийские и финикийские города-государства гражданство на все свободное население. Возможно, некоторыми чертами, характерными для городов-государств, обладали обнесенные стенами города Центральной Европы (например, Гейне-бург в верховьях Дуная).
14 Изначально понятие oircx; включало моногамную семью, объединявшую ближайших родственников, однако у греческих писателей оно приобрело более широкий смысл, распространившись и на прочих домочадцев, живших внутри этого замкнутого хозяйства. Γνος же (не всегда признаваемый древним законным объединением) первоначально существовал лишь среди знати. Он состоял из людей, возводивших свою родословную к общему предку, хотя в него допускались и неродственники. Фратрии (возможно, образовавшиеся из аристократических воинских отрядов) включали иждивенцев этих γνη. Подробнее касательно этих объединений см. в связи с Афинами (Глава II, раздел 1).
1> Житель аттической деревни был «афинянином» в той же степени, что и житель собственно Афин. Гражданство было тесно связано с землевладением. Однако, говоря о сельском населении, следует помнить, что границы городов-государств часто оставались размытыми по меньшей мере до VII века, а иногда и до более поздних времен. Каждое земельное владение, каждая область и каждый регион возлагали надежды на то, что им удастся настолько разрастись, чтобы производить почти все необходимое, хотя подобные ожидания обычно оказывались неосуществимыми. Греция располагала довольно ограниченной площадью пахотной земли. В полях произрастали пшеница и особенно ячмень (составлявший основу греческого рациона — в виде хлеба и каши). К ним греки добавляли соленую рыбу, сыр, мед, фиги и вино. Виноградники появились в VI веке, хотя, вероятно, виноград научились выращивать еще в VII веке. То же относится и к оливковым рощам, дававшим масло, которое использовалось для освещения, для счищения грязи и прочих косметических целей, для религиозных обрядов, а впоследствии и для приготовления пищи. В то же время, едва ли одна пятая часть земель в метрополии была пригодна для обработки, а климат в Греции — несмотря на то, что солнце светило 300 дней в году, — далек от умеренного: для него характерны резкие перепады жары и холода, вкупе с бурными ветрами зимой и летом. Правда, греческим полисам в других областях нередко выпадали куда более суровые климатические условия.
16 Геродот, VII, 102, 1 (перевод Г.А.Стратановского).
17 По мнению Аристотеля (Политика, I, 1, 8, 1252Ь), «человек по природе своей есть существо политическое (πολιτικόν ζωον)», — то есть, предназначенное для жизни в полисе, в государстве. («Государство… возникло ради потребностей жизни, но существует ради благой жизни» [перевод С.А.Жебелёва].)
18 Аристотель, Политика, III, 9, 7, 1285Ь. (Он считал, что греческая цивилизация связана с микенской эпохой непрерывным преемством — ср. выше, примечание 4). У Гомера — а созданная им картина приблизительно соответствует действительности VIII века — чаще всего говорится о самостоятельных местных «царях» — басилеях (βασιλείς), но иногда речь идет и о совместном правлении. Так, на Схерии, мифическом острове феаков, кроме Алкиноя, Гомер упоминает и других διοτρεφας βασιλήας — «вскормленных Зевсом царей» (Гомер, Одиссея, VII, 49). Надо полагать, такие единовластные правители не подвергались никаким формальным ограничениям со стороны местного совета старейшин, а тем паче, призрачного народного собрания, — но им приходилось считаться с вековыми установлениями и обычаями.
19 Например, Нелеиды в Милете — и другие династии на западе Малой Азии. Вероятно, постепенное крушение царской власти (там, где она существовала) началось довольно рано, ок. 1100 г. до н. э. и, за исключением некоторых центров, монархия быстро пошла на убыль между X и VIII веками.
20 Аристотель, Политика, IV, 3, 2, 1289Ь (т. е., государствами, «сила которых основывалась на коннице» [перевод С.А.Жебелева]).
21 Гомер, Илиада, II, 53 (перевод Н.И.Гнедича).
22 Псевдо-Платон, Послезаконие, 987(1 (перевод А.Н.Егунова).
22 Коринфская утварь (как позднее — аттическая) пользовалась особым спросом и у купцов из других греческих полисов благодаря высокому качеству выработки и художественным достоинствам.
24 После того, как в последние века существования Хетгской державы (Приложения, примечание 19) кузнецы в Малой Азии овладели (довольно сложной) техникой ковки железа, в XII или XI веке до н. э. греки тоже научились обработке железа — вероятно, благодаря непрерывным контактам с Кипром (изначально побудительной причиной явилась нехватка бронзы; спрос же на нее не падал и позднее). То железо, которое впервые было применено греками, имело восточное (а не северное) происхождение (ср. традицию халибов — Глава VIII, раздел 3); в Греции источниками железа были Аттика (вначале?), Лакония, Эвбея и Киклады. Когда техника его обработки была усовершенствована, железо оказалось дешевле бронзы и к тому же водилось в изобилии. Железо было тяжелее бронзы, а края железных орудий выходили менее острыми — до тех пор, пока не был изобретен стальной сплав (незадолго до V века).
25 Согласно некоторым утверждениям, в течение VIII века население возросло вдвое или втрое, — а то и всемеро, хотя касательно такой наивысшей оценки высказывались сомнения.
26 Ср. Амфис, фрагмент 17: «земля есть податель жизни для человека; одной лишь земле ведомо, как избегнуть нищеты».
27 Платон, Федон, 109Ь (перевод С.П.Маркиша).
28 Софокл, Антигона, 334–337.
29 Аристотель, Политика, I, 3, 23, 1258Ь; Плутарх, Солон, 2 (перевод С.И.Соболевского); Геродот, II, 167 (перевод Г.А.Стратановско-го); ср. Фукидид, I, 2, 2; и (о Сократе) Ксенофонт, Домострой,
Платон, Законы, 626а (перевод А.Н.Егунова). ок. 220 г. жителей критского полиса Дрера заставили поклясться в том, что «они будут чинить всяческий вред жителям Диктат, своим соседям. (G.Dittenbeiger, Sylloge Inscriptionum Graecarum, ed. III, 527.)
Гомер, Илиада, XI, 784 сл. (перевод Н.И.Гнедича); ср. Глава V, раздел 1.
На одной аттической вазе конца VIII века изображен всадник в новом металлическом нагруднике, ведущий за собой вторую лошадь. Очень часто росписи на вазах VII и VI веков (главным образом, аттических и коринфских) изображают конных гоплитов, скачущих в бой вместе с оруженосцами; иногда оруженосцы стоят поодаль, пока их хозяева сражаются. Принято считать, что в «догоплитские» времена аристократы скакали к месту сражения, но спешивались для боя. Некоторые придерживаются мнения, что конница составляла ядро войска в первом засвидетельствованном столкновении между полисами — Лелантийской войне, которую Халкида вела против Эретрии (ок. 700 г. до н. э.). (Гомеру был уже неясен смысл обычного для бронзового века использования колесниц в битвах: для него это просто средство передвижения.)
Более тяжелое вооружение появляется приблизительно с 750 г. до н. э.; доспехи для рукопашного боя — ок. 700 г. до н. э.; полное снаряжение — ок. 700/675 г. до н. э. (некоторые указывают более поздние даты). Отдельные места в Гомеровой Илиаде (IV, 422–443; XIII, 130 сл.; XVI, 212 сл.) содержат указания на то, что сражения велись хорошо обученными пехотными отрядами. Впервые успех боевой единицы гоплитов (фаланги) проявился на Пелопоннесе (возможно, в 669 г. до н. э., когда Аргос одержал победу над Спартой), ок. 664 г. до н. э. наемники, обученные сражаться в фаланге, появляются в Египте, — хотя иные, напротив, полагают, что такая тактика впервые была применена в «битве победителей» в Фирее между спартанцами и аргивянами, состоявшейся ок. 545 г. до н. э. Спартанцы прославились своим искусством именно в таком виде сражений. В VII веке в Олимпии прекратились приношения посвятительных бронзовых котлов (примечание 44 ниже), так как этот металл требовался для изготовления гоплитского снаряжения. ок. 630 г. до н. э. появился новый тип сложного нагрудника. (Были в этот период среди греческих воинов и такие [в особенности критяне — Глава VI, раздел 1], кто умел и стрелять из лука, и метать камни из пращи, и швырять дротик.) На первый взгляд, устройство такой боевой единицы, как фаланга, шло вразрез с рельефом местности в Греции, потому что фаланга могла успешно сражаться лишь на относительно ровной поверхности. Но именно для такой почвы она и была задущна — иными словами, для вражеских равнин и полей. Ведь едва ли какое-либо государство способно в течение двух лет, или даже года, спокойно смотреть, как разоряют его посевы: чтобы спасти урожай, осажденный враг, вконец отчаявшись, будет вынужден выйти за городские пределы и вступить в битву.
34 Аристотель, Политика, III, 5, 3, 127 %.
35 Как возможные передаточные пункты алфавита назывались также (помимо Эвбеи): Крит, Кипр, Мелос, Тера, Родос, Спарта (Кифера), Фивы и Дельфы. Древнейшая (из известных ныне) надпись греческим алфавитом, — это гекзаметр на аттической вазе — дипилонской э нохое (οίνοχόη), — относящейся приблизительно к 740/725 г. (Возможно, на более ранней стадии финикийский алфавит был принят греками без изменений — или же с предварительными переделками, нам неизвестными.) Греки закрепили за каждой буквой не тот звук, что отвечал ей в афразийских (семитских) языках, а тот, что существовал у них самих: так, они прочитывали каждую букву как начальный звук того названия, каким ее наделили (альфа, бета и т. д. — акрофонический метод). Буквы, обозначавшие у семитов голосовую паузу и придыхание, у греков стали обозначать гласные звуки. Кроме того, добавилось несколько новых согласных. Архаические греческие надписи часто были сделаны бустрофедоном — βουστροφηδόν (Павсаний, V, 17, 6) — т. е. наподобие борозды, которую прокладывает в поле упряжка волов: одна строка — слева направо, а следующая за ней — справа налево. (Древнейшие надписи на Тере сделаны справа налево; другие читаются наоборот, или обоими способами.) На угаритском языке (семитский язык северо-западной группы, на котором говорили в Рас-Шамре в. эпоху поздней бронзы) писали чаще всего слева направо, а на финикийском (как и на древнееврейском) — в обратном направлении. Относительно других афразийских языков см. Приложения, примечание 17.
36 Алфавитные надписи, процарапанные на керамических изделиях конца VIII века, говорят о распространении грамотности. Прежде греческое воспитание имело крен скорее в сторону физического, нежели умственного, развития (так, παιδοτρίβης — «упражняющий мальчиков» — учил детей гимнастике), и скорее в сторону музыки, нежели словесности. Распространение же алфавита породило новую разновидность наставника — γραμματιστής, учившего детей читать и писать.
37 Греческие мыслители-теоретики полагали, что полис зародился из стремления к справедливости (δίκη), которая была необходима, так как по отдельности люди лишены законов.
38 Понятие «стопы» происходит из области танца, с которым была весьма тесно связана греческая поэзия. Стопа состояла из набора долгих и коротких слогов, т. е. обладала количественным ритмом (в отличие от качественного ритма современной поэзии, где существенна не долгота или краткость слогов, а их ударность или безударность). В древнегреческих словах ударение было связано с тоном, или высотой, звука, однако отношение ударения к высоте остается неясным: часто ударный слог в слове был, по-видимому, выше тоном, чем безударные. Такая тоновая окрашенность языка роднила его с музыкой (см. также примечание 40). Чередование дактилей и спондеев в греческом гекзаметре означает, что этот размер вмешал от двенадцати до семнадцати слогов. Тем самым греческий стих достигал такой длины и сложности, которые были неведомы героическим поэмам других литератур.
39 Например, монодии (λινός — лин, по-другому песнь Лина); и хоровые песни, в том числе погребальный плач (θρήνος — тренос, иначе френ), пэан (παιύν — хвалебная песнь к Аполлону, которую будто бы занес в Коринф лесбосец Арион, наряду с Дионисовым дифирамбом — διθύραμβος), свадебная песнь (έπιθαλΰμιον — эпи-таламий), девичья песнь (παρθνειον — парфений) и песнь с пляской и пантомимой (ύπόρχημα — гипорхема).
40 Наше понимание дошедших фрагментов греческой лирической поэзии остается ущербным из-за незнания сложной ритмической техники, присущей сопровождавшим ее элементам — музыке и танцу. (Уже в эллинистическую эпоху представление о них было весьма смутным; до нашего времени сохранилось лишь несколько образцов древнегреческих нотных записей, хотя с формой самих музыкальных инструментов и их мощностью обстоит яснее.) В древнегреческой музыке было множество гамм, или ладов (со временем, среди них стали различать фригийский, лидийский, лесбийский, дорийский, ионийский лады и т. д.), отличавшихся друг от друга последовательностью интервалов и, вероятно, разнообразием тонов. Для греков каждый из ладов отвечал определенному эмоциональному и нравственному настрою. Гармонии не существовало. Как звучала такая музыка, для нас остается загадкой. Нам она показалась бы непривычной.
41 Буквально — поэзией, исполнявшейся под звуки лиры (λύρα). В наше время этот термин служит, главным образом, для обозначения коротких стихотворений интимного содержания, исполненных глубокого чувства. Плутарх (Утешение к Аполлонию [Моралии, II] 34, 12 °C, и т. д. [Моралии, IV] 5, 348В) использует понятие медики, или мелической поэзии, которое можно отнести, в целом, к сольной или хоровой песни, в отличие от элегической или ямбической поэзии.
42 Гадали греки по звону горшков или гонгов, по шелесту листвы, по воркованию голубок, по струению вод, по отражению в зеркале. О ритуале предсказаний в Дельфах и их влиянии, см. Главу IV, раздел 2. Поклонение греческим богам сопровождалось во-прошанием оракулов и прорицателей. У Гомера один такой толкователь знамений участвует в походе греческих войск на Трою, хотя города-государства часто предоставляли совершать подобные гадания отдельным людям (например, основателям колоний и купцам). В литературе существовало немало анекдотов об обман-чивойг неясности прорицаний — загадочных и туманных, — смысл которых раскрывался слишком поздно. Это отражало тревожные и неоднозначные взаимоотношения человека с богами. Однако во многих случаях вопросы, задаваемые божествам, носили вполне практический и приземленный характер, и ответы на них были того же свойства. Вера в прорицания оракулов была распространена весьма долгое время.
43 Платон, Законы, II, 653d (перевод А.Н.Егунова).
44 Различимы два последовательных типа таких предметов:
(1) котлы-«Введениетриподы» на трех металлических ножках (украшенные геометрическими, иногда фигурными, рельефами) с двумя большими ручками-кольцами, часто опирающимися на человеческие изображения и увенчанные лошадиной фигурой;
(2) котлы на высоких конических или пирамидальных подставках, с ручками-кольцами, поддерживаемыми птицами о человечьих головах (сиренами), между которыми выступали бронзовые грифо-ньи головы на длинных шеях (вначале чеканившиеся, позднее отливавшиеся). Живые и настороженные трехмерные лица сирен и змеиная грация грифоньих голов возвещают изящество греческой скульптуры грядущих веков. Из сорока девяти известных образцов этого типа котлов тридцать семь были сделаны на Ближнем Востоке, а остальные были изделиями греческих мастеров.
45 Бесчисленные местные святилища героев, или герооны (ήρωα), возможно, значили для отдельных людей больше, нежели храмы олимпийских богов, хотя Гомер и Гесиод обходят их вниманием. Геракл (см. Аргос, Глава III, раздел 1) был чтим повсеместно, но большинство героев имели преимущественно местное значение (включая основателей колоний, которых посмертно причисляли к этому разряду). Умершие исторические лица или мифические персонажи, в честь которых воздвигались святилища, не всегда были ведомы Илиаде и Одиссее. Тем не менее именно в этих поэмах четко прояснилось понятие героя. И хотя некоторые из героических культов возникли, вероятно, во глубине «темных веков» или даже раньше, они чрезвычайно оживились в VIII веке, так как (1) в ту пору обе эпические поэмы уже обрели широкое распространение и известность; (2) ок. 725 г. до н. э. были раскрыты микенские гробницы, и погребенным в них покойникам стали воздавать почести под воздействием обеих упомянутых поэм и «эпического цикла» в целом.
46 О различиях между хтоническими (плодородными) культами и олимпийской религией, ср. Платон, Законы, IV, 717а (хотя Дионис и Демстра относятся к обеим категориям). Гомер практически умалчивает о первых (как и о святилищах местных героев — см. предыдущее примечание), так как он творил не для обособленных сельскохозяйственных общин, а для более космополитичной знати. Существовали две разновидности обетованного бессмертия: (1) перерождение или перевоплощение в цепочке или круге жизней (ср. Пифагор, Глава VII, раздел 2); (2) загробное блаженство. Слово мистерия (τ| μυστήρια) происходит от глагола μύειν, «закрывать глаза» (в переносном смысле — «хранить тайну»), — дабы враги не разузнали у посвященных тайн, связанных с магией плодородия. Со временем от участников таинств стали требовать не только внешней ритуальной чистоты, но еще и чистоты внутренней. Понятия вины, греха и страдания фигурируют лишь в таких учениях, что практиковались в Элевсине и среди орфиков (Глава II, раздел 2, и Приложение 2).
Жрец (ерео$) был «мирянином», ведавшим общественным культом. (В раннюю эпоху его избирали голосованием из числа знатных семейств — в силу «богоданного» политического могущества аристократии.) Это был отход от обычаев бронзового века, потому что в табличках, сделанных линейным письмом Б, говорится о «профессиональных» жрецах и жрицах. В Илиаде упоминаются жрецы, но не греческие, а троянские.
Архилох, фрагмент 19.
Аристотель, Политика, V, 8, 4, 1310b (перевод С.А.Жебелева).
Очень древняя электровая монета с изображением оленя и надписью «Я — (эмблема) Фана», найденная в храме Артемиды в Эфесе и, вероятно, имевшая эфесское происхождение (хотя ее родиной называли и Галикарнасе в Карии), указывает на то, что первыми поручителями порой выступали отдельные граждане. Чеканка монет начиналась с отсекания металлических заготовок нужной величины и нужного веса. При этом использовали «наковальню, молот, клещи драгоценной отделки» — орудия гомеровского «златоискусника» (Одиссея, III, 433–434 [перевод В.А.Жуковского]). Чтобы превратить этот кусочек в монету, к на-ковальне прикрепляли матрицу из затвердевшей бронзы или же-Глеза с углубленной ручной чеканкой («негатива» для отпечатка на лицевой стороны монеты), а поверх него клали заготовку. На заготовку помещали другую матрицу — вначале примитивный штамп, а позднее, когда узор понадобилось выбивать на обеих сторонах (впрочем, см. примечание 55), снабженный чеканкой для тыльной стороны, — и ударяли по ним молотом: так получалась готовая монета. Хотя греки, состязаясь между собой, всячески старались воспроизводить на своих монетах красивые и осмысленные изображения, в ту пору очертания зачастую выходили смазанными. Древнейшие лидийские и греческие монеты были толстыми и имели форму боба. Они делались из электра (бледного золота), так как чистое золото было редкостью в Греции в этот ранний период (хотя лидийский царь Крез чеканил из него свои монеты).
Аристотель, Политика, V, 1303а, 27.
Фукидид, III, 84.
На Ближнем Востоке капители такого типа, позднее получившего название ионического, появлялись лишь как элементы мебели, и никогда полностью не входили в состав какого-либо архитектурного ордера. В греческих землях появлению ионической капители предшествовала или сопутствовала «эолическая» разновидность — возможно, занесенная из Финикии через Кипр и изначально задуманная для отдельно стоящих памятников, — в которой ствол
колонны непосредственно примыкал к волютам с обеих сторон АТ его вершины. В ионической капители такая прямая связь разомкнута, а волюты соединены друг с другом и тем самым значительно уплощены (изначально же они устремлялись ввысь и вширь), так что на них удобнее ложилась тяжесть архитрава.
Вероятно, древнее минойско-микенское искусство обработки драгоценных камней и изготовления печаток было впервые возрождено на Наксосе, одном из Кикладских островов (или на Кипре или Родосе?). Оно выдавало египетское и финикийское влияния, а стиль и композиции с животными напоминали микенскую резьбу. «Островные» геммы, как они были названы, относящиеся к VII веку и к началу VI века до н. э., были в изобилии обнаружены на Мелосе. В середине и конце VI века до н. э. среди прочих центров выделяется Самос, но к тому времени печатки распространились уже повсюду. Обычно они имели форму скарабея, а материалом чаще всего служил цветной кварц. Как и в скульптуре, большое внимание уделялось строению человеческого тела, и здесь наблюдался постепенный отказ от стилизации в пользу натурализма. Среди резчиков по камню, работавших ок. 500 г. до н. э., особо выделялись мастера Эпимен и Семон.
к Сперва — в третьей четверти VI века — в городах Южной Италии узор чеканился поверх тонкой и плоской стороны монеты; на реверсе же появлялся тот же узор, что и на аверсе, только в негативном отображении, так как матрицы были одинаковы. Ср. также примечание 50.
Вместе с тем, в течение VI века до н. э. значительно продвинулась врачебная наука: в Кротоне, на Родосе, в Кирене, на Косе и в Книде возникли целые школы. Для древнегреческих врачей чрезвычайно важным было понятие справедливости (примечание 37 выше): «справедливые законы» отождествлялись с природными процессами.
57 Аристотель, Политика, VIII, 2, 4, 1337Ь (перевод С.А.Жебелева).
58 Аристотель, Риторика, 1367а, 22 (перевод Н.Платоновой).
59 Гомер, Одиссея, XI, 489 сл.
60 О количестве рабов до наступления классической эпохи нельзя даже строить догад ок. Цифры, приводившиеся для Афин V века до н. э., колеблются от 20 тысяч до 400 тысяч, предпочтительны же цифры 60–80 тысяч. Далее, считалось, что их численность составляла четверть или даже половину всего населения Афин. Большинство рабов были чужестранцами, их можно было купить довольно дешево. Никий, государственный деятель V века до н. э., владел исключительным множеством рабов — целой тысячью. У одного его современника было шестнадцать рабов: пятеро фракийцев, двое карийцев, двое иллирийцев, двое сирийцев и по одному рабу из Колхиды, Лидии и Каппадокии. В ту эпоху рабы нередко держали собственных рабов и получали некоторое обра- 2
зование: так, пьеса Ферекрата (ок. 430 г. до н. э.?) называлась ДооХоб15\5спсаА. о<; (Учитель в школе для рабов; Афиней, Пир мудрецов, VI, 262Ь). Платон сетовал на то, что с ними обращаются недостаточно мягко. Как бы то ни было, все эти сведения едва ли можно с легкостью отнести к предыдущим периодам. Часто высказывались предположения о связи рабства с техническим застоем, но теперь они оспариваются.
61 Периэки имелись, например, в Аргосе, на Крите, в Элиде, Фессалии и Кирене.
62 Разряд населения вроде илотов существовал, например, в Аргосе, на Крите, в Фессалии, Эпидавре, Сикионе, Коринфе, Геракл ее Понтийской, Визбнтии и Сиракузах.
63 Платон, Пир, 178е-179а.
64 Ксенофонт, Пир, 8, 34., /?2 ЦЦр
65 Геродот, V, 97. Его слова см. в Главе V, разделе 2 (под сноской 39).
ЧАСТЬ II АФИНЫ
1 Платон, Критий, 111b (перевод С.С.Аверинцева).
2 Мимнерм, фрагмент 12 по изданию Диля.
3 Гекатей, цитируется у Геродота, VI, 137.
4 Ионийские филы носили названия эгикореев, гоплетов, гелеонтов и аргадеев. Плутарх (Солон, 23) подвергал сомнению уверенность Геродота (V, 66, 2) в том, что они получили такие имена в честь сыновей Иона.
5 Солон, фрагмент 4.
6 После 770 г. до н. э. более привычным способом захоронения взрослых стала ингумация, а к 750 г. до н. э. она почти вытеснила кремацию в Аттике (обычай кремации возобновился к концу столетия).
7 Гомер, Илиада, И, 362; ср. IX, 63 о человеке, не принадлежащем к фратрии.
8 Аристотель, Афинская политая, 3, 2; он упоминает иную точку зрения, согласно которой это произошло во время царствия самого Медонта.
9 Там же, 3, 1 (перевод С.И.Радцига).
10 R.Meiggs and D.Lewis, Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century B.C., no. 86; о драконовской ♦конституции» см. Аристотель, там же, 1 сл.
11 Плутарх, Солон, 13.
12 Участники шествия несли в Элевсин некие священные предметы, ранее забранные в Афины, а также изображение второстепенного божества Иакха, считавшегося не то сыном (или супругом) Деметры, не то сыном Персефоны, не то сыном Диониса (с которым его особенно любили отождествлять, ввиду сходства его имени с одним из прозвищ Диониса — Вакх. — Ср. Приложение 2). Существовала одна теория, согласно которой ямбический стих произошел из песнопений, сопровождавших мистерии. -
13 Об этом идет речь у Исократа (Панегирик, 28) и у Цицерона (О законах, И, 14, 36).
14 Пиндар, фрагмент 137 по изданию Бергка (102 по изданию Бека) (перевод М.Л.Гаспарова).
15 Саламин — каменистый остров площадью в 93 квадратных километра, замыкающий широкую лагунообразную Элевсинскую бухту, соединенную с Сароническим залвом узкими проливами по обеим сторонам. Обнаружены неолитические стоянки и поселения бронзового века (микенской эпохи). Согласно греческим мифам, на Саламине поселился брат Пелея Теламон, там родились его сыновья Аякс и Тевкр, впоследствии основавший город Саламин на Кипре.
16 Солон, фрагмент 1. Согласно другой точке зрения, этот отрывок принадлежит элегии, написанной им в старости. Саламин отошел Афинам до 527 г. или ок. 509 г. до н. э., но все еще не входил в аттическую область. Им правил афинский архонт (Аристотель, Афинская полития, 54, 8).
17 Диодор Сицилийский, IX, 20, 1 сл.
^ Солон, фрагмент 36 (перевод В.В.Иванова).
^ Андротион, у Плутарха в Солоне, 15.
Солон, фрагменты 5 (перевод М.Л.Гаспарова) и 34.
21 Например, в Аррефориях, Скирофориях, Тесмофориях, Ленеях и Адониях.
22 Солон, фрагмент 25.
23 Плутарх, Солон, 25.
24 Там же, 18.
25 По-видимому, Солон учредил две разновидности судебных обжалований: (1) δίκη — частная жалоба со стороны самой пострадавшей стороны, и (2) γραφή — письменная жалоба, представленная суду любым гражданином. Едва ли в эту пору уже использовалась жеребьевка для назначения в гелиэю (вопреки Аристотелю [Политика, II, 1274а]; касательно Совета, архонтских и других должностей см. примечание 40, ниже), хотя древний обычай бросать жребий упоминался еще в Илиаде (VII, 171 сл.), а в VII веке применялся на Тере в целях колонизации (Глава VI, раздел 3). Слушание жалоб в гелиэе стало делом столь частым, что в следующем столетии судьи почти прекратили выносить приговоры, так как они неизбежно порождали новые жалобы. Взамен была введена система судов присяжных (δικαστήρια), которые вели разбирательства, выступая со стороны Народного собрания. Когда именно начался этот процесс, остается неясным (завершился же он примерно к 462/461 г. до н. э.; в конце V века до н. э. общее число присяжных составляло, как правило, несколько сотен, но могло доходить и до 6 тысяч). Эти дикастерии рассматривались, по крайней мере вначале, как подразделения гелиэи (к тому же Гелиэей называлось и самое большое в Афинах здание суда).
26 Плутарх, Салон, 18.
27 Солон, фрагмент 11.
Плутарх, Солон, 19.
29 Солон, фрагмент 5.
30 Солон, фрагменты 32, 33.
31 Амасис — египетское имя, что указывает на связь с этой страной.
Откуда взялось название τραγωδία («козлиная песнь»)? Из-за танцовщиков, изображавших сатиров в козлиных шкурах? Или это была «песнь на заклание жертвенного козла»?
33 Фемистий, Речи, XXVI, 316d.
34 Диоген Лаэрций, III, 56.
35 Феспид (или его современник) разделил хор из пятидесяти человек на четыре хора по двенадцать человек; оставшиеся двое могли превращаться в «немых» актеров.
36 На афинской агоре опознано уже более ста сооружений и обнаружено 180 тысяч различных предметов.
37 Изобретение еще одного жанра — Сатаровой драмы — приписывается Пратину из Флиунта (в Арголиде), участвовавшему в поэтическом состязании в Афинах в 499/496 г. до н. э. Помимо восемнадцати трагедий, за ним числилось тридцать две «Сатаровы драмы», в которых прежде расплывчатое представление обрело четкую драматическую форму. Миксантропичные сатиры — мифологические существа, дикие и неотесанные, с торчащими лошадиными ушами и хвостами (позднее им стали придавать козлиные атрибуты) часто мелькают на афинских вазах примерно с 520 г. до н. э. Благодаря сходству с Силеном — другим обладателем лошадиных ушей, считавшимся пестуном Диониса, — сатиров стали связывать с дионисийскими культами и празднествами. Предположение Аристотеля (Поэтика, 4) о том, что Сатарова драма послужила одной из предтеч трагедии, приемлема постольку, поскольку еще бесформенные зачатки сатировой драмы вполне могли оказаться среди многочисленных источников этого жанра.
38 Симонид (ок. 556–468 гг. до н. э.) сочинял разного рода стихи, но особую славу ему принесли эпиграммы и эпитафии, — в частности, та эпитафия, которой он почтил память воинов, павших в Марафонской битве (490 г. до н. э.). К тому времени он уже вернулся в Афины, из которых после убийства тирана Гиппарха (в 514 г. до н. э.) он перебрался в Фессалию, где обрел покровительство Скопаса из Краннона и Алевадов из Ларисы.
39 Геродот, V, 69 (с неодобрением) (перевод Г.А. Стратановского). Поллукс (Ономастикой, VIII, 10) считает, что это произошло в 507/506 г.
40 Солон явился «первым поборником народа» — Аристотель, Афинская полития, 28, 1; о жеребьевке — там же, 47, 1 и 8, 1. Относительно того, что выборы в гелиею путем жеребьевки — порядок, вероятно, появившийся после Солона, — см. примечание 25, выше. Невзирая на недавно возобновившиеся противные доводы и то обстоятельство, что жеребьевка была весьма древним обычаем (там же), — вполне вероятно, что и ее применение при назначении в архонты и на другие должности (после предварительной ярбкршц — см. текст) относится уже к послесолоновской эпохе: так, Аристотель (Политика, И, 1273b 40-1274а 2) противоречит самому себе (Афинская полития, 8, 1) (совершались и попытки увязать между собой эти два высказывания). В том же IV веке до н. э. Демосфен видел в Солоне родоначальника радикально-демократического движения, — споря с Исократом, которому Солон казался основателем умеренной демократии.
41 О Сократе — Ксенофонт, Воспоминания, I, 2, 9 и III, 9, 1. Аристотель (Политика, IV, 12, 12 сл., 1300а-Ъ) взвешивает сравнительные «демократические» свойства выборов и жеребьевки.
42 Там же, VI, 2, 11, 1319b. Но Клисфен, по-видимому, не нарушал введенной Солоном монополии на политическую власть двух высших цензовых сословий.
43 Аристотель, Афинская полития, 22, 1.
44 Там же, 20, 1.
45 В VIII веке до н. э. Эгина поддерживала мегарскую колонизацию (хотя впоследствии Мегары отобрали у Эгины Саламин — Глава III, раздел 5). Эгина была, единственным из греческих (не считая восточногреческих) держав, имевших собственное представительство в Навкратисе. Вполне возможно, что это она основала Атрию в Северо-Восточной Италии (Глава VI, раздел 4; Глава VIII, раздел 1). Эгинский гражданин Сострат был знаменитым корабельным мастером, аристократом и торговцем; его имя — или имя его тезки из того же семейства — было запечатлено в Грависках — порте Тарквиниев в Этрурии (Приложение 3, при-
мечание 59). Возможно, Эгина является источником одной важной группы керамики VII века до н. э., ранее считавшейся про-тоатгической, хотя такое мнение и оспаривалось.
46 Хотя Эгина во многом способствовала распространению аттической чернофигурной и краснофигурной керамики.
47 Пиндар, фрагмент 1 по изданию Бергка (4 по изданию Бека); Геродот, IV, 91.
48 Когда в 490 г. до н. э. угроза исполнилась, эгинцы воздержались от участия. Два года спустя они одержали верх над афинянами в морском сражении; примерно в ту же пору они возвели новую гавань — как в целях торговли, так и для защиты от Афин. Тем не менее они сражались и против Ксеркса I в 480 и 489 гг. до н. э. Лишь в 459 г. до н. э. афиняне наконец захватили Эгину и положили конец ее мо1уществу.
ЧАСТЬ III ПЕЛОПОННЕС
1 Согласно мифам, Геракл (едва ли за ним стоит какое-то историческое лицо) состоял в родстве с царем Аргоса Эврисфеем (своим гонителем). Возможно, культ героя пришел с Ближнего Востока и подвергся переосмыслению в VIII веке: именно с этого времени его изображения в греческом искусстве появляются все чаще. В VI веке до н. э. Геракл был изображен почти на каждой четвертой расписанной вазе.
2 Эпидавр стоял на скалистом холме на маленьком полуострове (Акте), в небольшом удалении от Саронического залива. Участвовал в Троянской войне: Илиада, И, 561. Предполагается, что вначале его населяли негреки-карийцы, а затем греки-ионийцы. Позже Эпидавр перешел во власть дорийских завоевателей, вторгшихся из Аргоса, — после чего, как принято считать, ионийские поселенцы бежали на Самос и колонизовали его. Жители Эпидав-ра выплачивали религиозную дань Аргосу, но начиная с VIII (?) века примкнули (возможно, по наущению Фидона Аргосского) к священному союзу (амфиктионии), сосредоточенному вокруг культа Посейдона на острове Калаврии. (Другими членами амфиктионии были Гермиона, Эгина, Афины, Прасии, Навплия и Орхо-мен — Страбон, VIII, 6, 14, 374.) Позже Эпидавр присоединил к своим владениям Периандр Коринфский. Считается, что его про-славленое святилище бога-целителя Асклепия, находившееся в десяти километрах от города (там каждые четыре года устраивались Панэллинские игры и конные ристания), и было местом зарождения его культа. Оно со временем вытеснило святилище, и празднества в честь отца Асклепия Аполлона (чтившегося здесь под местным именем Малоса, или Малета) на соседней горе Кинорти-он. Как показали раскопки, святилище это имело микенское происхождение, а в VII веке до н. э. было возрождено.
3 Геродот, IV, 152.
4 Аристотель, фрагмент 481 Rose; ср. Эфор (F.Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker, IIA, 70F 115 и 176), и Гераклид Понтий-ский: Орион, Этимологии.
5 Павсаний, VI, 22, 2.
6 Аристотель, Политика, V, 8, 4, 1310b (перевод С.А.Жебелева).
7 Павсаний, VIII, 50, 1; Дионисий Галикарнасский, IV, 16, 2.
8 Палатинская Антология, XIV, 73.
9 Братья Клеобис и Битон из Аргоса прославились тем, что сами впряглись в колесницу, чтобы доставить мать, жрицу Геры, к ар-гивскому Герейону, так как близились празднества богини, а их волы не прибыли вовремя. Благодарная мать обратилась к Гере с мольбой, дабы та ниспослала им величайшее блаженство, какое только возможно для смертных. Гера отозвалась на мольбу, и оба умерли в одночасье, заснув в храме. По словам Геродота (I, 31), Солон в беседе с лидийским царем Крезом причислил братьев к счастливейшим из смертных.
10 Павсаний, IV, 24, 4; 35, 2. Взамен Спарта предоставила навплий-цам (имевшим, по мнению Павсания, египетское происхождение) город Мофону в Мессении. Навплия некоторое время входила в состав Калаврийкой амфиктионии (примечание 3, выше).
11 Илиада, И, 570.
12 Из книги Cambridge Ancient History (III, 3, 2nd edn., pp. 160sq.) был взят следующий перечень коринфских колоний (даты заимствованы из литературных источников, А=древнейшие археологические данные): Амбракия (ок. 655–625 гг. до н. э.), Анакторий (совместно с Керкирой: А ок. 625–600 гг. до н. э.), Аполлония в Иллирии (ок. 600 г. до н. э., совместно с Керкирой), Керкира (733 г. до н. э. или 706 г. до н. э.), Левкада (ок. 655–625 гг. до н. э.), Потидея (ок. 625–585 гг. до н. э.), Сиракузы (733 г. до н. э.).
13 Страбон, VIII, 6, 20, 378 (перевод Г.А.Стратановского).
14 Плиний Старший, Естественная история, XXXV, 15 ел. (перевод ГА.Тароняна).
15 Ок. 625–620 гг. до н. э. — ранняя стадия, 590–575 гг. до н. э. — средняя, 575–560/540 г. — поздняя. Появление в Коринфе настоящего чернофигурного стиля относится к первой половине VII века до н. э..
16 Ср. Анл Геллий, Аттические ночи, I, 8, 3–6; в V веке до н. э. Лайда заламывала непомерно высокую цену (10 тысяч драхм).
17 Коринфская утварь была обнаружена и в одном храме в Ферме — культовом центре в глубине Этолии, где господствовало влияние Коринфа. Это святилище было построено на месте прежнего мега-рона (зала, или дома, превратившегося в святилище [?] и обнаруживавшего, в этой второй стадии, исключительно раннюю архи-
тектурную форму периптера, т. е., окружающих [деревянных] колонн) и относилось к 630–620 гг. до н. э., судя по терракотовым I метопам, аналогичным коринфской керамике. Укрупненный масштаб метопной росписи, встречающийся здесь впервые в гречес- I ком искусстве, позволил создавать тканевые узоры с большей свободой. Существование этих метоп и появление карниза свидетельствуют о зарождении нового дорического стиля. Похо- | жие фрагменты были найдены и в столице Этолии — Калидоне, прославившемся в мифах как место, где Геракл боролся с речным богом Ахелоем и где происходила охота на калидонского вепря, которого убил Мелеагр.
18 В Эпидамне большинство переселенцев составляли керкиряне (предположительно, изгои), но к ним присоединились и коринфяне (из их числа был и ойкист — основатель колонии) и про-! чие доряне (Фукидид, I, 24, 2).
19 Возможно, через ионийцев, так как историк V века до н. э. Дамаст Сигейский приписывал изобретение диеры ионийскому городу Эритрам (в книге: F.Jacoby, Fragmente der griechischen His-toriker, 5 F 6).
20 Фукидид, I, 13, 3. Если Аминокл посещал Самос в 704 г. до н. э., то корабли предназначались, наверное, для Лелантийской войны между Халкидой и Эретрией на Эвбее, в ходе которой Самос и, вероятно, Коринф поддерживали Халкиду.
21 Там же, 2.
22 Геродот, I, 23 (перевод Г.А.Стратановского). Суда (под этим словом) сообщает, будто Арион впервые стал декламировать стихи. Согласно другой легенде, он изобрел со(бс& (песнь в честь Аполлона); Солону же приписывалось утверждение, что Арион представил первую трагическую драму (Иоанн Диакон, Комментарий к Гермогену).
23 Геродот, III, 50, 52 сл.
* Уолтер Сэведж Лендор (1775–1864) — английский поэт (пцимеч. пер.).
24 Палатинская антология, IX, 151 (перевод Л.Блуменау).
25 Фукидид, I, 10 (перевод ГЛ Стратановского).
26 Тиртей, фрагмент 4 по изданию Уэста; Плутарх, Ликург, 6, 7. Вероятно, целью Ретры было учреждение прав для Народного собрания, противопоставленного Совету и царям. Плутархово жизнеописание Ликурга в целом рисует безоблачную и поэтически приукрашенную картину спартанского равенства.
27 Аристотель, Политика, II, 6, 20, 1271а (о военной основе всей системы — там же, 22, 1271Ь). Происхождение царского двоевластия в Спарте объяснялось по-разному. Возможно, оно возникло из более раннего разделения территории (например, между Спартой и Амиклами).
28 Уже ок. 750 г. до н. э. у Тимомаха, захватившего Амиклы, имелся бронзовый нагрудник — Аристотель, фрагмент 532 Rose.
29 Аристотель, Политика, И, 3, 10, 1265b (перевод С. А.Жебелева).
30 Геродот, VII, 104, 4.
31 Ср. Страбон, X, 4, 17, 481 сл., против Аристотеля (Политика, II, 7, 1, 127 lb). Геродот (I, 65) указывает, что спартанцы сами заявляли о критском происхождении своего строя.
32 Плутарх, Ликург, 18, 4.
33 Ксенофонт, Лакедемонская полития, 2, 13.
34 Феопомп, фрагмент 225; ср. Плутарх, Застольные беседы (Мора-лии, VIII), 35.
35 Плутарх, Ликург, 15, 3–5.
36 Плутарх, Лисандр, 17; Ликург, 9.
37 Аркадия была гористой областью в глубине Пелопоннеса. Ее жители (отчасти кочевники) занимались главным образом пастушеством и скотоводством. Наиболее благодатным краем области были ее восточные равнины и долина Алфея. Тегея, ведущий городской и религиозный центр Аркадии, гордилась своим мифологическим происхождением и упоминалась в «каталоге кораблей» Гомеровой Илиады. Когда именно селения, разбросанные по речной долине, слились в единый город, неясно. Тегея располагалась на пути от Коринфского залива к Спарте, и последняя стремилась утвердить над городом свою власть, чтобы обезопасить собственный доступ к перешейку. Кроме того, спартанцы зарились на тегейские пахотные земли. (Второй крупный город Аркадии — Мантинея — образовался
ок. 500 г. до н. э. путем слияния пяти одиночных деревень.)
38 Со временем ряд двусторонних договоров сменился многосторонним соглашением, образцом для которого, возможно, послужили в некоторой степени взаимные обязательства, ранее сложившиеся между спартиатами и периэками.
39 Геродот, VI, 84.
40 Гомер, Илиада, XXIII, 299.
41 По другому преданию, Полиб был царем Коринфа. О нем также рассказывали в Аргосе и Тенее (в Арголиде) и в Беотии.
42 Поллукс, Ономастикой, III, 83.
43 Аристотель, Политика, V, 9, 21, 1315b.
44 Геродот, V, 68.
45 Там же, 67.
46 Фемистий, Речи, XXVIIa, 337.
ШШШкЛШАГ
47 Суда, под словами Арион и Ούδν πρό του Διονύσου [ «Ничего кроме Диониса»]; возможно, среди предтеч комедии были шествия си-кионских «фаллоносцев» (φαλλοφόροι).
48 Плиний Старший, Естественная история, XXXVI, 9 (перевод Г.А.Тароняна); ср. Павсаний, II, 22.
49 Плиний Старший, Естественная история, XXXV, 15.
50 Плутарх, Греческие вопросы (Моралии, IV), 17, 295Ь.
51 Фукидид, VI, 4, 1.
52 Аристотель, Политика, V, 4, 5, 1305а (перевод С.А.Жебелева).
53 Плутарх, Греческие вопросы (Моралии, IV), 18d, 295. Когда произошли различные потрясения, описанные Аристотелем (Политика, IV, 12, 10, 1300а и V, 4, 3, 1304b), остается неясным.
54 Аристотель, Поэтика, 3, 1448а (перевод В.Г.Аппельрота); ср. Эк-фантид, фрагмент 2.
55 Паросская хроника (Marmor Parium) (F. Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker, 239), 39.
56 Афиней, Пир мудрецов, XTV, 659а-с.
57 Китор (север Малой Азии), Каллатис (западное побережье Черного моря), Херсонес (Херсонес Таврический).
58 Ядро Элиды составляла Полая Элида, лежавшая в бассейне реки Пеней. По преданию, эту землю населяли доряне из Этолии. Правившая здесь олигархия не играла важной роли в греческой политике (первый город в Элиде был основан лишь в 471 г.), но вывела колонии — Бухетий на побережье Амбракийского залива (ок. 700 г. до н. э.) и Эпир (660-е гг. до н. э.).
59 Пиндар, Олимпийские песни, 2.3; 3, 11; 6.68; 10.25.
60 Страбон, VIII, 3, 30, 354.
ЧАСТЬ IV
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И СЕВЕРНАЯ ГРЕЦИЯ
1 Страбон, X, 1, 10, 447 сл.
2 Там же, IX, 2, 6, 403.
3 Аристотель, Политика, IV, 3, 2, 1289Ь. Согласно Страбону (X, 1, 10, 447), халкидские граждане были обязаны владеть определенным количеством имущества.
4 Палатинская антология, XIV, 73.
5 F.Cairns, Zeitschrift fi>r Papyrologie und Epigraphik, LIV, 1984, pp. 145 sqq. Главный сановник в Опунте (Локрида) тоже звался dpx^ (H.Roehl, Inscriptiones Graecae Antiquissimae, 132).
6 Плутарх, Трактат о любви (Моралии IX), 761. (Аристотель, фрагмент 98); Афиней, Пир мудрецов, XIII, 601С.
7 Фокида, заключенная между Беотией и Фессалией, состояла из долины Кефиса (не путать с одноименной рекой в Аттике) на севере и Крисейской равнины у Коринфского залива — на юге. Согласно Гомеру (Илиада, II, 517 сл.), фокидяне участвовали в Троянской войне. Считалось, что они имели эолийское происхождение, хотя их диалект был близок дорийскому. Первоначально Фокида владела весьма обширными землями, но вторжения беотийцев и фессалийцев значительно их уменьшили. Фокида оставалась главным образом пастушеским краем, а ее городские поселения не перерастали в настоящие полисы — города-государства. Своим значением область была обязана Дельфам, которые прежде ей подчинялись.
8 Гомеровские гимны, III, 356–362 (перевод Е.Г.Рабинович).
9 Там же, 440–442 (перевод Е.Г.Рабинович).
10 Согласно одной теории, Дельфы сыграли значительную роль в становлении греческого алфавита (возможно, в связи с «дельфийским оракулом» из рассказов о спартанской Великой ретре — Глава III, раздел 3 и примечание 26).
11 Гомер, Илиада, IX, 404 сл.
12 Гомеровские гимны, III, 296 (перевод Е.Г.Рабинович).
13 Геродот, V, 63.
14 Там же, VI, 77.
15 Первоначально эллинами (Έλληνες) звались жители Эллады (Έλλύς), небольшое племя во Фтиотиде (Южная Фессалия; Илиада, И, 683 сл.). Позднее племя переселилось к югу, но нам неизвестно, каким образом этот этноним стал употребляться для обозначения всех греков вообще (вероятно, к VIII веку до н. э.). Фукидид (I, 3) сообщает, что в эпоху Гомера «эллины еще <…> не объединились под одним именем» (перевод ГАСтратановско-го). Гомеру было знакомо наименование «панэллины», но лишь как расширенное обозначение фессалийского племени — Илиада, И, 530; ср. Гесиод, Труды и дни, 528.
16 Гомер, Илиада, II, 711 сл. Феры были известны в мифологии как царство Адмета (мужа Алкестиды), а Иолк — как отчизна Ясона, вождя аргонавтов.
17 Аристотель, Политика, И, 6, 2 сл., 1269а-Ь.
18 Аристотель (там же, V, 5, 5, 1305b), впрочем, указывает, что верховных сановников (πολιτοφύλακες) избирал народ.
19 Геродот, V, 63. У отца Гиппия Писистрата фессалийские всадники служили в наемниках (Глава И, раздел 4).
20 Плутарх, Как юноше должно читать поэтов (Моралии I), 15d. Демосфен говорил, что фессалийцам нельзя доверять, а афиняне почитали их ленивыми сумасбродами.
2* Плутарх, Изречения царей и императоров (Моралии, III), 193с.
22 Гомер, Илиада, II, 494–510.
23 Фукидид, I, 12 (первое поселение — до Троянской войны).
24 Но Геродот утверждает (V, 59), что видел в храме треножники с надписями «кадмейскими» (микенскими?) письменами (ср. примечание 22).
25 Согласно переданному Павсанием рассказу (IX, 31, 4), принадлежность обеих поэм одному автору еще в древности подвергалась сомнению.
26 Гесиод, Труды и дни, 639 сл. (перевод В.В.Вересаева).
27 Там же, 654 сл.
28 Фукидид, III, 96. В Аскре Гесиода чтили как местного героя, пока поселение не разрушили Феспии, после чего аскрейские беженцы перенесли его останки в Орхомен (см. следующее примечание).
29 Павсаний, IX, 38, 3.
30 Гесиод, Труды и дни, 77–78, 82 (перевод В.В.Вересаева); ср. Теогония, 590–612.
31 Там же, 207 (перевод В.В.Вересаева).
32 Там же, 220 сл. (перевод В.В.Вересаева).
33 Гесиод, Теогония, 27–28.
34 К 479 г. появились беотархи — Геродот, IX, 15.
33 Гомер (Илиада, IX, 381) упоминает о богатствах Орхомена, помнившего о своем величии в эпоху бронзы. Страбон (VIII, 6, 14, 374) неожиданно называет Орхомен в числе членов Калаврийской амфиктионии в Арголиде (Глава III, примечание 2). Возможно, вступление в нее произошло в VIII веке до н. э. и явилось анти-фиванским шагом; может быть, оно объяснялось присутствием в Орхомене афинских переселенцев (а Афины входили в эту амфик-тионию).
36 L.H.Jeffery, The Local Scripts of Archaic Greece, p. 93, no. 11. Тремя другими городами, поименованными на союзных монетах, были Микалесс, Фары и Акрефия (до того чеканившие собственные деньги).
37 Аристотель, Политика, II, 9.6, 1274а.
38 Гиппарх принес посвятительные дары Аполлону Птойскому в
Птойон, святилище близ Акрефии (примечание 36, выше). В храме были найдены прекрасные куросы. Сам храм относится примерно к той же эпохе и, вероятно, был возведен по почину Писисгратидов.
39 Ксенофонт, Лакедемонская полития, 2, 12 сл.; Пир, 8, 32 сл.; Платон, Пир, 182а-Ь (цитата в переводе С.КАпта).
ЧАСТЬ V
ВОСТОЧНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭГЕИДА
1 Геродот, I, 142 (перевод ГАСтратановского).
2 Существовали и иные предания, называвшие основателями колоний сыновей афинского царя Кодра — Нелея и Андрокла (см. Милет, Эфес).
3 Псевдо-Геродот, Жизнеописание Гомера, 23 сл.; ср. Суда, под словом Гомер (Ь). Рассказывали, что умер Гомер на острове Иос.
4 Семонид, фрагмент 29.
5 Гомеровские гимны, III, 172 (перевод Е.Г.Рабинович).
6 Гомер, Одиссея, VIII, 64 (Демодок); возможно, его слепота и породила мнение, что сам Гомер был слепцом. Песнопевец Фемий (вместе с глашатаем Медонтом) был пощажен Телемахом при поголовном истреблении женихов (Одиссея, XXII, 356).
7 Гомер, Илиада, II, 493–760.
8 Об этом говорится, например, в утраченных Мирмидонянах Эсхила (ср. Платон, Пир, 180а).
13 Схолии к Птицам Аристофана, 574.
14 Фукидид, VIII, 40, 2.
15 Там же, 24,4. Уже приблизительно с 494 г. на Хиосе имелась школа (Геродот, VI, 27); на острове Астипалея школа имелась с 496 г. (Павсаний, VI, 9, 6).
16 C.W.Fomara, Archaic Times to the End of the Peloponnesian War, 2nd edn (1978), p.19, no.19.
17 Карийцы говорили на неиндоевропейском языке, жили преимущественно в селениях, разбросанных по вершинам холмов, и пасли скот. Власть принадлежала местным династиям и сосредоточивалась вокруг святилищ. Крупнейшим религиозным очагом была Миласа, где находилось святилище Зевса Кария. Иногда дорийцев пугали с лелегами; сами же они считали себя коренными жителями, хотя, согласно греческой традиции, перебрались сюда с островов. О дорийцах шла дурная слава док о морских разбойниках, но они служили и наемниками, особенно в Египте. Попав в подчинение к Крезу Лидийскому, а затем к персам, они примкнули к ионийскому восстанию (499–494 гг. до н. э.) против персидского владычества и перед окончательным поражением мятежа устроили врагам засаду.
18 По-видимому, запасы британского олова к началу исторических времен уже истощились. Греческие полисы могли не только ввозить олово с запада (ссылка в примечании 51), но и из ближневосточных земель, а также добывать в собственных пределах, хотя неясно, в каком количестве.
19 О залежах меди на юге Испании см.: Плиний Старший, Естественная история, XXXIV, 4.
20 Геродот, IV, 152. Очевидно, предшественником Колея был некий Мидакрит, вероятно, родом из Фокеи (см. раздел 3 и примечание 51).
21 Его упоминание о Гомере (примечание 4, выше) — самая ранняя ссылка на литературный источник в сохранившихся греческих сочинениях.
Высказывалось также предположение, что Рэк мог участвовать и в строительстве предыдущего храма.
23 Диодор Сицилийский, I, 98, 7–9.
24 Асий, у Афинея в Пире мудрецов, XII, 525е-Г (из Дуриса).
25 Геродот, III, 122 (перевод Г.АСтратановского)
26 Там же, V, 28.
27 Гомер, Илиада, II, 868.
28 Главнейшими милетскими колониями являются следующие города. Геллеспонт и Херсонес Фракийский: Абидос (ок. 680–652 гг. до н. э.), Кардия (с Клазоменами), Лимны, Скепсис. Пропонтида: Киос (627 г. до н. э.), Кизик (756, 659 гг. до н. э. — см. Главу VIII, раздел 2), Милетополь, Песос, Парий (709 г. до н. э., с Паросом и Эритрами), Приап, Проконнес. Причерноморье (см. Главу VIII, раздел 3): Аполлония Понтийская (ок. 610 г. до н. э.); Одесс (А: ок. 600–575 гг. до н. э.), Томы (А: ок. 500–475 гг. до н. э.); Кепы (А: ок. 575–550 гг. до н. э.: арка), Гермонасса (?) (А: ок. 600–575 гг. до н. э.: арка), Мирмекий (или из Пан-тикапея, А: ок. 600–575 гг. до н. э.), Нимфей (?) (А: ок. 600 г. до н. э.), Ольвия (647 г. до н. э.), Пантикапей (А: ок. 600 г. до н. э.), Синдская Гавань (ок. 600 г. до н. э.), Танаис (?) (А: ок. 625–600 гг. до н. э.), Феодосия (А: ок. 575–600 гг. до н. э.); Амис (ок. 564 г. до н. э., с Фокеей), Синопа (до 716 г., 631 г. до н. э.), Тией; (Фасис). Ссылка на источник, откуда почерпнут этот перечень, содержится в примечании 12 к Главе III (и здесь А=древнейшие археологические данные). Даты, относящиеся к VIII веку до н. э., порой неточны, или относятся к торговой деятельности, предшествовавшей выведению собственно колоний.
29 Такое прозвание члены совета получили оттого, что проводили заседания на борту корабля, выходя в море (Плутарх, Греческие вопросы [Моралии. IV], 32, 298с).
30 Аристотель, Политика, III, 8, 3, 1284а, против Геродота,V, 92. В Милете изготовляли керамику, стараясь превзойти коринфскую утварь.
31 Колофон находился в тринадцати километрах от моря, на краю плодородной равнины севернее Милета, между Смирной и Эфесом. Согласно поэту и музыканту Мимнерму (раздел 3), который сам происходил из Колофона (хотя его семья поселилась в Смирне), его основателями были выходцы из мессенского Пилоса (фрагмент 10 Bergk). Колофонцам принадлежало соседнее святилище Аполлона Кларосского; они основали Мирлею (позднее Апамея) в Вифинии и Сирис в Южной Италии (ок. 700 г. до н. э. или чуть позже). В VII веке до н. э. одним из знаменитейших флейтистов стал Полимнесг Колофонский; он создал новый суровый стиль. Считается, что в Колофоне было изобретено веретено. Но больше всего этот город, где правили богачи — «благодаря тому, что они составляли большинство» (Аристотель, Политика, IV, 3, 8, 1298b), — славился любовью жителей к роскоши. Но в более древние времена и у них был крепкий флот и мощная конница. Правда, это не спасло их от лидийского, а затем персидского господства.
32 Аристотель, О небе, II, 3, 294а 28; Метафизика, I, 3, 983Ь 6.
33 Высказывались сомнения в том, что Фалес действительно пришел к такому выводу.
34 Аристотель, О душе, А 5, 411а, 7.
35 Симпликий, Комментарии к Физике Аристотеля, 24, 17 (перевод А.В.Лебедева).
36 Теофраст у Симпликия, там же, 149, 32; Ипполит, Опровержение всех ересей, I, 7, 1. Здесь чувствуется некоторое влияние Фалеса и Анаксимандра. Относительно предполагаемого, хотя спорного, скифского влияния — см. примечание 53 к Приложениям.
37 Гекатей, Истории, фрагмент 1 (перевод А.В.Лебедева).
38 Геродот, И, 21 сл.; IV, 36.
39 Там же, V, 97 (перевод ГА.Стратановского).
40 В древности магнеты — выходцы из Восточной Фессалии — основали Магнесию возле горы Сипил, на пересечении важных дорог в долине Герма.
41 Гераклит, фрагмент 101 по изданию Дильса — Кранца (далее сокр. ДК; здесь и далее перевод цитат из Гераклита А.В.Лебедева).
42 Он же, фрагмент 12 ДК (Платон, Кратил, 402а).
43 Он же, фрагмент 32 ДК.
44 Он же, фрагменты 118 (о «сухой душе»), 114 и 44 ДК.
45 Он же, фрагмент 40 ДК.
46 Рассказывали, будто вначале Гомер носил имя Мелесигн — в честь реки Мелан.
47 Ранее Смирна разрушалась киммерийцами (примечание 3 к Приложениям).
48 Страбон, XIV, I, 37, 646. В IV веке до н. э. город был возрожден на другом месте: «Новая Смирна» переместилась на восемь километров к югу.
49 Возможно, фокеяне установили добрые отношения с халкидяна-ми, контролировавшими пролив.
50 Геродот, I, 163 (перевод ГАСтратановского).
51 Плиний Старший, Естественная история, VII, 197. Само имя «Мидакрит» означает «признанный Мидасом», что указывает на связь с Фригией.
52 Приводимое Страбоном (XIII, I, 3, 582) предание о том, что эолийская колонизация (сперва «при Оресте», сыне Агамемнона) происходила за четыре поколения до ионийского переселения, — едва ли приемлемо; Страбон безусловно прав, добавляя, что допустимы «и более длительные промежутки времени» (перевод Г.А.Стратановского). Мисия была областью на северо-западе Малой Азии, границы которой определялись по-разному. Мисий-цы — негреческий народ — выступают в Илиаде союзниками троянцев. (Считалось к тому же, что своим богатством Троя была обязана золоту, серебру и свинцу, а также их обильным сельскохозяйственным запасам мисийцев). Страбон (XII, 3, 541) полагал, что они произошли из Фракии, а говорили на языке, представлявшем собой смешение фригийского и лидийского наречий. В VI веке Мисия попала под власть сначала Лидии, а затем Персии.
33 По преданию, Киму основала амазонка, носившая такое имя. Она располагалась на паре холмов над двумя потоками, между устьями Каика и Герма. Один из царей Кимы, чье имя — Агамемнон — хранило память о событиях Илиады, взял в жены дочь фригийского царя Мидаса. Отец поэта Гесиода, переселившийся в VIII веке до н. э. в Беотию, происходил как раз из Кимы. Возможно, ки-мейцы основали Кебрен в Троаде и Сиду в Памфилии (юг Малой Азии); кроме того, как рассказывали, они приняли участие в основании тридцати других поселений. Они поощряли торговлю, не взимая пошлин с заходивших в гавань кораблей, и потому прочие греки считали их глупцами, не годными к морскому делу. Тем не менее при персах они выслали свои корабли для европейского похода Дария I (513–512 гг. до н. э.).
^ Должно быть, его инструментом был βάρβιτος — разновидность лиры с длинными струнами, а следовательно, с более низким звуком и глубоким тоном, чем у кифары (κιθύρα) и лиры (λύρα).
55 Алкей, фрагмент 332 по изданию Лобеля — Пейджа (далее сокр. ЛП).
56 Он же, фрагмент 428 ЛП.
57 Гораций, Оды, I, XXXII, 5, И сл.
58 Сапфо, фрагменты 2, 55, 94, 150. По-видимому, главой соперничавшего кружка была не любимая ею Андромеда (фрагмент 131); а также Горго.
59 Алкей, фрагменты 130, 132 ЛП. Если верить Гомеру (Илиада, IX, 129 сл.), лесбосские женщины ценились как особо лакомая военная добыча.
60 Сапфо, фрагменты 16, 49, 94, 96 ЛП.
61 Возможно, Наксосу также принадлежало ведущее место в обработке драгоценных камней; см. примечание 54 к Главе I.
** См., например: Цицерон, Оратор, 4; Квинтилиан, Воспитание оратора, X, 1, 60, и т. д. Другие авторы, более аристократической закалки, как Гераклит, Пиндар и Критий, не соглашались с такой оценкой.
63 Архилох, фрагмент 1 (перевод В.В.Вересаева).
64 M.Treu, Archilochus (1959). Другим кикладским поэтом был Фе-рекид Сиросский {ок. 550 г. до н. э.), автор мифической космогонии, предвосхищавшей начала физики и отражавшей интерес к этике. Семонид «Аморгский» в действительности был родом с Самоса (раздел 1).
65 Фукидид, I, 8.
66 Схолии к Немейским одам Пиндара, И, I.
67 От древнейших времен на Делосе были также унаследованы культы Ания, Илифии, Гекаты и Бризо.
68 Плиний Старший, Естественная история, XXXTV, 3, 9.
69 Геродот, I, 64, 2. Выкопанные трупы перезахоронили на Ренее.
ЧАСТЬ VI ЮГ И ВОСТОК
1 На месте Карфи ок. 1100—900 гг. до н. э. туземными критянами, по-видимому, правили микенские пришельцы, составлявшие меньшинство. В Като-Симе, с минойской по римскую эпоху, непрерывно существовал культовый центр.
2 Гомер, Илиада, II, 649; Одиссея, XIX, 174: ахеяне, «первоплеменные» критяне, кидонийцы, доряне, пеласги.
2 Гомер, Одиссея, XIV, 232–234.
4 Платон, Законы, VIII, 836Ь.
5 Тимей, фрагмент 104; Эфор, фрагмент 1; Эхемен, Κρητικύ, фрагмент 1 (C.Mtlller, Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, 103); Аристотель, Политика, II, 7, 5, 1272а.
6 Кносс был вотчиной Идоменея, слывшего внуком Миноса.
7 Псевдо-Скимн, 580 сл. Утверждение Страбона о том, что Кносс основал Брундизий на юго-востоке Италии (VI, 3, 6, 282), должно быть, — пустой вымысел.
8 Считалось также, что дактили обитали на другой горе Ида, что на северо-западе Малой Азии.
9 Куретам, существам минойского происхождения, приписывалось изобретение критских акробатических танцев. Однако их нередко отождествляли с корибантами.
10 Одиссей, сочиняя о себе лживый рассказ, выдает себя за критянина (см. примечание 3). Ср. Плутарх, Лисандр, 20; Эмилий Павел, 23.
11 L.H.Jeffrey and A.Morpuigo Davies, Kadmos, IX, 1970, pp. 118 sqq.; Геродот, III, 67; V, 74, 1.
12 Павсаний, II, 15, 1 (перевод С.П.Кондратьева).
13 Диодор Сицилийский, IV, 30 сл.; ср. словарь Суда, под словом Δαιδύλου ποιήματα.
14 Плиний Старший, XXXVI, 9 (перевод Г.А.Тароняна).
15 Павсаний, И, 15, 1.
16 Этот небольшой храм (представляющий попытку придать монументальности старым формам) был выстроен над жертвенной ямой и отчасти сложен из обтесанного камня. Он датируется столетием позже, чем храм в Дрере.
17 Аристотель, Политика, II, 9, 5, 1274а («Фалет»).
18 Inscriptiones Creticae, IV, 72; переводы на англ, в книге: C.W.For-nara, Archaic Times to the End of the Peloponnesian War, 2nd edn, 1983, pp. 86 sqq., no. 80.
19 R.Meiggs and D.M.Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions to the End of the Fifth Century BC, pp. 2f., no.2; C.W.Fomara, op. cit., p. 11, no. 11.
20 M.L.West, Journal of Hellenic Studies, LXXXV, 1965, pp. 149 f. (c оригинала III века до н. э.). Эпитет «Диктейский» до того уже встречался на одной из микенских табличек из Кносса.
21 ок. 690/688 г. до н. э. критяне, совместно с родосцами, основали Гелу на Сицилии.
22 С другой стороны, этеокипрский язык не расшифрован до сих пор, хотя надписи на нем имеются (ср. более ранний кипро-ми-нойский язык).
23 Перевод надписи имеется в книге: Cambridge Ancient History, III, 3, 2nd edn, 1982, pp. 57, 59.
24 Геродот, V, ИЗ; Страбон, XIV, 6, 3, 683.
25 R.Meiggs and D.M.Lewis, op. cit., pp. 5sqq., no. 5; C.W.Fomara, op. cit., pp. 18sqq., no. 18. Надпись содержала соглашение между колонистами и терянами, оставшимися на родине.
26 Геродот, IV, 151 сл.
27 Там же, 160.
28
Возможно, эти периэки были либо выходцами с Теры, жившими и на острове в зоне периэков, либо потомками колонистов, осваивавших ливийские земли.
29 Геродот, IV, 201 сл.
30 Например, данные раскопок в Тире, и черепки протогеометри-ческой эпохи из Калде.
31 Находки в Лефканди на Эвбее заставляют предположить, что эвбейские рынки в северной Сирии существовали и прежде Аль-Мины.
32 Относительно cpoivixeia, см. выше, примечание 11. Легенда о том, что письменность в Грецию занес Кадм из Финикии (Геродот, V, 58), отражает факт такого заимствования алфвавитного письма (хотя и помещает его, анахроничным образом, в далекое мифологическое прошлое).
33 R.Meiggs and D.M.Lewis, op. cit., p. 8, no. 7.
34 Геродот, II, 178. Большое количество ваз, найденных в Навкра-тисе и ранее считавшихся местной работой, на деле происходит с Хиоса. Среди других находок немало сосудов родосского происхождения или типа. В Навкратисе также существовала кипрская торговая фактория.
35 Вакхилид, фрагмент 20b Snell, строки 14–16.
36 Геродот, И, 135 (перевод Г.А.Стратановского).
37 Там же, 177.
38 Относительно Феодора, см. Главу V, примечание 23. В Навкратисе работал кипрский ваятель Сикон, а неким купцом из На-вкратиса была приобретена на Кипре статуэтка. Полихарм, Об Афродите; F.Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker, 640F.
«Египтянин» Филокл, который, согласно одному преданию, изобрел линейный рисунок (Плиний Старший, XXXV, 16), возможно, на деле был греком из Навкратиса.
ЧАСТЬ VII ЗАПАД
1 А в четырех километрах к востоку, в Кастильоне, существовала деревня эпохи железного века.
2 Вероятно, для греков был закрыт прямой доступ к этрусским копям.
3 В окрестностях Карфагена попадаются топонимы Эвбея и Пите-куссы.
4 Фукидид, VI, 4, 5.
5 Вергилий, Энеида, VI, 9-13.
6 Более позднее нападение этрусков на Кумы, в 474 г. до н. э., было отражено сиракузянами.
7 Регий (ныне Реджо-ди-Калабрия) стоял на отлогом плато, простиравшемся между двумя горными кряжами, откуда открывался вид на гавань возле устья реки Апсия. Помимо халкидян (под началом Антимнеста, который, согласно историку Антиоху [F.Jacoby, Fragmente der griechischen Historiker, 555 F 9], был отряжен жителями Занклы [Мессаны]), известную роль в основании колонии сыграли мессенцы, бежавшие из родных краев после первой войны со спартанцами (ок. 743–720 гг. до н. э.?). «Законодателем» в Регии был Андродамант. В VI веке здесь родился лирический поэт Ивик, который позже покинул родной город — будто бы из-за того, что не пожелал стать в нем диктатором, — и перебрался на Самос, ок. 540 г. до н. э. в Регий явились новые поселенцы — на сей раз, из Фокеи, которая впоследствии воспользовалась им как «трамплином» для выведения собственной колонии, Элеи. Вероятно, вазы из Регия, прежде получившие условное название «халкидских» (ок. 550–510 гг. до н. э.), были выполнены в местных гончарных мастерских. С 494 г. по 476 г. до н. э. Регием правил диктатор Анаксил.
8 Тарент (Ttfpou;, Tarentum, ныне Таранто), расположенный по северную сторону названного в честь него залива (напротив Сибариса), имел долгую предысторию, а свое греческое название получил от имени мифического основателя местного догреческого поселения мессапов (иллирийское племя); рассказывали, что отец героя, бог Посейдон, спас сына во время кораблекрушения, выслав ему на помощь дельфина. Колонисты, прибывшие под началом Фаланта, согласно Евсевию, в 506 г. до н. э. (перебравшись в Тарент из прежнего поселения в одиннадцати километрах к юго-западу), были выходцами из Спарты, известными под прозвищем партени-ев, то есть «ублюдков», — вероятно, потому, что это были незаконные дети спартанок, рожденные ими от илотов в отсутствие мужей-воинов, — хотя история эта сомнительна. Имелись среди населения и критяне. Город жил за счет продажи шерсти, пурпурной краски улитки — murex, и даров полей. Правитель конца VI века Аристофилид облекся царской властью на спартанский манер. Вскоре после 500 г. до н. э. тарентийцы начали притеснять и изгонять соседние мессапские племена (в пещерном святилище Таотор [Тутор) близ Рока-ди-Гуалтьери обнаружились надписи на их языке, принадлежавшем к италийской группе).
9 Страбон, VI, I, 13, 263. Относительно Гелики, см. следующее примечание.
10 Название «Ахайя» закрепилось именно за этой областью, хотя у Гомера «ахейцами» именовались все греки, принимавшие участие в Троянской войне, и в частности Ахилловы мирмццоняне (ср. название Фтиотиды Ахейской в Юго-Восточной Фессалии). Ахайя в северном Пелопоннесе представляла собой вольный союз, преимущественно религиозного характера, двенадцати небольших полисов, объединившихся вокруг святилища Посейдона Геликония в Гелике.
11 Аристотель, Политика, V, 2, 10, 1303а: считалось, что, изгнав этих трезенцев, ахейские поселенцы навлекли на город проклятие. В мифологии Трезен упоминается как город, где прошел очищение Орест, и где родился афинский герой Тесей.
11
Страбон, VI, I, 13, 263. По другой версии, этими сердеями были сардинцы.
13 Геродот (VI, 127, 1) отмечал исключительное богатство Гиппократа, сына Сминдирида. Скудость спартанского быта повергала заезжих сибаритов в ужас.
14 Метапонт был основан в конце VIII века до н. э. ахейцами во главе с Левкиппом (или выходцами из Пилоса) в незащищенной местности (возможно, прежде уже заселенную другими греческими пришельцами) между устьями двух рек — Брадана и Касвента. Сибариты намеревались превратить Метапонт в своего рода «буфер», который ограждал бы их от Тарента. Приблизительно с 550 г. до н. э. здесь чеканилась монета с изображением колосков, что указывало на плодородие окрестных пахотных земель. У Метал онта имелась собственная сокровищница в Дельфах. В конце века он стал последним пристанищем и местом погребения Пифагора (к дому которого позднее совершал «паломничество» Цицерон — О пределах добра и зла, V, 2, 4).
15 Третьим храмом в Посейдонии, примыкавшим к «базилике», был так называемый «храм Посейдона» (в действительности посвященный Зевсу или Гере), относившийся примерно к 450 г. (?). Благодаря стенным росписям начала V века в Посейдонии (в частности, изображению ныряльщика) напрашиваются параллели с Тарквиниями в Этрурии.
16 Страбон, VI, I, 13, 263.
17 Геродот, VI, 21.
18 Виднейшими из них были Филолай из Кротона или Тарента (родился ок. 470 г.) и Архит из Тарента (начало IV века).
19 Аристотель, Метафизика, I, 6, 986Ь, 3.
Отсюда повышенное внимание Платона к геометрии. Возможно, что Пифагор действительно открыл «теорему Пифагора» — правда, не в том знакомом нам виде, который придал ей Евклад (ок. 300 г. до н. э.) в Александрии.
21 Платон, Государство у X, 617Ь.
22 Аристотель, Метафизика, I, 986а 7.
23 Ксенофан, фрагмент 7. Ксенофан издевался и над Геркалитом — Диоген Лаэрций, IX, 1.
24 Аристотель, фрагмент 191 Rose. Рассказывали, что Пифагор имел домашним рабом фракийца Залмоксида и был связан с «гиперборейцем» Абарисом; см. также Приложение 2, примечание 40.
25 Диоген Лаэрций, VIII, 8 (из Иона Хиосского, фрагмент 12).
26 Помпей Трог, Historiae Philippicae, Epitome, XX, 4, 14 (Юстин) (перевод С.Борзецовского).
27 Полибий, И, 39, 1. Эти братства проникли в Регий и Тарент. Воздержание от мясной пищи и жертвоприношений не снискало им общего признания.
28 Страбон, VI, I, 12, 263.
29 Цицерон, О старости, 9, 27; Гален, Об измерении пульса, II (Galeni Opera omnia, ed. Klihn, VIII, p.843).
30 Страбон, VI, I, 8, 260.
31 Считалось, что Харонд был странствующим законодателем, обеспечившим законами сразу несколько городов Сицилии и Южной Италии. Достойны внимания его указы, предусматривавшие наказание за лжесвидетельство.
32 Элимийцы: язык неизвестен; считалось, что они бежали на запад, спасшись из павшей Трои. Сиканы: язык также неизвестен; считалось, что их прогнали из родных мест иберы. Сикулы: язык принадлежал к индоевропейской семье; считалось, что, перебравшись из Италии на Сицилию, они вытеснили из ее восточной части сиканов.
33 Относительно предположительного времени раннего заселения Сицилии финикийцами, см.: Фукидид, VI. 2, 6. Карфаген стоял на полуострове всего в сто двадцать один километр шириной, вдававшемся в море у Тунисского залива, в узкой части центрального Средиземноморья. К городу подходила просторная укрытая гавань (укрепленная еще и искусственными сооружениями), где легко было вести добычу улиток-багрянок (murices). Этот «Новый Город» (Карт-Хадашт) — важнейшая из финикийских колоний (Приложение 2) — был основан переселенцами из Тира, как принято считать, в 814 г. до н. э., — хотя нередко историки предпочитают указывать другую дату, на два поколения позже. К эпохе его основания восходит легенда о царице Дидоне, по-разному изложенная у Вергилия и у других античных авторов. В VII веке до н. э. Карфаген обрел независимость от Тира и мало-помалу подчинил себе племена, населявшие Северную Африку. Находки керамики наводят на мысль о том, что город сыграл значительную роль в выведении финикийской колонии Мотии и, вероятно, участвовал в основании других финикийских поселений в западной Сицилии, ок. 535 г. до н. э. Карфаген, вместе с этрусским Цере, разбили флот финикийских колонистов из Алалии (Корсика) в морском сражении, названном по имени этого города; позднее карфагеняне воевали с греками, осевшими на Сардинии, в Испании и на Сицилии.
34 Сицилийский Наксос вырос на издревле заселенном месте, на низменном полуострове, образованном вулканической лавой, возле устья реки севернее горы Этны. Название он получил в честь эгейского острова Наксоса, выступавшего союзником главного города-колониста — эвбейской Халкиды. Ойкист (предводитель поселенцев), халкидянин Феокл, воздвиг здесь алтарь Аполлону Архегету — Основателю (которому впоследствии приносили жертвы сицилийские путешественники, прежде чем плыть в Грецию). Спустя пять лет Феокл покинул Наксос, чтобы основать Леонтины — другую колонию на Сицилии, дальше к югу; его соотечественник Эварх между тем основал Катану.
35 Геродот, VII, 155.
36 В отличие от халкидских колонистов, которые чаще всего сохраняли добрососедские отношения с коренными обитателями.
37 Недавно были обнаружены и развалины большого ионического храма, относящегося ко второй половине VI века.
38 Аристотель, Поэтика, V, 1448а (перевод В.Г.Аппельрота).
39 Платон, Теэтет, 152е.
40 Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что действа Эпихарма тоже разыгрывались в театре.
41 Эпихарм, Персы, Вакханки, Филоктет.
42 Аристотель, Поэтика, V, 1449Ь.
43 Эпихарм, фрагмент 1 (вероятно, подлинный; Платон [Теэтет, 1600] видел в нем одного из основателей гераклитовой традиции); Плутарх, Нума Помпилий, 8.
44 Фукидид, VI, 4, 5.
45 Там же, 5, 1.
46 Страбон, VI, 2, 6, 272.
47 Солин, II, II.
48 Погребен же Стесихор был в Катане, где в честь него были названы ворота.
49 Квинтилиан, Воспитание оратора, X, 1, 62. Однако стесихоровы подражания Гомеру натянуты и излишне многословны.
50 Диоген Лаэрций, IX, 18 (здесь и далее перевод цитат из Ксенофана А.ВЛебедева).
51 Там же.
52 Климент Александрийский, Строматы, I, 64, 2.
53 Ксенофан, фрагмент 1.
54 Он же, фрагменты 16, 15.
55 Он же, фрагменты 26, 25.
56 Он же, фрагмент 23.
57 Он же, фрагмент 170.
58 Платон, Софист, 242d; Аристотель, Метафизика, I, 5, 986Ь 12.
59 Парменид Элейский (Элея — фокейская колония, основанная ок. 540 г. в юго-западной Италии; в римскую эпоху Велия (Velia), ныне Кастелламаре-ди-Велья) родился, вероятно, ок. 515 г. Считалось, что он написал законы для родного города, сам же некоторое время принадлежал к пифагорейскому братству в Кротоне. Свои философские воззрения он изложил в короткой гекзаметрической поэме О природе, от которой доныне сохранилось 160 стр ок. Парменид считал, что сущее несотворенно, пребывает вечно неизменным и неподвижным, и объемлет все пространство. Такой взгляд, резко расходившийся с более ранними предположениями о множественности вселенной, дал повод Аристотелю счесть предшественником Парменида Ксенофана (который, тем самым, превратился в «первого из элеатов»), — но в действительности суждения двух этих мыслителей весьма разнились. Ибо, если Ксенофан ополчался на гомеровский антро-помофичный политеизм, то Парменцд (пусть и признавая божественное откровение) считал, что его картина мира покоится на строгих логических доводах. Платон прибегал к его выкладкам для подкрепления собственного учения об идеях, а Аристотель признавал Парменида одним из родоначальников метафизики.
60 Позднее Ксенофана подверг критике другой иониец *— Гераклит Эфесский (Диоген Лаэрций, IX, 1).
61 Ксенофан, фрагменты 34, 35, 18.
62 Он же, фрагмент 7.
63 Греческая колония Акрагант возникла на месте прежних сикан-ских поселений, а имя ей дала река, протекавшая с востока. С западной же стороны имелась другая река — Гипсас (НурБая, совр. Санта-Анна). Город был основан ок. 580 г. выходцами из Гелы и из городов Родоса, ок. 571 г. местную правящую аристократию сверг диктатор Фаларид, до того занимавший почетное положение (Аристотель, Политика, V, 8, 4* 1310Ь). Впоследствии Фаларид прославился крайней жестокостью к политическим противникам, и в то же время существенно расширил владения Ак-раганта, покорив поселения туземцев в глубинных областях. В том же столетии, несколько позднее, город разбогател благодаря урожаям зерновых, скотоводству и вывозу вина и оливкового масла в Карфаген и другие края. (Но величайшая эпоха в истории Акраганта, когда здесь развернулось грандиозное храмовое строительство, наступила лишь позднее, при Фероне [488–472 гг.], который одержал победу [совместно с Гелоном Сиракузским] над карфагенянами в Гимере [480 г.].)
64 Еще Гиппократ захватил Каллиполь — колонию сицилийского Наксоса, местонахождение которой пока не установлено.
65 Сегеста (иногда называемая Эгестой) занимала склон и подножье горы Барбаро, неподалеку от реки Гаггеры (Са^ега), притока Кримиса. Несмотря на мифы об основании города греками, с древнейшей поры он был главным элимийским центром (примечание 32, выше). Археологические находки восходят примерно к 630 г. По меньшей мере, начиная с 580/576 г., важнейшим мотивом в истории Сегесты становится непрестанная вражда с Сели-нунтом. Однако к V веку город уже в значительной мере эллинизировался, что подтверждает множество находок, а также руины одного из великолепнейших дорических храмов (начат ок. 430–420 г.)
66 В 480 г. Селинунт принял сторону карфагенян, воевавших с их сородичами-греками (возможно, как и в Сегесте, население города было не целиком греческим).
* Алджернон Чарльз Суинберн (1837–1909) — английский поэт, драматург, критик. {Прим, перев.).
67 Лигуры упоминаются во фрагменте (55), приписываемом Гесиоду. Остается неясным, обозначает ли это название какое-то этническое или языковое единство, и если да — то какое именно; прослеживаются иберийские, греческие и особенно кельтские влияния и вкрапления. В древнейшие времена лигурийские земли простирались далеко за пределы той узкой прибрежной полосы, что носит ныне имя Лигурии (северо-западная Италия), и к тому же охватывали изрядные территории как северной Италии, так и юго-восточной Галлии, где лигуры соседствовали с массалийцами. Античные авторы писали об их грубом, полном тягот сельском быте.
68 Юстин, Х1ЛП, 3, 5-12.
69 Страбон, IV, 1, 5, 179.
70 Другие массалийские колонии на средиземноморском побережье Галлии (Никея, Антиполь, Монэк), по-видимому, относятся к более позднему периоду.
71 Геродот, Г, 166.
72 Страбон, IV, 1, 5, 179.
73 Аристотель, Политика, VI, 4, 6, 1321а.
74 Галыптаттская культура получила свое название от городка в австрийских горах Зальцкаммергут. В центрально-европейской археологии эта культура представлена последовательными стадиями: А (ХН-Х1 вв. до н. э.), В (X–VIII вв.), С или I (VII в.) и Э или II (VI в.). А и В относятся к эпохе поздней бронзы в этой области, но для С типичным оружием является длинный железный меч (или его бронзовая копия). Наиболее передовые очаги культуры О лежали западнее — в восточной Франции, Швейцарии и Рейнских землях. Характерны захоронения в повозках — например, в Виксе (см. следующее примечание) и Гейнебурге. Носители гальштатг-ской культуры были названы докельтскими племенами, или протокельтами, тогда как представители сменившей, ее латенской культуры (второй период железного века на континенте; название происходит от Латена — селения на Невшательском озере в Швейцарии) уже могут считаться собственно кельтами.
75 Кратер из Викса, высотой почти в шесть футов, этот шедевр (и крупнейший образец) архаического бронзового литья, был найден в гробнице галльской царевны в Виксе, в верховьях Секваны (Сены). Захоронение относится к концу VI века, но сам кратер, очевидно, несколько древнее (ок. 550–530 гг.). Его верхний обод украшен фризом с рельефами воинов и колесниц, крышка увенчана фигурой девушки, а ручки с волютами изображают Горгон со львами. Эти ручки и другие детали были отлиты отдельно и присоединены к тулову сосуда уже после его доставки. Ваза была изготовлена или (1) в Спарте или в ином месте Лаконии, так как ее стиль обнаруживает параллели с лаконской утварью; или (2) в Южной Италии, возможно, в Локрах Эпизефирийских.
76 Юстин, Х1ЛН, 4, 1–2.
ЧАСТЬ VIII СЕВЕР
1 Фукидид, 1, 25.
2 Эпир (ныне поделенный между Северо-Восточной Грецией и Албанией) состоял из четырех высоких горных хребтов, расположенных параллельно береговой линии, и из узких долин межцу ними. В начале железного века сюда явились три главные группы племен, говоривших на дорийском диалекте (всего же племен было 14), частично иллирийского происхождения (примечание 3, ниже): это были хаоны (на северо-западе), молоссы (в центральном районе; считалось, что их покорил сын Ахилла Неоптолем, ставший затем их царем) и феспроты (на юго-западе). Помимо греческих колоний на эпирском побережье и поблизости от него (примечание 4), важнейшим центром в этой области было святилище с оракулом Зевса (который имел здесь прозвище Храмовый (Ναΐος) и почитался вместе с богиней Дионой) в Додоне, что в молосских землях. Прорицалище восходило по крайней мере к 1200 г. до н. э. и упоминалось у Гомера и Гесиода. В Илиаде (XVI, 234 сл.) говорится о жрецах Зевса Додонского — Селлах, «кои не моют ног и спят на земле обнаженной» (перевод Н.И.Гнедича); Одиссей же отправился к додонскому оракулу, дабы услышать Зевсову волю от священного дуба (Одиссея, XIV, 327 сл.). Гесиод (Каталоги женщин и Эои, фрагмент 97) писал о голубицах, живших в дупле дуба (позднее «голубицами» звали додонских жриц). Более поздние авторы утверждали, что пророчества «читаются» в шелесте дубовой листвы, или в журчанье священного ключа, или в звучанье медного гонга (дар Керкиры). Постепенно славу Додоны затмило святилище Аполлона в Дельфах (хотя в эллинистическую эпоху оно было возрождено).
3 Иллирийцы занимали северо-западную часть Балканского полуострова, которая соответствует нынешней Югославии и Северной Албании (хотя и выходит за их пределы). Иллирийские племена, подразделявшиеся на семь основных групп, имели смешанное этническое происхождение, но говорили, в большинстве своем, на диалектах единого индоевропейского языка, которым, правда, не пользовались для письма в родных землях (хотя характер этого языка отражен в надписях иллирийского племени мессапов в Юго-Восточной Италии [Глава VII, примечание 8]. ок. 650 их земли подверглись опустошительным набегам киммерийцев и фракийцев. К той же поре свободу действий иллирийцев уже несколько сковывала греческая колонизация на их берегах и островах, хотя и они извлекали прибыль из завязавшейся торговли, — к тому же, присутствие колонистов предоставляло новые соблазнительные возможности для их природных пиратских и воинственных наклонностей. (Относительно частичного иллирийского происхождения племен, населявших Эпир, см. выше, примечание 1).
4 Основателями этих колоний были сыновья Кипсела. Тысяча колонистов осела на Левкаде, где они — или их потомки — соорудили канал. В древнейших гробницах, раскопанных в Анак-тории, обнаружилась керамика последней четверти VII века. В Амбракии, торговавшей древесиной из центрального и юго-восточного Эпира (куда можно было подняться по реке Арахт), основателя колонии Торга сменили по меньшей мере два диктатора из династии Кипселидов. Второй из этих правителей, по имени Периандр, был изгнан союзом олигархов и «народа» (δήμος), — вроде бы в результате смут, вспыхнувщих из-за оскорбления, ко-
торое Периандр нанес своему любовнику (Аристотель, Политика, V, 3, 6, 1304а; и V, 8, 9, 1311а).
5 Геродот, VII, 168; Фукидид, I, 14.
6 «Венетами» называли разные народы, населявшие западную Европу, но из них наиболее известны жители Северо-Восточной Италии, которую они заселили ок. 1000—950 гг. до н. э. Их этническую принадлежность установить невозможно, зато их язык (на нем сохранилось 400 коротких надписей, и все датируются периодом после 500 г.; одни начертаны латинскими буквами, а другие местными значками) относился к индоевропейской семье и, по-види-мому, стоял ближе к латинскому и другим италийским языкам, нежели к иллирийскому (примечание 3, выше). Главным городом венетов был Атесте (Атеате, совр. Эсте), которую затем затмил Па-тавий (Patauium, совр. Падуя); основание обоих городов легенды приписывали грекам. Здешние лошади славились по всему греческому миру; кроме того, венеты оказывали известное влияние на торговлю янтарем с балтийскими народами. Их главным божеством была богиня Регия, или Рейтия, чей культ был связан с врачеванием и, быть может, с деторождением.
7 Плиний Старший, Естественная история, III, 120.
8 В более южных водах Адриатики, близ Анконы, находился другой торговый центр — Нумана, — где греческие купцы появились в VII веке (двумя столетиями позже этот эмпорий приобрел особую важность для Афин).
9 Дионисий Галикарнасский, VII, 3, 1.
10 Тит Ливий, V, 33, 5.
11 Геродот, VII, 73 («соседи» македонян); рассказ, приведенный им в VII, 20, по-видимому, этому противоречит. По-видимому, в Македонии уже в XII веке до н. э. существовали поселения, знакомые с обработкой железа: в ту пору Эги положили начало долгому периоду процветания.
12 Каталоги женщин и Эои, фрагмент 3.
13 Аристотель, Политика, II, 9, 9, 1274b.
14 В землях киконов, между реками Нестом и Гебром. Маронея будто бы была названа так в честь легендарного Марона, некогда оказавшего гостеприимство Одиссею.
15 В землях сеев (позднее бистонов).
16 В землях апсинтиев.
17 Абидос был основан по договору с лидийским царем Гигом (Страбон, XIII, 1, 22, 590). Относительно Сигея см.: Геродот, V, 95. Позднее спор между афинянами и милетянами за этот город разрешил Периандр Коринфский, отсудивший его Афинам.
18 Кроме того, Писистрат занял Рекел (позднее Энея) у Фермей-ского залива, а это значит, что у него были добрые отношения с Македонией.
19 Другого сына, Гегесистрата, Писистрат отрядил в Сигей, что по другую сторону пролива (примечание 17, выше), должно быть, с согласия персов.
20 От их брака родился Кимон, афинский государственный деятель V века до н. э.
21 Южное (азиатское) побережье (с запада на восток): Парий (основатели — Парос, Милет, Эритры; ок. 709 г.), Кизик (Милет;
ок. 756 [?] и ок. 679 г.), Кий (Милет; 627 г.), Астак (Мегары или Калхедон; 7711 г.). До 690 г. Милет колонизовал остров Про-коннес вблизи Кизика. Северное (европейское) побережье: Би-санфа-Редест (Самос), Перинф (Самос; 602 г.), Селимбрия (Мегары; до 668 г.).
22 Геродот, IV, 138.
23 Там же, 144.
24 Полибий, IV, 38 (перевод Ф.Г.Мищенко).
25 Согласно различным сведениям, халибы жили где-то между Паф-лагонией и Колхидой — возможно, к югу от Трапезунта.
26 Позднее Синопа прославилась как место, откуда был родом киник Диоген (ок. 400–325 гг.)
27 Ксенофонт, Анабасис, V, 5, 10.
28 Аристотель, Политика, V, 4, 2 сл., 1304Ь; и 5, 2, 1305Ь. В гражданских списках Гераклеи Понтийской не значились присяжные судьи.
29 Гомер, Илиада, И, 853.
30 Аристотель, Политика, V, 5, 2, 1305Ь.
31 Там же, V, 5, 7, 1306а.
32 M.N.Tod, Selection of Greek Historical Inscritpions to the End of the
Fifth Century ВС, III, 195; G.Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum, ed. III, 286. -
33 Геродот, IV, 18, 52.
34 Там же, 53 сл.
35 Полибий, IV, 38.
36 Его перевод на англ, имеется в книге: M.M.Austen and P.Vidal-Naquet, Economic and Sociat History of Ancient Greece, London, 1977, pp. 221sq.
37
Страбон, XI, 2, 3, 493. Обломки энохои 640–520 гг. были най-
дены в 200 километрах вверх по долине Дона, в Криворовье, и еще один сосуд — в 300 километрах в глубь суши, на берегах реки Цускан.
Всего в шести километрах западнее Пантикалея находился скифский центр: об этом свидетельствует курган Куль-Оба («Пепельный Курган»), начала V века, где найдены золотые украшения исключительно тонкой работы.
Нимфей (Νυμφαΐον, возле нынешнего Героевского), на небольшом холме в семнадцати километрах к югу от Пантикапея, возник на месте прежнего скифского поселения. Греческие колонисты — возможно, тоже милетяне, — появились здесь ок. 600 г. или чуть позже. Нимфей, защищенный городскими стенами, жил за счет обширной торговли зерном. Кроме того, благодаря соседним минеральным месторождениям, он, возможно, стал первым в этой области центром чеканки серебряной монеты. Граждане Нимфея возвели святилища Деметры и Афродиты. Находки из погребений говорят о том, что скифская знать вовсю участвовала в жизни греческой общины. Тиритака (Τυριτύκη, возле Камыш-Бурунской бухты), другой обнесенный стенами город, лежала на полпути между Нимфеем и Пантикапеем; возможно, граждане последнего и основали ее, предположительно, до 550 г.
Порой эту реку называли и Гипанисом (“Upanij) — так же, как назывался Буг (Страбон, XI, 9, 494).
Кепы (Κήποι, Κήπος), находившиеся в северо-западной части Таманского полуострова — у восточного углубления бухты, — были небольшой милетской колонией, созданной — судя по местным находкам (особенно из некрополя) — в первой трети VI века до н. э. К юго-востоку лежала еще одна милетская колония — Синдская Гавань (Σινδικός λιμήν), или Синдика (Σινδική), — возможно, основанная в ту же пору. Своим названием она была обязана племени синдов (об этнической принадлежности, обычаях и общественном строе которых ведется немало споров). Позднее этот город стал известен как Горгиппия (ΓοργιππΙα). Почти все древнее поселение скрыто под современной Анапой.
Кроме того, культурный слой VI и V веков был обнаружен в Эшеви, примерно в 800 метров к западу от Диоскуриады.
Колха-Кулха — название урартского происхождения (см. примечание 11 к Приложениям). В Глубокой Гавани (греч. Βαθύς λιμήν, лат. Portus altus, современный Батуми) поверх поселения VIII века залегает пласт начала VI века, в котором обнаружена хиосская и прочая восточ но греческая керамика. Находки из Вани (порой отождествляемого с городом царя Эета), расположенного в 97 километрах от побережья, восходят к VII и VI векам, хотя здешнее поселение по-настоящему разбогатело лишь незадолго до 400 г.
Эсхил, Прометей прикованный, 723–727; Аполлодор, Мифологическая библиотека, II, 5, 9.
45 Страбон, XI, 5, 4, 505.
46 Плиний Старший, Естественная история, VI, 19.
47 Страбон, цит. соч., со слов Клитарха.
48 Геродот, И, 35, 2.
49 Гомер, Илиада, III, 189; VI, 189. Само же название племени — Αμαζόνες — чаще всего (быть может, давая излишнюю волю фантазии) толковали как «безгрудые» — из-за того, что амазонки якобы отрезали правую грудь, чтобы легче было стрелять из лука.
50 Прокл, Хрестоматия, 175–180.
51 Гомер, Илиада, III, 189.
52 Геродот, IV, 113–116.
ПРИЛОЖЕНИЯ
1 Гомер, Илиада, III, 187.
Киликия, занимавшая прибрежную полосу с прилегающими внутренними землями на юго-востоке Малой Азии, разделялась на две части: «шероховатую» область — гористую и дикую, — и «гладкую», или «плоскую» равнину. Страна была названа в честь мифического Килика, сына троянского царя Агенора; но, согласно другой легенде, киликийцы пришли сюда из Троады по окончании Троянской войны, под водительством провидца Мопса (Гомер, Илиада, VI, 397, 415). Их главный город, Таре, числили среди своих основателей Геракла, Персея, Триптолема и аргивян. Считается, что найденные в Гёзлю-Куле фрагменты греческой керамики древнее 700 г. указывают на существование в Тарсе греческого квартала. После того, как Киликию отвоевал Саргон И, страна вновь восстала против Синаххериба в 696–695 гг. — при участии греков (Беросс: F.Jacoby, Fragmente der griechischen Histo-riker, 680 F 7 5 [31]; Абиден, там же, 685 F 5 [6]), а царь, одержав победу в морском сражении против греков и усмирив восстание, отстроил Таре заново на месте Олимбра, столицы его повелителя.
3 Киммерийцы (Кщцркн) упоминаются в Одиссее (XI, 14 сл.) — возможно, в силу этимологического смешения со словом Ceimrioi («зимние» [люди]), — как народ, над чьей землей — рядом с царством мертвых — никогда не восходит солнце. Если же обратиться к истории, то киммерийцы, по всей видимости, были полукочевым народом, который примерно с 1000 г. до н. э. поселился в южнорусских степях и занимался скотоводством — особенно коневодством, — и обработкой бронзы. Покойников киммерийцы хоронили в могилах наподобие бревенчатых хижин, благодаря чему их отождествили с поздней «срубной культурой» IX и VIII веков. Мнение о том, что они относились к фракийцам, не получило поддержки; их наречие (или, по крайней мере, наречие их высших сословий) принадлежало к анатолийской группе индоевропейской языковой семьи. Приблизительно после 750 г., спасаясь от скифов (Приложение 2), большинство киммерийских племенных групп покинуло южнорусские земли и переселилось южнее, по другую сторону Кавказа (хотя следы их укреплений остались и на Таманском полуострове), ок. 705 г. их потеснил Саргон II Ассирийский (которого, впрочем, они и погубили), а затем, ок. 679 г., — другой ассирийский монарх, Асархадцон, — и они двинулись в глубину Малой Азии, где с помощью союзников разрушили Фригийское царство и разграбили лидийские Сарды (ок. 652 г.), а также греческие города — Смирну, Эфес и Магнесию на Меандре (колонию магнетов из восточной Фессалии). Однако уже ок. 637 г. (или ок. 626 г.?), понеся жестокое поражение от Алиатга Лидийского, киммерийцы рассеялись и вовсе исчезли с исторической сцены. Надо полагать, некоторые из них осели в Каппадокии (на востоке Малой Азии). Возможно, через киммерийцев в Грецию проникли отголоски кавказских металлических изделий — в частности, ажурные бронзовые подвески и фигурки птиц на ажурных подставках.
Платон, Государство, III, 399а. Для греков «Олимп» был изначально именем одного или нескольких легендарных музыкантов-фригийцев, будто бы изобретших флейту и восхитительную «старинную» форму мелодии или гармонии.
Рассказывали, что благодаря этой щедрости Крез сподобился вечного блаженства среди гипорборейцев — легендарного северного народа (Приложение 2).
Геродот, I, 94 (перевод Г.А.Стратановского).
Там же; Ксенофан у Помукса (Ономастикой, IX, 83). Синаххериб Ассирийский, по его собственным словам, отлил монету в достоинством в полсикля (L.W.King, Cuneiform Texts from Babylonian Tablets, 1909, Part XXVI; S.Smith, Numismatic Chronicle, 1922, pp. 176–185); а лидийско-милетская группа монет, хотя и разнившихся по весу, отвечала месопотамскому соотношению — шестьдесят сиклей: одна мина (в отличие от более расхожего сирийского стандарта — 50:1).
Крез, воспользовавшись новыми способами обработки металлов, впервые ввел чеканку биметаллической (из сплава золота и серебра) монеты; ср. Геродот, I, 94.
Алкман, живший и творивший в Спарте, происходил, по-види-мому, или из Лидии, или из Греческой Ионии.
Платон, Государство, III, 398е.
Название Урарту — крупной и могущественной державы, известной также под именем царства Хадди, — впервые встречается в форме «Уруатри» в раннеассирийской надписи как название народа, населявшего Армянское нагорье к югу и юго-востоку от озера Ван — страну, которую ассирийцы звали Наири. Их наречие, типологически близкое кавказским языкам, было отнесено к восточно-кавказской группе, хотя такое мнение не встретило единодушного согласия. В IX веке урарты, объединенные под властью царя Арама, были разгромлены ассирийским владыкой Салманасаром III, зато его династия Биа, перенеся столицу в Тушпу, на короткое время создала крупнейшее в западной Азии государство, господствовавшее над сирийскими мелкими царствами до тех пор, пока его не разрушили киммерийцы, а позднее ассирийский царь Саргон II (713 г.). В VIII веке Урарту граничило с греческими эмпориями в северной Сирии, и одно время даже считалось, что бронзовые котлы, посвященные в дар в Олимпии и Дельфах (Глава I, примечание 44), имели урартское происхождение, — хотя вернее было бы отнести их к северной Сирии, откуда и урарты, и греки позаимствовали образцы для подобных изделий. Зато опыт урартов в орошении действительно повлиял на греков, как и на фригийцев. Так как урарты говорили на языке, родственном хурритскому, — Гесиод мог почерпнуть свой миф о сотворении мира, столь близкий Эпосу о Кумарби и Песни о Улликумми (имевшим хурритское происхождение), из Урарту, — хотя более вероятно, что он познакомился с этими преданиями благодаря маленьким северно-сирийским государствам, где были живы хетгские и хурритские традиции (примечания 19, 20). Урарту погибло в 612 г. под ударами скифов и мидийцев.
12 Вавилонские таблички с хозяйственными записями 595–570 гг. указывают на существование пленников самых разных народностей из западной Азии, — в том числе, финикийцев, лидийцев и «ионийских» ремесленников (к которым, вероятно, относились и варвары из Малой Азии).
13 Другие мотивы «ориентализирующей» греческой вазописи, видимо, напоминали узоры на ассирийских одеждах. Монеты достоинством в полсикля, выпущенные Синаххерибом (примечание 7), должно быть, подтолкнули лидийцев к чеканке собственных денег.
14 Гомер, Илиада, XIV, 182 сл.
15 Геродот, II, 109 (перевод ГАСтратановского). Систематическое описание небесных явлений, по-видимому, началось при Набу-насире (747–734 гг.).
16 Финикия приблизительно соответствует современному государству Ливан. Она охватывала горные хребты Ливан и Антиливан (богатые корабельным лесом), плодородную долину Бекаа, заключенную между двумя этими горными цепями, и приморскую полосу между реками Элевтером (EXevrnepw, Эль-Кебир) на севере и Акой (Акко, Акрой) на юге. Финикийцы, должно быть, переселившиеся в эти земли ок. 3000 г. до н. э., были последними уцелевшими и сохранившими независимость хананеями (см. следующее примечание) — именно так называли себя они сами. Название же Фо1\д£ — «финикийский» — происходило от египетского слова, обозначавшего «азиатский»; но когда оно появилось у
Гомера, значение его было перетолковано как «краснокожий» (от <ро1Уб<; — «кроваво-красный»), хотя, быть может, скорее здесь имелась в виду пурпурная краска, которую финикийцы добывали из улитки-багрянки (цоре£). Греческие мифы тоже вносили путаницу в этимологию этого этнонима, производя его от имени Феникса — отца Кадма и Европы и царя Тира или Сидона. Тирийцы основали в Северной Африке Карфаген (Глава VII, примечание 33).
17 Ханаан — древнее название обширной территории, охватывавшей Финикию (см. предыдущее примечание) и части Сирии и Иудеи (Палестина, Израиль). В середине II тысячелетия до н. э. в ханаанских городах, укрепленных мощными стенами, правили цари, не зависимые друг от друга. Позднее большинство их земель попало под власть филистимлян и израильтян. Из ханаанского языка, о более древней стадии которого имеются лишь косвенные данные, произошли древнееврейский, моавитянский и финикийский. (Они входят в северо-западную группу семитских языков, к которой также принадлежат угаритский [возможно, диалект ханаанского], аморитский и арамейский.) Среди афразийских (семитоязычных) народов имели хождение три разновидности письменности: клинописная, северно-семитская и южносемитская. Северно-семитское письмо разделяется на две главные ветви — ханаанскую и арамейскую. Насколько известно, хана-неи — первый народ, изобретший алфавит, которым они пользовались начиная приблизительно с 1800 г. до н. э. Среди его ответвлений были финикийский и ранний древнееврейский алфавиты. Во всех этих алфавитах обозначения имеются только для согласных звуков (так что в дальнейшем грекам пришлось самим добавить буквы для гласных — Глава I, примечание 35).
18 Арамеи, говорившие на семитском языке северо-западной группы, сходном с древнееврейским (см. предыдущее примечание), оставили косвенный след в греческой культуре, ибо сиро-финикийский художественный сплав, послуживший толчком для ори-ентализирующего стиля в греческой живописи, содержал и арамейские элементы, — хотя вычленить их теперь трудно. Между XI и VIII веками до н. э. арамеи населяли обширные области как Междуречья, так и Северной Сирии, где они создали многочисленные мелкие государства (важнейшим среди них был Дамаск). Их население и культура вобрали, в различной степени, неохеттские элементы (см. следующее примечание); сам же их этноним произошел от названия равнины в северной Сирии — Арам-Нахараин («поле посреди рек»). К IX веку арамеям принадлежали огромные просторы — от Вавилона до Средиземного моря, — но после ряда войн разрушение Саргоном II Ассирийским Дамаска (732 г.) и Хамата (720 г.) положило конец существованию сирийских царств; а три греческих приморских эмпо-рия (Аль-Мина, Посидейон и Палт) были разрушены, вероятно,
ок. 700–675 гг., во время восстания киликийцев (Хилакку) на юго-востоке Малой Азии (примечание 2). Важнейшее культурное
достижение арамеев состояло в том, что они ввели финикийский алфавит (примечание 16) в широкое употребление как в общественных, так и в частных делах. Арамеи поклонялись вавилонским, ассирийским и ханаанским божествам, а после присоединения их сирийских государств к Нововавилонской державе все эти многочисленные народы постепенно утрачивали тождество — и этот процесс этнического смешения и слияния только усугубился, когда персы сплотили в единую сатрапию Сирию, Палестину и Кипр (539 г.), заполучив в свое распоряжение моряков-финикийцев, которые и помогли им завоевать Египет в 525 г. Между тем, арамейский язык превратился для этих народов в «лингва-франка», и при персидском владычестве «державный арамейский» считался официальным государственным языком по всей территории от Египта до Индии.
19 Хетты, язык которых относился к анатолийской ветви индоевропейской языковой семьи, проникли в Малую Азию с севера ок. 2000 г. до н. э. Столица их Древнего царства (ок. 1750–1450 гг.) находилась вначале в Куссаре, а затем в Хапусасе (совр. Богаз-кале). Пришедшая ему на смену более прочная Хеттская держава (ок. 1450–1200 гг.) вобрала в себя большую часть Анатолии и северной Сирии, тем самым потягавшись размерами с Ассирией и Египтом. (В эту эпоху малоазийские кузнецы научились обрабатывать железо.) А ок. 1200 г. это Хетгское государство было разрушено фригийцами, чьи набеги явились одной из волн крупных исторических потрясений, охвативших все Средиземноморье и ближневосточные земли и погубивших троянцев и микенцев (с которыми хетты поддерживали тесные связи). Правда, в северной Сирии еще долго продолжали мерцать «сумеречным хеттским светом» сиро-хеттекие, или неохеттские города-государства. Их жители пользовались иероглифическим письмом, изобретенным хеттами и приспособленным к одной из форм лувийского языка (который был близок хеттскому и прежде имел хождение на юго-западе Малой Азии), но позднее претерпел, в различной степени, ханаанское и арамейское влияние (примечания 17, 18).
20 Хурриты были народом горцев-брахицефалов; на их языке остались записи, сделанные слоговым письмом наподобие тех, которые были в ходу у аккадцев (в Междуречье) и хеттов; этот язык — очевидно, агглютинативного типа, со множеством суффиксов, — по-видимому, не принадлежал ни к индоевропейской, ни к афразийской (семитской) языковым семьям. Самые ранние сведения о хурритах появляются к концу III тысячелетия до н. э. в Междуречье: там над ними владычествовали династы-арии (носители индоевропейского языка). В следующем тысячелетии они распространились по всей Ассирии (которой на некоторое время завладели), северной Сирии (где были обнаружены надписи с хурритскими именами и религиозными текстами) и Малой Азии, образовав державное государство Миганни, поддерживавшее свое могущество с помощью конницы и колесничных отрядов. Это хурритское царство, достигшее вершины расцвета в XV веке, было разгромлено ок.
1350 г. хеттами, однако находки из Язылыкая свидетельствуют о том, сколь глубокий след оставило хурритское влияние в хеттской религии, мифологии и понятийной системе. Это влияние долгое время сохранялось и в неохетгских государствах северной Сирии (см. предыдущее примечание); возможно, его отзвуки слышны и в ветхозаветных упоминаниях о хорреях (Быт. 14.6; 36.21; 36.29; 36.30; Второз. 2.12; 2.22). На языке, близкородственном хурритско-му, говорили урарты (примечание 11).
21 Финикийская история Санхуниатона, жившего предположительно в XI веке до н. э. (фрагменты этого сочинения сохранены Филоном Библским, жившим в I веке н. э.), содержала сходные мифы а смене божественной власти.
00 /ч
Огромное количество левантийских изделий из слоновой кости (многие из которых были найдены в Ассирии) — повлиявших, подобно узорам на тканях из тех же земель, на греческое искусство, — можно разделить на две основные группы: сирийскую (главным образом из Хамы) и финикийскую. Эолическая капитель (Глава I, примечание 53) и греческая резьба по драгоценному камню пришли из Финикии или напрямую, или через Кипр; тогда как скарабеи и скарабеоиды — находки из Эвбеи и Питекусс — являются финикийскими подражаниями египетским подлинникам — или местными копиями таких подражаний. Греческие методы обработки металлов также восходят к технике чеканки и зернения, заимствованной сирийскими и финикийскими ремесленниками у египтян, а раннеафинское бронзовое литье обнаруживает сирийские элементы. Из Леванта к грекам пришел и обычай возлежать за пиршественным столом (ср. Амос, 6, 4).
23 Иосиф Флавий, Против Апиона, I, 28.
24 Геродот, V, 58, 1–2.
25 Печать и фаянсовая ваза с именем фараона Бокхориса (Бокне-рефа, 720–715 гг.) из ХХ1У-Й династии, найденные в Тарквиниях в Этрурии (Приложение 3), вероятно, являются финикийской копией с египетской работы.
26 Диодор Сицилийский, I, 98 (ср. примечание 25 к Главе V). Согласно иной точке зрения, греческая крупномасштабная скульптура произошла напрямую от коринфских статуй, и т. д. Изобретение прорисовки тонких линий тоже приписывали то коринфянину, то египтянину (Плиний Старший, XXXV, 16) — хотя последний, то есть Филокл, возможно, был греком, жившим в Египте (Глава VI, примечание 38).
’ Щ '"
Мнение Геродота (II, 123) о том, что «некоторые эллины» (под кем он, должно быть, разумел Пифагора) почерпнули учение о бессмертии души из Египта, было, вероятно, ошибочным.
28
Там же, II, 169.
30 В Анаксименовом представлении о том, что небесные светила движутся вокруг горы на севере Земли (Аристотель, Метеорология, II, I, 354а 28), отразились персидские воззрения.
31 Гомер, Илиада, И, 844–850.
32 В VII веке треры (вероятно, фракийского происхождения), жившие к западу от реки Эск (Oescus, совр. Искыр), вместе с киммерийцами (примечание 2) — с которыми их часто путали, — участвовали в набегах на Сарды и другие малоазийские города (Каллин у Страбона — XIII, 4, 8, 627).
33 Недавно следы пребывания фракийцев были выявлены в северо-западном Причерноморье; фракийские мегалитические захоронения обнаружены на Северо-Западном Кавказе и на Таманском полуострове. Нынешняя Фракия там, где она охватывает участки Турции и Греции, значительно уменьшилась в площади; кроме того, в нее входит юго-восточный край Европы, принадлежавший прежнему фракийскому государству, и северо-западная кромка Греческой республики. Однако большинство современных фрако-логов предпочитают более широкое определение этой исторической области.
34 Геродот, V, 3 (перевод Г.А.Стратановского).
35 Фукидид, II, 29, 2.
36 Фракийцы состояли в наемных отрядах легковооруженных пехо-тинцев, служивших в Афинах (по крайней мере, в более позднюю эпоху).
37 Гомер, Илиада, VI, 133–135.
38 Согласно Диодору Сицилийскому (I, 23, 2), Орфей владычество-вал над Геллеспонтом по воле Диониса. Но ходили и совсем иные предания — о вражде между Дионисом и Орфеем, приведшей к гибели последнего от рук менад (Павсаний, IX, 30, 5; ср. Бассариды Эсхила).
39 Аполлодор, Мифологическая библиотека, I, 3, 2. Рассказывали также, что Орфей посвятил аргонавтов в самофракийские мистерии. Учреждение Элевсинских мистерий тоже приписывалось фракийцу — а именно, Эвмолпу (Павсаний, I, 38, 3).
40 Геродот, IV, 95.
41 По другой версии мифа, людям досталась искра божественного естества от Загрея — догреческого бога, который был тесно связан с орфизмом и отождествлялся с Дионисом (и вдобавок, имел отношение к подземному миру, к Криту и к охоте).
4^ Неясно, проникли ли уже в VI веке в орфизм египетские элементы, обнаружившиеся в нем позднее (ср. Диодор Сицилийский, I, 23; I, 96, 4).
43 Геродот, IV, 20 (перевод Г.А.Стратановского).
44 Там же, 46 (перевод ГАСтратановского); ср. 17, 10
45 По словам Геродота (там же, 73), скифов часто или вдали их собственных владений (погребения их царей ФШрШШШь в отдаленных Геррах — там же, 71).
46 Геродот, IV, 76.
47 Среди скифов были и долихоцефалы, и брахицгфалм, первые были более многочисленны.
48 Бои между животными, вероятно, символизировали столкновения между божественными силами. Иногда изображались мертвые, слабые или неподвижные звери — очевидно, олинггворявшие духов, лишившихся мощи.
49 Смела, Темир-Гора и Алтын-Оба (Пантикапей), Мелыуиов (Кировоград), Келермес, Костромская, Веттерсфельде. О кургане Куль-Оба см. примечание 38 к Главе VIII. Некоторые исследователи предпочитают называть погребения VI века по обеим сторонам пролива синдо-меотийскими — то есть скорее «лротос-кифскими», нежели собственно скифскими.
50 Геродот, IV, 78; должно быть, Скил был исключением — ср. Главу VIII, раздел 3.
51 Геродот, IV, 76.
52 Тунгусами (иначе — эвенки) называется группа народов, живу-щих в восточносибирской тайге субарктической зоны и говорящих на языках алтайской ветви урало-алтайской языковой семьи. Ключевой фигурой в их религии является шаман.
53 Скифы научили греков сукновальному ремеслу — к&поц (Псевдо-Плутарх, Строматы, 3) — хотя упоминания о нем применительно к теориям Анаксимена, возможно, анахроничны.
54 Геродот, IV, 17, 1; IV, 108, 2.
55 G.Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum, ed. III, 495.
56 Например, лигурийский, сиканский и сардинский языки
57 Две длиннейшие надписи — содержащие 1190 и 300 слов, соответственно, — представляют собой литургический текст (на погребальных пеленах египетской мумии в Загребском музее) и, очевидно, предписание касательно погребальных обрядов (в Перудже).
58 Геродот, I, 94.
59 M.Pallottino, Testimonia linguae Etruscae, ed. II, JNfeM!S$* 131.
60 Notizie degli Scavi, 1971, p. 241, flg. 57; Геродот, IV, Ш Возможно, греки были вынуждены довольствоваться собственными жилыми кварталами в Навкратисе (Глава VI, раздел 4).
63 М.ТогеШ, Elogia Tarquinensia (1975), рр. 43sq.
62 Вазы «буккеро» — по-итальянски bucchero пего (термин этот произошел от испанского слова Ьъсаго, которым обозначали сосуды из ароматической глины из Центральной и Южной Америки доколумбовой эпохи) — делались из высококачественной глины — предпочтительно, с содержанием марганца. Вылепив на гончарном кругу сырую форму, ее затем обжигали на малом огне, чтобы кислород, придающий глине красный цвет, проникал в нее лишь в незначительном количестве, так что сосуд приобретал черный цвет.
Церетане же впоследствии (?) основали на северо-востоке Корсики колонию, которую греки знали под названием Никея (то есть «Победный [град]»). Несомненно, они же были одним из этрусских народов, поддерживавших тесные связи с Массалией (Глава VII, раздел 6).
64 M.Pallottino, ор. cit., № 873–877.
°5 Цере сообща с Римом основали колонии на Сардинии и Корсике («ж. 378/377 г., 357/354 г.).
66 Влияние Веий простиралось и на полу этрусскую цивилизацию фалисков, у которых имелся важный храм богини Феронии (близ Калены). Фалисская культура обнаруживала следы возраставшего эллинского влияния, что отразилось в разрастании и усилении Древних Фалерий (Чивита-Кастеллана), их главнейшего города.
67 Древнейший из известных расписных склепов в Этрурии — гробница Уток, относящаяся к концу VII века.
68 В VI веке в Афинах мастерская Никосфена, производившая «тирренские» амфоры, специализировалась на вывозе своих изделий в Этрурию.
69 В Рузеллах была найдена и груда отборного олова. На древесный уголь для плавки руды шли ели, произраставшие в бассейне Умб-рона.
70 Сервий, комментарий к Вергилию: Энеида, X, 172.
71 Плиний Старший, Естественная история, XXXVI, 19, 91 сл.
72 В течение VI века из нескольких деревень образовался город Арреций, занимавший плато над верховьем Кланиса (Кьяны) и Арном (Арно). Перузия, которую прежде населяли умбры (как и Клузий), возвышалась над плодородной долиной верховья (в древности судоходного) Тибра. Она тоже окружилась горделивыми легендами о собственном основании. Надгробие Авла Фелуска из Ветулонии (ок. 600 г.?), по-видимому, было водружено на могилу его перузий-ским товарищем по оружию, Хируминой. Перузийское бронзовое
литье несет в себе отпечаток ионийского влияния, позднее давшего крен в сторону местных причудливых удлиненных форм. В Вольсиниях — городе, образовавшемся 600 г. от слияния отдельных деревень, — имена покойников, погребенных в городских прямоугольных гробницах (550–500 гг.) и принадлежавших к девяноста родам, свидетельствуют о большой доле неэтрусского — в том числе, греческого, — элемента среди здешних граждан. Воль-синии поддерживали тесные связи с Кампанией.
73 Вергилий, Энеида, X, 200–203.
74 Еще южнее, в Посейдонии, так называемая гробница Ныряльщика обнаруживает сходство с этрусскими росписями в других городах (ср. примечание 15 к Главе VII).
75 Дионисий Галикарнасский, VII, 3, 1.
76 Плиний Старший, Естественная история, XXXV, 43, 152. Ср. Главу III, раздел 2.
77 В числе находок, раскопанных в разных частях Рима, были также аттические чернофигурные и краснофигурные вазы.
78 Плиний Старший, Естественная история, XXXV, 154.
79 F.Castagnoli, Studi e Materiali, XXX, 1959, pp. 109sqq.
80 Катон, Начала, фрагмент 12.
81 ок. 425 г. этрусскую Капую и греческие Кумы захватили сабеллы (италийский народ), ок. 396 г. Вейи отошли под власть римлян, которые со временем подчинили себе и другие государства Этрурии. В течение IV века в этрусской Северной Италии постепенно стали хозяйничать галлы. 3







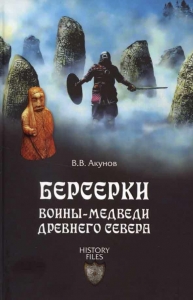
Комментарии к книге «Греческий мир в доклассическую эпоху», Майкл Грант
Всего 0 комментариев